Георг Форстер ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
ПРЕДИСЛОВИЕ
История до сих пор не знала примера усилий, направленных на расширение человеческих познаний, подобных тем, что были предприняты британцами в правление их нынешнего короля[1].
Америка со всеми ее богатствами еще долго оставалась бы неоткрытой, если бы не настойчивость Колумба; одержимый своей благородной мечтой, он сумел вопреки всем препятствиям, кои воздвигали перед ним зависть и невежество, пробиться к Фердинанду и Изабелле[2].
Но и этот бессмертный мореплаватель удостоился покровительства лишь потому, что открыл Новый и очевидный источник богатств. Надежды на долговечный союз Плутоса и муз напрасны; они дружны лишь постольку, поскольку прелестные богини, подобно Данаидам, способны наполнять золотом сокровищницы ненасытного[3].
Увидеть торжество науки суждено было лишь последующим временам! Уже были совершены три морских путешествия с благородной целью исследовать неведомые края[4], когда по велению просвещенного монарха предпринято было четвертое, еще лучше подготовленное. На средства нации подобрали опытнейшего мореплавателя нашего времени, двух искусных астрономов, ученого, призванного изучать природу в ее святилище, и художника, дабы запечатлевать прекраснейшие ее черты. Они завершили путешествие и теперь намерены дать отчет о множестве своих открытий, которые должны прославить, во всяком случае, их покровителей.
Британское правительство наняло и послало в это путешествие моего отца в качестве натуралиста, но не только для того, чтобы он засушивал травы и ловил бабочек. Ему надлежало употребить все свои таланты, не обойдя вниманием ничего достойного интереса; короче говоря, он должен был написать философскую историю путешествия, свободную от предубеждений и обычных ошибок, где рассказ обо всем, что касается людей и вообще естествознания, основывался бы не на произвольных системах, а лишь на принципах человеколюбия. Словом, от него ждали такого описания путешествия, какого ученый мир до сих нор еще не знал. Столь обширная задача соответствовала величию духа, каким обычно отмечены все начинания британской нации. Предполагалось; что мой отец, как человек, преданный науке, сам сумеет позаботиться о том, чтобы это путешествие как можно более обогатило ее, поэтому ему великодушно не стали давать каких-либо особых указаний.
Итак, он путешествовал и собирал заметки, как от него это и ожидалось. Желая выполнить свою задачу и рассказать читателям о своих открытиях, он не дал себе даже времени отдохнуть от тягот странствия. Не прошло и четырех месяцев после возвращения, как он уже передал королю посвященный ему первый труд[5].
Теперь главной и самой неотложной его работой стала история путешествия. Первоначально предполагалось, что он составит из своих дневников и дневников капитана Кука единое повествование, в котором будут использованы наиболее важные заметки каждого, соответственно по-разному обозначенные. Отец получил часть дневников Кука и подготовил для пробы несколько листов. Однако вскоре мнение переменилось, и было решено печатать каждый дневник отдельно, так что этот план не получил дальнейшего осуществления. Лорды Адмиралтейств-коллегий решили украсить новую историю путешествия гравюрами на меди по рисункам художника, участвовавшего в плавании; все расходы по гравировке были оплачены поровну за капитана Кука и моего отца[6]. 13 апреля 1776 года они оба заключили соглашение, подписанное также графом Сандвичем (президентом Адмиралтейств-коллегий)[7], в котором каждому определялось, какую часть описания он должен взять на себя, а со стороны Коллегии были гарантированы в подарок гравюрные доски. Отец передал графу Сандвичу еще один образец своей работы, но, к не меньшему его изумлению, она опять не была одобрена. Наконец он понял, в чем дело. В упомянутом соглашении умышленно не употреблялось слово «рассказ», поэтому он не имел права писать связную историю путешествия. Теперь он был уведомлен также формально, что под угрозой потерять свою долю в гравюрах должен строго придерживаться буквы соглашения. Хотя отец всегда был убежден, что главная его задача именно описать путешествие, он все же постарался приспособиться к такому требованию и ограничился лишь отдельными философскими замечаниями, только бы не лишать свою семью таких существенных выгод. Увы, шаг этот оказался столь же самоотверженным, сколь и бесплодным. Работу его опять отклонили и в конце концов совершенно лишили его обещанного права на гравюры. Возможно, так ему хотели дать почувствовать, что он иностранец, или сочли, что даже в немногих размышлениях, на которые он решился, связанный договором, его образ мысли остался все же слишком философски свободным; возможно, лишить его подарка Адмиралтейств-коллегий было в интересах кого-то третьего.
Признаться, мне было больно видеть, как остается неосуществленной главная цель моего отца, а публика оказывается обманутой в своих ожиданиях. Я был его помощником в этом путешествии и потому счел своим долгом хотя бы попытаться сделать такое философское описание вместо него. Все утверждало меня в этом намерении, которое уже не зависело ни от чьей прихоти, это было просто моим долгом перед читателями. За время плавания я накопил множество материалов и подходил к работе то как путешественник, рассказывающий о собственных впечатлениях, то как собиратель, нанятый, чтобы обработать сведения других. Я не был связан никакими договорами; в томе, который касался отца, мое имя даже не упоминалось, и мне не запрещалось пользоваться его содействием. Во всех необходимых случаях я мог прибегать к помощи его дневников и таким образом составил это повествование в точнейшем соответствии с исторической правдой.
О нашем путешествии уже написано кое-что двумя анонимными авторами[8], но в нынешний просвещенный век никто больше не верит сказкам, какие нравились нашим предкам с их романтическим воображением. Плавание было столь богато событиями, разнообразными и важными, что нет нужды дополнять их выдумкой. Иногда событий было больше, иногда меньше, но как усердный земледелец умеет извлечь пользу даже из самого неплодородного поля, так и любая глушь дает пытливому уму материал для исследования.
Другой рассказ об этом кругосветном плавании составлен на основе бумаг капитана Джеймса Кука, под руководством которого оно было совершено[9]. По распоряжению Адмиралтейства это описание снабдили множеством гравюр на меди; часть их представляет собой виды местностей, часть — зарисовки туземцев, их лодок, оружия и орудий труда, часть — карты различных стран; это те самые гравюры, которые были обещаны прежде вышеназванной Коллегией совместно моему отцу и капитану Куку.
На первый взгляд может показаться, что излишне дважды описывать одно и то же плавание, но ведь оно состояло из множества самых разных происшествий, о которых двое людей могут рассказать полнее, нежели один человек. Да и в местах стоянок мы были заняты отнюдь не одним и тем же. Капитан Кук был загружен делами по обеспечению судна продовольствием и его ремонту; я же интересовался разнообразными природными достопримечательностями страны. Отсюда само собой ясно, что испытывали мы и видели сплошь и рядом совершенно разное, а следовательно, и впечатления наши зачастую отнюдь не совпадали. Главное же, одни и те же вещи нередко рассматриваются с различных точек зрения, одни и те же события то и дело порождают совершенно разные мысли. Мореплавателю, с детских лет привычному к суровой стихии, повседневным и незначительным представляется многое из того, что человеку сухопутному покажется новым и увлекательным. Первый смотрит на сушу всегда с точки зрения мореплавания, второго же интересует прежде всего экономическая польза. Словом, само несходство наших знаний, наших умов и наших сердец неизбежно порождает и несходство ощущений, наблюдений, выражений. Еще одно существенное различие в описаниях: я лишь вкратце касался всего, что относится к распорядку жизни на судне и быту матросов. Я также сознательно воздерживался от описания маневров корабля и не брал на себя смелости определять, какие мы поднимали или убирали паруса в штормовую погоду, сколько делали поворотов, чтобы обогнуть мыс, и как часто судно отказывалось подчиняться нашему Палинуру[10]. Опущены также данные о пеленгах, положении и удаленности мысов, горных вершин, холмов, высот, заливов, гаваней и бухт, равно как и результаты наших наблюдений в различные часы дня, поскольку такого рода важные подробности интересуют лишь моряков.
История первого кругосветного плавания капитана Кука[11] читалась с большим интересом, однако здесь, в Англии, к ней отнеслись с неодобрением, я бы даже сказал чуть ли не с презрением. Написал ее человек, который сам в путешествии не участвовал, и столь плохой прием, видимо, был связан с фактическими неточностями, обилием ненужных отклонений от темы и софистическими принципами автора, хотя по-настоящему судить об этом могли лишь немногие читатели.
Занятость капитана Кука и его неутомимая страсть к открытиям помешали ему и на сей раз самому заняться публикацией своего дневника; ему опять пришлось воспользоваться услугами посредника, который вместо него обращался к читателю. Но прискорбно не только это; описание д-ра Хауксуорта имеет еще один общий недостаток с предыдущим: из него на французский манер были удалены некоторые подробности и замечания, по той или иной причине показавшиеся невыгодными. По распоряжению свыше с острова Хуан-Фернандес словно ветром сдуло господина Бугенвиля, равно как и были вынуждены замолчать английские пушки, когда «Индевр» обстрелял португальскую крепость на Мадейре[12]. Не углубляясь в сравнение, хочу лишь заметить: не видно ли уже из сказанного, сколь достоверным может быть описание путешествия, подвергнутое перед публикацией подобной цензуре и искажениям!
В этом веке философы, весьма недовольные тем, что разные путешественники якобы противоречили друг другу, стали избирать себе определенных авторов, которым соглашались верить, а все остальные свидетельства считали вымыслом. Не обладая достаточными знаниями, они разыгрывали из себя судей, объявляли достоверными какие-либо определенные утверждения (которые к тому же переиначивали по собственному разумению) и выстраивали, таким образом, системы на первый взгляд броские, но при более внимательном рассмотрении обманчивые, словно лживый сон. Наконец ученым надоели декламации и софистика, они громогласно заявили, что желают только фактов. Их желание было исполнено; со всех частей света стали доставляться факты, однако их наука от этого не выиграла. Перед ними оказались сваленные в кучу отдельные несвязанные части, из которых, как ни старайся, не составлялось целого; до нелепости гоняясь за фактами, они забыли про всякую другую цель и утеряли способность выявлять и обобщать хотя бы одну-единственную мысль. Так некоторые микрологи[13] всю жизнь посвящают анатомии комара, не делая ни малейших выводов, которые касались бы человека и животных. К тому же два путешественника редко видят одинаково один и тот же предмет, каждый расскажет о нем по-разному, в зависимости от своих ощущений и образа мыслей. Так что следует познакомиться с наблюдателем, прежде чем пользоваться его сведениями. Путешественник, отвечающий всем требованиям, как я это понимаю, должен быть достаточно правдив, чтобы видеть вещи правильно и в их истинном свете, но также и достаточно проницателен, чтобы сопоставлять свои наблюдения, извлекать из них общие выводы и таким образом пролагать себе и своим читателям путь к новым открытиям и будущим исследованиям.
С подобным взглядом на вещи я отправился в последнее кругосветное плавание и собирал, насколько это позволяли время, обстоятельства и силы, материал для данного труда. Я всегда старался связать воедино мысли, порожденные различными событиями. При этом я хотел по возможности многогранно показать человеческую природу и возвыситься мыслью до уровня, на котором мы обретаем более широкую перспективу и можем восхититься путями провидения. Конечно, теперь весь вопрос в том, насколько мне удалась или не удалась эта попытка; надеюсь, однако, что мои добрые намерения будут поняты. Порой я следовал велениям своего сердца и рассказывал о собственных чувствах; ведь и я не свободен от человеческих слабостей — так пусть мои читатели хотя бы знают, как окрашено стекло, через которое я смотрел. Во всяком случае, могу сказать, что взгляд мой не был угрюмым и мрачным. Все народы Земли в равной мере могли рассчитывать на мою доброжелательность. Этого я придерживался всегда. Я считал, что у других людей такие же права, как и у меня, мне хотелось, чтобы написанное мной служило общему благу и моя похвала, как и мое неодобрение, были независимы от национальных предрассудков, какими бы словами они ни прикрывались.
Наше мнение о произведении литературы и удовольствие, которое мы получаем от него, определяются не только богатством содержания, но и чистотой и благородством стиля. В самом деле, надо быть лишенным всякого вкуса и непосредственного чувства, чтобы живому повествованию предпочесть вялое и скучное. Правда, с некоторых пор изяществу стиля уделяется столь преувеличенное внимание и им так часто злоупотребляют, что иные писатели стали надеяться исключительно на легкость и живость своего языка, меньше всего заботясь о сути рассказа, а в конечном счете обманывают читателя пустыми, плоскими поделками, лишенными вдохновения, мысли и поучительности. Возможно, такие господа и заслужат рукоплескания любителей виртуозности — Who haunt Parnassus but to please their ear[14].
Думаю, однако, что большая и лучшая часть читателей, заинтересованная новизной или полезностью содержания, согласится в какой-то степени извинить несовершенства стиля. Мне хотелось быть ясным и понятным. Только на этом я и сосредоточил свое внимание. Так что я надеюсь на снисходительность, если будут замечены погрешности, не слишком существенные.
Карту, на которой показаны наши открытия и проделанный нами путь, я составил с большим тщанием по самым достоверным материалам, указанным на полях[15]. Чтобы немецкая публика могла заодно с моим описанием путешествия сразу же, без дополнительных расходов, познакомиться и со свидетельствами капитана Кука, я включил в это немецкое издание наиболее существенные места из упомянутых его дневников. Однако эти добавления, если не считать некоторых мест вступительной части, касаются лишь немногих случаев, коим я либо не был свидетелем сам, либо наблюдал их с другой точки зрения. Подобные места выделены кавычками. Таким путем я старался сослужить своим землякам службу, в которой не нуждается избалованная английская публика.
На этом я мог бы закончить свое предисловие, но хочу еще рассказать читателю о воспитании и имуществе, которые получил в Англии таитянин О-Маи[16]. В ограниченных рамках предисловия я могу коснуться лишь вкратце вещей, достойных, вообще говоря, послужить материалом для целой книги, если бы мне когда-нибудь вздумалось отделить от мякины подлинно философское зерно. К О-Маи в Англии относились то как к очень глупому, то как к очень умному человеку — это зависело от того, кто о нем судил. Его язык, лишенный грубых согласных и все слова которого оканчивались на гласные, сделал его органы речи столь малоподвижными, что он совсем не мог выговаривать более сложные английские звуки; из этого физического недостатка или скорее недостатка навыка порой делали, однако, неверные выводы. Едва О-Маи попал в Англию, как его стали знакомить с обществом, с бурными увеселениями сладострастной столицы, ввели в блистательный круг высшей придворной аристократии. Естественно, на него произвела впечатление светская непринужденность, которая особенно красит жизнь здешнего общества; он усвоил манеры, занятия и забавы нового окружения, нередко выказывая быстроту разума и живость воображения. Чтобы дать представление о его способностях, скажу лишь, что он весьма многого достиг в шахматах. Однако, сбитый с толку разнообразием впечатлений, он не сумел сосредоточиться на вещах, которые по возвращении могли бы принести пользу ему и его землякам. Он не составил никакого общего понятия о системе нашей цивилизации, а значит, не мог и воспользоваться ее достижениями на благо своей родины. Восхищенный красотой, симметрией, благозвучием, роскошью, он привык подчиняться зову своих чувств и ублаготворять их. В водовороте удовольствий у него не оставалось даже минуты, чтобы подумать о будущем, и, поскольку в нем не было истинного величия духа, как в Тупайе[17], который на его месте несомненно руководствовался бы своими планами, его разум оставался нетронутым. Возможно, он зачастую и хотел бы получить какие-то знания о нашем земледелии, наших искусствах и мануфактурах, но не нашлось доброжелательного наставника, который пожелал бы удовлетворить эту потребность, более того, улучшить его нравственность, привить ему наши возвышенные представления о добродетелях, внушить божественные основы религиозного откровения. Он провел в Англии почти два года, счастливо перенес прививку оспы и вернулся на Таити с капитаном Куком, который в июле 1776 года снова отбыл из Плимута на корабле «Резолюшн» [«Решение»]. При этом представился случай убедиться, что все безнравственные удовольствия, коих он не мог избежать в нашей общительной части света, не изменили добрых свойств его души. Когда он прощался с друзьями, из глаз его лились слезы, и весь вид его свидетельствовал о сильном порыве чувств. На прощание его завалили огромным количеством одежды, украшений и всяких мелочей, изобретенных для повседневного удовлетворения наших искусственно созданных потребностей. Он мыслил во многом по-детски, а потому, как ребенок, требовал всего, что попадалось ему на глаза. Особенно привлекали его всякие странные вещи. Чтобы удовлетворить эту детскую страсть (из других, лучших побуждений это вряд ли бы стали делать), ему дали с собой шарманку, электростатическую машину, кольчугу и рыцарское снаряжение. Мои читатели, должно быть, ждут, что он наряду с этим взял и вещи, действительно нужные для его острова. Я тоже этого ждал, однако обманулся в своих надеждах! Обратно родина его не получила от англичан гражданина, который, обогатив свои познания и привезя полезные подарки, мог бы стать благодетелем, а то и законодателем для своего народа. Всего этого не произошло, но мы в какой-то мере можем все же утешиться тем, что корабль, на котором он возвращался, должен был привезти в подарок простодушным таитянам рогатый скот. Появление на их плодородном острове быков и овец наверняка должно сделать более счастливыми этих добрых людей, а впоследствии подарок мог бы стать основой и для улучшения нравов. С этой точки зрения наше предыдущее плавание было важным; оно сделало бы честь нашим покровителям, не будь у них даже других заслуг, ибо мы оставили коз на Таити, собак на островах Дружбы [Тонга] и Новых Гебридах, свиней в Новой Зеландии и Новой Каледонии.
Конечно, было бы очень важно, чтобы такие исследовательские путешествия с благодетельными и поистине нужными целями предпринимались и далее[18]; в том же Южном море [Тихий океан] дел еще много. Но кто знает, не вмешаются ли тут зависть и своекорыстие и не сведут ли они на нет великодушных начинаний монарха, покровителя муз? Единственное, что я хотел бы сказать для пользы потомства: даже одна-единственная возможность осчастливить своего собрата в отдаленной части света поистине возмещает все тяготы путешествия, и величайшей платой становится сознание добрых и благородных дел!
Лондон, 24 марта 1777г. Георг Форстер
ВВЕДЕНИЕ
Интерес ученого мира к недавним открытиям в Южном море заставил вспомнить и про давние, подчас уже забытые путешествия. Так что большинству моих читателей вряд ли нужно подробно о них рассказывать. Но для некоторых, полагаю, окажется нелишне, если я хотя бы напомню о предыдущих плаваниях, прежде нежели приступлю к описанию нашего. К тому же стоит сообщить предварительно и кое-какие сведения о снаряжении нашего судна. Отчасти потому, что сам замысел путешествия был весьма необычным, отчасти потому, что мы использовали опыт и советы предшественников, это снаряжение было более совершенным, чем в прошлых подобных экспедициях, и заслуживает во всех отношениях большего внимания.
Что касается прежних путешествий, тут я постараюсь быть по возможности более кратким и не слишком утомлять читателя этой сухой материей; к тому же я отнюдь не собираюсь перечислять все малозначительные плавания по Южному морю, а упомяну лишь действительно исследовательские путешествия.
Но первым делом хотелось бы пояснить названия морей, которые я буду употреблять в дальнейшем. Море между Африкой и Америкой от экватора до южного полярного круга называется Южным Атлантическим океаном. Море между Африкой и Новой Голландией [Австралия] мы называем Южным Индийским океаном соответственно морю, расположенному к северу от него; это название относится к области от тропика Козерога (южного) до Полярного круга. Великое, или собственно Южное, море простирается от Новой Голландии до Южной Америки. Обычно его все в целом называют Тихим океаном или Тихим морем. Однако это название можно отнести лишь к области между тропиками, тогда как вне этих пределов оно столь же бурное, как и всякое другое. Экватор делит Тихое море на две почти равные части, на Северное и Южное. Часть, лежащая к северу от тропика Рака, до сих пор не имеет собственного названия. Часть же, лежащая к югу от тропика Козерога до антарктического полярного круга, и есть собственно Великое Южное море. Море в пределах замерзающего пояса Земли не без оснований называют Южным ледовитым морем.
В 1513 году испанец Васко Нуньес[19] первым увидел Южное море с гор Панамы и, искупавшись в нем, объявил его собственностью Испании; первым, кто затем пересек его, был португальский дворянин Фернан (или Фердинанд) Магеллан. В августе 1519 года он отплыл из испанского порта Севильи и 27 ноября 1520 года через пролив, названный его именем, вышел в Великое Южное море. Оттуда он взял курс на север, чтобы поскорей уйти из холодных широт, и повернул на запад, лишь пройдя через тропики, вблизи от экватора. Там ему встретились два маленьких необитаемых острова, до сих пор еще неясно какие[20]. Пройдя экватор, Магеллан открыл Ладронские, или Воровские [Марианские], а затем Филиппинские острова, где и погиб[21].
В 1536 году Кортес, завоеватель Мексики, послал двух своих лучших капитанов, Педро Альварадо и Эрнандо Грихальву, к Молуккским островам. Они пересекли Тихое море недалеко от экватора и открыли ряд островов западнее Новой Гвинеи.
В 1567 году на поиски новых земель отправился из Перу дон Альваро Менданья де Нейра. В ходе этого плавания были открыты Соломоновы острова, которые Дальримпль по праву отождествляет с островами, названными позднее Новая Британия и Новая Ирландия[22]. В 1575 году Менданья предпринял второе путешествие, о котором, однако, ничего не известно[23]. Третье состоялось в 1595 году[24]. Менданья прошел на этот раз по Тихому морю примерно под 10° южной широты. Сначала, почти посередине океана, он обнаружил группу из четырех островов, которые назвал Маркизскими, затем несколько небольших низменных островов и, наконец, уже дальше на западе, большой остров Санта-Крус [Ндени], который впоследствии заново открыл капитан Картерет и назвал островом Эгмонт [25].
Фолклендские острова, которые первым, вероятно, увидел еще Америго Веспуччи 7 апреля 1502 года[26], были вновь открыты в 1594 году англичанином сэром Ричардом Хаукинсом; в честь девственной королевы Елизаветы он назвал их землей Мэйдн (Девы). Другой англичанин, капитан Стронг, обнаружил в 1689 году пролив между обоими островами и дал им имя лорда Фолкленда; так эти острова получили свое нынешнее название.
В последнем путешествии Менданьи принимал участие Педро Фернандес де Кирос; после смерти Менданьи он привез в Манилу его вдову. В 1605 году Кирос был послан из Перу на поиски большого Южного материка, о возможности существования которого он, видимо, заговорил первым. До него мореплаватели обычно держались ближе к экватору. Он, однако, поплыл на юг, и под 25° и 28° южной широты открыл несколько островов. Один из них, остров Энкарнасьон, впоследствии заново открыл капитан Картерет и назвал его остров Питкерн. Недостаток пресной воды заставил Кироса повернуть на север. Девятым открытым им островом, который он назвал Сагитария, был, несомненно, Таити (Отаити), впоследствии заново открытый Уоллисом. Затем Кирос двинулся на запад, обнаружил несколько небольших островов и наконец увидел большую землю Эспириту-Санто [Святого духа], которую снова увидели мы и господин Бугенвиль[27]. Спутник Кироса, Луис Ваэс де Торрес, открыл проход между Новой Гвинеей и Новой Голландией, который капитан Кук позднее назвал проливом Индевр[28].
В 1615 году из Голландии отплыли Корнелис Схаутен и Якоб Ле-Мер. Они первыми проплыли по проливу Ле-Мера и обогнули мыс Горн. В Тихом океане они не сделали значительных открытий, но к востоку от Таити нашли несколько небольших низких островов, а к западу — несколько высоких[29]. Они держались между 10° и 20° южной широты, пока мимо северного побережья Новой Ирландии и Новой Гвинеи не вернулись к Молуккским островам[30].
В 1642 году из Батавии [Джакарта] отправился в путешествие Абель Янсзон Тасман. Сначала он поплыл к острову Маврикий, оттуда на юг до 49° широты. Он пересек Южный Индийский океан между 40° и 50° южной широты, открыл Вандименову Землю [Тасмания], то есть южную оконечность Новой Голландии, значительную часть западного побережья Новой Зеландии и некоторые острова к северу от Новой Зеландии в Тихом море [31].
В 1675 году англичанин Антон Ларош, плывший по торговым делам от берегов Перу, обогнул мыс Горн и в Южном Атлантическом океане на 54° южной широты открыл остров, который мы вновь увидели во время нашего путешествия, а на 45° — еще один, с тех пор никем больше не обнаруженный.
Уильям Дампир, самый опытный и самый несчастливый мореплаватель своего времени, в 1699 году сделал ряд открытий у берегов Новой Гвинеи и назвал Соломоновы острова, которые обнаружил Менданья, Новой Британией [32].
В тот же год знаменитый астроном Эдмунд Галлей был назначен капитаном английского корабля «Пэремуэ», на котором отправился искать новые земли в Южном Атлантическом океане. Он достиг 51° южной широты, но ничего нового не обнаружил [33].
В 1721 году голландцы послали в Южное море Якоба Роггевена. Сразу от мыса Горн он поплыл на север и под 27° южной широты открыл остров Пасхи. Далее он шел между тропиками, потерял один из кораблей у низкого острова близ Таити и обнаружил еще ряд незначительных островов между 13° и 15° южной широты [34].
В 1738 году французская Ост-Индская компания послала Буве де Лозье исследовать Южный Атлантический океан. 1 января 1739 года он будто бы увидел землю под 54° южной широты и 11° восточной долготы от Гринвича [35], после чего сразу вернулся в Европу[36].
Дюкло Гийо, возвращаясь из Перу на испанском корабле под названием «Леон», увидел в Южном Атлантическом океане ту же самую землю, которую уже открыл в 1675 году Антон Ларош. Он назвал ее островом Св. Петра. Во время нашего путешествия мы дали ему название Южная Георгия.
В 1764 году коммодор Джон Байрон, служивший мидшипменом в эскадре Ансона, отправился в плавание с двумя кораблями. Он миновал Фолклендские острова, прошел через Магелланов пролив и между 15° южной широты и экватором открыл в Тихом море несколько маленьких островов [37].
За ним последовали капитан Уоллис и капитан Картерет. В Магеллановом проливе они, однако, разделились. Уоллис обнаружил несколько низких островов, а также остров Таити, уже открытый в 1606 году Киросом; Уоллис назвал его Сагитария. Затем ему встретились острова Боскавен [Ниуатобутапу] и Кеппел [Тафахи], которым Ле-Мер и Схоутен в 1616 году дали названия Кокосовый остров и остров Предательства, и, наконец, несколько совсем новых островов. Картерет больше отклонился на юг; ему встретился остров, который Кирос называл Энкарнасьоном, затем Менданья Санта-Крусом, и Картерет дал им новые названия [38].
В 1766 году французский двор послал на поиски новых земель господина Бугенвиля. Как и многие мореплаватели до него, он обнаружил несколько низких коралловых островов к востоку от Таити и через девять месяцев после капитана Уоллиса добрался до самого Таити. Несколько дней его команда отдыхала здесь, после чего он поплыл дальше, обнаружил еще ряд небольших островов к западу от Таити, видел землю Эспириту Санто, найденную Киросом, и некоторые земли близ Новой Гвинеи [39].
В 1768 году Королевское научное общество в Лондоне обратилось к его величеству королю Великобритании с ходатайством снарядить судно, дабы наилучшим образом провести наблюдения за предстоящим прохождением Венеры. Командиром выбранного для этого путешествия корабля «Индевр» был назначен капитан Джеймс Кук; вместе с ним наблюдать за прохождением Венеры Королевское общество поручило Чарлзу Грину. С ними отправился также и Джозеф Банкс, состоятельный молодой человек, руководимый любовью к естествознанию; он на свои средства взял себе в спутники ученика знаменитого рыцаря Линнея по имени Соландер [40]. За прохождением Венеры наблюдали на Таити. Затем капитан Кук отправился на поиски новых земель. Он открыл так называемые острова Общества[41] и оттуда направился к 40° южной широты, в области Южного моря, где до него никто еще не плавал. Им впервые по-настоящему были обследованы берега обнаруженной Тасманом Новой Зеландии, совершено опасное плавание к совсем еще тогда неведомому восточному побережью Новой Голландии, заново открыт Торресов пролив между Новой Голландией и Новой Гвинеей. Таковы были наиболее значительные события этого плавания. Господину Банксу удалось найти двенадцать-пятнадцать сотен разных неизвестных еще видов растений, а также множество птиц, рыб, амфибий, насекомых и пресмыкающихся.
В 1769 году господин Сюрвиль по поручению французской Ост-Индской компании проделал путь от Пондишери через Филиппинские острова к Новой Зеландии. Он стоял там на якоре в бухте Даутлесс, когда 9 декабря увидел проплывавшего мимо на «Индевре» капитана Кука. Затем он пересек Южное море между 30° и 40° южной широты и погиб при высадке в перуанском порту Кальяо.
В 1772 году Кергелен и Сент-Аллуарн открыли в Южном Индийском океане остров почти на одном меридиане с островом Маврикия и под 48° южной широты [остров Кергелен]. В том же году Кергелен отправился из Франции еще в одно плавание, но вернулся домой ни с чем.
Одновременно с первым путешествием Кергелена Марион-Дюфрен и Крозе проплыли от мыса Доброй Надежды через Южный Индийский океан между 20° и 50° южной широты к Вандименовой Земле и Новой Зеландии. Южнее Мадагаскара они открыли несколько маленьких пустынных островов [острова Принс-Эдуард и Крозе]. Марион-Дюфрен был убит новозеландцами во время стоянки в заливе Островов [Бей-оф-Айлендс]. Крозе продолжил путешествие один. Вначале он следовал по пути Тасмана, однако затем свернул к Маниле[42].
Отправляясь в путь, мы были осведомлены только об открытиях, совершенных до первого путешествия Кука (включительно); о последних французских экспедициях мы либо еще ничего не знали, либо имели сведения в высшей степени ненадежные.
До возвращения капитана Кука на «Индевре» многие еще продолжали говорить о существовании в Южном море обширного материка, который простирается до 30° южной широты. Поскольку эти края благодатные, материк мог представлять большой интерес для европейских держав. Правда, первое плавание капитана Кука, когда он дошел до 40°, не встретив никакого материка, нанесло подобным взглядам опасный удар. Но кое-кому это показалось все еще недостаточным доказательством. Возможно, именно там, говорили они, материк не простирался так далеко к северу; возможно, капитан Кук просто попал в большой залив, а возьми он градусов на десять в сторону, то увидел бы землю. Вообще море вокруг Южного полюса всюду до 50°, а в некоторых местах до 40° широты все еще оставалось неисследованным, здесь никто еще никогда не плавал! Наше путешествие и было предпринято по приказу его величества короля Великобритании, чтобы положить конец спорам о существовании этого материка. Капитану Куку было рекомендовано использовать летние месяцы [43] для открытий близ Южного полюса; когда же наступит холодное, бурное, туманное и ненадежное время года, ему надлежало вернуться к тропикам и там с помощью имевшихся у нас теперь астрономических инструментов произвести новые расчеты и более точно определить положение открытых прежде островов. Если большой материк так и не будет обнаружен, капитану Куку следовало пройти как можно ближе к полюсу, двигаясь на восток, покуда он не обойдет земной шар. Поистине из всех путешествий вокруг света наше было первым, в котором корабль направлялся с запада на восток.
Путешествия капитанов Байрона, Уоллиса и Картерета показали, что военные корабли «Дельфин» и «Ласточка» мало подходят для таких целей, прежде всего потому, что они не могли взять с собой нужного количества провизии и приборов. Поэтому капитан Кук для своего первого плавания использовал корабль совершенно иного типа. В Англии такие суда употребляются для перевозки угля. Для исследовательских экспедиций, по мнению капитана Кука, необходим был корабль, способный вместить провизии и других припасов для всей команды по меньшей мере на три года; при этом он должен быть не слишком велик, иметь не очень глубокую осадку, чтобы в случае, надобности входить в самые узкие и самые мелкие бухты. Надо также, чтобы он легко снимался с мели, во всяком случае выдерживал удар о грунт и чтобы для починки можно было без особого труда вытащить его на берег. Хороший моряк на таком судне не побоится плыть куда угодно, зная, что оно будет ему послушно. Именно таковыми и были оба корабля, на которых мы отправились в кругосветное плавание. Думаю, что при всех своих недостатках и неудобствах они оказались наилучшим образом приспособлены к столь опасным путешествиям.
Большее из них, водоизмещением в 462 тонны, оснащенное 16 четырехфунтовыми пушками, было названо «Резолюшн» [«Решение»]; им командовал сам капитан Кук. Командиром меньшего, «Адвенчер», водоизмещением в 336 тонн, стал капитан Тобайас Фюрно. На первом находилось 112 человек, на втором лишь 81, не считая астрономов, натуралистов, художников и их слуг[44]. Многие офицеры, младшие офицеры, да и некоторые матросы уже принимали участие в одном, а то и в нескольких кругосветных плаваниях; опыт таких людей был особенно ценен.
На каждом корабле находился астроном, нанятый Палатой долготы (The Board Longitude)[45]: на «Резолюшн»—господин Уильям Уолс (недавно выпустивший книгу о наблюдениях, сделанных во время плавания)[46], на «Адвенчере» — господин Уильям Бейли, который теперь опять путешествует с капитаном Куком [47]. У них имелись все необходимые астрономические и навигационные инструменты, прежде всего хронометры для определения долготы: три, изготовленные Арнолдом, и один — Кендаллом по образцу часов Гаррисона[48].
На «Резолюшн» находился также художник-пейзажист Уильям Ходжс, посланный Адмиралтейств-коллегией, чтобы зарисовать не только виды различных местностей, но в меру своих способностей и туземцев.
Банкс и Соландер, принимавшие участие в первом плавании капитана Кука, решили отправиться с ним и на этот раз. Господин Банкс даже затратил немалые суммы, дабы обзавестись всем необходимым. В ботанических и зоологических исследованиях ему должны были помимо Соландера помогать двое молодых людей, трех других он собирался взять, чтобы они зарисовывали животных и растения, которые будут им найдены. Сопровождать его собирался даже Цоффани, опытный немецкий художник, которому надлежало зарисовывать всяческие ландшафты, равно как и жителей. Чтобы совершить путешествие с наибольшими удобствами, Банкс потребовал произвести на корабле некоторые перестройки. Однако морской министр не пожелал исполнить требований сего бескорыстного ревнителя науки. Банкс довольно долго, хотя и напрасно, ждал благоприятного решения, наконец за десять дней до отплытия он заявил, что отказывается от путешествия вместе со всеми своими спутниками[49]. Министр был разгневан, он захотел показать, назло Банксу, что наука может обойтись и без него. Из суммы, которую выделил на это путешествие парламент, еще оставались не распределены 4000 фунтов стерлингов. Министру это пришлось как нельзя более кстати. Моему отцу было предложено сопровождать капитана Кука в качестве натуралиста; однако всю интригу, которая предшествовала приглашению, от него тщательно скрыли. Парламент определил ему и мне вышеназванную сумму, присовокупив к ней всякие ненадежные обещания, и мы отправились в путешествие, намереваясь хотя бы отчасти восполнить ущерб, который могла бы претерпеть наука из-за отказа господина Банкса. Так что в данном случае мстительность человека принесла даже пользу. Но ко времени третьего плавания капитана Кука и это чувство уже охладело. Снова зашла речь о том, чтобы послать в путешествие натуралиста, однако наука теперь министра вовсе не интересовала. Сказалось всегдашнее его к ней презрение, так что новая экспедиция обошлась без ученого [50].
На каждый корабль были взяты части, достаточные, чтобы собрать небольшое судно водоизмещением в 20 тонн на случай, если бы мы потеряли свои корабли или захотели что-нибудь отправить. Однако они не понадобились почти до самого конца плавания, когда нам стало не хватать топлива.
У нас были также сети, удочки и другие рыболовные снасти, а чтобы покупать у дикарей провизию, капитан взял с собой запас всевозможных грубых тканей, изделий из железа и других товаров. По приказу Адмиралтейств-коллегий было также выбито несколько позолоченных медалей с изображением головы короля, дабы раздать их дикарям в память о нашем путешествии.
В столь долгих и трудных морских плаваниях особенно важно сохранить здоровье команды, и об этом позаботились как никогда. Некоторые съестные припасы заменили другими; прежде всего на борт в большом количестве были взяты наша немецкая кислая капуста и бульонные таблетки из свежего мяса.
Мы взяли на «Резолюшн» шестьдесят больших бочек кислой капусты; к нашему возвращению на мыс Доброй Надежды они совершенно опустели. Капуста выдержала все перемены климата, какие нам довелось испытать. Недели за две до прибытия в Лондон мы случайно обнаружили в трюме последнюю бочку, которую до сих пор не заметили, и в ней капуста также сохранилась до того свежей и вкусной, что португальцы, коих мы угощали на рейде в Фаяле, не только поели сами с отменным аппетитом, но и попросили остатки, чтобы угостить товарищей на берегу. Мы ели ее обычно два раза в неделю, а в море, особенно в самых южных широтах, и того чаще. Порция составляла фунт на человека. Расхваливать достоинства сего продукта перед немецким читателем излишне. Стоит, однако, отметить, что капуста, возможно, лучшее противоцинготное средство, если только употреблять ее помногу, большими порциями, не как лекарство, а как питательную еду.
Другим надежным, питательным и полезным для здоровья средством были таблетки или лепешки из уваренного до состояния желе мясного бульона. Мы взяли их 5000 фунтов. Трижды в неделю на обед варился горох [51], и каждый раз в его отваре разводилось примерно два лота[52] такого бульона на человека. Иногда его готовили и на завтрак, заправляя пшеничной, ячменной или овсяной мукой.
В путешествие мы также взяли с собой тридцать одну бочку пивного сусла, уваренного до сиропообразной консистенции; добавив в него воду и дав заново перебродить, можно было приготовить полезный для здоровья напиток. Но из-за нашего недосмотра этот запас погиб, когда в жарком климате сусло начало бродить и взорвало бочки.
О больных при оснащении судна позаботились особо.
Легко переваривался и был очень питательным салуп — желе из ревеня; врач для лечения цинги мог чередовать его с обычной горчицей.
Употреблялся как средство против цинги и робб, или густо уваренный сок лимонов и апельсинов, но это было слишком дорогое средство, его прописывать можно было лишь в очень малых дозах, и потому полагаться только на него было нельзя. К тому же Паттен[53], наш честный, лекарь, не считал возможным экспериментировать на больных, покуда имел в распоряжении более проверенные средства. Однако же он уверял, что робб весьма полезен.
Мармелад из желтой моркови (каротели), цветом и вкусом весьма напоминавший обычную патоку, предложил испробовать против цинги барон Муцель фон Штош из Берлина. Он действует как мягкое слабительное и может употребляться в качестве вспомогательного средства, но сам по себе не излечивает.
Наилучшим, уже не раз проверенным противоцинготным средством, которое помогает даже при наиболее опасных степенях этой болезни, следует считать свежий настой солода. Мы взяли на борт тридцать тонн солода, и при первых же признаках цинги, а в краях холодных и не дожидаясь этого, приготовляли из него свежий настой и ежедневно давали для профилактики тем, кто был к этой болезни предрасположен. Заболевшим же всерьез, а таких у нас было очень мало, полагалось каждый день выпивать по три кварты[54]. При отеках и опухолях лучше всего помогали горячие припарки из солодовых выжимок. Первым предложил солод как антицинготное средство ирландский врач Мак-Брайд. Теперь каждый корабль английского флота обязан иметь на борту необходимый запас.
Чтобы подкрепить вышесказанное, приведу одно место из дневника нашего врача. «На протяжении всего нашего плавания,— говорит он,— я имел возможность убедиться, что настой солода чрезвычайно полезен при цинге. Правда, поставить опыт по-настоящему удавалось редко, поскольку многие пили этот настой, дабы предупредить болезнь; но, по-моему, достаточно и тех немногих случаев, когда он помогал, чтобы всякий беспристрастный человек увидел в нем наилучшее из всех доныне открытых средств против морской цинги. После всего, что я узнал о целебных свойствах солодового настоя, а также бульонных таблеток, кислой капусты, сахара, горчицы и изюма, я совершенно убежден, что можно сделать цингу, эту чуму морей, редкой даже в самых длительных плаваниях или совсем от нее избавиться».
Принимались и разные другие меры для поддержания здоровья наших моряков. Самая важная и полезная из них состояла в том, что люди, питавшиеся соленой пищей, имели возможность пить вволю. Редко нужда заставляла нас ограничивать порции питьевой воды, и еще реже порции эти бывали скудными. К тому же мы не упускали ни одной возможности пополнить запас пресной воды, даже если она у нас еще была; ведь вода, доставленная с берега, конечно же, свежее, нежели та, что хранилась какое-то время в бочках.
Другим необходимым условием была чистота. У нас не только строго следили, чтобы матросы содержали в чистоте себя, свою одежду, рубахи и т. д., но и тщательно проверялась кухонная посуда, чтобы нерадивость повара не наделала бед. В сухую погоду матросы должны были днем выносить свои постели на палубу. Но самое главное заключалось в том, что помещения окуривались смесью из пороха с уксусом или водой, а в кубрике, в офицерских каютах и даже в трюмах, где качали насосы, каждую неделю разжигался огонь. Это позволяло рассеять и обезвредить нездоровые, гнилые испарения и влагу, сделать воздух совершенно чистым. Следует также добавить, что команда делилась на три вахты, а не на две, как обычно бывает на военных судах. Благодаря этому люди меньше страдали от перемен погоды и имели время высушить промокшую одежду. Во время плавания в холодных краях команде выдавалась за казенный счет теплая одежда, что было там весьма кстати.
Таковы были средства, рекомендованные друзьями человечества — опытными врачами и мореплавателями; корабельный врач, мой отец и другие люди усердно и без устали старались, чтобы сими средствами не пренебрегали. Впрочем, скоро все настолько убедились в их пользе, что сами не могли без них обходиться. Да и капитан Кук, следуя собственному опыту, не упускал их при всяком случае применять. Так что с божьей помощью нам удалось сохранить здоровье, несмотря на все тяготы, суровый, непривычный образ жизни и частые перемены климата. Президент Королевского научного общества в Лондоне сэр Джон Прингл, сам опытный врач, подробно остановился на этом в своей речи перед Обществом, произнесенной
30 ноября 1776 года при вручении капитану Куку памятной медали Коплея[55]. Похвала, которой удостоился наш искусный и славный мореплаватель, само вручение памятной медали, необычное для Королевского общества,— красноречивое свидетельство того, сколь важны были правила, коими руководствовался капитан Кук, заботясь о здоровье людей.
Маршрут второй экспедиции Дж. Кука
ГЛАВА ПЕРВАЯ Отплытие.— Дорога от Плимута до Мадеры.— Описание этого острова
Ubi animus ex multis miseriis atque periculis requievit,— statui res gestas — perscribere; tamen (hoc) imprimis arduum videtur,— quia plerique, quae delicta reprehenderis, malivolentia et invidia putant, ubi de magna virtute et gloria bonorum memores, quae sibi quisque facilia factu putat, aequo animo accipit; supra ea, veluti ficta, pro falsis ducit.
Sallust[56]Едва в 1771 году корабль «Индевр» вернулся в Англию, как уже было задумано новое путешествие с целью дальнейших исследований в южных областях земного шара.
По разряду королевских судов шестого класса (шлюпы) были снаряжены два хороших, крепких корабля, «Резолюшн» и «Адвенчер»; их командирами назначены были капитаны Джеймс Кук и Тобайас Фюрно[57].
11 июня мой отец и я получили приказ, разрешавший нам принять участие в этом плавании, дабы собирать, описывать и зарисовывать предметы, представляющие интерес для естествознания. Мы собрались в путь со всей возможной быстротой и за девять дней отправили все наше дорожное снаряжение на борт «Резолюшн», который еще стоял в Ширнессе, но уже 22-го отбыл в Плимут.
26-го и мы покинули Лондон, а поскольку добирались мы по суше, то уже на второй день были в Плимуте, куда наш корабль еще не пришел. 1 июля мы отправились на борт яхты «Огаста» засвидетельствовать свое почтение тогдашнему президенту Адмиралтейств-коллегий графу Сандвичу. Его светлость милорд ожидал в этот день прибытия «Резолюшн» и надеялся посетить его вечером между пятью и шестью. Однако, к великому нашему огорчению, корабль не появился, и граф на следующее утро покинул Плимут [58].
Утром 3 июля мы увидели «Резолюшн» уже на рейде, куда корабль пришел ночью. Капитан Кук намеревался пробыть здесь восемь-девять дней и приказал за это время оборудовать наши каюты самым необходимым.
Стараясь не упускать ни малейшей возможности для обогащения науки и расширения наших познаний, мы использовали это время, чтобы посетить оловянные рудники в Корнуэлле, и, осмотрев с удовольствием и пользой большие и богатые шахты в Полдайсе и Кенвине, 8 июля вернулись в Плимут.
«В Плимуте капитан Кук получил инструкции, датированные 25 июня[59]. Согласно этим инструкциям ему надлежало принять под свое командование „Резолюшн", взять курс на Мадеру [Мадейру], запастись там вином, а затем плыть к мысу Доброй Надежды, чтобы дать людям отдых и снабдить оба корабля продовольствием. Оттуда он должен был плыть на юг, дабы по возможности отыскать мыс Сирконсисьон, который был замечен капитаном Буве под 54° южной широты и примерно 11°20' восточной долготы, считая от Гринвича. Ежели он таковой откроет, то надо было выяснить, является ли этот мыс частью большого материка, который в такой степени возбудил внимание географов и прежних мореплавателей, или же всего, только частью острова.
В первом случае надлежало обойти и исследовать как можно большую часть побережья, выясняя, какую пользу сулит эта земля торговле, мореплаванию и естествознанию. Встретив туземцев, капитан Кук должен был обращать внимание на их характер, темперамент, особенности ума, установить их численность и попытаться по возможности завязать с ними дружеские отношения. Покуда корабли будут оставаться в хорошем состоянии, люди — здоровыми, а пища — пригодной для еды, он должен продолжать эти открытия, двигаясь в зависимости от обстоятельств либо к востоку, либо к западу, стараясь при этом проникнуть как можно ближе к Южному полюсу.
Если же окажется, что мыс Сирконсисьон всего только часть острова, или если найти его не удастся вовсе, капитану следовало продвигаться на юг до тех пор, покуда у него еще останется надежда встретить континент или материк, а затем проследовать к востоку и обойти вокруг света в высоких южных широтах как можно ближе к полюсу, наконец снова направиться к мысу Доброй Надежды и оттуда вернуться в Спитхед близ Портсмута.
Когда же наступят времена года, небезопасные для дальнейшего пребывания в высоких широтах, капитан должен будет отходить в определенные места к северу, в более теплые края, дабы люди могли там отдохнуть и привести корабли в порядок. В случаях непредусмотренных он был волен действовать по собственному разумению; если же, на беду, „Резолюшн" потерпел бы крушение, ему надлежало продолжить плавание на меньшем судне. Копию этого приказа он передал капитану Фюрно, а также назначил ему место встречи на случай, если они потеряют друг друга».
«Астрономы на обоих кораблях, господа Уолс и Бетти, покуда мы ездили в Корнуэлл, произвели наблюдения на небольшом острове (Дрейк) в гавани Плимута. Надо было определить астрономическую долготу этого места, поскольку именно здесь предстояло пустить в ход имевшиеся на борту долготные часы. Из трех таких хронометров работы Арнольда два должны были находиться на „Адвенчере". Третий, а также еще один хронометр, сделанный Кендаллом по точному подобию гаррисонова, оставались на другом судне. Все они были одновременно пущены в ход 10 июля и положены для хранения в четырехугольные деревянные шкатулки. Точнейшие измерения показывают, что королевская обсерватория в Гринвиче, через которую, как мы здесь постоянно будем считать, проходит начальный меридиан, удалена от островка в гавани Плимута на 4°20' к востоку».
Вечером 11-го мы поднялись на борт, намереваясь отплыть с первым попутным ветром. На другой день дул довольно сильный ветер, и мой отец, проходя случайно по палубе, обратил внимание, что положение нашего судна относительно «Адвенчера» и еще одного корабля, стоявших на якоре, изменилось; более того, ему показалось, что судно несет к скалам под крепостью. Он сказал об этом штурману Гилберту, тоже находившемуся на палубе, и тот сразу обнаружил, что порвалась цепь одного из якорей, на котором держалось судно. Такие цепи употребляются при погрузочных работах в Плимуте, для этих целей они, видимо, годятся; но постоянных и разнообразных движений тяжело нагруженного корабля выдержать не могут; так что, думаю, таким кораблям не стоит на них полагаться. По первому же сигналу все пришло в движение; матросы подняли паруса, приготовили канаты. Мы проплыли мимо «Адвенчера» и второго судна, избежав таким образом величайшей опасности — разбиться о скалы. Наши матросы сочли это благополучно окончившееся происшествие счастливым предзнаменованием для всего плавания. И как было не увидеть руки божественного провидения в сей важный миг, когда все наши надежды едва не оказались разрушены в самом начале![60]
Не раз во время путешествия попадали мы в обстоятельства столь опасные, когда не помогли бы никакие человеческие усилия, если бы о нашем благополучии не пеклась сила высшая, без коей и волос не упадет с головы. Мы но праву славим искусство и зоркость опытных мореплавателей, но при всем том не следует забывать, что прежде всего обязаны сей высшей силе, особенно в подобных случаях; этого не может оспорить даже самое замечательное мастерство, пусть оно и заявляет дерзко о своем презрении к религии.
Утром в понедельник 13-го мы вместе с «Адвенчером» вышли из Плимута. Я устремил прощальный взгляд на плодородные холмы Англии и дал волю естественным чувствам, вспоминая, сколько было связано у меня с этими местами, покуда наконец красота погожего утра и новые для меня впечатления плавания по спокойному морю не разогнали печальных мыслей.
Скоро позади остался знаменитый высокий маяк, воздвигнутый среди моря на скалах Эддистоуна для блага судоходства; глядя на него, нельзя не содрогнуться при мысли об одиноких смотрителях, которые порой вынуждены проводить там по три месяца, отрезанные от всякого общения с землей. Ибо, когда ветры и непогода сотрясают и раскачивают эту башню, они, должно быть, каждый раз вспоминают про страшную судьбу некоего Уинстэнли, погребенного под развалинами такого же маяка, который он сам воздвиг на этих скалах.
По мере того как мы удалялись от земли, ветер крепчал; волны становились выше, корабль качало с боку на бок, и люди, непривычные к морю, да и некоторые из бывалых моряков начали страдать от морской болезни. Длилось это у всех разное время, и большинству дня через три удалось прийти в себя не без помощи красного подогретого вина «Опорто» с сахаром и пряностями.
20-го мы увидели перед собой мыс Ортегаль на галисийском побережье Испании; местные жители называют его Ортигейра; возможно, это тот самый Promontorium trileucum, о котором упоминали древние. Местность здесь гористая, и там, где видны голые скалы, она беловатого цвета, но вершины гор покрыты лесом. Я заметил также нивы, уже почти созревшие; некоторые места показались мне покрытыми лугами. По тому, как жадно все на борту вглядывались в эту землю, было ясно: человек не амфибия. Видимо, те же чувства испытывал и Гораций, писавший:
Necquicquam Deus abscidit
Prudens Oceano dissociabili
Terras: si tamen impiae
Non tangenda rates transiliunt vada[61].
22-го мы увидели маяк близ Коруньи, или Гройна, как на свой лад произносят наши моряки. Ветер стих, море было как зеркало; нивы, огороженные участки, маленькие деревушки и усадьбы знати украшали горный ландшафт. Казалось, все сошлось, дабы изгнать остатки морской болезни и поднять наше настроение, которое на пустой желудок и при бурных волнах, разумеется, поддерживать было трудно. Вечером мы увидали невдалеке небольшое судно, которое сочли за рыболовную лодку с испанского побережья, и потому спустили шлюпку в намерении закупить сведшей рыбы. Вся поверхность моря была покрыта тысячами маленьких крабов, не более дюйма в поперечнике; Линней называет этот вид Cancer depurator. Суденышко оказалось французской тартаной из Марселя, водоизмещением примерно 100 тонн, оно везло муку в Ферроль и Корунью. Люди на борту попросили у нас воды, поскольку их два месяца как носило по морю, собственный их запас иссяк уже две недели назад, и все это время они питались одним хлебом, не имея ни глотка вина. Пребывая в столь бедственном положении, они встретили несколько кораблей, в том числе испанских военных, но ни у кого не оказалось достаточно человечности, чтобы помочь им. Офицер, командовавший нашей шлюпкой, тотчас отослал к нам на корабль их пустые бочки, дабы их там наполнили, и, когда они вернулись, на лицах бедняг выразился живейший восторг. Они благодарили небеса и нас, радуясь, что наконец смогут опять развести огонь и после долгого поста насладиться горячей пищей. Сколь справедливы слова, что чувствительному сердцу порой ничего не стоит сделать доброе дело!
На другой день после полудня к гавани Ферроль мимо нас прошли три испанских военных корабля. Один имел, насколько я мог судить, 74 пушки, два же других всего по 60. Последний вначале поднял английский флаг, но, когда мы показали свой, он его спустил, выстрелил из пушки под ветер и поднял испанский флаг. Вскоре после этого он пустил ядро в сторону «Адвенчера». Поскольку мы продолжали плыть, не обращая внимания на выстрел, испанец развернулся и выпустил еще одно ядро, которое упало прямо перед кораблем. Тогда капитан Кук приказал кораблю лечь в дрейф. Так же поступил и «Адвенчер», хотя казалось, он это сделал только по нашему примеру. Испанец окликнул его по-английски и, показывая на нас, спросил: «Что за фрегат плыл перед вами?» Получив ответ, сам он на подобный вопрос ответить не пожелал, сказав только: «Желаю вам счастливого плавания». После этого столкновения, не особенно лестного для «владычицы морей», мы продолжили свой путь и ночью миновали мыс Финистерре[62].
25-го мимо нас проплыли против ветра, который, с тех нор как мы отошли от мыса Финистерре, оставался северо-восточным, несколько морских свиней. Ночью море светилось, особенно верхушки волн и струя за кормой корабля: казалось, они состоят из чистого света; кроме того, повсюду было видно как бы множество мелких искр[63].
28-го в 6 часов утра мы увидели остров Порто-Санто длиной около четырех — четырех с половиной немецких миль, бесплодный и почти необитаемый. На нем всего одна вилла, то есть поселок, расположенный на восточном берегу в долине, сплошь возделанной и на вид обильной виноградниками. Этот маленький остров находится под управлением губернатора Мадеры [Мадейры], число его жителей достигает примерно 700.
Вскоре затем мы вышли на широту Мадеры и острова Дезерта, который наши путешественники обычно называют Дезертиры. В 6 часов пополудни нам открылся город Санта-Крус на Мадере. Горы здесь прорезаны множеством ущелий и долин. В горах мы увидели дома, на редкость живописно расположенные среди виноградников и высоких кипарисов, что придавало всей местности вид весьма романтический. Шлюпки отбуксировали нас на рейд Фуншала, так как был полный штиль, и мы стали на якорь уже затемно.
Утром 29-го всех нас восхитил живописный вид города Фуншала, расположенного амфитеатром вокруг гавани на пологих склонах. Благодаря этому все дома и постройки особенно хорошо смотрятся. Почти все они выкрашены в белый цвет, у многих два этажа и плоские крыши, что придает им сходство с простыми восточными постройками. Такой простоты не увидишь в Англии с ее узкими домами, где высокие крутые крыши усажены целыми рядами труб. На берегу видны были несколько батарей и платформ с пушками, рейд простреливался также из старой крепости, расположенной на крутой черной скале, которая во время прилива бывает окружена морем; англичане называют ее Лу-Рок. За городом есть еще одно укрепление, называемое Сан-Жуанну ду Пику. Ближние холмы, на коих повсюду можно увидеть виноградники, огороженные участки, загородные дома среди плантаций и рощ, равно как и несколько церквей, дополняют красоту пейзажа. Все наводит на мысль о заколдованном острове, о висячих садах Семирамиды[64].
В 7 часов к нам подошла шлюпка с офицером (Capilanos do Sal) на борту. Этот офицер — один из двух Guarda-Mores(уполномоченных) коллегии здравоохранения, которые устанавливают карантин для судов, пришедших из Берберии, Леванта[65] или других мест, где возможна чума. Он поинтересовался состоянием нашего здоровья, из какой страны мы прибыли, и узнал все, что ему требовалось.
Вскоре после этого мы сошли на берег и вместе с капитаном отправились к господину Лафнану, английскому купцу, который по договору снабжает необходимым все прибывающие сюда королевские суда. Новоназначенного консула, господина Мэррея, еще не было на месте; однако господин Лафнан принял нас с радушием и достоинством, делающими честь ему и его нации.
Вблизи город производит гораздо худшее впечатление, чем когда смотришь из гавани. Улицы его тесны, плохо вымощены и грязны, дома, хоть и построены из тесаного камня или обожженного кирпича, внутри темны. Застекленные окна имеются лишь в тех домах, что принадлежат английским купцам или другим важным лицам, остальные обычно имеют решетчатые ставни, которые крепятся вверху на крюках с петлями и открываются как окна, а при надобности могут быть сняты. Нижние комнаты служат по большей части жильем для слуг или же лавчонками и складами.
Что до церквей и монастырей, то это плохие постройки, свидетельствующие о том, что те, кто их строил, не обладали особыми познаниями в архитектуре. Внутри они безвкусны, слабый свет, проникающий туда снаружи, позволяет видеть лишь дешевые украшения, задуманные как готические. Францисканский монастырь мил и просторен, однако сад там, видимо, плохо содержится.
Монахини Санта-Клары встретили нас весьма вежливо у решетки своей комнаты для бесед с посетителями, а после выслали несколько старых женщин предложить выращенные ими на продажу цветы.
Затем мы пошли погулять с господином Лафнаном. Мы дошли до его загородного дома, который стоит на холме в одной английской миле от города, и там встретили приятное общество самых видных на Мадере английских купцов. Наши капитаны вечером возвратились на борт, мы же с удовольствием приняли вежливое приглашение господина Лафнана расположиться на время пребывания здесь, в его доме.
На следующее утро мы принялись за изучение внутренних областей острова и занимались этим весь день. В 5 часов утра мы пошли вверх по ручью, который вел нас от берега в горы. В час пополудни мы достигли каштанового леса неподалеку от самой высокой вершины этого острова, примерно в 6 английских милях от имения господина Лафнана.
Воздух здесь был заметно прохладнее. Чтобы вернуться как можно более коротким путем, мы наняли негра, который через полтора часа привел нас к нашему доброму хозяину.
На другой день мы стали готовиться к отплытию. Растроганный, покидал я эту дивную страну и благородных друзей, способных ценить, чувствовать и получать удовольствие от радости ближнего. Еще и сейчас сердце мое полно чувством благодарности и уважения, которое в ту пору сделало для меня таким нелегким прощание; поистине удовольствием было обнаружить хотя бы за пределами страны то британское гостеприимство, следов которого в самой Англии не нашел Смоллетт[66],
Прежде нежели совсем покинуть этот остров, я хотел бы привести сведения, которые имел возможность собрать там; надеюсь, они будут интересны моим читателям, ибо по большей части записаны от сведущих англичан, долгое время там проживших. Я, разумеется, допускаю, что кому-то из моих читателей сведения о Мадере покажутся излишними; по если они не найдут их у множества путешественников, которые обошли на своих кораблях весь свет, а это в данном случае, видимо, так, то я не нуждаюсь в дальнейших оправданиях. Слишком легко не заметить вещей, лежащих перед самой дверью, интересуясь прежде всего «открытиями», которые кажутся более важными, когда они касаются стран отдаленных.
Остров Мадера имеет около 55 английских миль в длину и 10 миль в ширину. Его открыл Жуан Гонсалес Зарку 2 июля 1419 г.; легендарный же рассказ, будто он был найден неким англичанином Мекином, исторически ни на чем не основан[67].
Остров делится на две капитании, которые называются по находящимся в них городам Фушнал и Машину. В первой капитании есть две судебные палаты (Judicatura), одна из них в Фуншале, другая в Кальетте, небольшом городке, область которого называется графством и принадлежит семейству Кастельо Мельор. Во второй тоже есть два суда, один в Машику и один в Сан-Винсенте.
Фушнал, единственный город (cidade) на этом острове, расположен на его южном побережье под 32°33'34" северной широты и 17°12'7" западной долготы по Гринвичу. Кроме этого города здесь еще семь поселков, или вилл (villas). Четыре из них — Кальетта, Камара ду Лобос, Рибейра Браба и Понта ду Сол — относятся к капитании Фушнал, разделенной на двадцать шесть церковных приходов, три других — Машику, Сан-Винсенте и Санта-Крус — относятся к капитании Машико, в которой семнадцать церковных приходов.
Губернатор является главой всех гражданских и военных учреждений на этом острове, равно как и на островах Порто-Санто [Порту-Санту], Сальважес [Селважен] и Дезерта. Когда я находился на Мадере, эту должность исполнял дон Жуан Антониу ду Сан Перейра. Он слыл человеком знающим и рассудительным, но притом весьма сдержанным и до крайности осторожным.
Департамент юстиции подчиняется коррегидору, к которому направляются апелляции из всех низших судебных инстанций. Король, сам назначающий на эту должность и лишающий ее, обычно направляет для нее людей из Лиссабона. Каждая судебная палата (Judicatura) состоит из сената, члены которого выбирают своим председателем одного из судей (Juiz). В Фуншале его называют Juiz da Fora, и в отсутствие коррегидора или в случае его смерти он считается его представителем. Иностранные купцы избирают своего собственного судью, провидора, который одновременно собирает королевские пошлины и доходы. Они в целом составляют примерно 120 тысяч фунтов стерлингов и по большей части расходуются на жалованье королевским чиновникам и войскам, а также на содержание общественных зданий. Складываются они из десятины с урожая, которая принадлежит королю как гроссмейстеру ордена Христа[68], далее, из десятипроцентного налога со всех поступающих товаров, за исключением только продовольствия, и, наконец, из налога в одиннадцать процентов на все вывозимые товары. На острове есть лишь единственная рота регулярных войск численностью в сто человек; зато милиция насчитывает три тысячи человек и разделена на роты, каждая из которых имеет капитана, лейтенанта и прапорщика. Ни офицеры, ни рядовые в этой милиции не получают жалованья, но, поскольку принадлежность к ней дает известное положение, каждый туда стремится. Ежегодно устраиваются сборы, и в течение месяца проводятся учения. Все военные подчиняются Sejante Моr, а два Capitanos du Sal несут адъютантскую службу при губернаторе.
Число священнослужителей на этом острове достигает 1200, многие из них используются в качестве домашних учителей. После изгнания иезуитов здесь нет официальных орденских школ, кроме единственной семинарии, где оплачиваемый королем священник преподает десятку студентов. Эти студенты поверх обычного черного студенческого платья носят красный плащ. Однако тому, кто хочет быть посвящен в сан, необходимо пройти обучение в недавно созданном университете Коимбры, в Португалии. На Мадере существует также капитул, подчиняющийся епископу, чьи доходы превосходят губернаторские, поскольку он получает 110 пип вина и 40 муи пшеницы, муи составляет 24 английских бушеля[69]. В пересчете на деньги это обычно приносит ему около 3 тысяч фунтов стерлингов в год. В четырех монастырях, один из которых находится в Фуншале, живут также 60—70 францисканцев. Около 300 монашенок распределены по четырем монастырям, принадлежащим к орденам Мерси, Санта-Клары, Инкарнасау и Бон Жезус. Монашенки последнего ордена имеют право покидать монастырь и выходить замуж.
В 1768 году общее число жителей в сорока трех церковных приходах Мадеры составляло 63 913 человек, из них 31341 мужского и 32 572 женского пола. В одном лишь этом году умерло 5243 человека, родилось же всего 2198 детей, то есть смертей на 3045 больше, чем рождений. Вполне вероятно, что это было связано с какой-то эпидемией, ибо иначе остров давно стал бы необитаемым, тогда как климат его превосходный, погода по большей части мягкая, а жара в более высоких местах даже летом бывает весьма умеренная, так что люди богатые проводят там свой летний отдых. Зимой горы здесь по многу дней бывают покрыты снегом, в местах же более низменных он держится не дольше одного-двух дней. Впрочем, на достоверность наших сведений о рождениях и смертях можно положиться, так как мы имели возможность получить через секретаря губернатора выписку из церковных книг.
Люди из простонародья темнокожи и хорошо сложены; правда, у них большие ступни, что, возможно, связано с хождением по крутым и каменистым горным дорогам. Лица удлиненные, глаза темные, волосы черные и от природы кудрявые, у некоторых даже по овечьи курчавые, что, вероятно, объясняется смешением с неграми. В общем они выглядят неуклюжими, но не вызывают отвращения. Женщины безобразны, они лишены того нежного цвета кожи, который наряду с изящной хорошенькой фигурой обеспечивает нашим северянкам преимущество перед другими женщинами. На Мадере женщины малорослы, широки в костях, это относится и к лицу, но особенно, к ногам. В их манере одеваться и вести себя также нет особой приятности; что же до цвета кожи, то они очень смуглы. Впрочем, хорошие пропорции, красивая форма рук и большие живые глаза в какой-то мере компенсируют эти недостатки. Рабочий люд летом носит полотняные матросские штаны, грубые рубахи, большие шляпы и сапоги. Некоторые имеют короткий суконный камзол и длинный плащ, его они иногда перекидывают через руку. Женщины носят юбки и короткий узкий корсаж; наряд этот хоть и прост, но некоторым очень к лицу. Носят они также короткую широкую накидку, голова же остается совершенно непокрытой, и незамужние женщины укладывают волосы на макушке в узел.
Живут здесь плохо и на редкость скудно, питаются по большей части хлебом с луком или другими овощами, изредка мясом. При всем том потрохами и прочими мясными отходами здешние жители пренебрегают, «глотателями кишок» называются у них самые последние нищие. Пьют они обычно воду или же плохонький напиток, приготовляемый из винограда и воды; перебродив, он становится слегка острым и кислым, однако его нельзя долго хранить. Само же вино, которое принесло острову такую славу и которое делается их же руками, им редко перепадает. Главное их занятие — виноградарство, а поскольку виноградники большую часть года не требуют ухода, люди могут вволю предаваться праздности, которая так естественна в странах теплых и плодородных. Португальское правительство, похоже, до сих пор не придумало, как с этим бороться; правда, недавно издан приказ, требующий сажать маслины там, где земля слишком суха и не подходит для виноградников, однако никто не позаботился для начала как-то поддержать земледельцев или пообещать вознаграждение, которое поощрило бы их охотнее взяться за новое дело.
Виноградники сдаются в аренду и всегда только на один год. Арендаторы получают четыре десятых урожая, еще четыре десятых идут землевладельцу, одна десятая — королю и одна — духовенству. Столь малая доля и чувство, что ты просто работаешь на других, конечно, обескураживают и лишают людей надежды. Однако, несмотря ни на что, они веселы и довольны, за работой поют, а вечерами собираются, чтобы потанцевать под монотонные звуки гитары.
Городские жители видом еще безобразнее сельских. К тому же нередко они бледны и худы. Мужчины ходят во французском, преимущественно черном платье, однако обычно одежда бывает не по мерке и кажется вышедшей из моды еще полсотни лет тому назад. Дамы сложения более нежного и приятного, однако ревность, от рождения присущая здешним мужчинам, вынуждает их жить замкнуто и лишает радостей, какие даны даже более бедным деревенским женщинам. Люди знатные образуют нечто вроде аристократии, однако они до того гордятся своими предками, что поневоле держатся замкнуто, невежественно и до смешного чопорно. Земельные владения принадлежат нескольким старым семействам, живущим в Фуншале и других здешних городах.
Мадера представляет собой одну большую гору, которая поднимается со всех сторон к середине острова; на ее вершине есть углубление, называемое местными жителями Val и поросшее, по их словам, мягкой вечнозеленой травой. Камни, которые мы имели возможность изучить, по-видимому, все побывали в огне, они были ноздреватые, черного цвета, словом — это в основном лава. Многие камни напоминали породу, которую горняки в Дербишире называют dunstone. Почва по всему острову состоит из туфа, смешанного с глиной и песком, такую же почву мы встретили потом на острове Вознесения. Все это дает мне право заключить, что эти лавы и охры выброшены вулканом и что вышеупомянутое углубление на вершине горы было когда-то кратером, то есть отверстием. Правда, при первом взгляде на Мадеру я был другого мнения; лишь черная скала Лу-Рок или скалы, на которых стоит крепость Сан-Жуанну, равно как свойства почвы и камней, наконец, расположение упомянутого углубления убедили меня, что все это прошло через огонь.
Остров расчленяют несколько ручьев, устремляющихся сверху по глубоким ущельям; равнин же, которые якобы видели путешествовавшие до нас[70], мы здесь нигде не, нашли. Кое-где в руслах можно видеть скопления больших и, малых камней, принесенных сюда сверху потоками воды, главным образом зимой, в пору сильных дождей. Для блага виноделия вода с помощью плотин и каналов направляется к виноградникам, дабы хозяева в определенное время могли ею пользоваться. Некоторые имеют воду круглый год, другие три раза в неделю, а иные два или даже всего только один раз. Так как в столь жарком климате ни один виноградник не может обойтись без орошения, они требуют больших затрат и устраиваются по возможности там, где можно иметь воду круглый год.
Если в горах попадается хотя бы клочок ровной земли, который можно приспособить для земледелия, на нем сажают съедобные коренья (Arum esculentum Linn.)[71] и для сохранения влаги окучивают их землей, ибо это растение лучше всего развивается на влажных почвах. Листья идут на корм свиньям, корнями же охотно лакомятся сами местные жители. Для той же цели сажают сладкий картофель (Convolvulus batatas)[72], который наряду с каштанами составляет основу их питания. Большие каштановые леса растут в горах, где нет виноградников. Сеют также пшеницу и ячмень, преимущественно там, где лозы уже состарились или где их только собираются сажать. Однако всего урожая зерновых едва хватает на три месяца, так что жителям приходится ввозить продовольствие, особенно североамериканское зерно. Ежегодно они получают его в больших количествах в обмен на вино. Причина плохих урожаев отчасти в недостатке удобрений, отчасти в лености здешнего народа; но даже если бы земледелие здесь велось наилучшим образом, зерна, по-видимому, все равно бы не хватало.
Гумна здесь круглые, их устраивают на самом краю поля, где для этого очищают и утаптывают землю. Снопы кладут по кругу, и пара волов волочит по ним четырехугольную доску, усаженную снизу острыми кремнями. Чтобы доска была тяжелее, погонщик сам на нее становится. Солома, таким образом, превращается в сечку, а зерно выбивается из колосьев.
Самая важная статья дохода на Мадере — вино, которым и знаменит этот остров. Виноградники разбивают всюду, где только позволяют место, почва и вода. В каждом устраивается один или несколько проходов шириной от 3 до 6 футов. По обеим сторонам проходов идут стенки высотой в 2 фута. Сверху эти проходы перекрыты решетчатым сводом высотой в 7 футов, а вдоль них на одинаковом расстоянии друг от друга стоят столбы, на которых крепятся решетки из бамбука. Эти решетки покрывают весь участок по обеим сторонам крытого прохода на высоте примерно 2 футов от земли. Таким образом они дают опору побегам, а у работников остается место, чтобы выпалывать сорняки между лозами. При сборе винограда они ползают под решеткой, срезают гроздья и собирают их в корзины. Я видел здесь гроздья весом более 6 фунтов. Такой способ содержать почву чистой от сорняков, сохранять в ней влагу, а самим гроздьям обеспечивать достаточно тени и придает вину Мадеры те превосходные вкусовые свойства, которыми оно славится. Однако он связан с необходимостью занимать часть земли под посадки бамбука, без которого нельзя соорудить решетки. Если какой-то виноградник не удается обеспечить бамбуком, он не может быть как следует оборудован и потому становится непригоден для пользования.
Вино бывает разного качества и цены. Лучшее получается из того сорта винограда, что был доставлен сюда из Кандии [остров Крит] по повелению дона Генриха, инфанта Португалии[73]. Называется оно «Мальвазия Мадеры». Пипу здесь на месте продают не дешевле чем за 40—42 фунта стерлингов. Это вкусное сладкое вино, но его мало. Следующий сорт — сухое виноградное вино, какое привозится в Лондон; пипа его стоит 30—31 фунт. Сорта похуже, которые поставляют для Ост- и Вест-Индии, а также для Северной Америки, стоят в зависимости от качества 28—30 фунтов стерлингов. Ежегодно здесь получают около 30 тысяч пип, в каждой по 110 галлонов[74]. 30 тысяч пип лучших сортов идет на вывоз, остальное вино частью потребляется на самом острове, частью перегоняется для изготовления водки, которую отправляют в Бразилию, частью идет на производство винного уксуса.
Виноградники окружены либо каменными оградами, либо живыми изгородями из гранатов, миртов, ежевики и дикой розы. В садах выращивают персики, абрикосы, айву, яблоки, груши, грецкий орех, каштаны и другие европейские плоды, а иногда и такие тропические растения, как бананы, гуайявы [75] и ананасы.
Домашние животные на Мадере те же, что и в Европе, правда, бараны и быки тут невелики, но мясо их весьма вкусно. Лошади тоже низкорослые, но крепкие. Они легко взбираются по самым крутым горным тропам, поскольку других дорог здесь нет. Колесных повозок тут вовсе не знают, но в городе можно увидеть нечто вроде полозьев или саней из двух соединенных поперечинами брусьев, которые спереди образуют острый угол; в них запрягают волов и возят так бочки с вином или другие тяжелые грузы.
Здесь больше разнообразных диких птиц, чем другой дичи, единственным представителем которой можно считать лишь кролика. Видели мы прежде всего ястребов (Falco nisus), много ворон (Corvus coronе), сорок (Corvus pica), лесных и полевых жаворонков (Alauda arvensis et arborea), скворцов (Sturnus vulgaris), овсянок (Emberiza citrinella), обычных и горных воробьев (Fringilla domestica et montana), желтых трясогузок и малиновок (Motacilla flava et rubecula), а также диких голубей, разновидность которых не смогли определить. Попадались нам также домашние и береговые ласточки (Hirundo rustica et apus), a no словам некоторых господ из английской фактории, они видели здесь и ласточек деревенских (Hirundo urbica). Ласточки остаются тут на всю зиму, их бывает не видно лишь в редкие холодные дни, когда они прячутся в расщелинах скал, но с первым же теплом они появляются снова. Красноногая куропатка (Tetrao rufus) держится во внутренних частях острова, видимо потому, что там ей спокойнее, нежели в других местах. У господина Лафнана в клетке я видел красноклювого воробья (Loxia astrild), зяблика, щегла, сарыча и канарейку (Fringilla coelebs, Carduelis, Butyracea canaria); все они были пойманы на острове. Домашняя птица — индюки, гуси, утки, куры — здесь редкость, должно быть, из-за недостатка зерна.
Змей на острове вовсе нет, зато все дома, виноградники и сады кишат ящерицами. Монахи в одном здешнем монастыре жаловались, что эти ящерицы причиняют большой вред садам; чтобы от них избавиться, они закапывают в землю большой латунный котел, куда эти животные, всюду шныряющие в поисках пищи, попадают сотнями и гибнут, не умея выкарабкаться по гладкому металлу.
Море вдоль побережья Мадеры и соседних островов Сальважес и Дезерта не бедно рыбой, но ее не хватает для соблюдения постов, поэтому селедку привозят английские суда из Готенбурга [Гетеборг], а соленую и вяленую треску — из Нью-Йорка и других мест Америки.
Насекомых мы видели мало, хотя, останься мы тут подольше, возможно, встретили бы еще. Все они были известны и разнообразием не отличались. По этому поводу я хотел бы сделать замечание, которое относится ко всем островам, где мы побывали в ходе нашего путешествия. Четвероногих животных, амфибий и насекомых на островах, лежащих далеко от материка, бывает немного; первых можно здесь увидеть лишь в том случае, если они завезены сюда человеком. Напротив, рыбы и птицы, способные найти сюда путь без посторонней помощи, по воздуху и по воде, встречаются чаще и отличаются большим разнообразием. Крупные же материки богаты вышеназванными видами животных, равно как и птицами и рыбами, которые, как уже было сказано, распространены повсюду. Так, в Африке мы за несколько недель смогли встретить множество самых разнообразных видов четвероногих животных, амфибий и насекомых, тогда как в других местах из числа таковых нам не попалось ничего нового.
ГЛАВА ВТОРАЯ Плавание от Мадеры к островам Зеленого Мыса и оттуда к мысу Доброй Надежды
Поздно вечером 1 августа мы и «Адвенчер» снова подняли паруса. Северо-восточный ветер настолько благоприятствовал нашему плаванию, что уже утром четвертого мы увидели остров Пальма. Согласно нашим астрономическим вычислениям, он лежит под 28°38' северной широты и 17°58' западной долготы и является одним из островов, которые древним были известны под названием Счастливых (Insulae fortunatae); один из них уже тогда назывался Канария [76]. В Европе про них забыли до конца четырнадцатого столетия, когда вновь пробудился дух мореплавания и открытий. В ту пору они были заново открыты искателями приключений, а бискайские мореплаватели высадились на острове Лансароте и вывезли с него сто семьдесят жителей. Луис де ла Серда, испанский дворянин королевской крови из Кастилии, получил с помощью папской буллы права собственности на сии острова и в 1344 году, еще не вступив по-настоящему во владение этими землями, принял титул принца Счастливых островов. Затем в 1402 году сюда прибыл барон Жан де Бетанкур из Нормандии. Он объявил Канарские острова своей собственностью, а себя самого — их королем. Однако его внук уступил все права на них дону Генриху, португальскому инфанту, пока наконец они не перешли к Испании, которая владеет ими и сейчас.
На другой день в 5 часов утра мы прошли остров Ферро, примечательный тем, что некоторые географы провели начальный меридиан через его западную оконечность[77]. Согласно астрономическим наблюдениям, произведенным капитаном Куком, западная оконечность острова расположена под 27°42' северной широты и 18°9' западной долготы.
В день, когда корабль находился примерно под 27° северной широты, мы видели множество летучих рыб, которые выпрыгивали над водой, преследуемые бонитами и дорадами[78]. Они летали в разные стороны, а не только против ветра, как, видимо, полагал Кальм[79]. Кроме того, они могли лететь не только по прямой, но и по кривой линии. Если на их пути вставал гребень волны, они проходили его насквозь и продолжали полет по другую его сторону. С этого дня и до тех пор, покуда мы не покинули жарких областей (Zona torrida), мы почти ежедневно могли наблюдать игру несметного множества этих рыб. Некоторые, залетев, на свою беду, слишком далеко или слишком высоко и потеряв силы, попадали на палубу. При той однообразной жизни, какую мы вели, плывя между тропиками, когда погода, ветер и море благоприятствовали нам, всякая мелочь давала повод для размышлений, и, наблюдая, скажем, как красивые морские рыбы, бониты и дорады, охотятся за меньшими, летучими рыбами, как те, покинув привычную стихию, ищут спасения в воздухе, мы поневоле задумывались о человеке. Ведь разве найдется царство, которое не напоминало бы бурного океана, где те, кто побольше, горделиво блистая своим величием, не преследовали бы малых и беззащитных? И когда несчастные беглецы и в воздухе встречали новых врагов, становясь добычей птиц [80], сравнение можно было продолжить.
8-го морская волна приобрела беловатый оттенок. Поскольку такая перемена цвета часто предвещает мель или скалы, мы ради предосторожности опустили лот, но на пятидесяти саженях не нашли дна. Вечером миновали тропик Рака. Тем временем наши книги и приборы покрылись плесенью, а железо и сталь на открытом воздухе стали ржаветь. Поэтому капитан Кук приказал тщательно окурить судно порохом и винным уксусом. Должно быть, воздух здесь содержал частицы соли, ибо простая сырость или туман не могли бы произвести подобного воздействия[81]. Как тяжелые частицы соли, растворяясь в тумане, могли подняться в воздух, пусть выясняют философы. Особенно интересно было бы узнать, не связано ли упомянутое явление с тем, что в море ежедневно гниет множество живых существ, выделяя летучую щелочь? Сильная жара между тропиками, видимо, делает летучей морскую соляную кислоту, которая содержится в соленой воде, так же как и в поваренной соли. Было, например, замечено, что, если ткань, смоченную в щелочном растворе, повесить над обычным солончаком, на ней скоро появятся кристаллы соли, получившейся из этой щелочи и соляной кислоты. Отсюда, видимо, следует, что морская соляная кислота в жарком климате становится летучей и, находясь в испарениях воздуха, воздействует на железо и сталь. Для человека же, который весьма страдает здесь от жары, это должно быть очень полезно, поскольку такие испарения укрепляют легкие и слегка стягивают кожу, предотвращая слишком сильную потерю жидкости.
Среди предупреждающих и лечебных средств против морской цинги, которые мы взяли с собой из Англии, была сгущенная пивная эссенция [82]. У нас на борту имелось несколько бочек. Но еще прежде чем мы покинули Мадеру, в них началось брожение. Теперь эссенция стала взрывать бочки и вытекать. Капитан надеялся поправить дело и приказал вынести их из нижних, жарких помещений на палубу, где было прохладнее. Однако свежий воздух усилил брожение настолько, что из бочек вышибло днища; при этом раздавался каждый раз звук, будто стреляли из ружья, а перед этим обычно выходил дымок или пар. По совету моего отца эссенция, забродившая в одной из бочек, была перелита в другую, которую перед этим тщательно окурили серой. На несколько дней брожение утихло, но затем возобновилось, причем главным образом в бочках, стоявших на свежем воздухе. Некоторые же, лежавшие в глубине, среди камней балласта, держались лучше, во всяком случае не взрывались. Вероятно, процессу брожения в них помешала примесь водки двойной перегонки. Впрочем, пиво, которое получалось из такого сусла, если его просто разбавить теплой водой, было очень хорошим и пригодным для питья, хотя из-за выпаривания у него был немного пригорелый привкус.
11 августа показался Бонависта [Боавишта], один из островов Зеленого Мыса; а когда на другое утро погода после ливня прояснилась, мы увидели и остров Сантьяго [Сантьягу] и в три часа пополудни бросили якорь в бухте Порто-Прайя [Прая], «расположенной на южной стороне острова под 14°53'30" северной широты и под 23°30' западной долготы».
На другой день утром мы сошли на берег и нанесли визит коменданту форта дону Хосе де Силве, радушному человеку, который немного говорил по-французски. Он представил нас генерал-губернатору островов Зеленого Мыса по имени Жуакин Салама Салданья де Лобос. Обычно он живет в Сантьяго, главном городе этого острова, но из-за болезни, о коей свидетельствовала бледность его лица, уже два месяца как находился здесь, поскольку воздух в этих местах считается более здоровым. Жил он в комнатах коменданта, который посему принужден был довольствоваться жалкой хижиной. От него мы получили некоторые сведения об этих островах.
Антонио Нолли, вероятно тот самый, кого другие зовут также Антониотто, генуэзец, находившийся на службе у португальского инфанта дона Генриха, открыл в
1449 году некоторые из этих островов и 1 мая высадился на тот, который, в честь дня открытия, получил название Майо [Маю]. Тогда же был обнаружен и остров Сантьяго. В 1460 году сюда послали еще одну экспедицию, чтобы взять эти острова во владение, устроить там колонию и по-настоящему обосноваться. Тогда же были открыты и остальные острова. Сантьяго — самый крупный из них, длиной около семнадцати лиг[83]. Главный город того же названия находится в глубине острова; он является резиденцией епископа, в епархию которого входят все острова Зеленого Мыса. Эти острова разделены на одиннадцать церковных приходов, в самом населенном из них примерно 4 тысячи домов, так что густонаселенными их в целом не назовешь.
Залив Порто-Прайя лежит под крутой скалой, на которую мы поднялись по извилистой тропе. Укрепления со стороны моря представляют собой старые полуразрушенные стены, а со стороны суши — это просто каменная насыпь высотой едва вполовину человеческого роста. Близ порта стоит довольно импозантное здание лиссабонской купеческой компании, которой принадлежит монополия на торговлю с этими островами и которая держит тут агента. Поскольку мы хотели закупить здесь свежее продовольствие, губернатор рекомендовал нам этого агента; тот оказался, однако, господином весьма нерасторопным и, пообещав нам все, что мы запросили, ничего в конце концов не доставил, кроме единственного тощего быка. Вышеназванная компания угнетает бедных здешних жителей и продает им самые плохие товары по неслыханным ценам.
Жителей на Сантьяго мало. Они среднего роста, безобразны и почти все черные, у них курчавые волосы и толстые губы — словом, видом они напоминают самых уродливых негров. Каноник господин Паув цу Ксантен (Pauw zu Xanten)[84], по-видимому, считает их потомками первых португальских колонистов, которые на протяжении девяти поколений, то есть примерно за триста лет, приобрели нынешний черный цвет кожи (сейчас он даже гораздо темнее, чем в его времена). Но повинен ли в этом лишь жаркий здешний климат, как полагают он и аббат де Мане [85], или же скорее браки с черными жителями близлежащего африканского побережья, об этом я судить не берусь, хотя граф Бюффон[86] прямо указывает, что «цвет кожи у человека зависит преимущественно от климата». Как бы там ни было, белых среди жителей сейчас очень мало, мы видели, по-моему, не более пяти-шести, считая губернатора, коменданта и торгового агента. На некоторых из этих островов даже чиновники и священники черные[87]. Люди познатнее ходят в старом, ношеном европейском платье, которое они приобрели еще до появления монопольного торгового общества. Прочие довольствуются отдельными предметами европейской одежды — одной рубахой, камзолом, штанами или шляпой — и кажутся вполне довольными своим нарядом, какой он ни есть. Женщины безобразны, на плечах у них лишь кусок полосатой хлопковой ткани, доходящей спереди и сзади до колен; дети же вплоть до совершеннолетия ходят совсем нагишом.
Деспотизм губернатора, руководство суеверных и слепых священнослужителей, а также невнимание со стороны португальского правительства привели к тому, что народ здесь поистине живет едва ли не в более бедственных условиях, чем даже черные африканские племена; в таких условиях трудно умножать богатство страны. Конечно, жители теплых стран вообще склонны к лености, но, когда они заранее знают, что все попытки улучшить свое положение принесут им лишь еще больше мук и несчастий, они становятся тем более ленивыми, равнодушными к любому усилию, угрюмыми, апатичными и охотно прибегают к нищенству как к единственному средству, которое может защитить их от алчной хватки жестоких господ. Да и к чему им трудиться, отказываясь от покоя и сна, сей единственной отрады в их тяготах, если они знают, что плоды их трудов пойдут не им, а лишь умножат богатство других?
Человек, не видящий впереди ничего хорошего, потерявший даже надежду на счастье, конечно, не склонен жениться. Когда столь трудно обеспечить себя хотя бы самым малым, лучше не взваливать на свои плечи еще и заботы о доме и семье. К тому же плодородие и урожайность здешней засушливой земли зависят от того, выпадет ли в нужное время года достаточное количество дождей; если, на беду, их окажется недостаточно, то на полях и лугах все засохнет и выгорит, тогда неизбежен голод. Нетрудно вообразить, что подобные бедствия тоже отпугивают жителей от радостей семейной жизни, ибо им приходится опасаться, как бы нужда и рабство не стали уделом и их несчастных детей[88].
Острова Зеленого Мыса гористы, но горы здесь сравнительно невысоки. Покрытые прекрасной зеленью, они мягко спускаются к побережью, а между ними находятся широкие долины. Однако воды здесь не хватает; за исключением Сантьяго, где есть небольшая река, впадающая в море близ Рибейра-Гранде [Рибейра-Гранди], местечка, названного по ее имени, на всех островах воду можно брать только из колодцев. Так, в Порто-Прайя есть единственный колодец, даже не огороженный, а лишь плохо выложенный камнями, вода в нем мутная и солоноватая, к тому же ее так мало, что мы дважды в день вычерпывали колодец досуха. В долине близ форта почва, по-видимому, достаточно влажная, здесь растут кокосовые пальмы, сахарный тростник, бананы, хлопок, гуайявы и деревья папао[89]; однако большая ее часть покрыта кустарником или используется под пастбища.
Последнее обстоятельство заставляет думать, что эти острова могли бы приносить больше дохода и приобрести более важное значение, владей ими народ трудолюбивый, предприимчивый и деловитый. В здешнем знойном климате, судя по всему, могли бы неплохо произрастать кошенилевые растения, индиго[90], некоторые овощи и, возможно, также кофе, а распоряжайся здесь столь благодетельное и свободное правительство, как английское, этого наверняка вполне хватило бы, чтобы не только удовлетворить самые насущные потребности земледельцев, но и обеспечить им все удобства. Тогда нынешнюю скудную растительную пищу на их столах сменило бы изобилие, а их убогие хижины превратились бы в удобные дома.
Некоторые из низких холмов были сухи и бесплодны настолько, что там не видно было никакой зелени, на других виднелась кое-какая растительность, хотя был как раз конец сухого сезона. В долинах почва достаточно плодородна, она состоит из выжженных, выветренных лав и пепла цвета охры; но земля повсюду покрыта множеством камней, на вид они обгорелые и, вероятно, представляют собой куски лавы. Скалы на побережье тоже черного цвета и выглядят обгорелыми. Можно предположить, что остров подвергся большим изменениям из-за вулканической деятельности, то же, видимо, относится и к другим близлежащим островам; во всяком случае, один из них, Фуогу [Фогу], до сих пор представляет собой действующий вулкан. Горы в глубине острова высоки, некоторые из них на вид весьма круты и, возможно, более древнего происхождения, чем вулканические участки на побережье, которые мы только лишь и имели возможность исследовать.
Вечером мы возвратились на борт, а поскольку прилив был теперь выше, нежели утром, нам пришлось раздеться донага, дабы добраться до шлюпки, куда лучшие наши пловцы тем временем погрузили бочонки с водой и провизию, полученную на острове. При этом приходилось опасаться акул, которых в этом заливе множество. Капитан, астроном и лоцман весь день снимали план гавани и, кроме того, произвели наблюдения на расположенном в бухте маленьком острове, который из-за водящихся там перепелов называется Ilha dos Codornizes— Перепелиный остров. Комендант форта рассказывал нам, что некоторое время назад на этом же месте производили наблюдения офицеры французского фрегата, имевшие при себе несколько хронометров нового устройства[91].
На другой день капитан Кук пригласил к обеду генерал-губернатора и коменданта, и мы оставались на борту, дабы выполнять обязанности переводчиков. Капитан послал за ними собственную шлюпку, однако она вернулась назад без ожидавшихся гостей. Губернатор просил извинить его отсутствие, сказав, что на борту корабля всегда чувствует себя плохо. Комендант обещал прийти, но не успел своевременно отпроситься у губернатора, а тот уже успел удалиться на сиесту, то есть полуденный отдых, и побеспокоить его никто не решился.
Свежей провизии в Порто-Прайе удалось получить совсем немного, поэтому мы не хотели здесь дольше задерживаться. Несколько бочек полусоленой воды, единственный тощий бык, несколько длинноногих коз, у которых, кстати сказать, были прямые, торчащие вверх рога и отвислые уши, несколько тощих свиней, индюков, кур, а также две сотни незрелых апельсинов и плохих бананов — вот все, что мы смогли раздобыть. Накануне, во время ботанических прогулок, мы нашли несколько тропических растений, но по большей части известных видов, тогда как среди насекомых, рыб и птиц было несколько новых. К числу последних относилась разновидность цесарок (Guinea hens), которые редко летают, но тем быстрее бегают; мясо у старых цесарок жесткое и сухое. По сведениям местных жителей, здесь также должны водиться перепела и красноногие куропатки; но самой замечательной птицей, которую мы здесь встретили, была разновидность зимородка[92]. Этот зимородок питается большими голубыми и красными крабами, которых здесь повсюду множество и которые устраивают себе круглые и глубокие жилища в сухой почве.
Поскольку матросам приятно все, что помогает скоротать время, они купили здесь пятнадцать-двадцать обезьян, называемых зелеными обезьянами или обезьянами Сантьяго (Simia saboea). Они были меньше кошки, зеленовато-коричневой окраски, с черными головами и лапами. По бокам рта у них, как и у многих других пород обезьян, имелись мешки; англичане в вест-индских колониях, а также испанцы называют их alforjes[93]. Проделки этих существ казались довольно забавными, покуда были в новинку. Однако длилось это недолго, вскоре они надоели, и бедных зверей стали гонять с одного конца корабля на другой, а из-за недостатка в свежей пище они стали голодать, так что до мыса Доброй Надежды в живых добрались только три обезьяны. Вырвать этих безобидных животных из их тенистых лесов, где они жили спокойно, и обречь их на гибель в непрестанном страхе и мучениях — не есть ли сие преднамеренная жестокость и очевидное доказательство самой грубой бесчувственности? Я взирал на это с участливым состраданием и даже теперь не могу удержаться, чтобы не упомянуть про эту бесчувственность, хотя и предпочел бы прикрыть подобные вещи завесой любви.
Вечером мы подняли паруса и взяли курс на юг. В последующие дни погода была мягкая, с ливневыми дождями, ветер северо-восточный, северный и северо-северо-восточный. 16-го в 8 часов вечера мы видели яркий огненный метеор, вытянутый в длину и голубоватого цвета. Он очень быстро падал к горизонту в северо-западном направлении и скоро исчез из виду. К полудню мы удалились от Сантьяго на добрых 55 английских морских миль, тем не менее одна ласточка все еще летела за кораблем. К вечеру она уселась на один из люков, но поскольку там ее все время тревожили, когда приходилось ставить или убирать паруса, то она облюбовала себе для ночлега резные украшения на корме и следовала за судном, не отставая, два следующих дня. Все это время мы видели вокруг много бонит. Часто они с большой скоростью проносились рядом с кораблем, но все попытки поймать их на крючок или попасть в них гарпуном оказывались напрасными. Зато нашим матросам удалось тут же поймать на крючок акулу в пять футов длиной. Мы видели ее обычных спутников, рыбу-лоцмана (Gasterosteus ductor) и прилипалу, или ремора (Echeneis remora), но разница между ними в том, что первые никак но давали себя поймать, вторые же, напротив, столь прочно сидели на теле акулы, что мы сразу четырех вытащили вместе с ней на палубу.
На другой день мы поели немного жареного акульего мяса, и на вкус оно показалось вполне сносным, хотя и неудобоваримым из-за жира.
Два дня спустя пропал Генри Смок, один из наших плотников. Он выполнял какую-то работу за бортом и, видимо, сорвался в море. Товарищи, ценившие его добрый нрав и степенность, весьма горевали о нем. Но, конечно, куда болезненней была эта потеря для родных. На глазах чувствительных людей можно было видеть пролитую тайком слезу, искреннюю, драгоценную дань памяти рассудительного, доброго и любящего сотоварища.
С тех пор как мы покинули Сантьяго, часто шли дожди, но особенно сильно лило 21-го. Капитан приказал растянуть по всему кораблю полотнища палаток и покрывала, дабы собрать дождевую воду; таким образом мы сумели наполнить семь бочек. Хотя у нас и так не было недостатка в воде, мы обрадовались свежему запасу. Он позволял больше выдавать воды матросам. Наш капитан по многолетнему опыту убедился, что в длительных морских путешествиях обилие пресной воды необычайно важно для здоровья. Это легко объяснить: ведь когда воды достаточно как для питья, так и для мытья и стирки, это не только способствует разжижению крови; чистота и частая стирка позволяют содержать открытыми потовые отверстия кожи, а следовательно, поддерживать необходимое для здоровья незаметное испарение. Таким образом двояко удается избежать опасности воспалительных заболеваний: с одной стороны, поскольку испарения тела не могут быть опять впитаны кожей, с другой стороны, потому, что благодаря обильному питью возмещается потерянная в результате потения жидкость, при недостатке которой загустевшие соки легко становятся солеными и едкими, что обычно бывает причиной лихорадочных воспалений.
В этот день дождь совершенно вымочил нашу бедную ласточку. Она сидела на корме, на поручнях палубы, и покорно позволила себя словить. Я обсушил ее и, когда она оправилась, выпустил в рулевой рубке, где она, ничуть не смущаясь тем, что оказалась в заточении, набросилась на мух, которых там было полно. Во время обеда мы открыли окна и выпустили ее опять на свободу, однако вечером в шесть часов она вернулась в рулевую рубку и в каюту, будто была уверена, что мы не причиним ей зла. Подкрепившись еще раз мухами, она улетела опять и провела ночь на наружной стороне судна. Рано утром она вновь прилетела в каюту и позавтракала мухами. Найдя у нас такой приют и почти или совсем ничего не опасаясь, бедное создание осмелело и стало наконец залетать внутрь через любой люк, окно или другое отверстие. Часть дня до обеда ласточка весьма бодро провела в каюте господина Уолса, но затем исчезла. Очень может быть, что она попала в руки какого-нибудь бесчувственного человека, который поймал ее, чтобы угостить кошку. В однообразном морском плавании всякое мелкое происшествие способно занять путешественника, поэтому не приходится удивляться, что столь ничтожное событие, как убийство невинной птицы, оказалось вдвойне горестным для сердца тех, кто еще не потерял чувствительности.
История этой птицы, обыкновенной домашней ласточки (Hirundo rustica Linn.), в то же время весьма наглядно показывает, сколь далеко могут забираться в море отдельные сухопутные птицы. Видимо, следуя за кораблями, которые отплывают от берега, они ненароком попадают в открытое море, где вынуждены держаться близ судна как возле единственной тверди, которую можно найти в бескрайнем море. Когда в море одновременно оказывается несколько кораблей, нетрудно понять, каким образом случается встретить сухопутных птиц так далеко от земли. Они, вероятно, следовали сначала за одним кораблем, а затем попали на тот, где находился наблюдатель. Да и вообще по опыту известно, что не только отдельные птицы, но и целые стаи и косяки можно встретить далеко от земли в открытом море даже в сильный шторм, ибо они точно таким же образом отдыхают на кораблях [94].
23-го мы видели несколько китов длиной от 15 до 20 футов, они проплыли мимо судна к северу и северо-западу. Их называют нордкапскими (Delphinus orca). Два дня спустя мы опять увидели таких же рыб, а с ними несколько более мелких, коричневого цвета, которых именуют прыгунами (Skipjacks) за способность выпрыгивать из воды[95].
Ветер уже несколько дней как был северо-западным и вынуждал нас двигаться на юго-восток, так что мы теперь находились южнее берегов Гвинеи. Те члены нашей команды, которым доводилось не раз плавать через Атлантическое море, считали такое явление необычным; и действительно, ветер между тропиками всегда отличается постоянством, даже можно сказать неизменностью направления, так что подобное отклонение от правила можно назвать необычным. На этой широте мы также заметили несколько фрегатов. Матросы считают этих птиц предвестниками близости земли, однако сейчас мы находились в 100 морских милях от ближайшего берега, из чего следовало, что мнение это столь же малоосновательно, сколь и другие старые предрассудки. Всякое опровержение предрассудка есть победа науки; всякое доказательство, что мнение, господствующее среди людей непросвещенных, ошибочно, есть шаг к истине, которую одну следует запечатлевать и утверждать для блага людей.
1 сентября показалось несколько дорад [корифен] (Coryphaena hippurus). Недалеко от корабля мы видели также большую рыбу, которую Уиллоуби изобразил в своей истории рыб на с. 5 (табл. 9, рис. 3), позаимствовав из сообщения И. Ниухофа. Голландцы называют ее морским дьяволом, должно быть, из-за ее внешнего вида. Она, видимо, принадлежит к семейству скатов (Raja), но относится к новой разновидности [96]; это доказывает, что даже самые изученные моря, такие, как Атлантическое, содержат материал для новых открытий, если только у человека, способного отличить известное от неизвестного, имеется возможность провести необходимые исследования.
3 сентября мы видели большие косяки летучих рыб и поймали одну бониту (Scomber pelamus), которая тут же была приготовлена; ее мясо, однако, оказалось более сухим и невкусным, чем обычно говорят. Два дня спустя нам посчастливилось поймать одну дораду. Для еды эта рыба суховата и потому особой ценности не представляет, но тем более она восхищает взор неописуемо красивой игрой красок, когда умирает. Покуда в ней еще теплится жизнь, она переливается всеми цветами радуги, несколько раз меняя окраску. Это, по-моему, одно из самых великолепных зрелищ, которые дано увидеть путешественнику в морях этих жарких широт.
But here description clouds each shining ray; What terms of art can Natures powr's display? Falconer [97]В этот же день была спущена шлюпка, чтобы определить течение, а также температуру воды на большой глубине. Мы опустили лот на 250 саженей, но не нашли дна. Термометр на открытом воздухе показывал 75 1/2° по Фаренгейту [24, 2°С], непосредственно у поверхности воды температура упала до 74° [23, 3°С], а на глубине 85 саженей — до 66° [18, 8°С]. Мы держали его под водой 30 минут, а на подъем затратили 27 1/2 минуты. Из шлюпки мы могли наблюдать морскую крапиву — разновидность медуз, которую Линней назвал Medusa pelagica. Мы поймали также другое морское животное, называемое Dorislavis, и сделали более достоверные, чем до сих пор, его зарисовки. В полдень мы находились под 0°52' северной широты.
9-го при слабом ветерке мы пересекли экватор. Матросы окунали в морскую воду своих товарищей, которые еще не бывали тут и не пожелали откупиться деньгами. Получившие это соленое крещение переодевались потом в сухое, и, поскольку в море это удовольствие нечастое, да еще в жаркую погоду, они не только не огорчались, но находили такое купание даже полезным для здоровья. На откупные деньги других были выставлены крепкие напитки, и это прибавило матросам веселья и бодрости, свойств, особенно присущих их характеру. Ветер в этот день переменился на южный, затем постепенно стал юго-восточным, и наконец установился обычный пассат.
Мы поймали несколько дорад, вдобавок на палубу упала летучая рыба длиной в целый фут. Начиная с 8-го постоянно можно было видеть морских птиц: фрегатов, буревестников, чаек и фаэтонов. А однажды все море оказалось покрыто моллюсками. Среди них была разновидность голубых моллюсков, напоминающая по виду полевого слизня, с четырьмя щупальцами, снабженными множеством отростков. Мы назвали их Glaucus atlanticus. Другие моллюски были прозрачны, как стекло, и они висели друг на друге, будто нанизанные па длинный шнур. Мы отнесли их к семейству Dagysa, они упоминаются и в рассказе о путешествии господина Кука на «Индевре». Повсюду вокруг судна можно было в изобилии увидеть две другие разновидности моллюсков, которых, матросы называют парусниками и португальскими корабликами (Medusa velella et holuthuria physalis).
27-го мы опять определяли течение и температуру воды, получив примерно те же результаты, что и раньше. Термометр на открытом воздухе показывал 72 1/2° [22, 5°С], у самой поверхности воды 70° [21, 1°С], а на глубине в 80 саженей — 68° [20°С]. Он оставался под водой 15 минут, и 7 минут потребовалось, чтобы его вытащить. Среди прочего нам встретилась сегодня новая разновидность медуз; мы также получили возможность ближе рассмотреть птицу, которую видели последние два дня и которая оказалась обычным большим буревестником (Procellaria puffinus). Мы уже достигли 25° южной широты; ветер в этих местах постепенно сменился с восточного на северо-восточный, а затем северный, и мы, пользуясь этим, шли на юг. За время плавания в жарких широтах, которые мы теперь покидали, мы до того привыкли к теплу, что перемена в климате показалась нам теперь значительной, хотя термометр едва ли показывал на 10° меньше, чем до сих пор. Я ощутил перемену самым чувствительным образом, ибо заполучил сильный насморк и зубную боль, так что у меня распухла щека.
4 октября в холодную погоду мы увидели большие стаи обычных маленьких буревестников (Procellaria pelagica) темно-коричневого цвета с белыми глазками. На другой день показались также первые альбатросы (Diomedea exulans) и пинтадо (Procellaria capensis)[98].
11-го погода была хорошая, на море почти полный штиль. Зато несколько предыдущих дней было туманно и штормило. Такая погода, вероятно, способствовала аппетиту морских птиц, особенно пинтадо, которые столь жадно набрасывались на крючки с кусочками свинины и баранины, что за короткое время мы поймали их более восьми штук.
Вечером мы наблюдали лунное затмение, закончившееся в 6 часов 58 минут 45 секунд. Днем мы находились под 34°45' южной широты.
На другой день мы в третий раз определяли течение и температуру воды. 20 минут мы держали термометр на глубине 160 саженей, и, когда вытащили его за 7 минут, он показывал 58° [14,4°С]. В воде у самой поверхности было 59° [15°С], а на открытом воздухе — 60° [15,5°С]. Поскольку стояло безветрие, мы доставили себе удовольствие пострелять из шлюпки морских птиц, среди которых оказались маленькая морская ласточка, большой буревестник, а также новые разновидности альбатроса и буревестника. Нам попались также фиолетовая улитка (Helix janthina) и еще несколько моллюсков, отличавшихся чрезвычайно тонкой раковиной. Столь хрупкое жилище позволяет заключить, что они созданы для жизни в открытом море, во всяком случае, к скалистому берегу приближаться им небезопасно, как правильно замечено уже в описании первого кругосветного путешествия капитана Кука [99]. Альбатросов, пинтадо и разнообразных буревестников можно было видеть каждый день.
17-го вдруг поднялся шум, кричали, что кто-то из наших людей упал за борт. Мы тотчас развернулись, чтобы поспешить на помощь, но, не обнаружив в море никого, стали проверять команду по списку и, к великой своей радости, убедились, что никто не пропал. Наши друзья на борту «Адвенчера», которых мы навестили несколько дней спустя, рассказали нам, что поняли смысл нашего маневра, но сочли, что причиной ложной тревоги был морской лев, которого они ясно видели.
19-го на море поднялись сильные волны, шедшие с юга. Мимо корабля проплыл большой кит, а также акула длиной футов 18—20, беловатого цвета с двумя спинными плавниками. Мы находились в море уже долго, и несколько недель назад капитан приказал, чтобы людям начали раздавать кислую капусту, причем каждый получал полкварты. Заботясь о здоровье моряков, Адмиралтейство распорядилось взять на борт обоих кораблей большой запас этого полезного и вкусного овоща; результат показал, что это одно из лучших предупредительных средств против цинги.
24-го, ввиду того что «Адвенчер» сильно отстал, капитан приказал спустить шлюпку. Несколько офицеров и моряков отправились на ней пострелять птиц. Это еще раз позволило нам исследовать разновидность большого черного буревестника (Procellaria aequinoctialis). Мы уже несколько недель как не видели земли, и некоторым, непривычным к монотонной, замкнутой жизни на борту корабля, к вечному однообразию пищи и вообще всей обстановки, плавание уже начало надоедать и казаться томительным. Наверное, и мы испытали бы сходные чувства, если бы не наша постоянная занятость и не надежда на новые важные открытия в области естествознания.
Утром 29-го мы увидели берег Африки. Он был покрыт облаками и туманом, и оттуда в море летели олуши (Solandganse), а также маленькие ныряющие буревестники (Diving petrels) и дикие утки. Скоро туман снова усилился и скрыл землю из виду. Лишь около трех часов пополудни наконец немного прояснилось, и мы опять увидели побережье, уже несравненно более ясно, чем прежде, хотя оно и не совсем очистилось от облаков. Поскольку ветер был довольно свежий, а «Адвенчер» далеко отстал, мы пока еще не решились войти в Столовую бухту. Вечером мы убрали паруса, тем более что погода портилась и сильный дождь то и дело перемежался с порывистым ветром.
А ночью море вокруг явило нам величественное, достойное изумления зрелище. Насколько мог видеть взгляд, весь океан казался словно охвачен огнем. Гребень каждой волны ярко светился. Это свечение напоминало фосфорное, а там, где волны ударяли в борт корабля, получалась огненная линия. Ближе к нам мы могли различить в воде крупные светящиеся тела, они двигались то быстро, то медленно, то вслед за кораблем, то в сторону. Иногда мы довольно ясно видели, что эти тела имеют форму рыб и что меньшие уплывают от больших. Чтобы лучше разобраться в этом удивительном явлении, мы подняли на палубу ведро такой светящейся воды. Оказалось, что сияние испускали бесчисленные тела круглой формы, они плавали очень быстро в воде. Когда вода в ведре немного постояла, искр, похоже, стало меньше; но после того как ее помешали, свечение возобновилось с прежней силой. Когда вода постепенно стала опять успокаиваться, мы также заметили, что светлые частицы плывут против течения; однако, если движение воды было более сильным, они не могли его преодолеть, а подхватывались потоком. Чтобы точнее определить, обладают ли эти существа способностью двигаться самостоятельно, или их движение вызывается лишь корабельной качкой, которая непрестанно волнует воду в ведре, мы это ведро подвесили. Данный опыт показал с несомненностью способность этих частиц двигаться самостоятельно и одновременно показал, что, хотя движение воды само по себе и не вызывает свечения, оно ему способствует; когда вода успокаивалась, искрение заметно уменьшалось, однако при малейшем волнении оно возобновлялось и становилось сильнее в зависимости от силы этого волнения. Когда я помешал воду рукой, одна из светящихся частиц пристала к ней, и я воспользовался случаем, чтобы исследовать ее с помощью усовершенствованного микроскопа Рамсдена[100]. Выяснилось, что частица эта имеет шарообразную форму, слегка коричневата и прозрачна, как студень; с помощью же более сильной линзы мы обнаружили на ней устье маленького отверстия, а также от четырех до пяти кишечных полостей, связанных между собой и с этим отверстием. Я исследовал подобным же образом несколько таких частиц; все они имели одинаковое строение. Я также пытался поместить их в каплю воды, чтобы с помощью полого стекла рассмотреть под микроскопом и исследовать их в родной стихии, для коей созданы и сами они, и их органы; однако малейшее прикосновение их повреждало; мертвые же они являли собой лишь вид бесформенной массы. Часа через два свечение вморе совсем прекратилось, и хотя мы еще до этого успели поднять второе ведро, все повторные попытки поместить под стекло в живом виде одну из этих частиц неизменно заканчивались неудачей. Мы, однако, не преминули зарисовать первый из исследованных нами шариков и записать наши наблюдения, из коих следовало, что эти маленькие существа, видимо, представляют собой приплод одной из разновидностей медуз; но, возможно, это и особый вид животных [101].
Столь необычайно и величественно было сие зрелище, что нельзя было с изумленным благоговением не помыслить о творце, чьим могуществом оно было порождено. Вся ширь океана покрыта была тысячами миллионов этих крохотных существ! Все они были живые, все наделены способностью двигаться, светиться, когда хотят, освещать своим прикосновением другие тела, а при желании прекращать и собственное свечение! Подобные мысли исходили из глубины наших сердец, заставляя славить творца, чье величие проявлялось даже в самом малом. Молодые люди нередко склонны допускать естественную ошибку, слишком хорошо думая о ближних, и все же я надеюсь, что не ошибусь, ожидая, что читатель поймет мои чувства и не окажется ни столь невежественным, ни столь испорченным, чтобы отнестись к ним свысока.
Turrigeros elephantorum miramus humeros, taurorumquo colia et truces in sublime jactus tigrium rapihas, ieonum jubas; Quum rerum Datura nusquam magis quam in minimis tota sit. Quapropter quaeso, ne nostra legentes, quoniam ex his spernent multa, ctiam relata fastidio damnent, quum in contemplatione naturae nihil possit videri supervacaneum.
Plin.[102]Ночь была дождливой, а днем мы наконец вошли в Столовую бухту. Теперь лежащие в отдалении горы были свободны от облаков и вызывали изумление видом своих крутых, мрачных скал. Войдя глубже в залив, мы увидели город, расположенный у подножия черной Столовой горы, и вскоре стали на якорь. После того как мы отсалютовали крепости и к нам на борт поднялось несколько здешних служащих Голландской Ост-Индской компании, мы с обоими нашими капитанами, Куком и Фюрно, сошли на берег в радостной надежде найти много нового для науки в сей части света, расположенной столь далеко от нас, на другом полушарии земли.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Пребывание на мысе Доброй Надежды.— Известие о тамошней колонии
Пребывание на мысе Доброй Надежды.— Известие о тамошней колонии
Едва выйдя из шлюпок, мы сразу же засвидетельствовали свое почтение губернатору — барону Иоахиму Плеттенбергу. Он оказался человеком большой учености; его вежливость и общительность произвели на нас самое наилучшее впечатление. Затем мы побывали у других видных лиц и наконец у нынешнего командующего в заливе Фолз-Бей господина Брандта, в чьем доме обычно останавливаются капитаны английских кораблей. Мы тоже решили обосноваться у него. Почти все здешние служащие Компании[103], исключая только лишь членов совета, сдают комнаты офицерам и путешественникам с английских, французских, датских и шведских кораблей, которые останавливаются здесь по пути в Индию или обратно.
Нам бросилось в глаза очевидное и приятное различие между здешней колонией[104] и колонией португальского острова Сантьяго [Сантьягу]. Там превосходная на вид земля, расположенная между тропиками, в благодатнейших широтах, и много сулившая, если ее только обработать, пребывала в запустении из-за вялости ее угнетенных обитателей. Здесь, напротив, мы увидели построенный среди пустыни, в окружении черных жутких гор славный город — свидетельство увенчанного счастьем усердия и трудолюбия. Со стороны моря это место выглядит не столь живописно, как Фуншал. Все склады компании расположены близко к воде, жилые же дома частных лиц лежат за ними на пологой возвышенности. Форт, охраняющий гавань, находится на восточной окраине города; на вид он не слишком мощный, но кроме него есть еще две батареи по обоим концам города. Улицы широки и хорошо распланированы, самые главные из них обсажены дубами, посреди некоторых есть каналы, но не хватает хорошей проточной воды, чтобы их наполнить; поэтому, несмотря на множество шлюзов, некоторые части каналов зачастую бывают пусты, и запах, исходящий от них, нельзя назвать приятным. Здесь явно сказался голландский национальный характер. Во всех их городах обязательно бывают каналы, хотя разум и опыт, казалось бы, убеждают, что их испарения, особенно в Батавии [Джакарте], в высшей степени вредны для жителей.
Quanto praestantius esset — viridi si margine clauderet undas Herba, nec ingenuum violarent marmora tophum! Juvenal[105]Дома здесь строятся из обожженного камня и снаружи обычно оштукатурены. Комнаты, как правило, высоки, просторны и полны воздуха, как того требует жаркий климат. На весь город имеется только одна церковь неплохой архитектуры, однако на вид она должна быть маловата для целой общины. Дух терпимости, коим так прославились голландцы в Европе, в колониях совершенно отсутствует. Лишь совсем недавно лютеранам было позволено строить церкви здесь и в Батавии, но даже сейчас у них тут нет ни одного проповедника, и они вынуждены прибегать лишь к услугам священников с датских или шведских кораблей, которые останавливаются здесь по пути в Ост-Индию и один-два раза в год за хорошее вознаграждение читают для них проповеди и дают причастие. Гораздо хуже в этом смысле обстоит дело у рабов, ибо как правительство, так и хозяева их меньше всего заботятся о столь ничтожной вещи, как религия тех, кто является их собственностью; так что, по сути, у них просто и нет религии. Некоторые, правда, приняли магометанскую веру и раз в неделю собираются в доме одного свободного магометанина, чтобы читать и петь молитвы, а также главы из Корана, чем и ограничивается все их богослужение, поскольку священника у них нет [106].
Число рабов на службе у Компании достигает нескольких сотен; все они живут вместе в просторном доме, где также приучаются к работе. Другое большое здание предназначено под госпиталь для матросов с кораблей Компании, которые обычно останавливаются здесь по пути из Европы в Индию; на борту у них всегда много больных. Часто такой корабль везет в Батавию от шести до восьми сотен рекрутов, а поскольку во время долгого плавания в жарких широтах они жили очень скученно, были весьма ограниченны в питье и ели почти только соленое, не приходится удивляться, что многие из них попадают в госпиталь. Нередко голландский корабль привозит сюда из Европы 80, а то и 100 мертвецов, да еще две-три сотни опасно больных попадает в госпиталь. Дешевизна этого живого товара и легкость, с какой голландцы могут вести сию позорящую человечество торговлю рекрутами для Ост-Индской компании, делают их столь равнодушными к жизням этих бедных людей. Здесь и в других голландских колониях нет ничего более обычного, как видеть на службе Компании солдат, которые открыто признают, что они были «похищены» в Голландии. В аптеке, принадлежащей госпиталю, приготовляются необходимые снадобья, но ни одного мало-мальски дорогого лекарства в ней не найдешь; две-три большие бутыли служат без различия всем пациентам, так что здешний здоровый воздух и свежая пища, похоже, более помогают выздоровлению больных, нежели искусство врачей. Больные, способные ходить, должны в хорошую погоду по утрам прогуливаться по улицам, а расположенные рядом сад и огород Компании поставляют необходимые овощи и противоцинготную зелень. Разные путешественники то превозносят этот сад, то отзываются о нем пренебрежительно, в зависимости от того, с какой точки зрения на него смотрят. Лучшее в нем — несколько дубовых аллей с живыми изгородями из вязов и миртов по сторонам. Кто привык к совершенству английских садов, кто в Голландии и Франции восхищался кипарисами, самшитами и тисами, подстриженными в форме ваз, пирамид или статуй, зелеными изгородями, способными изображать даже дома и дворцы, тому, конечно, этот сад вряд ли придется по вкусу. Но если, с другой стороны, принять во внимание, что эти деревья были посажены лишь в начале нынешнего столетия и больше для пользы, нежели для роскоши, что они одновременно защищают огород госпиталя от бурь, которые в этих краях бывают весьма сильными, и что сад, наконец, представляет собой единственное тенистое и прохладное место, где в этой жаркой местности могут прогуливаться путешественники и больные, то не приходится удивляться, что одни называют его «чарующий сад наслаждений»[107], а другие с горделивым презрением — «сад нищих монахов»[108].
В день после нашего прибытия оба астронома, господа Уолс и Бейли, расположили свои инструменты на берегу в нескольких футах от той точки, где до них производили астрономические наблюдения господа Мезон и Диксон[109].
В тот же день мы приступили к ботаническим прогулкам. От города берег поднимается полого во все стороны к трем горам, расположенным в глубине залива. У самого моря берег низкий и ровный; между бухтами Фолз-бей и Столовой, где в последнюю впадает маленький ручей с соленой водой, почва болотистая. Кое-где она поросла зеленью, однако по большей части песчаная. Места более высокие с моря кажутся иссохшими и пустынными, однако здесь множество разнообразных растений, в том числе кустарников; называться же деревьями заслуживают лишь две или три разновидности. У маленьких ручьев повсюду расположены загородные дома здешних жителей, которые весьма оживляют местность. В сухих зарослях водятся всевозможные насекомые, многие виды ящериц, черепах и змей; здесь в изобилии можно встретить также разных мелких птиц. Каждый день мы возвращались с богатой добычей растений и трав, и многие, особенно травы, к нашему удивлению, оказались совсем неизвестны натуралистам, хотя они росли довольно близко от городских стен, откуда не раз пополнялись коллекции по всей Европе.
В одну из своих прогулок мы пошли на Столовую гору. Подъем был трудным и утомительным из-за множества камней, которые выкатывались из-под ног. В средней части горы нам встретилось глубокое ущелье; склоны его представляли собой отвесные, а то и нависающие скалы, из трещин которых били маленькие источники или же сочилась влага, давая жизнь и питание сотням растений в глубине ущелья. Другие растения находились на более сухих местах и там питались соками более густыми; они распространяли вокруг себя аромат, и слабый ветерок доносил его до нас со стороны ущелья.
Через три часа мы наконец достигли вершины горы, очень плоской, со скудной растительностью и почти без почвы. Кое-где в углублениях, заполненных частью дождевой водой, частью плодородной почвой, росли пахучие травы. Из животных на этой горе нам встретились антилопы, коршуны и кроты. С этой высоты открывается вид величественный и живописный. Залив кажется небольшим прудом, а корабли в нем — маленькими лодчонками. Город у наших ног с правильными садовыми участками казался игрушечным. Львиная гора превратилась в невысокий холм, другая гора, называемая Львиной головой, которая снизу казалась довольно высокой, тоже осталась глубоко внизу. Карлова гора могла равняться со Столовой. На севере виднелись остров Роббен-Айленд, Голубая и Тигровая горы, за ними величественная цепь еще более высоких гор. На западе Дровяной залив замыкался нагромождением скал, что тянулись дальше на юг, образуя один из берегов Столового залива, и обрывались у знаменитого мыса, который португальский король Мануэль назвал мысом Доброй Надежды[110]. На юго-востоке между обоими заливами была видна низкая коса, а дальше за нею — поселение Готтентотская Голландия и горы у Стелленбоша. Особенно приятно было видеть возделанные участки, среди пустынной местности они радовали взгляд своей прекрасной зеленью. Между ними выделялась знаменитая у нынешних эпикурейцев Констанция[111]. Два часа наслаждались мы этими красотами. Потом сильно похолодало, подул резкий ветер, и мы пустились в обратный путь, весьма довольные вылазкой, щедро вознагражденные за свои усилия великолепием и красотой открывшегося нам зрелища.
Особое наше внимание привлекла местность к юго-востоку от Столовой горы, где много плантаций и встречаются разнообразные растения. Красивее всего она у самых гор, по эту сторону перешейка. Плантацию можно было увидеть у каждого маленького ручейка, она состояла обычно из виноградников, нивы и сада, окруженных дубами в 10—20 футов высотой, чья густая листва придает местности столь живописный вид и одновременно защищает плантации от бурь. Последний губернатор Тульбах, которого почитают за отца этой колонии, оставил своим преемникам несколько домов и садов в Рондебоше и Нивланде. Сады состоят по большей части из тенистых аллей, устроены без всяких изящных украшений, зато хорошо снабжены водой; особенно заслуживает внимания порядок, в каком они содержатся. В этой же местности находятся и амбары Компании, немного подальше — пивоварня, принадлежащая частному лицу, которое получило исключительную привилегию варить для Капстада пиво; далее в прекрасной долине на склоне горы располагается плантация, называемая «Парадиз» и примечательная красивой рощей, а также тем, что здесь прекрасно плодоносят деревья, обычно встречающиеся лишь между тропиками. Наконец мы увидели с этой же стороны усадьбу «Альфен», принадлежавшую тогдашнему командору в бухте Фолз-Бей. Благородный хозяин усадьбы принял нас с подлинным гостеприимством уроженца Германии, которому он остался верен и здесь.
Не приходится удивляться, что это место стало центром наших ботанических вылазок в те несколько дней, пока мы здесь стояли. Вылазки были на редкость удачными, каждый раз мы возвращались домой с такой изрядной ношей, что даже не знали, сумеем ли оба при всем нашем усердии описать, зарисовать и сохранить всю массу растений, которую надеялись найти в этой малоизученной стране, причем многие из них были новыми, до сих пор не описанными. Поскольку же нам не хотелось ничего упустить, стало крайне необходимо найти умелого помощника; к счастью, мы встретили здесь доктора Спаррмана. Он учился у великого кавалера Карла фон Линнея, отца ботаники, затем совершил путешествие в Китай и теперь, желая расширить свои познания, прибыл на мыс Доброй Надежды. Мысль собирать новые сокровища в совершенно неизведанных землях настолько захватила его, что он тотчас же решил отправиться с нами вокруг света, и я с гордостью могу теперь подтвердить, что в его лице мы обрели горячего друга естествознания, опытного врача, сердце, способное к благороднейшим чувствам и достойное философа[112]. Но не в пример выдающимся естественнонаучным открытиям, сделанным во время первого путешествия господина Кука в такую новую и большую страну, как Новая Голландия, мы вынуждены были довольствоваться несравненно более ограниченной с точки зрения естествознания жатвой на маленьких островах; к тому же нам редко удавалось изучить их природу в достаточной мере, отчасти потому, что задерживались мы там очень недолго, иногда всего несколько часов, дней или самое большее недель, отчасти потому, что попадали туда в неблагоприятное время года.
За время нашей стоянки матросы поставили новый такелаж, очистили и отремонтировали наружную часть судна, погрузили на борт наряду с другими припасами водку для команды, а также овец для капитана и других офицеров. Мы взяли, кроме того, несколько баранов и овец в подарок жителям Южного моря; однако продолжительность нашего путешествия, особенно же плавание к холодным областям вокруг Южного полюса так истощили этих животных, что нашим добрым замыслам не дано было осуществиться. Чтобы облегчить себе занятия естественными науками и по возможности не попадать в затруднительное положение, мы обзавелись здесь легавой собакой, способной, например, достать птицу, которую мы подстрелили бы на охоте и которая упала бы в воду или в кусты. Раздобыть ее стоило большого труда, и деньги нам пришлось уплатить за нее огромные, хотя потом она нам вовсе не пригодилась. Сама по себе эта подробность может казаться излишней и ничтожной, однако она дает читателю представление о мелочах, про которые он не подозревает, но на которые приходится обращать внимание путешественнику, желающему сполна использовать свое время и быть ко всему готовым.
22-го были доставлены на борт наши вещи, и в тот же день мы покинули Столовый залив. Прежде чем продолжить описание, нашего плавания, постараюсь вкратце рассказать о тогдашнем состоянии сей голландской колонии; надеюсь, моим читателям это доставит удовольствие и пользу.
К южной оконечности Африки плавали уже во времена египетского фараона Нехо, а также позднее, в правление Птолемея Латира[113]. Впоследствии, однако, ее местоположение было настолько забыто, что в 1487 году мыс Доброй Надежды был заново открыт португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем. Васко да Гама впервые обогнул мыс в 1497 году и открыл путь через него в Индию, что в те времена было воспринято едва ли не как чудо. Однако европейцы по-настоящему не пользовались этим открытием, покуда в 1650 году голландский врач ван Рибек не понял, какие выгоды может извлечь Компания, создав свою колонию в этом месте, расположенном на пути между Европой и Индией. Он и основал здесь поселение, которое с тех пор постоянно находилось в руках голландцев и после его смерти продолжало расти и процветать.
Губернатор непосредственно подчиняется Компании и имеет ранг благородного (Edlen Heeren) — титул, который присваивается членам высшего совета в Батавии. Он председательствует в совете, состоящем из вице-губернатора, фискала[114], майора — командира форта, секретаря, казначея, управляющего винным погребом и бухгалтера. Каждый из членов совета особо отвечает за одну из отраслей торговли, которую ведет Компания. От совета в целом зависят все гражданские и военные дела; однако вице-губернатору подчинена еще одна коллегия, а именно совет юстиции, который состоит из членов других департаментов и расследует дела о преступлениях. Чтобы по возможности избежать слишком большого влияния отдельных лиц и предвзятого подхода к делам, в совете не имеют права состоять одновременно два родственника.
Губернатор получает весьма изрядный доход, так как помимо фиксированного жалованья, бесплатных жилья, меблировки, утвари и стола он имеет 10 рейхсталеров с каждой бочки вина, которую Компания покупает у местных жителей и отвозит в Батавию. Компания за такую бочку платит 40 талеров, но земледелец получает из них лишь 24, остальные достаются обоим губернаторам, причем две трети первому, годовой доход которого порой достигает 4 тысячи талеров. В ведении вице-губернатора находится все, что связано со здешними торговыми делами Компании, он также подписывает все приказы, направляемые в подчиненные ему департаменты. Он и фискал имеют ранг обер-купцов. Фискал руководит полицией и осуществляет законы о наказаниях. Его доход составляется из денежных штрафов и из налога на определенные статьи торговли; но если он бывает слишком крут в проведении подобных мер, он вызывает всеобщую ненависть. Проводя политику весьма здравую, голландцы сочли также необходимым сделать фискала верховным надзирателем за другими служащими Компании, дабы те не действовали во вред своим господам и соблюдали отечественные законы. Наконец он обычно главный авторитет в вопросах права и подчиняется только Голландии. Майор (эту должность исполняет сейчас господин Прен, оказавший нам столько услуг) имеет ранг купца — сие обстоятельство нам кажется странным, ибо мы привыкли, что во всех европейских государствах у военных есть собственные звания; но еще более удивительным должно оно показаться тем, кто вспомнит об особенном контрасте, существующем в этом вопросе между Голландией и Россией, где все государственные служащие без различия, даже университетские профессора, имеют военный чин[115].
Число здешних регулярных войск составляет примерно 700 человек, из них 400 располагаются в крепости близ города. Жители, способные носить оружие, образуют милицию в 4000 человек, которые по сигналу тревоги за несколько часов могут собраться в установленных местах. Вышеназванное число примерно соответствует числу белых жителей этой колонии, которая сейчас столь разрослась вширь, что самым дальним колонистам надо ехать более четырех недель, пока они доберутся до Капстада. По этим расстояниям, однако, ни в коей мере нельзя судить о количестве плантаций, потому что, во всяком случае, самые отдаленные из них располагаются иногда в нескольких днях пути друг от друга и окружены готтентотскими племенами[116]; нередко им приходится почувствовать, что на таком отдалении собственное правительство не может их защитить. На одного белого жителя здесь приходится по пять и более рабов, а наиболее знатные лица в Капстаде имеют порой и двадцать-тридцать. В общем с этими людьми обходятся хорошо, а если они заслужат благосклонность своего господина, то получают от него довольно неплохое платье; однако все они без исключения должны ходить босиком, тогда как господа оставили себе обувь и чулки в качестве знаков различия. Рабов доставляют главным образом с Мадагаскара, куда обычно каждый год отправляется отсюда для этой торговли небольшой корабль. Кроме того, среди рабов много малайцев, бенгальцев, негров.
Среди колонистов — голландские семьи, французские протестанты, но больше всего немцев. Характер городских жителей весьма противоречив. Они прилежны, зажиточны, общительны и гостеприимны, но это не мешает им заниматься чем-то вроде барышничества, сдавая квартиры[117], и ожидать от офицеров торговых судов подарков в виде иностранных изделий и других товаров. У них не так уж много возможностей получить образование, ибо на всем мысе нет ни одной мало-мальски приличной школы. Сыновей здесь обычно посылают в Голландию, воспитанием, же дочерей, по сути, не занимаются. Чтения они не любят, а общественных событий здесь так мало, что разговоры их, как правило, пустые и по большей части сводятся к сплетням, до которых здесь столь же охочи, как в любом маленьком городке. Здесь нередко услышишь французскую, английскую, португальскую и малайскую речь, и многие женщины знают все эти языки. Это, равно как умение петь, играть на лютне и танцевать, да и приятная внешность, которая здесь не редкость, в какой-то мере компенсируют отсутствие утонченных нравов и чувств. Однако среди знатных особ обоего пола встречаются люди, чьи манеры, начитанность и разум обратили бы на себя внимание и заслужили бы восхищение даже в Европе[118].
Поскольку питание здесь чрезвычайно дешево, почти все живут неплохо, однако таких богатых состояний, как в Батавии, здесь нет. Как мне сказали, состояние самого богатого человека в Капской колонии не превышает 200 тысяч талеров, или 20 тысяч фунтов стерлингов.
Сельские жители гостеприимны и живут кто как может. В самых отдаленных местах, откуда редко выбираются в город, они, видимо, совершенно невежественны, что легко можно понять, поскольку, кроме готтентотов, они не имеют иного общества, а друг от друга их разделяет подчас несколько дней пути. Виноградники имеются лишь на тех плантациях, что находятся не слишком далеко от города. Их заложили еще первые колонисты, чьим семействам они принадлежат на правах наследственной собственности. Теперь, однако, Компания ничего не дает в наследственное владение, она сдает участки лишь в аренду на год, и, хотя арендная плата весьма умеренна и составляет всего 25 талеров за 60 акров, или моргенов, земли[119], это все же препятствует закладке новых виноградников. Поэтому на более отдаленных плантациях выращивают лишь зерно и скот, а некоторые колонисты занимаются только скотоводством. Мы слышали о двух арендаторах, каждый из которых содержал по 15 тысяч овец и столь же крупные стада рогатого скота. Многие держат по 6—8 тысяч овец и пригоняют большие стада их в город; однако львы, буйволы, равно как и трудности столь долгого пути, зачастую уменьшают поголовье этих стад прежде, чем они доберутся до рынка. На рынок обычно отправляются со всем семейством на большой повозке, крытой полотном или кожей, которая натянута на обручи; везут ее 8, а то и 12 волов. Помимо скота они доставляют на рынок масло, баранье сало, а также мясо и кожу речной лошади, или гиппопотама, львиные и носорожьи шкуры. Пасут стада и работают на полях отчасти рабы, но обычно здесь нанимают еще и готтентотов победнее, из племени, как нам сказали, бушменов, или лесных людей, которые сами не разводят скот, а добывают себе пропитание охотой и грабежом[120]. Богатые арендаторы помогают новичкам, предоставляя им от 400 до 500 овец, чтобы те пасли их на отдаленных хороших пастбищах; за это им отдают половину ягнят, и новички, таким образом, вскоре получают возможность сравняться в богатстве со своими благодетелями.
Хотя Компания, отказывая новым колонистам в праве собственности на землю, как будто не поощряет их, те трудятся, однако, столь усердно, что с некоторых пор снабжают зерном Иль-де-Франс [Маврикий] и Бурбон [Реюньон], даже посылают кое-что в Голландию. Этот вывоз, без сомнения, давал бы больше дохода, не будь плантации столь отдалены от побережья, так что все зерно приходится доставлять к Столовому заливу на телегах и по очень плохим дорогам. В то же время не следует удивляться такой отдаленности плантаций от моря и друг от друга, причем большие пространства между ними остаются совершенно пустынными, хотя часть их можно было бы обрабатывать. Этого хочет Компания, потому она и распорядилась, чтобы ни один колонист не устраивал своей плантации ближе, чем в немецкой миле от соседей. Если бы колония подчинялась непосредственно Генеральным штатам[121], она, без сомнения, давно была бы гораздо более населенной, богатой и процветающей. Пока на это рассчитывать не приходится, ибо торговое общество ост-индских купцов предпочитает сохранять за собой собственность на землю и подрезает колонистам крылья, чтобы они не стали слишком сильными и самостоятельными.
Вино в Капской колонии производится самых разных сортов. Лучшее поступает с плантаций господина Ван дер Спея в Констанции, в Европе о нем знают больше понаслышке, так как в год его изготовляется от силы 30 бочек (леггеров)[122], и каждая здесь стоит около 50 фунтов стерлингов, то есть 300 талеров. Саженцы этого винограда были завезены сюда из Шираза в Персии. То, что мы называем констанцией в Европе,— это другое сладкое вино из виноградников близ Констанции[123]. Попробовали посадить здесь и лозу бургундских сортов из Франции, такие, как фронтиньяк и мускатель; она принялась здесь столь хорошо, что урожай иногда бывает выше, чем в самой Франции. В домах людей знатных пьют обычно терпкое, крепкое, приятное на вкус столовое вино, изготовляемое из сортов, завезенных с Мадеры. Матросы, плавающие в Ост-Индию, отдают должное сортам менее качественным, но не лишенным приятности; они здесь дешевы и имеются в достатке.
Корабли всех наций, прибывающие сюда, в изобилии и по дешевым ценам закупают здесь провизию: зерно, муку, корабельные сухари, солонину, водку и вино, а также свежие овощи и фрукты[124]; вместе с хорошего качества бараниной и говядиной это продовольствие служит превосходным подкреплением для тех, кто прибывает сюда из дальних путешествий. К тому же климат здешний до того здоровый, что местные жители редко болеют, и приезжие, страдающие от цинги или других болезней, выздоравливают очень быстро. Зима столь мягкая, что в окрестностях города снега почти не бывает; в горах же, особенно дальше от побережья, случаются сильные морозы со снегом и градом, а резкие юго-восточные ветры даже в ноябре, когда здесь весна, приносят иногда ночные заморозки. Единственное, чем здесь порой страдают,— это насморк и простуда, причиняемые резкой переменой погоды при сильных ветрах, которые случаются в любое время года. Несмотря на жару, иногда весьма сильную, жители голландского происхождения сохранили многие внешние особенности. При своей зажиточности они, как правило, толсты и упитанны.
Готтентоты, или коренные жители страны, отошли во внутренние области, так что ближайший их крааль (деревня) находится от Капстада почти в ста английских милях. Они, однако, часто появляются здесь — как для того, чтобы продать свой собственный скот, так и для того, чтобы помочь пригнать на рынок стада, принадлежащие голландским арендаторам. У нас не было возможности основательно понаблюдать за этим народом, мы видели всего несколько человек и не обнаружили ничего, что не было бы уже отмечено Петером Кольбе[125]. Достоверность сообщений этого рассудительного человека подтверждает не только свидетельства наиболее видных здешних жителей; мы сами имели возможность удостовериться в правильности некоторых его наблюдений. Отчасти в этом убедился уже капитан Кук во время своего первого плавания, о чем можно прочесть у Хауксуорта в его «Истории английских морских путешествий», том четвертый, с. 809 и далее. Хотя не все у Кольбе равноценно и многое в колонии изменилось с тех пор, как он побывал здесь, все же его описание мыса Доброй Надежды до сих пор остается наилучшим, и мы отсылаем к нему наших читателей.
Аббату ла Каю, французскому астроному, не следовало бы в описании своего путешествия (которое стало известно вскоре после смерти автора)[126] пытаться подорвать доверие к сообщениям Кольбе. Сам он отнюдь не предложил ничего лучшего. Его слабенькая работенка не заслуживала бы даже упоминания, если бы справедливость не требовала оправдать Кольбе как наблюдателя надежного и точного. Семейство, в котором жил здесь аббат, отличалось от тех, с которыми когда-то имел дело Кольбе и которые были к нему расположены. Он старался при любой возможности принизить своего предшественника и не упускал случая набить себе цену за его счет.
Nul n'aura d'esprit,
Hors nous et nos amis.
Boileau[127]Южная оконечность Африки покрыта высокими горными массивами; ближе к морю располагаются черные, крутые и бесплодные гранитные скалы, в которых не встретишь ни каких-либо чужеродных включений, вроде окаменелых раковин и тому подобного, ни лавы или других следов вулканической деятельности. На возделываемых участках почва глинистая с примесью песка и мелких камней, но против бухты Фолз-Бей почти на всех плантациях она песчаная. Самой плодородной считается почва в поселении Стелленбош, там все растет лучше, нежели в других местах. Особенно славится она европейскими дубами, которые вырастают здесь довольно высокими и мощными. Напротив, в окрестностях города они развиваются плохо; мы не видели здесь дубов выше тридцати футов. В горах, удаленных от побережья, несомненно, имеются металлы, прежде всего железо и медь; господин Хемми показал нам образцы руд; судя по тому, что многие готтентотские племена умеют добывать из них металл, они должны быть богатыми и легкоплавкими. В глубинных районах встречаются также горячие источники; особенно знаменит один из них, он находится всего в трех днях езды от Капстада, и жители города пользуются им. Вода его, видимо, помогает при заболеваниях кожи и некоторых других, а значит, содержит много серы.
Растительный мир здесь на удивление разнообразен. Хотя мы пробыли тут недолго, нам все же удалось найти несколько новых видов, причем близко от города, то есть там, где мы меньше всего могли этого ожидать. Наши ботаники собрали в этой стране богатейшие коллекции, и все же доктор Спаррман и доктор Тунберг [128] встретили здесь еще более тысячи совершенно новых видов. Нe менее богат и животный мир. На этой оконечности Африки водятся самые большие из четвероногих животных: слон, носорог и жираф, или камелопард[129]. Первые два вида можно было, встретить когда-то уже в 50 милях от города; однако на них столько охотились и так их преследовали, что теперь этих животных лишь иногда можно увидеть в нескольких днях пути от города. Особенно редкими стали носороги; чтобы предотвратить их полное истребление, губернатор вынужден был даже издать специальный приказ. Речную лошадь (гиппопотама) здесь называют морской коровой; прежде ее тоже можно было встретить недалеко от города, уже в бухте Салдапха-Бей, однако теперь и она стала столь редкой, что вышеупомянутый приказ запрещает охоту на нее на большом расстоянии от Капстада. Хотя зверь этот, как о том говорит название, живет в воде, питается он только травой, а нырять может лишь ненадолго и на расстояние не более тридцати шагов. Мясо его здесь употребляется в пищу и считается лакомством, хотя мне оно вкусом напомнило обычную говядину, а жир показался похож на костный мозг. Из других крупных зверей здесь водится дикий буйвол, рога которого напоминают рога дикого американского быка (бизона), в чем можно убедиться, посмотрев рисунок в девятой части «Естественной истории» Бюффона. Их теперь тоже встретишь лишь в отдаленных местностях. Эти буйволы отличаются исключительной силой и дикостью. Они причиняют крестьянам большой вред, часто нападая на стада и убивая скот, который топчут копытами. Доктор Тунберг во время нападения этих зверей потерял свою лошадь, а его спутник, садовник голландской компании, едва успел спрятаться между двумя деревьями. Один такой молодой трехлетний буйвол принадлежал вице-губернатору, его запрягали в одну повозку с шестью домашними быками, но все быки не могли сдвинуть его с места. Кроме этих буйволов встречается еще одна разновидность диких быков, которых местные жители называют гну[130]. У них небольшие тонкие рога, грива, на носу и на брюхе шерсть; изящество сложения позволяет отнести их, видимо, скорей к лошадям или антилопам, нежели к быкам. Мы зарисовали и описали этих животных, одно из которых живым было отправлено в Европу для зверинца принца Оранского. Эту часть света издавна считают, кроме того, родиной прекрасных пород газелей и антилоп[131]. Составить о них более достоверное представление издавна мешает разнобой в наименованиях, причем сплошь и рядом они неудачны. Нет здесь недостатка и в хищных зверях, и колонистам не удается их истребить. Львы, леопарды, тигровые кошки, полосатые и пятнистые гиены, шакалы и тому подобные звери питаются главным образом антилопами, зайцами, джербуа[132], разными мелкими четвероногими животными, которых здесь множество. Здесь также водится большое количество птиц, и многие из них окрашены в чудеснейшие цвета.
Я позволю себе еще раз сослаться на Кольбе. Он, в частности, говорит, что встречал тут ласточек, и это не подлежит сомнению, так как мы сами видели две разновидности. Зато аббат ла Кай предпочитает и в этом вопросе оспаривать Кольбе, вероятно просто потому, что сам не видал ни одной. Ошибается аббат и относительно морского петуха, который отнюдь не принадлежит к семейству Gelinottes, или Grous, то есть к тетеревиным, как он утверждает, а является африканской дрофой (Bustard). Вообще не представляло бы никакого труда опровергнуть все обвинения этого аббата против Кольбе, если бы его незначительная поделка заслуживала такого внимания.
Мыс Доброй Надежды буквально кишит всевозможными пресмыкающимися и змеями, укус некоторых из них смертелен. Много разных насекомых. Побережье богато вкусными видами рыб, многие из которых еще неизвестны ученым. Словом, сколь ни велики уже изученные богатства растительного и животного царства Африки, в ее внутренних, до сих пор почти неизвестных областях таятся еще великие сокровища для естествознания, ждущие второго Тунберга или второго Брюса.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Путь от мыса Доброй Надежды к антарктическому полярному кругу.— Первое плавание к высоким южным широтам.— Прибытие к берегам Новой Зеландии
22 ноября в 4 часа пополудни мы отплыли из Столового залива и на прощание отсалютовали порту. Беспокойная стихия, коей мы сызнова доверили теперь себя, не особенно нам благоволила, так что всю ночь мы боролись с сильными порывами ветра. Море светилось примерно так же, как по пути к мысу, но не столь сильно, как тогда. На другой день в 8 часов утра мы потеряли мыс Доброй Надежды из виду и взяли курс на юг. Поскольку нам теперь предстояло плавание, какого до нас никто еще не совершал, и мы не знали, когда и где найдем возможность пополнить запасы пресной воды, капитан приказал относиться к ней бережливо. У бочки с водой был даже поставлен часовой, и каждый член команды ежедневно получал лишь определенную порцию. Кроме того, каждому разрешалось еще попить из бочки, но не брать с собой. Сам капитан умывался морской водой, и вся команда должна была следовать его примеру. Постоянно действовал также усовершенствованный господином Ирвингом дистилляционный аппарат[133], чтобы хоть как-то восполнить ежедневный расход пресной воды.
24-го пополудни после сильной бури наступила прекрасная мягкая погода, и мы поймали на леску с крючком, наживленным кусочком овечьего сала, девять альбатросов. Размах крыльев у некоторых из этих птиц был свыше 10 футов. У более молодых много коричневых перьев, взрослые же были сплошь белыми, только крылья черноватые, на конце с черными полосками, а некоторые перья с черными крапинками. В тот же день мы видели близ корабля при небольшой волне крупную бурую рыбу, весьма похожую на солнечную рыбу (Tetrodon mola).
29-го ветер, весьма бурный все три последних дня, так разошелся, что мы в течение двадцати четырех часов могли идти только под фоком[134]. К тому же громадные волны часто перекатывались через палубу. Не моряку трудно было к этому приспособиться. Всю дорогу от Англии до мыса Доброй Надежды погода особенно благоприятствовала нам, и теперь оказалось, что ни одна каюта не была подготовлена к такой буре. Поэтому мощная качка что ни день производила ужасные опустошения среди наших тарелок, стаканов, бутылок, блюд и прочей посуды. В этой суматохе было нечто забавное, временами мы не могли удержаться от смеха и потому спокойнее относились к невозместимым в нашем положении потерям. Хуже всего было то, что перекрытия и полы во всех каютах промокли; завывание шторма в снастях, грохот волн, мощная качка, не позволявшая ничем заниматься,— все это были впечатления новые и ужасные, не говоря уже о том, что в высшей степени неприятные. К тому же, хотя мы находились всего под 42° южной широты, воздух стал уже очень холодным, резким, а частый дождь затруднял команде службу. Чтобы как-то защитить людей от непогоды, капитан приказал раздать им одежду, специально закупленную на средства Адмиралтейства. Каждый, от лейтенанта до рядового матроса, получил по куртке и по паре длинных матросских штанов из самой толстой шерстяной ткани или крепкой фланели, называемой fearnought, которая долго не промокает. Подобно всему, что Адмиралтейство получает от поставщиков, эта одежда имеет лишь единственный недостаток: она почти всегда слишком коротка либо слишком тесна. Если вспомнить, какие неприятности вынуждена была терпеть команда господина Бугенвиля из-за недостатка необходимой одежды, станет ясно, что и в этом отношении у английских моряков дело обстоит несравненно лучше. Они всегда, особенно во время опасных экспедиций, могут положиться на справедливость и человеколюбие своего правительства, зная, что будут снабжены всем, что защитит их от опасностей в море и во всех превратностях поможет сохранить мужество. Если же такой заботы нет и матросы чувствуют, что государство не проявляет к ним никакого участия и внимания, они испытывают недовольство на службе, теряют присутствие духа и всегда готовы предаться отчаянию. А это может иметь страшные последствия в час испытания, который в этой стихии редко заставляет себя ждать и когда спасти может лишь решительность и сплоченность команды.
Такой критический миг довелось нам пережить как-то ночью. Один унтер-офицер, спавший в носовой части судна, внезапно проснулся и услышал шум воды, которая быстро прибывала у его рундука и рундуков его товарищей. Он тотчас вскочил с постели и оказался по щиколотку в воде. Мгновенно об этом было доложено вахтенному. Через несколько минут весь корабль был уже на ногах. Начали откачивать воду. Офицеры с необычной и потому вызывавшей тревогу любезностью подбадривали людей, которые работали не покладая рук. Все же в какой-то момент казалось, что вода возьмет верх. Каждый испытывал страх и трепет, и темнота ночи еще более усугубляла ужас нашего положения.
Ponto nox incubat atra Praesentemque viris intentant omnia mortem. Virgil.[135] For what obscured light the heav'ns did grant Did but convey unto their fearfull minds A doubtfull warrant of immediate death. Shakespeare[136]Были пущены в ход все насосы и помпы, люди старались изо всех сил. Наконец, к большому нашему счастью, выяснилось, что вода проникает не через скрытую и недоступную починке щель, как все опасались, а через окно, или люк, в боцманской кладовой, который был недостаточно прочно для этих бурных мест закреплен и оказался сорван волнами. Это было уже не опасно, люк тут же снова заделали, так что на сей раз мы обошлись без особого урона, если не считать того, что вся одежда и имущество матросов и офицеров были насквозь промочены. Однако вряд ли удалось бы спасти корабль, не случись этому младшему офицеру проснуться вовремя. Не помогло бы ни хладнокровие наших офицеров, ни мужество команды; нам суждено было бы потонуть, ибо в такую темную ночь при бурном море никто не смог бы прийти нам на помощь.
Примерно тогда же всем людям на борту были розданы рыболовные крючки и лески, чтобы, как только нам встретилась бы земля, каждый мог тотчас же пустить их в ход.
Штормовая погода с дождями и туманами держалась до 5 декабря [137]. В этот день впервые с тех пор, как мы покинули мыс Доброй Надежды, ветер стих настолько, что мы смогли поставить верхние брамсели[138]. В полдень мы находились под 47°10' южной широты. Радоваться хорошей погоде пришлось недолго, ибо после полудня снова начался дождь и волны, катившиеся с запада, известили нас, откуда следует ждать ветра. Он действительно поднялся в ту же ночь, правда с юго-запада, и в воздухе настолько похолодало, что термометр упал с 44° [6,7°С] до 38° [3,3°С], а днем пошел снег. Ветер при этом усилился, и 7-го он так разбушевался, что после полудня мы смогли поставить только один парус.
От мыса Доброй Надежды за нами следовало множество разных буревестников, а также морских ласточек. Иногда они летели большими, иногда малыми стаями. Ни ветер, ни бурное море не заставили их повернуть обратно, напротив, казалось, их стало еще больше. Среди них выделялись капский буревестник, или пинтадо, и голубой буревестник, названный так из-за голубовато-серого оперения с черной полосой поперек крыльев. Кроме, двух уже упоминавшихся видов альбатросов появлялся иногда, хотя и редко, еще и третий, который мы назвали сажевым (sooty), а наши матросы, за серо-коричневый цвет,— квакером[139]. 8-го, когда море было все еще довольно бурным, а ветер весьма сильным, мы видели всюду вокруг множество всех этих птиц, а также впервые — пингвинов[140].
Близ корабля появились скопления морской травы, называемой морской бамбук. Это укрепило в нас надежду на близость земли, ибо до сих пор считалось, что морская трава, особенно такая, как эта, растущая обычно у скал, равно как и пингвины, никогда не встречается далеко от побережья. Однако опыт показывал, что нельзя слишком полагаться на подобные знаки. Доверие к ним бывает подчас основано на случайных совпадениях и свидетельствах того или иного известного мореплавателя. Тщательное изучение свойств и условий появления морской травы и плавника позволило бы прийти к более точным выводам. Ведь трава эта вырастает не в море, а на скалах, ее срывает с них ветром или другими внешними силами, поэтому она начинает гнить, и по большей или меньшей степени этого гниения можно предположительно судить, как долго она проплавала в море, а иногда и насколько она удалилась от земли; но тут, конечно, надо принимать в расчет направление и силу ветра, волн и прочие обстоятельства.
9-го утром мы наконец смогли опять поставить большие паруса, поскольку шторм несколько стих. Напротив, термометр, несмотря на улучшившуюся погоду, упал в 9 утра до 35° [1,7°С], а днем поднялся не более чем на один градус, хотя мы тогда находились всего под 49°45' южной широты. К ночи опять похолодало, я в половине десятого термометр на палубе показывал 32° [0°С], питьевая вода по краям бочки подмерзла. Этот холод как бы предвещал появление плавучих льдов, которые мы увидели на другое утро. Первой нам встретилась большая льдина; ее пришлось поскорей обходить. Еще одна такая же льдина показалась прямо перед нами, а третья виднелась примерно в 2 морских милях против ветра, она возвышалась над водой, похожая на большой белый мыс или на меловой утес.
После полудня мы проплыли мимо громадной массы льда, длиной около 2 тысяч футов, шириной в 400 и вышиной по меньшей мере с нашу самую высокую среднюю брам-мачту, то есть примерно в 200 футов. Поскольку опыты Буайлана и Мерана [141] показали, что массы льда и морской воды относятся примерно как 10 к 9, то согласно известным законам гидростатики масса льда, выступающего над водой, относится к массе подводной части как 1 к 9. То есть ежели льдина перед нами была правильной формы, как мы предполагали, то она должна была уходить под воду на 1800 футов и иметь общую высоту 2 тысячи футов. Примем всю ширину за 400 футов, а длину за 2 тысячи, тогда одна эта глыба содержала 1600 миллионов кубических футов льда.
Такие громадные массы льда движутся на вид очень медленно и незаметно, поскольку же наибольшая часть их бывает скрыта под водой, воздействие ветра и волн мало на них сказывается. Морские течения — вот, вероятно, главная сила, приводящая их в движение, однако и самое быстрое из них не может за двадцать четыре часа отнести их на 2 английские мили. Во время этого первого плавания к Южному полюсу мы могли составить лишь предположительное мнение, о происхождении плавучих льдов, подтвердить которое может только дальнейший опыт; однако, совершив путешествие вокруг света и не найдя Южного материка, в который верили все в Европе, мы утвердились в этом мнении и считаем теперь более чем вероятным, что такой плавучий лед возникает непосредственно в открытом море[142]; во всяком случае, неоднократные опыты ясно показали, что морская вода может замерзать[143].
Плавучие льды свидетельствуют о большом различии между климатом Северного и Южного полушарий. В декабре (что в Южном полушарии соответствует нашему июню) мы находились всего только под 51°5' южной широты (что примерно соответствует широте Лондона), однако встретили уже несколько плавучих ледяных гор, и наш термометр в полдень показывал 36° [2,2°С]. Такой несоразмерный холод, видимо, связан с отсутствием в Южном полушарии материка, здесь только море, которое, будучи прозрачным жидким телом, лишь поглощает солнечные лучи, но не отражает их, как в Северном полушарии.
11 декабря в 3 часа пополудни мы проплыли мимо ледяного острова длиной по меньшей мере в половину английской мили; он находился от нас с надветренной стороны. Термометр на палубе, который в 2 часа показывал около 36°, поднялся из-за прекрасной солнечной погоды до 41° [5°С]; но когда мы проходили мимо льдов, он постепенно опустился до 37 1/2° [3,1°С], а затем опять вернулся к делению 41°, Разница в температуре ощущалась и телом, из чего, очевидно, следовало, что эти огромные массы льда наряду с упомянутыми причинами также способствуют охлаждению воздуха в сих неприветливых водах. Волны бились об этот ледовый остров с таким неистовством, словно это была недвижная скала; они были немногим ниже его, а пена и брызги, разбиваясь, взлетали еще выше. В сиянии солнца это было прекрасное зрелище. Видимо, сталкиваясь так со льдом, морская вода накрепко замерзает; тогда многое объясняется в характере возникновения и скопления льдов.
Несмотря на царивший здесь холод, вокруг корабля все время видны были буревестники, альбатросы и пингвины. Особенное наше внимание привлек буревестник величиной с голубя, совершенно белый, с черным клювом и голубоватыми лапами. Стаи этих птиц обычно кружились вокруг ледовых островов и потому могли служить предвестниками льда. Из-за цвета мы назвали его снежным буревестником[144]. Среди льдов иногда показывался кит или кашалот, несколько оживляя унылый пейзаж и вселяя надежду на то, не встретим ли мы на худой конец чего-нибудь вроде Южной Гренландии.
Между тем ледяных полей с каждым днем становилось все больше. 13-го мы насчитали их около 20, причем довольно больших. Одно было покрыто черными пятнами; некоторые приняли их за тюленей, другие за птиц, хотя пятна эти оставались неподвижными. Поскольку тюлени до сих пор считались несомненным признаком близости земли, мы вечером опустили лот, но на глубине 150 саженей дна не нашли. К этому времени мы находились как раз на той широте, где капитан Буве де Лозье якобы нашел мыс Сирконсисьон, по долготе же мы были на несколько градусов восточнее[145]. Всем не терпелось увидеть землю, любая мелочь, даже просто черное пятно на льду, мгновенно приковывала внимание. То и дело мы вглядывались в облака перед собой: не покажется ли за ними горная вершина. Каждый рад был бы первым крикнуть: «Земля!» Порой нас вводили в заблуждение полоса тумана или вид ледяного острова в снежной мгле; ложный шум нередко поднимался и на «Адвенчере», откуда нам сигналили, будто видят землю. Мысль об открытии, сделанном Буве, особенно распалила воображение одного нашего молодого лейтенанта; он то и дело взбирался на марс и наконец 14-го в 6 часов утра совершенно всерьез заявил капитану, что отчетливо видит землю. Услышав это, все вышли на палубу. Однако впереди не оказалось ничего, кроме громадного плоского ледяного поля; по краям его было множество более мелких обломков, а дальше, насколько достигал взгляд, высилась лишь масса ледяных островов всевозможной формы и величины. Некоторые из более отдаленных в свете лучей, прорывавшихся сквозь дымку на горизонте, казались выше, чем были на самом деле, и напоминали настоящие горы. Этот вид был настолько обманчив, что многие из наших офицеров продолжали считать, что видели землю, до тех пор, пока наконец капитан Кук спустя два года и два месяца (а именно в феврале 1775 года) по пути от мыса Горн к мысу Доброй Надежды не проплыл как раз по тому самому месту, где якобы должна была находиться эта земля, но не увидел там уже даже льда.
На этих обширных льдах располагались целые стаи пингвинов, пинтадо, глупышей, снежных и голубых буревестников [146], разнообразные киты вокруг пускали водяные фонтаны. Особенно привлекли наше внимание два кита, они были покороче и потолще обычных, цвета же белого или скорее телесного. Холода, которыми встретили нас здешние ледяные моря, заставили распрощаться даже с мыслями о летней погоде, на которую мы еще надеялись в это время года. Наш термометр утром показывал 31° [—0,6°С], хотя мы находились всего лишь под 54°55' южной широты. «Погода казалась гораздо более холодной, чем показывал термометр, на это жаловался весь экипаж. Была ли причина в том, что мы приплыли из теплых широт, или же в чем-то ином, сказать не берусь».
После полудня мы прошли через обширный участок битого льда и увидели еще одно большое ледяное поле, за которым, как показалось многим, они опять увидели землю, хотя это тоже была просто полоса тумана. Ночью шел густой снег; рассвет был туманный, на море почти полный штиль. Последним обстоятельством мы воспользовались, чтобы исследовать течение, а господни Уолс вместе с моим отцом решили на маленькой шлюпке повторить опыты по определению температуры моря на большой глубине. Пока они этим занимались, туман так сгустился, что оба потеряли из виду наши корабли. Легко себе представить их чувства! Оказаться в лодчонке, где, на беду, не было даже ни мачты, ни паруса, лишь два весла, в бескрайнем океане, среди льдов, вдали от обитаемых берегов и безо всякого продовольствия! Само по себе это было ужасно, а еще страшнее было думать о будущем. Не переставая кричать, они гребли то в одну, то в другую сторону. Все тщетно; кругом стояло мертвое безмолвие, и сквозь туман не видно было ничего на длину лодки. В таком положении они сочли за лучшее не двигаться, рассудив, что из-за штиля корабли далеко не уйдут, если они сами останутся на месте. Наконец вдали послышался звон колокола. Для их слуха это была небесная музыка. Они тотчас стали грести в ту сторону, продолжая кричать, и наконец услышали ответ с «Адвенчера». Они поспешили туда, несказанно радуясь столь счастливому избавлению от опасности медленной и страшной смерти. Поднявшись на борт, они вскоре попросили дать сигнальный выстрел из пушки и услышали выстрел в ответ. Это значило, что «Резолюшн» близко. Тогда оба вернулись в шлюпке на свой корабль, где их ждали убогие каюты с сырыми постелями, но все это вдруг словно приобрело гораздо большую цену, чем прежде. Этот случай, с одной стороны, показывает, какому великому множеству опасностей подвержены мореплаватели и как часто эта опасность возникает, когда ее меньше всего ожидают; но, с другой стороны, из него видно, как неустанно заботится о нашей судьбе всевластное провидение. Мы ощущаем руку его не только в шторм, когда оно благополучно проводит нас мимо подводных скал и мелей, когда оно спасает нас от неистовства волн и огня; надобно распознавать его и славить также в событиях менее значительных, на кои путешественники, да и читатели порой не обращают внимания, во всяком случае обычно забывают о них, едва счастливо избегнут опасности.
Теперь на юге мы видели перед собой лишь крепкие и обширные ледяные поля. Стало ясно, что на этой широте нам дальше не продвинуться. Поэтому после нескольких тщетных попыток пробиться сквозь плотный лед мы изменили курс и поплыли на восток вдоль льдов, часто через обширные участки битого льда, который северные путешественники называют паковым. Воздух то и дело темнел от тяжелых туч, приносивших град и снег; лишь изредка мы могли наслаждаться живительными лучами солнца. Вокруг все время появлялись большие ледовые острова, их вид стал нам уже таким же знакомым и привычным, как вид облаков или моря. Многочисленность их давала нам возможность делать все новые наблюдения, а затем подтверждать их или уточнять. Так, например, мы установили, что безошибочным предвестником льдов можно считать сильное белое свечение на соответствующей стороне горизонта. Мы убедились также, что лед не всегда бывает белого цвета; часто, особенно ближе к поверхности моря, он имеет красивый сапфировый или, вернее, бериллово-голубой оттенок. Несомненно, этот цвет придает ему вода. Правда, лед бывает окрашен таким образом и на высоте 20—30 футов над морем, но это, вероятно, связано с тем, что шторм высоко взметает частицы воды и они вмерзают между частицами льда. На больших ледяных полях нередко можно было различить несколько слоев разных оттенков белого цвета, от 6 до 12 дюймов толщиной. Отсюда, мне кажется, следует, что такие крупные массы льда постоянно увеличиваются отчасти благодаря снегу; а поскольку снег бывает разный: мелкозернистый, грубозернистый, пушистый и т. п., то и слои его бывают разной плотности и, следовательно, разных оттенков.
Хотя, как уже говорилось, большие ледяные поля вынудили нас повернуть на восток, мы отнюдь не забывали, что наша задача — исследовать область за полярным кругом. Едва море становилось немного свободнее ото льда, мы снова поворачивали на юг. Слабый ветер не позволил вначале продвинуться далеко. На другой день ветра почти совсем не стало, и мы воспользовались этим, чтобы вновь спустить шлюпку и продолжить исследование течения и температуры воды. Мы также не преминули описать и зарисовать буревестников, которые часто летали вокруг, тем более что нескольких, из любопытства подлетевших близко, мы подстрелили. Мы старались держать курс на юг, но ветер в тот день подул с зюд-зюд-оста, и пришлось изрядно повернуться к западу.
На другое утро довольно свежий ветер понес нас мимо множества ледяных островов. Помимо птиц, обычно сопровождавших нас, мы видели нескольких китов. Пассажиры по старой традиции весьма весело отпраздновали первый день рождества в обществе морских офицеров. Что до наших матросов, то им опасное соседство айсбергов, окружавших нас, ничуть не помешало встретить этот праздник разгулом и выпивкой, к каковой они казались сейчас особенно расположенными.
На следующее утро мы проплыли через обширное пространство битого, или так называемого пакового, льда, который имел иногда вид грязный и подтаявший. Заходящее солнце подарило нам небывало прекрасное зрелище. Оно окрасило искристым золотом вершину ледяного острова, лежавшего на западе, остальной лед сиял ослепительным пурпуром.
Полное безветрие, последовавшее 27-го, позволило нам устроить охоту со шлюпки на пингвинов и буревестников. С первыми нам не особенно повезло, зато мы позабавились их резвостью и разнообразными выходками. Они, например, ныряли, долго оставаясь под водой, затем, едва появившись над поверхностью, снова ныряли друг за другом, все это невероятно часто и быстро; наконец они умчались прочь, сразу оказавшись вне досягаемости выстрела, так что нам пришлось отказаться от охоты на них. Лишь к одному мы смогли приблизиться на расстояние выстрела и больше десяти раз попали в него дробью, однако в конце концов пришлось его убивать пулей. Когда мы его подняли, выяснилось, что дробь просто отскакивала от твердых гладких перьев. Оперение у этого животного, которое можно считать промежуточным звеном между птицами и амфибиями[147], очень плотное, оно состоит из длинных, узких, чешуевидных перьев, лежащих одно на другом, и очень хорошо защищает пингвина от холода и воды, в которой он главным образом пребывает. Кроме того, природа снабдила его еще и толстой кожей, равно как и обильным слоем жира, которым он как бы облит; все это помогает ему переносить вечную зиму сих суровых мест. Вообще все устройство тела его свидетельствует о мудрой предусмотрительности природы. Его неуклюжее туловище с широким животом, двумя отнесенными далеко назад лапами и плавниками, которые заменяют ему крылья, великолепно приспособлено для движения в воде. Подстреленный нами пингвин весил одиннадцать с половиной фунтов. Не хуже защищены от холода и голубые буревестники, которых можно встретить повсюду в этом громадном океане; в здешних краях они садятся на гладкую поверхность моря громадными, во много сотен, стаями. Как и у пингвинов, у них плотное толстое оперение. Из каждого корня растет вместо одного два пера, а именно обычное перо и пух, причем одно помещено в другом; таким образом создается очень теплый покров. Поскольку эти птицы почти постоянно пребывают в воздухе, природа снабдила их очень сильными и длинными крыльями. Мы встречали их в море между Новой Зеландией и Америкой на расстоянии добрых 700 английских морских миль от суши — расстояние, которое невозможно преодолеть, не обладая особенно крепкими костями, мускулами и длинными крыльями. Судя по тому, что их можно встретить по всему морю так далеко от суши, они, по-видимому, подобно всем хищным животным как из числа птиц, так и из числа четвероногих, способны долгое время обходиться без свежей пищи. Впрочем, наши наблюдения могли в равной степени свидетельствовать как в пользу этого мнения, так и против него. Например, когда мы застрелили одного, он изрыгнул массу густой слизистой пищи, по виду лишь недавно переваренной, и другие тотчас с жадностью набросились на нее; очевидно, они долго постились и сильно голодали. В этих ледяных морях, видимо, всюду водятся разнообразные медузы, которые в хорошую погоду поднимаются на поверхность, становясь кормом прожорливым птицам.
Мы радовались всякому поводу для таких небольших наблюдений. Среди унылого однообразия, в каком мы вынуждены были проводить здесь, в этой пустынной части света, часы, дни и месяцы, они иногда служили нам хоть каким-то развлечением. Едва ли не постоянный густой туман; дождь, град и снег, спешившие сменить друг друга; воздух, несмотря на середину лета, холодный настолько, что термометр стоит почти на точке замерзания; кругом — бесчисленные ледяные острова, постоянно грозящие нам крушением; на еду каждый день — сплошная солонина, что тоже портит кровь не меньше мороза и сырости... Все эти тяготы, вместе взятые, заставляли нас мечтать о лучших временах, когда мы окажемся наконец в более мягком климате. К счастью, наша команда была набрана в Англии из людей здоровых и крепких; несмотря на все трудности, они держались бодро и не болели цингой. За последнее они, несомненно, должны были благодарить предупредительные, или так называемые профилактические, средства, прежде всего бульонные таблетки или студнеобразный мясной отвар[148], а также кислую капусту, которыми мы запаслись в изобилии, так что каждый мог получить достаточную порцию. Лишь два-три человека из команды, предрасположенные к болезни, не смогли избежать цинги. Особенно страдал плотник по имени Джордж Джексон, заболевший уже на десятый день после нашего отплытия с мыса Доброй Надежды. У него начали загнивать десны, а зубы так расшатались, что стали торчать криво. Пробовали его лечить мармеладом из желтой моркови, или каротели, которую нам особенно рекомендовали против цинги и запас которой у нас имелся, но она мало чем помогла. Тогда наш врач господин Паттен стал лечить его свежим суслом или солодовым настоем, и это средство за несколько недель постепенно поставило больного на ноги, зубы его укрепились, а десны как будто наросли заново. Но поскольку он по-прежнему оставался предрасположенным к болезни, ему пришлось и дальше пить сусло, что уберегло его от новых приступов цинги. Мы не могли нарадоваться целебной силе солодового настоя; это средство, конечно же, надо брать во все дальние путешествия, следует лишь старательно беречь его от сырости и плесени, из-за которых он во многом теряет свои качества, как нам довелось убедиться под конец нашего плавания.
Новый (1773) год начался со снега и холодного резкого ветра, который понес нас обратно на запад к меридиану, где Буве якобы открыл мыс Сирконсисьон. Здесь мы опять увидели тюленей и пингвинов; это возродило во многих надежду увидеть землю, и они усердно вглядывались вдаль. Мы плыли так довольно долго, покуда не убедились, что ожидания наши, увы, напрасны, и потому перестали доверять, как прежде, якобы достоверным приметам.
Теперь мы уже находились западнее меридиана, где Буве якобы совершил свое открытие, и, поскольку ветер за ночь переменился на северо-западный, мы снова взяли курс на восток. Пришлось опять идти через места, где 31 декабря мы встретили большие льды, но их уже отнесло, и мы смогли продолжить плавание на юго-восток.
9-го утром показался большой ледяной остров, окруженный множеством обломков. Так как погода была мягкая, мы легли в дрейф и спустили шлюпку, чтобы набрать как можно больше льда. Эти обломки потом разложили на палубе, разбили там на куски и побросали в бочки. После обеда часть льда растопили в котлах и горячую воду слили в те же бочки, так что лед, находившийся там, растаял. Таким образом, в открытом море, под 61°36' южной широты, мы получили запас пресной воды, достаточный на тридцать дней. Спустя два дня нам предоставилась возможность еще раз пополнить этот запас. Хотя от холода и воды болели руки, команда проделала эту неприятную работу с большой охотой. В напечатанной книге капитана Кука об этом плавании помещен рисунок одного из таких ледяных островов; рядом с ним видны корабль и шлюпки, на которые грузят лед. Мы видели в этих местах несколько больших китов. На глаз они были длиной футов 60. Мимо нас проплыли небольшие льдины, на которых было много пингвинов. Вода, полученная из растопленного льда, была совершенно пресной и чище на вкус, нежели та, которой мы запаслись на мысе Доброй Надежды. Единственный ее недостаток заключался в том, что при замерзании из воды уходил содержавшийся в ней воздух, поэтому у всех, кто пил ее, распухали железы в горле. Это всегдашнее свойство воды, вытопленной из снега и льда; вот почему среди жителей гор, не имеющих обычно другой питьевой воды, так много людей с большим зобом, который у них считается признаком красоты, отличающим их от других народов[149]. Некоторые члены экипажа, несведущие в естествознании, всерьез тревожились, как бы лед, растаяв, не разорвал бочки, в которые его поместили. Им не приходило на ум, что, раз лед плавает на воде, значит, он занимает больший объем, чем она. Чтобы разъяснить им это, капитан велел занести сосуд, заполненный мелким льдом, в теплую каюту; растаяв, лед занял несравненно меньше места, чем прежде. Видимо, морякам не слишком присуща способность здраво рассуждать и делать разумные выводы.
17-го утром мы прошли антарктический полярный круг и теперь находились в тех холодных широтах Южного полушария, где до нас не бывал никто из мореплавателей. За несколько дней до того мы встретили новую разновидность буревестников, коричневой окраски с белым брюшком и с большой белой отметиной на крыльях. Похоже, что они и живут в этих местах; мы встретили уже не одну, а двадцать-тридцать таких птиц; поэтому мы назвали их антарктическими буревестниками[150]. Чтобы познакомиться с ними поближе, мы подстрелили несколько штук, но, к сожалению, ни одна из птиц не упала достаточно близко от корабля, чтобы можно было поднять. В 5 часов пополудни мы увидели впереди более тридцати больших ледяных островов, а в воздухе на горизонте — сильное белое сияние, предвещавшее еще больше льдов. Скоро мы прошли через обширную полосу мелкого битого льда; он выглядел ноздреватым, пористым и грязным, и его наконец собралось так много, что он не позволял подниматься волнам; поэтому море казалось теперь совсем ровным, хотя ветер дул с прежней силой. За этим крошевом, насколько мог охватить взгляд с мачты, простиралось к югу необозримое поле крепкого льда. Стало ясно, что дальше на юг здесь продвинуться невозможно, поэтому, когда мы находились под 67° 15' южной широты, капитан Кук приказал обоим кораблям развернуться через северо-восток на север[151]. За все время этого плавания в южных широтах мы пока не встретили никакой земли, но повсюду видели много китов, снежных, серых и антарктических буревестников.
19-го и 20-го мы видели птицу, которую один из наших спутников, бывавший на Фолклендских островах, назвал порт-эгмонтской курочкой[152]. Собственно, это была большая северная чайка, (Larus catarractes), часто встречающаяся в высоких широтах, как у Южного, так и у Северного полюсов[153]. Эту птицу также считают предвестником земли: однако мнимые приметы столь часто обманывали наши ожидания, что мы стали меньше на них полагаться. 27-го мы еще раз увидели такую чайку среди разных буревестников и альбатросов; высоко поднявшись, она парила над кораблем и вертела головой, словно с большим любопытством разглядывала нас. Это было для нас нечто новое; все другие морские птицы в здешних местах держались ближе к поверхности воды.
Вечером 29-го мимо нас в разных направлениях проплыло несколько морских свиней; они двигались с невероятной скоростью, во всяком случае в три раза быстрее, нежели корабль под парусами, хотя мы в тот раз при добром ветре делали в час восемь с половиной английских морских миль. По расцветке они напоминали сороку — с большим белым пятном на боку, которое шло почти до верхних спинных плавников[154]. После полудня мы видели маленькую черно-белую птицу, которую одни приняли за разновидность зимородка, другие — за чистика[155] (Alca alle. Linn.). Эти птицы редко или никогда не залетают дальше мест, откуда можно видеть землю. Но поскольку мы видели ее на отдалении и недостаточно ясно, не исключено, что это был просто буревестник.
Между тем у нас имелся и другой, менее сомнительный признак возможной близости земли: несмотря на свежий ветер, море оставалось довольно спокойным и гладким. Кроме того, еще будучи на мысе Доброй Надежды, мы узнали, что где-то в этих местах в 1772 году обнаружили землю два французских капитана, господа Кергелен и Сент-Аллуарн; так что на всякий случай в ту и в последующую ночь мы держали корабль в дрейфе. Поскольку во Франции умышленно не сообщалось о подробностях этого плавания, хочу сообщить здесь сведения, которые я узнал к Капстаде от французских офицеров. Господин Кергелен, лейтенант французского флота, командовал кораблем «Фортюн»; под его началом находилось еще одно судно поменьше, «Гро-Вантр», которым командовал господин Сент-Аллуарн. Оба корабля в конце 1771 года отплыли от острова Иль-де-Франс, или Маврикий. 13-го января 1772 года Сент-Аллуарн увидел два острова и назвал их Счастливыми; на следующее утро он увидел еще один остров, который из-за его формы был назван Круглым. Примерно в это же время Кергелен обнаружил землю, высокую и на вид весьма обширную. Он послал своего офицера в шестивесельной шлюпке, чтобы познакомиться с ней поближе. Но поскольку дул сильный ветер, Сент-Аллуарн опередил шлюпку Кергелена и открыл залив, который в честь своего судна назвал бухтой Гро-Вантр. Войдя туда, он отправил в своей шлюпке несколько человек, чтобы они водрузили на берегу французский флаг и таким образом формально заявили о правах владения на эту землю. Из-за сильного ветра это удалось сделать лишь с большим трудом. Выполнив свое поручение, моряки вернулись на борт «Гро-Вантра», куда за ними последовала также и команда шлюпки, посланной Кергеленом. Между тем «Фортюн», слабые мачты которого не могли оказывать достаточного сопротивления шторму, отнесло миль на 60 от берега, и командир корабля господин Кергелен решил вернуться на Маврикий. Господин Сент-Аллуарн этого не знал; три дня он искал в море своего спутника, а не найдя, некоторое время продолжал обследовать новооткрытые берега, причем однажды в бурю он потерял принадлежавшую «Фортюн» шлюпку, команда которой осталась на его корабле. Обогнув северную оконечность острова, он обнаружил, что берег понижается к юго-востоку; затем он проплыл вдоль этой стороны около 20 английских миль, но берег оставался везде гористым, недоступным и почти безлесным. Тогда он взял курс на Новую Голландию и через Тимор и Батавию наконец также достиг берегов Маврикия, но сам вскоре умер. По возвращении Кергелена в Европу его сразу послали опять в плавание на 64-пушечном корабле «Ролан» в сопровождении фрегата «Луазо», которым командовал капитан Розневе. Однако во время этого плавания он не сделал никаких открытий, поскольку должен был по неизвестным причинам возвратиться, едва увидев землю, открытую в прошлый раз [156]. Северный берег этой земли находится под 48° южной широты и примерно 82° восточной долготы от Ферро, то есть расположен в 6° восточнее Маврикия и примерно в 64°20' восточнее Гринвича[157].
В 1772 году французское правительство назначило господина Мариона начальником исследовательской экспедиции, состоявшей из двух кораблей: «Маскарен» и «Де Кастри»; одним командовал капитан Крозе, другим — капитан Клемюр. В январе того же года он открыл под 46 1/2° и 47 1/2° южной широты и 37°, 46 1/2° и 48 1/2° восточнее Гринвича несколько маленьких островов. Все они, однако, были невелики, высоки, скалисты, безлесны и почти вовсе бесплодны[158].
Оттуда оба корабля направились к южной оконечности Новой Голландии или к Вандименовой земле, которую открыл Тасман, а оттуда к Новой Зеландии, где сам господин Марион и двадцать восемь человек из его команды были убиты, о чем я расскажу в свое время. Командование перешло к господину Крозе, который вернулся через западную часть Южного моря к Филиппинским островам, а оттуда на Маврикий. Эти открытия французских мореплавателей были нанесены на превосходную карту Южного полушария, которую нарисовал господин Вогонди под наблюдением герцога де Круа и которая была опубликована в начале 1773 года.
31-го вечером, находясь примерно под 50° южной широты, мы миновали большой ледяной остров как раз в тот самый момент, когда он со страшным треском разламывался на куски.
На другое утро мимо корабля пронесло большой пучок водорослей, а после полудня капитан Фюрно с «Адвенчера» крикнул нам, что видел целое поле плавучих водорослей, а также множество ныряющих буревестников, похожих на тех, что встречаются в английских морях. Не исключая, что это может означать близость земли, мы дрейфовали всю ночь и лишь с рассветом снова подняли паруса и поплыли на восток, сопровождаемые множеством птиц, среди которых были черные буревестники, а также несколько морских ласточек с вилкообразными хвостами; матросы обычно называют их яичными птицами (Egg-bird)[159].
Днем мы находились под 48°36' южной широты. Зная, что где-то на этой широте сделали свои открытия французы, мы после полудня взяли курс на зюйд-зюйд-вест, однако на другой день нас там ожидал такой сильный ветер, что пришлось убрать брамсели и до 8 часов следующего утра, 4-го [февраля], идти только под одним большим нижним парусом. Проплыв в намеченном направлении до полудня и не увидев никакой земли, мы повернули на северо-запад, дабы поискать землю в той стороне. Двигаясь так, мы 6-го достигли 48° южной широты и примерно 60° долготы к востоку от Гринвича; не обнаружив земли и здесь, мы отказались от дальнейших поисков и в соответствии с главной задачей нашего путешествия опять взяли курс на юго-восток. Навстречу нам, с востока, дул довольно сильный ветер, но море при этом оставалось спокойным, поэтому мы решили, что на востоке должна быть земля [160]. Теперь, когда господин Вогонди опубликовал свою карту, она подтвердила наше предположение; судя по ней, 2-го февраля, то есть в день, когда мы дальше всего продвинулись к востоку по широте, где обозначены открытые французами острова, мы находились всего в 2° западнее от них. Хотя саму землю мы не нашли, тем не менее сослужили географии службу, поскольку, обойдя эти места вдоль и поперек, неопровержимо доказали, что французами был открыт всего лишь небольшой остров, а отнюдь не северная оконечность материка, якобы находящегося в этих местах, как думали вначале.
Утром 8-го лег необычайно плотный туман, и мы потеряли из виду своего спутника, «Адвенчер». Поэтому капитан приказал весь этот, а также и следующий день каждые полчаса стрелять из пушки. Однако ответа мы не дождались. Не помогли и сигнальные огни, которые мы жгли в течение обеих ночей.
Все попытки разыскать наших спутников были тщетными, и 10-го утром мы оказались перед лицом печальной необходимости продолжать свой трудный путь на юг в одиночестве. Теперь в этих опасных ледяных широтах мы были лишены единственной до сих пор надежды на то, что если потерпим крушение, нам придет на помощь и спасет нас другой корабль. Все глубоко переживали эту потерю, и редкий из матросов не вглядывался в морскую даль, сетуя на разлуку с «Адвенчером» и на необходимость в одиночестве плыть теперь по этому бескрайнему неизведанному океану, где вид верного спутника вселял в нас наибольшую бодрость и помогал лучше перенести тяготы плавания. Пингвины, маленькие ныряющие буревестники, а главное, разновидность настоящих ныряльщиков вызывали у нас не менее болезненную мысль, что, пока мы тут боремся со льдами и бурями, «Адвенчер», возможно, встретил поблизости землю. И в самом деле, согласно карте Вогонди, мы в то время находились чуть-чуть южнее ее[161].
17-го примерно под 58° южной широты мы набрали много ледяных обломков и наполнили ими питьевые бочки. Все время нас сопровождали разнообразные буревестники и альбатросы, а то и большая северная чайка (Larus catarractes), которую наши люди называли порт-эгмонтской курочкой; мы видели также пингвинов, несколько тюленей и китов. Накануне ночью мы наблюдали красивое явление, появлявшееся и в эту, и в последующие ночи. Оно представляло собой длинные колонны яркого белого света, которые поднимались на востоке от горизонта почти до зенита и постепенно захватывали всю восточную часть неба. Иногда верхний конец их отклонялся в сторону; это во многом напоминало северное сияние нашей части света, однако в отличие от него не имело иного цвета, кроме беловатого, тогда как наши северные сияния обычно бывают окрашены, особенно в огненные и пурпурные цвета. Иногда за светом этого южного сияния (aurora australis), о котором, насколько мне известно, не упоминал до сих пор ни один путешественник, не было видно звезд, а иногда они лишь бледно проглядывали сквозь него. Небо в это время по большей части было ясным, а воздух такой холодный, что термометр обычно показывал точку замерзания.
24-го примерно под 62° южной широты мы опять встретили крепкое ледяное поле, и капитан, к величайшей радости всех нас, окончательно решил дальше на юг не пробиваться. Мы достаточно долго уже находились в море без свежей пищи; время года, когда в этой холодной части света можно делать открытия, почти миновало; погода с каждым днем становилась все более суровой и позволяла нам заранее почувствовать, сколь страшной в этих морях должна быть зима; да и ночи становились гораздо длиннее, а наше плавание из-за этого все более опасным. Поэтому можно понять, как мечтали наши моряки, изнуренные столь долгим плаванием и недостатком здоровой пищи, о местах, где можно было бы отдохнуть и набраться сил, и как рады они были покинуть края, где на это не было никакой надежды. Однако до 17-го числа следующего месяца капитан все еще не спешил исполнить свое намерение; мы продвигались пока на восток между 61° и 58° южной широты. Все это время то и дело дул восточный ветер, приносивший обычно туман и дождь, так что не раз мы могли разбиться о высокий ледяной остров. Эти острова обычно имели странную, разрушенную форму, и вид их бывал довольно живописен. Особенно громаден был один из них с отверстием посредине наподобие грота, причем сквозным, так что через него можно было видеть. Иные напоминали формой храмы, в других воображение могло увидеть что угодно, и это позволяло порой разогнать скуку, которая теперь начинала нас одолевать все сильнее, поскольку каждодневное созерцание морских птиц и морских свиней, тюленей и китов давно потеряло для нас интерес.
Несмотря на такое хорошее предохранительное средство, как кислая капуста, у некоторых уже появились признаки цинги, то есть стали болеть десны, труднее стало дышать, появились синие пятна, сыпь, онемение членов и зеленые жирные частицы в моче. Больным было прописано свежее пивное сусло, и у иных сей страшный недуг прошел совсем, а некоторым, во всяком случае, полегчало. Суровый климат весьма скверно сказался также на овцах, которых мы взяли на мысе Доброй Надежды. Они запаршивели, превратились в сплошную кожу да кости и почти перестали есть. Козы и свиньи принесли потомство, но в штормовую погоду новорожденные либо появлялись на свет мертвыми, либо вскоре коченели от холода. Словом, все говорило за то, что пришла пора покидать высокие южные широты и спешить в гавань, где можно было бы освежить силы наших людей и спасти хотя бы немногих оставшихся овец, предназначенных в подарок жителям островов Южного моря.
16-го, когда мы находились примерно под 58° южной широты, море ночью стало светиться. В столь высоких широтах, да еще при таком холоде, это нам показалось странным. Правда, свечение было не столь сильным, как у мыса Доброй Надежды; были видны лишь отдельные искры. Термометр в полдень показывал 33 1/2° [0,8°C], и ночью 16-го и 19-го мы опять наблюдали южное сияние, причем во второй раз столбы света образовали дугу по всему небу и были ярче всех, виденных нами когда-либо прежде.
Как уже было сказано, мы теперь наконец шли к северо-востоку, держа курс на южную оконечность Новой Зеландии. Дул сильный ветер, и мы часто видели водоросли, в частности траву, растущую у скал, а также, множество буревестников и других морских птиц. Особенно позабавили нас крупные серые чайки, преследовавшие большого белого альбатроса. Несмотря на размах своих крыльев, он никак не мог от них улететь, а они каждый раз атаковали его снизу, целясь в живот, где он, как они, видимо, знали, был наиболее беззащитен. У альбатроса не оставалось иного выхода, как только сесть на воду; здесь его страшный клюв мог, видимо, внушить им должное уважение. Чайки — сильные и хищные птицы. На Фаррерских островах они порой рвут на куски даже ягнят и уносят мясо в свои гнезда. Альбатросы на вид менее агрессивны и питаются в основном мелкими морскими животными, особенно моллюсками и медузами. Севернее 50° южной широты мы увидели их вокруг себя множество, на юг же так далеко, как мы, проникли лишь немногие, из чего следует, что для них привычен умеренный климат.
Чем дальше мы уходили на север, тем больше встречалось нам тюленей, плывших от берегов Новой Зеландии. А 25-го мы увидели на воде ствол дерева и множество пучков водорослей, вид которых вдохнул в наших матросов новые силы. Вскоре мы заметили на северо-востоке землю, она тянулась к востоку и была еще очень далеко. Однако благодаря попутному ветру в 5 часов пополудни мы оказались уже всего в нескольких милях от скалистого изрезанного берега, где можно было наверняка найти просторную бухту или пролив. Дальше в глубине виднелись высокие горы. Ввиду близости берега был брошен лот, который на глубине 30 саженей не достиг дна. Тем более неожиданным оказался для нас крик вахтенного с марса, что рядом скалы. Пришлось поскорее разворачивать корабль, а поскольку к тому времени стемнело и шел дождь, мы ради безопасности отошли от берега подальше.
На следующее утро выяснилось, что мы находимся у крайней оконечности Новой Зеландии, южнее мыса Уэст-Кейп; этих мест капитан Кук во время своего первого плавания на «Индевре» еще не обследовал.
Так закончилось наше первое путешествие в высокие южные широты, в ходе которого мы провели четыре месяца и два дня, не видя земли. Но все это время всемогущее провидение хранило нас от особых несчастий, уверенно провело через многие опасности и помогло, за некоторыми исключениями, оставаться неизменно в добром здравии. Это тем более достойно удивления, что на протяжении всего плавания от мыса Доброй Надежды до Новой Зеландии нам беспрестанно приходилось бороться с трудностями, новыми для многих из нас и потому особенно опасными. Разорвало наши паруса, наши снасти превратились в клочья, корабль немилосердно швыряло по волнам, или же ветер накренял его так, что трудно было держаться не только матросам, работавшим наверху, но и даже в каютах и на палубе,— все, что можно сказать о жестоких штормах, для которых не пожалел таких черных красок правдивый летописец путешествия Ансона, составляло лишь ничтожную и, пожалуй, не самую важную часть наших бедствий.
Нам, сверх того, пришлось столкнуться с необычайной суровостью климата; на матросов и офицеров то и дело обрушивались дождь, град и снег; снасти и такелаж покрывались льдом, раня руки работавших; запас свежей воды можно было пополнить только плавучим льдом, но, пока удавалось достать его из ледяной воды, руки коченели и обдирались в кровь; постоянно грозила опасность столкнуться с высокими ледяными горами, коими полон бескрайний Южный океан. Опасностей было так много и они обрушивались столь внезапно, что людям редко удавалось вкусить положенный отдых, потому что в любое мгновение вахтенные смогли кликнуть на помощь, а корабль все время надо было вести с неусыпной осторожностью и поворачивать как можно быстрее. Словом, те долгие месяцы, что мы провели в открытом море, не видя земли и не имея свежих припасов, были поистине сплошной чередой трудностей и бедствий. Удочки и бечевки, розданные еще в ноябре, до сих пор ни разу не понадобились, поскольку море в этих высоких широтах всюду было бездонно и мы не видели ничего, кроме китов. Но раз нам не посчастливилось встретить землю, ничего иного ждать не приходилось, ведь, как известно, поймать на удочку рыбу вдали от берегов и отмелей, на бездонных глубинах можно лишь в жарких широтах
Atrum Defendens pisces hiemat mare. Horatius[162]Наконец, ко всем этим тяготам следует добавить и мрачное уныние, царящее под антарктическими небесами, где зачастую нас неделями окутывал непроглядный туман и где редко увидишь радостный лик солнца — а это одно способно повергнуть в уныние даже самых решительных и бодрых людей.
Когда размышляешь обо всем этом, кажется поистине удивительным знаком божественного покровительства, что мы не испытали всех тех последствий, коими грозили нам все эти многообразные и многочисленные опасности.
ГЛАВА ПЯТАЯ Стоянка в бухте Даски.— Ее описание.— Рассказ о наших занятиях
Пробыв в открытом море сто двадцать два дня и пройдя за это время около 3500 морских миль, мы наконец в полдень 26 марта вошли в бухту Даски [Текококото]. Эту бухту, расположенную севернее мыса Уэст-Кейп, капитан Кук открыл во время своего прошлого плавания на «Индевре» и тогда же дал ей название, но сам в нее не входил[163]. Нам не терпелось поскорее бросить якорь, и мы полагали, что сможем сделать это сразу же, как войдем в бухту. Однако лот показал там слишком большую глубину — 40 саженей, а немного далее даже на 40 саженях он не доставал дна; поэтому нам пришлось проплыть гораздо дальше. Погода между тем была прекрасной, а по сравнению с тем, что нам пришлось испытать до сих пор, просто отрадно теплой. Легкий ветер нес нас мимо многочисленных скалистых островов, поросших вечнозелеными деревьями и кустарником; их более темная зелень живописно сочеталась с зеленью других деревьев, уже тронутых осенью, и приятно выделялась среди нее. У берега гнездились целые стаи водоплавающих птиц, а из леса отовсюду доносилось неуемное пение пернатых его обитателей. Мы так долго мечтали увидеть землю и свежую растительность, что этот вид особенно восхищал нас, и в глазах каждого можно было ясно прочитать, какое глубочайшее удовольствие он вызывает у всех.
В 3 часа пополудни мы наконец стали на якорь против одного из островов, где были в какой-то мере закрыты с моря, причем так близко от берега, что смогли перебросить туда небольшой канат. Едва корабль был поставлен на якорь, как наши матросы забросили удочки и сразу же стали вытаскивать одну за другой превосходных рыб, что еще более умножило общую радость. Они оказались отменными на вкус, а поскольку мы до этого так долго постились, не приходится удивляться, что наша первая трапеза в Новой Зеландии показалась нам самой замечательной в жизни. Вместо десерта услаждал наш взор расстилавшийся перед нами девственный пейзаж, прекраснее которого не нарисовал бы и сам Сальватор Роза[164]. Он был вполне во вкусе этого художника: скалы, поросшие лесами, которые, казалось, сохранились со времен всемирного потопа, а между ними повсюду низвергались, пенясь, неистовые потоки. Впрочем, чтобы восхитить нас, и не требовалось красот, ведь мы так давно не видели земли, что даже самый пустынный берег показался бы нам прекраснейшим местом во Вселенной. Об этом же следует помнить, когда читаешь пламенные описания диких скал Хуан-Фернандеса и непроходимых лесов Тиниана [165].
Сразу после обеда были отправлены две шлюпки, чтобы обследовать залив, а главное, найти надежную стоянку для корабля, поскольку нынешняя была слишком открыта, неудобна и годилась только на первое время. Мы воспользовались случаем для знакомства со здешней природой, причем разделились, чтобы одновременно использовать для исследований обе шлюпки. И та и другая группа нашли удобные, хорошо укрытые бухты, где было много топлива и воды; кроме того, обилие рыбы и водоплавающей птицы позволяло надеяться, что, если мы решим остаться здесь надолго, у нас не будет недостатка в провизии. Ввиду всего этого капитан Кук решил задержаться здесь на некоторое время, тем более что во время своего первого плавания эту южную оконечность Новой Зеландии он обследовал лишь бегло. Мы же нашли здесь много новых представителей животного и растительного царств, причем почти ни одна разновидность не соответствовала полностью уже знакомым, а некоторые относились даже к неизвестным семействам. Словом, хотя осень уже возвестила гибель царству растений, мы надеялись, что без дела здесь не останемся.
Следующим утром совсем рано в сторону берега была послана маленькая шлюпка. Через три часа она вернулась и привезла так много рыбы, пойманной только на удочку, что ее хватило на еду всей команде. Особенно вкусной была разновидность трески, которую матросы из-за ее цвета назвали угольной рыбой[166]. Кроме того, здесь были превосходные экземпляры сциен (Scienae), скорпен (Scorpens), кефалей (mugil, mullet), скумбрий (Scomber trachurus) и других вкусных рыб, совершенно неизвестных в Европе.
В 9 часов мы подняли паруса и отплыли от места нашей прежней неудобной стоянки к найденной накануне бухте, которая называлась Пикерсгилл. Мы стали здесь так близко от берега, что на него можно было перейти по небольшим сходням. Природа как бы сама предоставила нам помощь в виде большого дерева, которое росло, горизонтально наклонясь над водой. Вершину его мы закрепили на судне и сделали вдоль ствола дощатые сходни. На самом берегу мы обнаружили не менее удобств. Деревья росли столь близко от корабля, что ветви их доставали до наших мачт, а на расстоянии пистолетного выстрела от судна протекал прекрасный ручей со свежей водой. Поскольку топливо и вода были главным, что мы доставляли с берега на борт, близость их весьма облегчала нам работу.
Первым делом мы очистили от растительности близлежащий холм, чтобы устроить здесь обсерваторию и кузницу, так как многие металлические изделия на корабле нуждались в скорейшем ремонте. У ручья поставили палатки для парусных мастеров, бондарей, водоносов и дровосеков. Постепенно выяснилось, что место здесь не столь хорошее, как показалось вначале; обилие лиан, колючего кустарника, целые заросли папоротника необычайно затрудняли очистку этого клочка земли; стало заранее ясно, до чего сложно, а может, и вовсе невозможно будет проникнуть в глубь страны. И действительно, представляется не просто вероятным, но при близком знакомстве почти бесспорным, что леса в этой южной части Новой Зеландии оставались еще в своем нетронутом, девственно-диком состоянии. Углубиться дальше в лес оказалось почти невозможно не только из-за упомянутых зарослей; всюду были завалы гниющих деревьев, упавших от ветра или от старости и со временем превратившихся в жирную труху, на которой обильно произрастали новые поколения молодых деревьев, растений-паразитов, папоротников и мхов. Часто сгнившую древесину такого упавшего ствола прикрывала обманчивая кора, и отважившийся ступить туда проваливался иной раз по пояс. Животный мир также свидетельствовал о том, что эта часть суши, видимо, еще не подвергалась воздействию человека; с первого взгляда могло показаться, что бухта Даски совершенно необитаема, столь беспечно продолжали сидеть на ветках совсем близко от нас мелкие птицы, казалось никогда не видевшие человека; они даже вспрыгивали на дула наших ружей и рассматривали нас как какие-то странные предметы с любопытством, пожалуй сравнимым с нашим собственным. Такая простодушная дерзость поначалу служила им защитой: у кого хватило бы жестокосердия стрелять в них, когда они были так близко? Но через несколько дней она обернулась для них большой опасностью, поскольку одна кошка с нашего корабля скоро выяснила, что здесь существует великолепная возможность сытно полакомиться. Каждое утро она отправлялась на прогулку в заросли, производя страшное опустошение среди мелких птиц, которые совершенно не заботились об осторожности, не ожидая встретить столь коварного врага.
Свежей рыбы у нас было вдоволь, водоплавающая пища поставляла нам разнообразные мясные блюда, так что нашему столу не хватало лишь свежих овощей. Мы постарались восполнить эту нехватку во время первых же своих ботанических прогулок и уже на другой день после прибытия нашли прекрасное дерево семейства миртовых, которое как раз цвело и настой которого еще во время первого плавания капитана Кука употребляли вместо чая. Это еще нельзя было считать едой, но свежая зелень была нам кстати, и мы ее попробовали. Листья имели приятный аромат, были немного вяжущими и при первой же заварке придали воде замечательный вкус. Однако, если их заливали кипятком вторично, этот приятный вкус исчезал, и настой становился горьким. Поэтому вторично мы его никогда не употребляли. Вскоре все на корабле стали пить этот настой, и, судя по всему, он способствовал очищению крови и избавлению от всяких признаков цинги. Поскольку это растение может сослужить весьма полезную службу будущим мореплавателям, стоит познакомиться с его внешним видом. Поэтому мы с большой охотой разрешили капитану Куку воспользоваться нашим рисунком, который по приказу Адмиралтейства был выгравирован и включен в описание его путешествия. На хорошей почве в густых лесах это растение достигает размеров довольно большого дерева, нередко 30—40 футов в высоту и фута в поперечнике. На сухих же гористых местах я встречал его в виде маленького куста высотой дюймов в 6; несмотря на это, оно было здоровым, могло цвести и плодоносить. Обычно же оно бывает высотой от 8 до 10 футов и примерно 3 дюйма толщиной. У таких экземпляров ствол неровный, кривой, ветви начинаются невысоко над землей и отходят от ствола под острым углом, а листья и цветы бывают только на концах. Цветы белые и очень украшают растение[167].
Мы пытались использовать для настоя и зелень другого дерева, которое часто встречается в этих местах[168]. Оно напоминает ель и имеет несколько смолистый привкус, так что мы сочли его пригодным скорее не для чая, а для приготовления здорового и приятного напитка, который в Вест-Индии известен под названием росткового пива и делается там из американской черной ели. Добавив немного сусла и патоки, мы действительно получили прекрасное пиво, а впоследствии еще улучшили его вкус, подмешав к нему листья и цветы найденного нами чайного дерева. Оно было приятно, хотя чуть горьковато; единственный его недостаток состоял в том, что выпитый с утра натощак, он иногда плохо действовал на желудок. Во всех остальных отношениях он был превосходен и полезен для здоровья. Новозеландская ель — большое красивое дерево; в высоту оно достигает иногда 100 футов, а в обхвате имеет добрых 10 футов. Обращают на себя внимание его обвислые ветви, зелень же состоит из множества длинных светло-зеленых листьев, напоминающих сосновую хвою и свисающих с ветвей подобно нитям[169].
Хотя в пищу тут годились только эта ель да чайное дерево, мы использовали и другие разнообразные здешние деревья, отчасти для корабельного дела, отчасти для столярных и прочих работ, и капитан Кук должен был признать, что нигде в Новой Зеландии не встречал лучших лесов, чем в бухте Даски, разве что вдоль реки Темзы [Вайхоу] на северном острове этой земли, по которой он плавал в прошлый раз[170].
Не прошло и двух дней, как мы убедились, что бухта Даски отнюдь не является необитаемой. Утром 28-го несколько наших офицеров отправились в небольшой шлюпке на охоту, и когда они зашли в бухту на расстоянии 2—3 английских миль от корабля, то увидали на берегу нескольких туземцев, которые как раз спускали на воду каноэ[171]. Заметив наших людей, новозеландцы подняли громкий крик, поэтому офицерам показалось, что их больше, чем было на самом деле. Они вернулись и сообщили капитану о своем открытии; такая осторожность представлялась тем более необходимой, что шел дождь, который мог помешать стрельбе из ружей. Едва они взошли на борт, как из-за мыса примерно в одной английской миле от корабля появилось каноэ. В нем находилось семь-восемь человек. Некоторое время они рассматривали нас. Мы подавали им дружелюбные знаки: окликали, вывешивали белые полотнища, показывали стеклянные бусы и тому подобное, но не могли заставить их приблизиться; некоторое время спустя они вернулись туда, откуда появились. Насколько можно было судить с отдаления, одежда их была сделана из циновок, а весла были широкие, похожие на весла жителей северного острова Новой Зеландии.
Капитан Кук решил в тот же день еще раз выйти на берег, чтобы рассеять страх, который мы, видимо, у них вызывали. Он приказал спустить две шлюпки и вместе с нами и несколькими офицерами отправился в бухту, где впервые были замечены дикари. Здесь мы увидели двойное каноэ, вытащенное на берег, несколько низких хижин, а рядом — кострище; тут же лежали рыбацкие сети и рыба. Каноэ было старое, видавшее виды. Оно состояло из двух корыт или лодок, соединенных посредине перекладиной и скрепленных веревками из новозеландского льна[172]. Каждая из этих лодок в отдельности была изготовлена из планок, сшитых между собой шнурами; переднюю часть их украшало грубо вырезанное человеческое лицо, вместо глаз у которого были вставлены маленькие кусочки перламутровых раковин «морское ухо». В этом каноэ мы нашли два весла, корзину с ягодами Coriaria ruscifolia Linn, и несколько рыб. Однако людей не было ни видно, ни слышно; по-видимому, они убежала в лес. Чтобы вызвать их доверие и расположение, мы положили им в каноэ медали, зеркала, бусы и другие мелочи, а затем не мешкая вернулись к своей шлюпке, чтобы проплыть дальше в бухту и зарисовать ее план. При этом мы обнаружили прекрасный ручей, стекавший к морю по ровному берегу; местами он был до того мелкий, что лодка несколько раз садилась на мель. Здесь было много уток, бакланов, черных куликов и чибисов. На обратном пути мы не удержались и еще раз наведались к каноэ, по там все оставалось нетронутым. Чтобы придать подаркам больше цены, мы добавили к ним еще топор, а чтобы пояснить, как им пользоваться, откололи от дерева несколько щепок и потом оставили его воткнутым в ствол. Но к главной своей цели мы и на сей раз приблизились не более, чем в прошлый, ибо опять не увидели никого из туземцев, хотя они, по нашему разумению, не могли уйти далеко, и нам даже казалось, что мы чуем запах дыма от их костров. Вероятно, их легко можно было бы найти в ближнем лесу, но, поскольку они, видимо, избегали нас умышленно, капитан не велел их разыскивать и счел нужным предоставить времени и их собственному доброму желанию решить, познакомиться с нами поближе или нет. Вернулись мы на корабль только поздно вечером.
Все следующее утро лил сильный дождь, однако после полудня погода прояснилась, и мы смогли отправиться в лес на другой берег бухты. Идти на этот раз оказалось вдвойне трудно; мало того, что приходилось пробиваться через заросли лиан и упавшие стволы; от дождя землю развезло и стало так скользко, что ноги разъезжались чуть ли не на каждом шагу. Все же наши усилия были вознаграждены уже тем, что мы нашли кое-какие растения и цветы, хотя время года было довольно позднее. Кроме того, нас изумляло обилие новых, неизвестных деревьев и кустарников; однако этим изумлением пришлось и ограничиться, поскольку на них уже не было ни цветов, ни плодов, что делало невозможным более основательное ботаническое исследование.
Два последующих дня дождь и ветер вынудили нас оставаться на борту, что заметно ухудшило наше настроение; если такая погода обычна здесь для этого времени года, то дальнейшее пребывание в этих местах сулило нам мало хорошего. Во второй половине дня 1 апреля, едва прояснилось, мы решили опять наведаться в бухту, где видели индейцев[173]. Все, что мы здесь оставили, оказалось нетронутым; похоже, возле каноэ за все это время никто не появлялся. Погода была очень ясная, и бухта хорошо просматривалась во все стороны. Она была такая большая, что в ней мог бросить якорь целый флот. С юго-запада от нее поднимались высокие горы, почти от самой вершины и до подножия поросшие лесом. Изрезанный берег и острова в заливе были весьма живописны. Зеркальная гладь воды празднично сияла в лучах заходящего солнца, зеленая растительность и голоса птиц, доносившиеся отовсюду в этот тихий вечер, приятно контрастировали с суровым и диким обликом ландшафта.
Мы получили в тот вечер такое удовольствие, что, когда на другой день выдалась ясная, хорошая погода, сразу же с восходом солнца отправились в эту бухту, где пробыли до позднего вечера и вернулись на корабль с новыми птицами и растениями. Мы захватили с собой молодую собаку, купленную офицерами на мысе Доброй Надежды, и хотели посмотреть, привычна ли она к стрельбе и можно ли ее приспособить к охоте. По при первом же выстреле собака убежала в лес и не пожелала возвратиться, сколько мы ее ни подзывали.
Капитан Кук в наше отсутствие тоже воспользовался хорошей погодой, чтобы отправиться к скалам неподалеку от места нашей первой стоянки, которые мы уже тогда назвали Тюленьими, поскольку их облюбовало себе для ночевки множество этих животных. Он встретил их там и на сей раз и трех убил. Один из тюленей, раненный дважды, до того разъярился, что напал на лодку, пока его не утихомирили окончательно. Он был около 6 футов длиной и весил, хотя был весьма худ, 220 фунтов. Оттуда капитан прошел несколько мелких островов и достиг северо-западного рукава бухты, образованного мысом, который был назван мыс Файв-Фингерс. Там оказалось много водоплавающей птицы, несколько штук он подстрелил и привез на борт.
Возобновившийся затем дождь вынудил нас отложить дальнейшие вылазки, и мы остались на борту. В бухте Даски нам с первого дня докучали мелкие мошки (Tipula alls incumbentibus)[174]; теперь, в сырую погоду, они стали особенно невыносимы. На берегу их больше всего у опушки леса; они в два с лишним раза меньше комаров или москитов; наши матросы назвали их «песчаные мухи». Укусы их были очень болезненными; в тепле укушенные места начинали невыносимо зудеть, а стоило потереть или почесать это место, как оно распухало и сильно разбаливалось. Впрочем, не все страдали от них одинаково. Я, например, особых неприятностей не испытывал, другие, напротив, мучились ужасно. Особенно изводили они моего отца, так что он даже не мог взять в руки перо, чтобы записать в свой Журнал события дня, а ночью его, сверх того, сильно лихорадило. Против них пробовали разные средства, но без пользы. Лучше всего было натереть руки и лицо мягкой помадой и постоянно носить перчатки.
6-го утром несколько офицеров отправились в бухту, которую 2-го обнаружил капитан; сам же капитан на другой шлюпке поплыл вместе с господами Ходжсом, Спаррманом, моим отцом и мной к северной стороне бухты Даски, чтобы снять ее план, господин Ходжс — чтобы зарисовать пейзаж, а мы — чтобы исследовать природные достопримечательности этих мест. Мы нашли здесь красивую обширную бухту, которая вдавалась в берег наискосок и столь глубоко, что моря оттуда совсем не было видно. Берег ее был крут и высок, с него низвергалось несколько небольших водопадов, представляя собой чрезвычайно красивое зрелище. Ручьи вытекали из леса, а прозрачные водяные столбы падали столь отвесно, что можно было поставить корабль совсем близко от них и с помощью шланга из парусины без всякой опасности наполнить водой бочки прямо на борту. Дальше в глубине виднелось мелководное болотце, сам же берег был покрыт ракушечным песком, и по нему тоже струился маленький ручей. Мы увидели здесь много птиц, особенно диких уток, и убили четырнадцать штук, в честь чего назвали эту бухту Дак-Коув, то есть Утиная бухта.
На обратном пути мы прошли мимо острова с островерхими скалами. Оттуда нас кто-то громко окликнул. Поскольку здесь не могло быть никого, кроме туземцев, мы назвали этот остров Индиан-Айленд, то есть остров Индейцев, и подошли поближе, чтобы узнать, кто кричал. Приблизившись, мы увидели на вершине скалы индейца, вооруженного палицей, или боевым топором, а за ним, подальше у леса,— двух женщин с копьями в руках. Подойдя на шлюпке к подножию скалы, мы крикнули ему на таитянском языке: «TayoHarramai!», что означало: «Друг, иди сюда!»
Он, однако, не тронулся с места, продолжая стоять, опираясь на палицу, и в такой позе произнес длинную речь, причем, когда она звучала особенно энергично, он размахивал над головой палицей. Поскольку он не выказывал никакого намерения приблизиться, капитан встал на нос шлюпки, дружелюбно его окликнул и бросил ему два носовых платка, но тот не стал их поднимать. Тогда капитан взял в руку несколько листов белой бумаги, поднялся безоружный на скалу и протянул бумагу дикарю. Было видно, как все сильнее дрожит добрый малый; однако наконец он, хотя все еще с явными признаками страха, взял бумагу. Оказавшись теперь совсем рядом, капитан взял его за руку, обнял и коснулся своим носом носа дикаря, как принято здесь приветствовать друг друга. Это развеяло последний страх; индеец подозвал к себе обеих женщин, и они сразу приблизились. Некоторые из нас тоже вышли на берег, чтобы составить капитану компанию. Между нами и индейцами завязалась небольшая беседа, хотя мы толком не понимали друг друга, ибо не знали языка. Господин Ходжс тут же на месте набросал их портреты. Поняв, что он делает, они стали называть его тоа-тоа; видимо, это слово имеет отношение к изобразительному искусству. У мужчины была достойная, приятная внешность; одна из женщин, которых мы считали его дочерьми, выглядела даже привлекательнее, нежели можно было ожидать в Новой Зеландии, зато другая была на редкость безобразной, и на верхней губе у нее был уродливый нарост. Цвет кожи у всех был темно-коричневый или оливковый, волосы черные, курчавые, смазанные маслом и красным железняком, у мужчины они были связаны в узел на макушке, у женщин же коротко обрезаны. Мы нашли, что верхняя часть тела у них хорошо сложена, зато ноги очень тонкие, некрасивые и кривые. Одежда их состояла из циновок, сплетенных из новозеландского льна[175], и была украшена перьями. В ушах они носили маленькие кусочки кожи альбатроса, окрашенные красным железняком или охрой. Мы предложили им несколько рыб и уток, однако они бросили их нам обратно, дав понять, что в продовольствии недостатка не имеют. Приближение ночи заставило нас попрощаться с нашими новыми друзьями, однако мы обещали завтра навестить их опять. Мужчина наблюдал за нашим отплытием серьезно и внимательно, он казался глубоко задумавшимся; напротив, младшая из женщин, все время не перестававшая весьма бойко болтать, теперь пустилась в пляс, но по-прежнему ни на минуту не умолкая. Это дало повод нашим матросам сделать несколько грубых замечаний насчет женского пола; мы же еще раз убедились, что природа в лице женщины дала мужчине не только спутницу, дабы делить с ним заботы и тяготы; она также в высшей степени наделила ее живостью и говорливостью, в коих проявляется ее желание нравиться. В опубликованной истории плавания капитана Кука хорошо и верно изображено это маленькое семейство, а также местность, где происходила описанная сцена.
На другое утро мы опять наведались к индейцам и привезли им в подарок разных вещей. Мужчина при этом показал себя более разумным и рассудительным, нежели многие его земляки до сих пор, да и большинство обитателей островов Южного моря[176]; он с первого же взгляда понял цену и применение топору и большим гвоздям, а на все, что казалось ему бесполезным, смотрел равнодушно. На этот раз он познакомил нас со всем своим семейством. Оно состояло из двух женщин, которых мы сочли его женами, упомянутой молодой девушки, мальчика лет пятнадцати и трех маленьких детей, младший из которых еще сосал грудь. Было заметно, что мужчина недолюбливал женщину с наростом на верхней губе, вероятно из-за ее уродства. Они повели нас к своему жилищу, которое находилось всего в нескольких шагах на небольшом холме в лесу. Это были убогие хижины, сделанные из нескольких жердей, составленных друг с другом и покрытых сухими листьями новозеландского льна; сверху на них была уложена древесная кора. В качестве ответного подарка они преподнесли нам разные украшения и оружие, прежде всего несколько боевых топоров, однако ни за что не желали уступить копья, из чего следовало, что те им особенно дороги. Когда мы уже собрались отъезжать, мужчина пришел на берег и подарил капитану Куку циновку из льна, пояс, сплетенный из травы, несколько шариков птичьей кости и кусочки альбатросовой кожи. Поначалу мы думали, что это ответные подарки, однако он скоро развеял наше заблуждение, выразив желание получить ни мало ни много как один из наших плащей[177]. Мы не были склонны отдавать одежду, которую нам нечем было заменить. Однако, когда мы вернулись на борт, капитан распорядился сшить большой плащ из красного сукна, чтобы подарить мужчине при следующей встрече.
На другое утро дождь вынудил нас остаться на корабле. Когда же после полудня погода прояснилась, мы снова отправились на остров Индейцев. Они знали, что мы собираемся их навестить, поэтому мы были неприятно удивлены, когда никто не вышел приветствовать нас и даже не ответил на наши возгласы. Не понимая, в чем дело, мы поднялись на берег и пошли к их жилью, где скоро выяснили причину такого неожиданного поведения. Дело оказалось в том, что они готовились встретить нас в полном великолепии своих украшений. Некоторые уже совсем нарядились, другие еще были заняты этим. Они причесались, волосы, смазанные маслом или жиром, связали узлом на макушке и воткнули в узел белые перья. Некоторые носили такие же перья, нанизанные на шнур, вокруг лба, у некоторых в ушах были кусочки альбатросовой кожи еще с белыми пушинками. Наряженные так, они издали при нашем появлении крик радости и стоя встретили нас всяческими знаками дружелюбия и расположения. Капитан, сам надевший на себя новый плащ из красного сукна, теперь снял его и передал мужчине, который был до того рад, что тотчас снял с пояса пату-пату, то есть короткий плоский боевой топор, сделанный из большой рыбьей кости, и подарил в ответ капитану. Мы попытались завести с ним беседу, для чего захватили с собой капрала Гибсона, который лучше всех на корабле должен был понимать местный язык[178]. Однако и ему с ними объясниться не удалось: видимо, у этого семейства было особенно жесткое и потому непонятное произношение. Так что мы с ними попрощались и до вечера занимались зарисовкой разных участков бухты, а также немного ловили рыбу, стреляли птиц, собирали среди скал раковины и другие продукты моря. Было облачно, но над нами дождя не было. Когда же мы вернулись в бухту, где стоял на якоре наш корабль, нам сказали, что во время нашего отсутствия непрерывно лил дождь. Впоследствии мы не раз замечали, что в одном месте бухты Даски, случалось, шел дождь, тогда как в другом не выпадало ни капли. Дело было, вероятно, в том, что вдоль южного берега бухты к западному мысу тянулись горы, довольно высокие и потому почти постоянно покрытые облаками. Поскольку наша бухта находилась как раз у их подножия и, так сказать, была окружена ими со всех сторон, здесь скапливались испарения, постоянно поднимавшиеся над водой; они буквально на глазах собирались у склонов гор, так что верхушки деревьев были все время окутаны как бы полупрозрачным туманом, который в конце концов падал в виде сильной росы или дождя, вымачивая нас до костей. У северной же стороны залива имелись лишь плоские острова, так что морские испарения уходили над ними к видневшимся в глубине, постоянно покрытым снегом горам.
Два следующих дня шел такой сильный дождь, что ничего нельзя было предпринять. Воздух в нашей бухте постоянно был влажным, и на корабле повсюду держались испарения, вредные для здоровья, а кроме того, совершенно портившие собранные нами коллекции растений. Корабль стоял так близко к крутому берегу, поросшему нависающими деревьями и кустарником, что в каютах даже при ясной погоде, особенно же в туман и дождь, было все время темно, так что и днем приходилось зажигать свет. Но, постоянно имея свежую рыбу, мы не обращали внимания на эти неприятные обстоятельства, так как благодаря столь здоровой пище, ростковому ниву и миртовому чаю мы сохраняли во всяком случае бодрость и свежесть. За время нашего пребывания здесь мы стали настоящими ихтиофагами — пожирателями рыбы, поскольку многие из нас ничего, кроме рыбы, вообще не ели. Опасаясь, как бы со временем эта превосходная пища нам не наскучила, мы изощрялись в придумывании новых блюд из нее. Мы делали из рыбы супы и паштеты, варили ее, жарили, вялили, сушили. Любопытно, однако, что все ухищрения поварского искусства лишь ускоряли отвращение к рыбе, от которого мы старались уберечься, а те, кто мудро довольствовался просто свежей вареной рыбой, сохраняли примерный аппетит.
As if increase of appetite had grown By what if ted on. Shakespeare[179]Еще более странно, что, боясь пресытиться рыбными блюдами, мы все же ограничивались единственной разновидностью рыб, которую наши матросы за черный цвет назвали угольной. Мясо у нее сочное, питательное, но деликатесом ее назвать никак нельзя; тем не менее эту рыбу употребляли в пищу охотнее других, которые чаще всего были очень жирные, и потому их трудно было есть все время. Приятное разнообразие в наш повседневный стол вносили омары — красивая разновидность Cancer homarus Linn., крупнее обычного морского краба, моллюски, иногда попадались баклан, утка, голубь или попугай; словом, по сравнению с тем, что мы имели в море, нашу пищу можно было назвать обильной и роскошной.
Все на корабле, от капитана до простого матроса, испытали на себе благотворное воздействие этой изменившейся к лучшему диеты. Даже животные на борту казались отдохнувшими, кроме овец; впрочем, эти и не могли себя чувствовать здесь так хорошо, как мы, поскольку вся южная оконечность Таваи-пое-наму (как называется на местном наречии Южный остров Новой Зеландии)[180], а особенно местность вокруг бухты Даски, покрыта крутыми скалистыми горами; они изрезаны глубокими ущельями и внизу поросли густым лесом, а вверху бесплодны или покрыты снегами, так что тут негде было найти ни лугов, ни ровной земли. Плоские участки встречались разве что в глубине бухты, где в море впадал ручей. Видимо, поток воды нанес сверху земли и камней, которыми были усеяны его берега; так постепенно возникла почва. Но и там росли в основном кусты и колючки, разве что у воды была осока, и то немного; к тому же она была такая жесткая и грубая, что кормом служить не могла. Хуже всего то, что даже от молодой травы, которую мы с трудом раздобывали для овец, пользы не было, потому что животные, к нашему удивлению, до нее и не дотрагивались. Наконец мы поняли, что у них выпали зубы и вообще обнаружились все признаки самой злокачественной цинги. Из четырех овцематок и двух баранов, которых капитан Кук взял с собой с мыса Доброй Надежды, чтобы выпустить их на берег в Новой Зеландии, удалось сохранить лишь двух: одну овцу и одного барана; но и эти были в таком плохом состоянии, что никто не знал, выживут они или последуют за другими. Так что, если какой-либо мореплаватель захочет привезти жителям Южного моря такой ценный подарок, как скот, он сможет осуществить сие благодетельное намерение и довезти животных до места здоровыми только в том случае, если постарается доплыть как можно скорее, избегая при этом холодов, для чего нужно добираться от мыса Доброй Надежды в наиболее благоприятное время года и самым коротким путем, держась все время умеренных широт.
11-го было ясно; воздух предвещал хороший день. Все об этом мечтали, ибо со времени прибытия в бухту Даски из-за сырой погоды еще не имели возможности просушить паруса и выстирать белье. Воспользоваться шлюпкой мы не могли и потому попросили перевезти нас для сбора коллекций в бухту, где мы встретили первую индейскую лодку и издалека увидели водопад, по которому эта бухта была названа Каскейд-Коув (бухточкой Водопада). С расстояния в полторы английские мили этот водопад не производит особого впечатления, тем более что находится он очень высоко. От бухты нам пришлось взбираться в гору на добрых 600 футов, чтобы его увидеть. Зато там вид открывается великолепный. Прежде всего видишь столб чистой воды шириной 24—30 футов, низвергающийся в бешеном неистовстве с отвесной скалы высотой около 300 футов. На четверти этой высоты вода встречает выступ скалы, которая далее становится несколько покатой, и оттуда падает прозрачной водяной стеной около 75 футов шириной. Разбиваясь, вода начинает пениться и с огромной скоростью падает в прекрасный бассейн внизу, футов 180 в окружности. С трех сторон он окружен довольно отвесными каменными стенами, с четвертой — масса беспорядочно нагроможденных друг на друга камней. Вода пробивается между ними дальше и, пенясь, низвергается по склону горы в море. Более чем на 300 футов в окружности воздух полон водяной пыли и пара, возникающих от сильного падения; он был настолько сырой, что наша одежда за несколько минут промокла, как будто мы попали под сильнейший дождь. Это, однако, ничуть не помешало нам полюбоваться прекрасным зрелищем с разных сторон. Под конец мы поднялись на самый высокий камень перед бассейном. Когда смотришь отсюда, в испарениях каскада видна великолепная радуга; при высоком полуденном солнце она была совершенно круглая и как будто находилась под нами. Водяная пыль тоже была окрашена в призматические цвета[181], но в обратном порядке. Слева от нас возвышались крутые бурые скалы, с вершин их свисали ветви кустов и деревьев. Справа виднелось нагромождение больших камней, созданное, судя по всему, мощью низвергающейся с гор воды; над ним возвышалась гряда сравнительно пологих скал высотой футов 150; на ней стояла высокая отвесная скала высотой 75 футов, покрытая зеленью и кустарником. Еще дальше вправо видны были группы разрушенных скал, разнообразно окрашенных всеми оттенками растущих там мха, папоротника, травы и всевозможных цветов; протекавший там ручей с обеих сторон обрамлен был деревьями высотой футов 40, которые прикрывали его от лучей солнца. Грохот водопада был настолько силен и так мощно отражался от ближних скал, что не было слышно никаких других звуков. Видимо, поэтому и птицы держались отсюда на отдалении, но немного в стороне уже звучали пронзительные голоса дроздов, чарующее пение пищух и прочих птиц, дополняя красоту этого дикого романтического уголка. Обернувшись к водопаду спиной, мы увидели внизу широкий залив, усеянный небольшими лесистыми островками, а за ним по одну сторону — покрытые снегом горы до облаков, по другую — простиравшийся до горизонта бескрайний океан. Этот вид был столь величествен и прекрасен, что не хватает слов достойно описать его; разве что искусная кисть господина Ходжса, художника, посланного с нами в это плавание, могла похоже все это воспроизвести. Произведения этого художника делают честь его таланту и вкусу, равно как вкусу и выбору его покровителей.
Вдосталь насладившись этим роскошным зрелищем, мы обратили внимание на цветы, оживлявшие землю, и на птиц, весело щебетавших вокруг. С тех пор как мы прибыли в эту бухту, еще не было столь богатых и великолепных находок из области растительного и животного царства. Вероятно, потому, что место это было укрыто от ветра, а лучи солнца отражались от скал, климат здесь был более мягкий, почва же отнюдь не лучше, чем в других местах вокруг бухты; хорошая, плодородная земля. Скалы и камни вокруг водопада состояли отчасти из гранита (Saxum), отчасти из желтоватого талькового слоистого аргиллита, распространенного по всей Новой Зеландии.
Вечером, чрезвычайно довольные сделанными открытиями, мы вернулись на корабль. Там нам рассказали про семейство индейцев, которых мы видели утром в каноэ. Они были в торжественных нарядах и очень осторожно приближались к судну. Капитан Кук вышел в шлюпке им навстречу, но уговорить их подняться на борт не смог и предоставил им самим решать, что делать. Они решили вскоре войти в маленькую бухту неподалеку от нашей, там высадились на берег против корабля так близко, что можно было их слышать и переговариваться с ними. Капитан велел играть на флейте и волынке и бить в барабан, но и это не могло привлечь их на борт судна; похоже, дудки, а тем более барабан не особенно их интересовали. Тогда несколько офицеров и матросов сами отправились к ним на шлюпке. Дикари встретили их радушно, но все попытки объясниться знаками ни к чему не привели, ни те, ни другие не могли друг друга понять. Девушка поначалу проявила особую склонность к одному молодому матросу, которого, судя по ее поведению, приняла за лицо своего пола. Неизвестно, допустил ли он какую-то вольность или дал ей другой повод для неудовольствия, но потом она вдруг перестала подпускать его к себе.
Ко времени нашего возвращения индейцы все еще оставались там же, неподалеку от корабля, поэтому мы тоже отправились к ним на берег.
Мужчина пригласил нас сесть рядом и несколько раз показал на наши шлюпки, курсировавшие между кораблем и берегом, как будто хотел получить одну из них. Поскольку удовлетворить такую просьбу все равно было невозможно, мы не стали особенно уточнять смысл этого жеста. Спустя некоторое время они развели костер шагах в ста от места, где мы брали воду, и стали готовить на ужин рыбу. Они оставались здесь всю ночь, и нам это показалось приятным признаком того, что они испытывают к нам полное доверие. Несколько офицеров, которые собирались завтра пойти на охоту, отправились еще с вечера в маленькой лодке на северную сторону залива, чтобы, переночевав там, уже с рассветом оказаться на месте.
На другое утро капитан Кук приказал снарядить шлюпку и вместе с моим отцом поехал в глубь залива, чтобы нанести на план тамошние скалы и острова. На юго-восточной стороне одного из островов, близ которого мы вначале стали на якорь и который поэтому назвали Якорным островом, они нашли небольшую славную бухту, а в ней приятный ручей и возле него высадились, чтобы вторично позавтракать несколькими захваченными с собой крабами. В честь этого бухта была названа Ланчн-Коув (бухточка Завтрака). Подкрепившись немного, они продолжили свой путь к самым отдаленным островам, увидели там на скалах много тюленей, четырнадцать штук подстрелили и привезли на борт. Нетрудно было добыть и гораздо больше, поскольку из-за прилива они повылезали на все скалы. Тюлени здесь все относились к разновидности, называемой морской котик[182]; впервые их нашел и описал профессор Стеллер на острове Беринга близ Камчатки[183]. Следовательно, их можно встретить как в Северном, так и в Южном полушариях земли. Часто они попадаются у южной оконечности Америки и Африки, близ Новой Зеландии и Вандименовой земли. Единственное различие между теми, которых мы видели в бухте Даски, и теми, что водятся у Камчатки, состоит в их величине; здешние поменьше. Мы могли убедиться, насколько они приспособлены к суровой жизни; многие тяжелораненые убежали в море, хотя и потеряли столько крови, что ею окрашены были скалы и вода. Мясо этих животных почти совершенно черное и в пищу не употребляется. Зато можно есть сердце и печень. Первое при большом аппетите и некотором воображении можно принять за говядину, а печень на вкус совершенно напоминает телячий ливер. Только прежде чем их варить, надо тщательно удалить весь жир, иначе они невыносимо отдают ворванью. Капитан и жир употребил в дело, приказав сварить из него запас масла для ламп; шкуры он тоже велел сохранить, чтобы потом использовать для изготовления такелажа.
Ввиду такой удачной охоты он решил еще раз съездить на Тюленьи острова. Мой отец опять сопровождал его. Однако на сей раз море встретило их недружелюбно, волны были такие высокие, что не было никакой возможности приблизиться к скалам, а тем более высадиться на них. С большим трудом они обогнули юго-западную оконечность Якорного острова, но там было еще хуже; волны мчались им навстречу с таким неистовством и вздымались так высоко, что укачивало даже матросов. Все же капитан нe захотел повернуть обратно; он приказал грести к северному побережью острова и вдоль него, чтобы произвести здесь зарисовку местности. Оказалось, что это счастливое решение. Дело в том, что вечером 11-го несколько офицеров отправились на охоту, но разбушевавшиеся волны смыли их шлюпку и понесли как раз на те скалы, к которым направился капитан со своими людьми. Если бы не они, шлюпку наверняка разбило бы. Они подцепили ее и сразу же отвели в маленькую безопасную бухту, а матросов за их труды она вознаградила провизией. Подкрепившись, капитан приказал грести к месту, где должны были находиться офицеры, у которых унесло лодку. Между 7 и 8 часами вечера они подплыли туда и нашли охотников на маленьком острове, однако подойти к нему не смогли, поскольку из-за отлива здесь было слишком мелко. Пришлось высадиться на соседнем мысу и там заночевать, так как было уже поздно. С большим трудом они развели костер, испекли немного рыбы и, поужинав, улеглись спать без особых удобств, ибо постелью служил каменистый берег, а одеялом — небесный свод.
В 3 часа утра, дождавшись прилива, они сняли офицеров с негостеприимного острова, на котором им пришлось пробыть так долго, и направились в бухту, где оставили шлюпку. Было ветрено и дождливо. Они увидели там несметное количество тех голубых буревестников, что распространены по всему Южному океану. Некоторые из них были в воздухе, другие на деревьях и на земле, в небольших ямах, вырытых под корнями, или в расщелинах скал, где к ним нельзя было подступиться и где они, по всей видимости, высиживали в гнездах птенцов. Отовсюду слышался их крик, иногда пронзительный, иногда напоминавший кваканье лягушек.
В связи с этим рассказом я вспомнил, как мы в другой раз видели множество таких пещер на одном из Тюленьих островов; из них слышались голоса птенцов буревестников. Эти пещеры были связаны проходами, и птенцы могли переползать из одной в другую, так что добраться до них не было возможности. Родителей их весь день не было видно, утром они улетали к морю за добычей, а вечером прилетали обратно кормить птенцов. Мы в это время обычно возвращались из своих поездок и видели, как они летают вокруг, но из-за сумерек принимали их за летучих мышей. У них широкий клюв, на крыльях и туловище черная полоса, но они меньше обычных топорков или тупиков наших морей. Поистине достоин изумления инстинкт, заставляющий этих птиц выкапывать для своих птенцов ямы в земле, летать над всем океаном, добывая им пищу, а затем находить обратный путь через многие сотни миль.
Насмотревшись на птиц, офицеры сели в заново обретенную шлюпку и в 7 часов утра вместе с капитаном, утомленные беспокойной ночью, вернулись на корабль. Индейцы, видимо, предвидели плохую погоду, во всяком случае они ушли с места против корабля, где провели прошлую ночь, и вернулись к своим хижинам на острове Индейцев.
15-го утром немного прояснилось. Капитан решил продолжить зарисовку северо-западной части залива, мы же присоединились к группе офицеров, которые задумали провести следующую ночь на берегу в одной из бухт. По пути мы встретили лодку с рыбаками, которая выходила каждое утро, чтобы обеспечить команде обед, и были немало удивлены, увидев в ней молодую черную собаку, убежавшую от нас 2-го числа. Матросы рассказали, что на рассвете, находясь недалеко от берега, они услышали с ближнего мыса жалобный вой и, посмотрев туда, увидали собаку; едва шлюпка приблизилась, она тотчас в нее прыгнула. Проведя в лесу четырнадцать дней, собака, однако, не выглядела изголодавшейся, напротив, была упитанной и гладкой. Вероятно, все это время она питалась крупными коростелями, которых мы называли водяными курочками и которых очень много в этой части Новой Зеландии, а возможно, также моллюсками и мертвой рыбой, которую обычно выбрасывает море. Так что, если бы в Новой Зеландии вообще водились хищные звери, особенно такие хорошие охотники, как лисы или представители семейства кошачьих, то при здешней обильной пище они бы, несомненно, расплодились. Но тогда их наверняка должны были бы заметить как наши люди, обследовавшие разные места, так и туземцы, которые в столь сыром суровом климате непременно использовали бы шкуры этих зверей для одежды. Между тем на деле они обходятся лишь собачьими да птичьими шкурками. Мы с первого же дня прибытия особенно старались узнать, водятся ли в Новой Зеландия дикие четвероногие животные, но не нашли даже их следов[184]. Правда, один из наших матросов, который не мог себе даже представить, чтобы в такой обширной стране не нашлось новых и неизвестных животных, якобы дважды на рассвете видел бурого зверя, поменьше шакала или маленькой лисы, сидевшего на пне неподалеку от наших палаток. Завидев человека, тот убежал. Но поскольку никто другой этого не видал, похоже, что матрос ошибся, в темноте приняв за нового четвероногого зверя либо водяную курочку, которая тоже бурого цвета и часто возится в кустах[185], либо одну из наших кошек, охотившуюся за птицами.
Выслушав от рыбаков историю собаки, мы поплыли дальше в бухту, где увидели много уток четырех разных видов и по одному экземпляру каждого вида подстрелили. Одна утка была величиной с гагу, у нее было прекрасное черно-коричневое оперение с белыми крапинами, туловище и гузка стального цвета, на крыльях белое пятно в форме щита, маховые и хвостовые крылья черные, а средние перья зеленые. Другая была величиной примерно с нашу крякву, но вся светло-коричневая. На каждом пере имелось желтовато-белое окаймление, и такого же цвета были полоски по бокам головы и вокруг глаз. Радужная оболочка глаза была красивого желтого цвета, а на крыльях имелось блестящее голубовато-зеленое пятно, обведенное черной линией. Третьим видом оказался голубовато-серый свиязь величиной примерно с лысуху. Он питается морскими червями, которых во время отлива можно найти в тине, оставляемой морем; чтобы их легче заглатывать, на его клюве с обеих сторон есть особая перепонка. Грудка усыпана перышками стального цвета, на крыльях большое белое пятно. Четвертый и самый распространенный вид — небольшая коричневая утка, почти во всем схожая с английским чирком-трескунком[186].
Закончив обследование всех окрестных бухт и добыв достаточно рыбы и уток на ужин, мы поспешили к условленному месту встречи с капитаном, куда и добрались незадолго до наступления темноты. Из наших парусов и весел было сооружено нечто вроде палатки. Аппетит у нас был такой, что мы не стали особенно возиться, а приготовили рыбу à l'indiennе[187], то есть насадили на палочки и испекли на большом костре; получилось на редкость вкусно. Поев и подкрепившись ростковым пивом, бочонок которого был захвачен с собой, мы расположились на покой, конечно не столь удобно, как в своих постелях, но все же переночевали неплохо. На другое утро в бухту отправилась шлюпка пострелять дичь; охота удалась на славу, если не считать, правда, такой мелочи, как то, что порох отсырел и почти все утки от нас улетели. Ввиду такой неудачи капитан высадился на берег и пешком прошел по узкому перешейку, отделявшему эту бухту от другой, расположенной у северной стороны мыса Файв-Фингерс. Здесь он встретил так много водяных курочек, что сумел вознаградить себя за неудачную охоту на уток и привез с собой пару десятков. Правда, это стоило ему немалых трудов, так как надо было пробираться через заросли и кусты, нередко по пояс в воде.
В 9 часов все наши разрозненные группы опять собрались вместе, и было решено возвращаться на корабль. Однако в пути мы то и дело задерживались, чтобы исследовать каждый уголок, бухту, гавань, да еще пострелять уток, и потому вернулись на борт лишь в семь вечера. С этой двухдневной охоты мы принесли семь дюжин всевозможных птиц, в том числе около тридцати уток. Вся добыча была разделена между офицерами, младшими офицерами и матросами. Как мы могли убедиться, нигде в Новой Зеландии нет столько птиц, как в бухте Даски; помимо разных видов диких уток здесь водятся также бакланы, кулики-сороки, или морские сороки, водяные и лесные курочки, альбатросы, олуши, чайки, пингвины и другие водоплавающие птицы. Из сухопутных птиц здесь встречаются ястребы, попугаи, голуби, а также разные новые и неизвестные нам мелкие виды. Попугаи были двух разновидностей: маленький зеленый и очень большой серовато-зеленый с красноватой грудкой[188]. Поскольку эти птицы живут главным образом в теплых странах, мы были немало удивлены, увидев их здесь, под 46° широты, в столь неблагоприятном и сыром климате, какой бывает обычно в бухте Даски.
Следующий день выдался такой дождливый, что никто не смог покинуть корабль. А в понедельник погода была прекрасная, и мой отец решил взойти на гору, близ подножия которой мы брали воду. Полмили он поднимался, пробираясь сквозь папоротники, гниющие деревья и густые заросли, пока не увидел прекрасное озеро пресной воды шириной примерно в половину английской мили. Вода была чистая, вкусная, но из-за нападавшей в нее листвы она приобрела коричневатый цвет. Из рыб здесь была единственная разновидность, похожая на маленькую форель (Esox) без чешуи,— коричневая, усыпанная желтоватыми крапинками, напоминавшими древневосточные буквы. Все озеро было окружено густым лесом, состоявшим из очень больших деревьев; кругом возвышались горы разнообразных очертаний. Было пустынно, тихо, нигде ни звука, не пели даже обычные здесь птицы, ибо на такой высоте было уже очень холодно; растения не цвели. Словом, местность создана была для меланхолии, для глубокомысленных отшельнических раздумий.
Ввиду хорошей погоды наши добрые друзья-дикари вновь решили нас навестить. Они расположились на том же самом месте, где и восемь дней назад. Мы опять пригласили их на борт, и они ответили, что сделают это завтра. Между тем они, видно, поссорились. Мужчина ударил обеих женщин, которых мы считали его женами, девушка же ударила его, а затем начала плакать. Мы не знали причины ссоры; но если девушка была дочерью мужчины (чего мы выяснить не могли), то, возможно, в Новой Зеландии особые понятия о послушании детей. Однако скорее ближе к истине, что это обособленно живущее семейство вообще не руководствуется какими-либо строгими принципами или определенным порядком, кои обычно создаются лишь в цивилизованных обществах, но в каждом отдельном случае следует лишь голосу природы, а она противится любому угнетению.
Утром мужчина послал обеих женщин с детьми в каноэ на рыбную ловлю, сам же с девушкой решился наконец посетить наш корабль. Для этого они перешли с другой стороны бухты к сходням, что вели на борт судна. Оттуда их повели сначала к расположенному поблизости огороженному загону на горе, чтобы показать коз и овец. Они весьма удивились, увидав этих животных, и захотели их заполучить. Но, зная, что здесь для них нигде не найдется корма, мы не смогли пойти навстречу их желанию, ибо это значило пожертвовать скотом. Когда они вернулись оттуда к сходням, навстречу им вышли капитан Кук и мой отец. Мужчина приветствовал их, как положено, прикосновением носа к носу и подарил обоим новое одеяние, вернее, кусок ткани из волокон новозеландского льна, в который были искусно вплетены перья попугая. Капитану он, сверх того, дал кусок Lapis nephriticus, или новозеландского зеленого талькового камня[189], заостренного в виде клинка топора[190]. Прежде чем ступить на сходни, он отошел в сторону, вставил в ухо кусок птичьей кожи, на которой еще были белые перья, и сорвал с куста зеленую ветку. С этой веткой в руке он стал подниматься на корабль, но, дойдя до борта, остановился и дважды ударил веткой по нему и по закрепленным там снастям главной мачты. Затем он начал ритмично говорить нечто вроде речи, молитвы или заклинания, уставясь недвижным взглядом в то место, коего коснулся веткой. Он говорил громче обычного, и все его поведение было серьезным, торжественным. Церемония длилась 2—3 минуты, и все это время девушка, которая обычно смеялась и танцевала, стояла рядом с ним очень тихо, серьезно, не вставляя ни слова. Закончив речь, он еще раз ударил веткой о борт корабля, бросил ее на юта-рулень[191]и лишь затем поднялся на борт.
Обычай произносить торжественную речь, устанавливая таким образом, как мы поняли, мирные отношения, распространен у всех народов Южного моря. У обоих, мужчины и девушки, были в руках копья, когда они поднялись на палубу. Здесь они не переставали удивляться всему, что видели. Особенно заинтересовали их гуси в клетке. Немало внимания уделили они также красавице кошке, только гладили ее все время против шерсти, так что она вставала дыбом, хотя им и показали, как гладить правильно. Вероятно, они делали так, чтобы полюбоваться красивой густой шерстью животного.
Мужчина с изумлением рассматривал все, что было ему в новинку, но каждый раз задерживался взглядом на одном и том же предмете не более чем на мгновение, ибо многие наши изделия были для него так же непонятны, как и произведения природы. Особенно восхищали его возведенные одна над другой палубы нашего корабля, крепкое устройство их и других частей судна. Девушка, встретив господина Ходжса, чья работа при первой встрече так ей понравилась, подарила ему кусок ткани вроде той, что получили от мужчины капитан и мой отец. Обычай делать подарки вообще в Новой Зеландии не так распространен, как на небольших островах между тропиками; но было похоже, что это семейство не столько руководствуется общепринятыми для их народа обычаями, сколько поступает в каждом отдельном случае так, как ему подсказывает честный нрав, разум, а также положение; как-никак они находились в нашей власти. Мы убедили их войти в каюту; посовещавшись, они наконец согласились спуститься по трапу вниз и здесь продолжали удивляться всему, особенно же употреблению стульев, а еще тому, что их можно было переставлять с места на место. Капитан и мой отец подарили им топоры и разные другие вещи. Вещи мужчина бросил где попало и, уходя, забыл бы про них, если бы ему не напомнили; зато топоры, а также большие гвозди, едва получив, он уже не выпускал из рук.
Увидев, что мы собираемся завтракать, они сели с нами, но никакие уговоры не могли заставить их попробовать нашу еду. Особенно они интересовались, где мы спим. Капитан подвел их к своему гамаку, который еще висел натянутый, и доставил им немало удовольствия. Из каюты они спустились на вторую палубу, в оружейную камеру, и, получив там подарки, вернулись к капитану. Там мужчина извлек кожаный мешочек, вероятно, из тюленьей шкуры и с большими церемониями запустил в него пальцы, собираясь умастить капитану голову жиром; однако эта честь была отклонена: слишком неприятным показался нашим носам запах мази, хотя честный малый считал ее весьма благовонной и ценил этот подарок выше прочих; еще более усиливал отвращение грязный мешочек. Зато господину Ходжсу не удалось так просто отделаться. Девушка, на шее которой висел султан из перьев, смоченных в жире, настояла на том, чтобы надеть на него это украшение, и вежливость в отношении ее пола не позволила ему отклонить сей благоуханный подарок.
Затем мы оставили их осматривать корабль, как они желают, а сами с капитаном и несколькими офицерами отправились на двух шлюпках обследовать ту часть бухты, что находилась от нас к востоку. Чем глубже мы в нее входили, тем выше, круче и бесплоднее казались горы. Деревья становились все ниже и ниже, так что скоро их уже нельзя было отличить от кустов. В других местах обычно бывает наоборот: самые лучшие леса и самые крупные деревья встречаются в отдалении от берега. Отсюда особенно ясно была видна внутренняя цепь гор, которые мы назвали Южными Альпами, с их высокими, покрытыми снегом вершинами. Множество тенистых островков с небольшими бухтами и водопадами делали прогулку в этом рукаве залива необычайно приятной, а великолепный водопад, низвергавшийся против одного из островов с крутой, поросшей кустами и деревьями скалы, придавал особую живописность виду. Вода в этой протоке была совершенно спокойная, гладкая и чистая, так что весь пейзаж отражался в ней, и крутые скалистые горы романтических очертаний, красиво освещенные, восхищали нас разнообразием форм.
К полудню мы вошли в небольшую бухту половить рыбы и пострелять птиц, а оттуда поплыли на запад, покуда не достигли конца этого длинного рукава в виде красивой бухты, где было так мелко, что мы не могли туда войти и вынуждены были расположиться на первом же месте, к которому удалось пристать. В какой-то момент нам показалось, что здесь виден дым, но потом мы решили, что это ошибка. Стемнело, огня тоже нигде не было видно; мы пришли к выводу, что в сумерках нас ввели в заблуждение туман или какие-то испарения, и занялись устройством лагеря; каждому нашлась своя работа.
Поскольку в такие экспедиции мы отправлялись довольно часто, возможно, стоит здесь дать представление о том, как мы обычно устраивались на ночлег. Отыскав на берегу место, удобное для высадки, где были поблизости источник воды и топливо, мы первым делом выносили из шлюпки весла, паруса, плащи, ружья, топоры и т. п. Не забывали и о бочонке росткового пива, да и о бутылке водки. Затем матросы ставили шлюпку на маленький якорь и веревкой привязывали ее к какому-нибудь дереву. Тем временем одни из нас отправлялись на поиски сухих дров, что в таких сырых местах, как бухта Даски, не всегда бывало простым делом, другие ставили в сухом, по возможности укрытом от дождя и ветра месте палатку или навес из весел, парусов и крупных веток, третьи разводили перед палаткой костер, на что по большей части уходило немало труда и пороха. Приготовление ужина бывало обычно делом недолгим. Кто-либо из матросов чистил рыбу, ощипывал птиц, потом тех и других жарили. Тем временем сооружался и стол. Им обычно служила скамейка, взятая из шлюпки и чисто вымытая, после чего она могла служить вместо мисок и тарелок. Ножами и вилками чаще всего служили пальцы и зубы. Благодаря усиленной физической работе и свежему воздуху у нас был отменный, здоровый аппетит; он отучил нас от излишней заботы о чистоте и от брезгливости, которую, возможно, вызовет у благовоспитанного читателя описание подобного образа жизни; никогда прежде мы не сознавали с такой ясностью, как мало надобно на самом деле природе человека. Поев, мы некоторое время слушали, как на свой лад веселятся матросы; они ужинали лежа вокруг костра, и рассказывали разные забавные истории, сопровождая свои рассказы проклятиями, божбой, всякими грязными выражениями; но настроение от этого обычно улучшалось. В палатке стелили папоротник, мы закутывались в плащи, вместо подушек подкладывали под головы ружья и мешочки с порохом, и каждый по-своему предавался сну.
На рассвете капитан Кук и мой отец в сопровождении двух матросов отправились в маленькой шлюпке обследовать вершину бухты. Там они нашли довольно большой участок ровной земли, высадились и велели матросам плыть на другую сторону мыса, где лодка должна была их ждать. Вскоре они увидели диких уток, подобрались к ним через кусты и одну подстрелили, но едва открыли огонь, как со всех сторон послышались ужасные крики. Они ответили тоже криками и, захватив утку, благоразумно поспешили скорее к лодке, находившейся от них по меньшей мере в полумиле. Дикари, поднявшие крик, продолжали голосить, но самих их не было видно; как выяснилось впоследствии, островитян отделяла глубокая река, к тому же их было не так много, чтобы предпринять враждебные действия.
Тем временем мы искали растения в лесу неподалеку от места нашего ночлега. Услышав крики дикарей, мы кинулись к другой оставшейся у нас шлюпке и поспешили на подмогу капитану и моему отцу. Когда мы подоспели, они уже находились в своей лодке в полном здравии, врагов нигде не было видно; поэтому мы вместе поднялись вверх по реке и настреляли достаточно уток, которых здесь множество. Наконец на левом берегу показался мужчина, а с ним женщина и ребенок. Женщина махала нам белой птичьей шкуркой, вероятно в знак мира и дружбы. Поскольку шлюпка, в которой находился я, была ближе всего к дикарям, капитан Кук крикнул командовавшему ею офицеру, чтобы тот высадился на берег и завязал сношения с туземцами; сам он собирался как можно дальше обследовать течение реки. Возможно, офицер не понял капитана Кука, а может, он слишком увлекся охотой на уток — сказать не берусь. Как бы там ни было, на берег мы не высадились, и бедняги, ничего, видимо, хорошего не ожидая от незнакомцев, которые пренебрегли предложенным ими миром, поскорее убежали обратно в лес. Я в тот раз особенно обратил внимание, что и это племя, как почти все народы Земли, словно сговорились, считают белый цвет или зеленые ветви знаком мира; имея при себе то и другое, они спокойно выходят навстречу чужеземцам. Такое сходство, видимо, должно было возникнуть до всеобщего рассеяния рода человеческого; во всяком случае, это очень напоминает договоренность, потому что ни белый цвет сам по себе, ни зеленые ветви не имеют к понятию дружбы непосредственного отношения[192].
Капитан между тем отплыл на веслах еще полмили выше, но сильное течение и большие камни, усеявшие русло, не позволили ему продвинуться дальше. Он привез нам оттуда новую разновидность уток, уже пятую, встреченную нами в бухте Даски: немного поменьше чирка-свистунка, с блестящей зеленовато-черной спинкой, на брюшке же темно-серую. Перья на голове у нее были блестящие, пурпурные, клюв и лапы свинцового цвета, глаза золотисто-желтые, а по меньшим маховым перьям шла белая полоса[193].
Едва капитанская шлюпка присоединилась к нам, как на другом берегу реки, против места, где мы видели дружелюбное семейство, из лесу появились двое мужчин. Капитан, стремившийся завести с ними знакомство, направился к берегу, однако с приближением лодки они скрылись в зарослях, столь густых, что увидеть их было невозможно, последовать же за ними было бы явно неосторожно. Между тем прошло время прилива; отлив помог нам вернуться к месту нашего ночлега. Там мы слегка позавтракали, а затем сели в шлюпку и решили возвратиться на корабль. Едва мы отчалили от берега, как оба дикаря, которые, видимо, перешли на эту сторону мыса через лес, появились на открытом месте и стали кричать нам. Капитан тотчас велел обеим шлюпкам грести к ним. Однако его шлюпка села на мель. Тогда он без оружия, держа в руке только лист белой бумаги, вышел из нее и в сопровождении двух человек вброд пошел к берегу. Оба дикаря стояли с копьями в руках шагах в ста от воды. Когда капитан с двумя своими спутниками стали приближаться к ним, они отступили назад. Решив, что те опасаются такого большого числа людей, капитан велел своим спутникам остановиться и пошел вперед один. Однако дикари все еще не расставались с копьями. Наконец один, собравшись с духом, воткнул копье в землю и вышел навстречу капитану с каким-то зеленым растением в руке; один конец этого растения он протянул капитану, а сам, продолжая держать другой, громким голосом начал торжественную речь, длившуюся минуты две. Несколько раз он прерывал ее, вероятно ожидая ответа. По окончании этой церемонии они приветствовали друг друга; новозеландец снял со своих плеч новый плащ и подарил его капитану, получив в ответ топор. Таким образом мир и дружба были установлены, после чего второй дикарь тоже осмелел. Он приветствовал капитана и тоже получил от него в подарок топор. Теперь многие наши спутники вышли из лодок на берег, но туземцев такая многочисленность уже ничуть не беспокоила, они очень искрение приветствовали каждого подходившего. В лесу были теперь видны и другие, но, похоже, только женщины. Мужчины несколько раз знаками приглашали нас к своим жилищам, показав, что хотят нас угостить, однако отлив и другие обстоятельства не позволили нам воспользоваться их приглашением. Мы попрощались, и они проводили нас к лодкам; однако, увидев лежавшие на корме мушкеты, они не решились подойти ближе и знаками попросили убрать их. Как только это было сделано, они приблизились и помогли нам столкнуть шлюпки в воду, которая из-за отлива отступила от берега. В это время нам пришлось следить за своими вещами, так как они готовы были стащить все, что попадалось под руку, только к мушкетам они не решались прикасаться, наверно потому, что видели, как мы стреляли в лесу уток, и считали их орудием смерти.
Насколько мы могли видеть, у них не было лодок, средством передвижения им служили несколько связанных в виде плота древесных стволов; это, конечно, вполне годилось для плавания по реке, но вряд ли для чего-нибудь большего. Впрочем, рыбы и птицы здесь так много, что за ними не надо ходить далеко; к тому же островитян обитало тут не более трех семей. А поскольку в бухте Даски почти нет других жителей, кроме разве еще нескольких семейств, они могут не бояться злых соседей и потому не нуждаются в средствах передвижения, которые помогали бы им быстро убегать от врагов или часто менять место жительства.
Вид этих людей показался нам довольно диким, но не безобразным. У них густые волосы и черные курчавые бороды. А цветом лица, напоминавшим красное дерево, одеждой и всем остальным они совершенно походили на семейство с острова Индейцев: среднего роста, крепкого сложения, однако бедра узкие, ноги очень тонкие, только колени несоразмерно толсты. Этому народу присуща своеобразная храбрость. При всей их слабости и малочисленности для них как будто невыносима мысль, что «надо прятаться», во всяком случае они не скрываются, не попытавшись вначале установить связь с чужеземцами и выведать их намерения. Здесь так много островов и бухт, а леса повсюду такие густые, что мы никак не могли бы обнаружить семейство на острове Индейцев, если бы оно само не открылось и не сделало бы первых шагов к знакомству. Так мы покинули бы и эту бухту, не узнав, что она обитаема, если бы туземцы, услышавшие выстрелы наших мушкетов, не окликнули нас. В обоих случаях, на мой взгляд, они проявили открытость, смелость, чистосердечие, которые делают честь их характеру; ведь будь им присуще хотя бы малейшее коварство, они бы попытались напасть на нас внезапно, недостатка в возможностях для этого у них отнюдь не было. Они, например, не раз могли достаточно легко застать врасплох наши отдельные маленькие группы, бродившие повсюду в лесах.
Был уже полдень, когда мы попрощались с нашими новыми знакомыми и опять направились на север по длинному морскому рукаву, съемку которого капитан Кук продолжал по пути. Тем временем стало темнеть; поэтому пришлось оставить необследованным другой такой же рукав и вернуться на корабль. Добрались мы до него лишь к 8 часам вечера. Нам рассказали, что дикарь с девушкой оставался на борту до полудня, когда же ему объяснили, что в бухте Водопада в его двойном каноэ оставлены кое-какие подарки, он послал за ними людей, сам же со своим семейством вплоть до нынешнего утра оставался неподалеку от корабля. Потом он опять куда-то пропал, и это было тем более странно, что мы отпустили их не с пустыми руками, а подарили им в общей сложности девять или десять топоров и по крайней мере вчетверо больше крупных гвоздей и всякой другой всячины. Эти предметы необычайно высоко здесь ценятся, так что этот человек стал самым богатым во всей Новой Зеландии, потому что такого количества железных изделий не нашлось бы у всех островитян, вместе взятых.
Бухта Даски малообитаема, поэтому отдельные семейства, вероятно, ведут кочевой образ жизни, из-за рыбной ловли или по другим причинам переселяясь в зависимости от времени года с одного места на другое. Мы хотели думать, что только это и было причиной исчезновения наших друзей; однако выяснилось иное: перед своим отбытием дикарь с помощью знаков дал понять, что собирается кого-то убить и топоры нужны ему для этой цели. Если его верно поняли, это сразу сводило на нет приятные надежды хоть в какой-то мере способствовать земледелию и облегчить прочий труд, раздавая полезные инструменты. Кроме того, казалось весьма странным, почти непонятным, что семья, жившая обособленно от всего мира в просторной бухте, где у нее при ее малочисленности и малых потребностях не было недостатка ни в продуктах питания, ни в чем-либо другом необходимом для жизни, так что она могла жить в своем уединении мирно и счастливо,— что эта семья тем не менее замышляла смертоубийство и войну со своими соседями. Пребывая в глубоком варварстве, новозеландцы признают лишь закон сильного; возможно, потому они, более чем какой-либо другой народ на Земле, склонны то и дело убивать себе подобных, побуждаемые жаждой мести либо оскорбленными чувствами, а дарованный им природой дикий нрав оказывается причиной того, что эти жестокие замыслы редко не доводятся до исполнения.
Я не могу забыть и не привести здесь примера удивительной храбрости человека, который теперь от нас ушел. Наши офицеры не раз стреляли при нем из мушкета. Однажды он сам захотел попробовать выстрелить, и ему дали мушкет. Девушка, которую мы считали его дочерью, на коленях, с явным испугом стала его отговаривать. Однако он не отказался от своего намерения и сделал три или четыре выстрела. Эта воинственность, равно как характерный для всего племени вспыльчивый темперамент, не позволяющий перенести даже малейшего оскорбления, видимо, и принуждает и другие семейства, которые мы встречали по берегам этого длинного морского рукава, отделяться от своих соплеменников. Когда дикие народы воюют друг с другом, то одна сторона обычно не успокаивается, покуда полностью не уничтожит другую или же не заставит ее спасаться бегством. Возможно, так было и с обитателями бухты Даски; тогда их исчезновение скорее всего было связано с желанием отомстить врагам и притеснителям.
Рано утром 23-го несколько офицеров, а также доктор Спаррман отправились в бухту Водопада, чтобы там подняться на одну из самых высоких вершин. Около двух часов они достигли ее и, чтобы известить об этом, разожгли большой костер. Мы охотно пошли бы с ними, однако понос и колики вынудили нас остаться на борту. Причиной того и другого была небрежность повара, который позволил всей нашей медной кухонной посуде покрыться ярь-медянкой[194]. Тем не менее к вечеру нам настолько полегчало, что мы смогли выйти встретить участников похода к самой бухте Водопада, а затем вместе с ними с растениями и птицами вернулись на корабль. Тем временем огонь, разложенный на горе в качестве сигнала, перекинулся на кустарник, и вокруг вершины распространилось кольцо пламени; это послужило красивой иллюминацией в честь праздника св. Георгия[195].
Вернувшиеся рассказали, что с вершины просматриваются весь залив и все море по ту сторону гор на юг, юго-запад и северо-запад более чем на 20 морских миль в окружности, чему в тот день способствовала ясная, хорошая погода. Горы в глубине страны имели вид весьма неплодородный, они представляли собой большие дикие каменистые гряды, а вершины их были покрыты снегом. Однако на вершине той горы, куда они поднялись, всюду встречались мелкий кустарник и альпийская растительность, которой в других местах мы не видели. Несколько ниже начинались более высокие заросли, еще дальше внизу они встретили место, где все деревья вымерли, затем шел зеленый лес, который становился выше и красивее по мере того, как они спускались. Переплетение лиан и колючих кустов затрудняло подъем, спуск же был опасен из-за обрывов, по которым им не раз приходилось сползать, цепляясь за деревья и кусты. Довольно высоко в горах им встретились три-четыре дерева, которые они сочли пальмами; одну срубили и полакомились ее верхушечной почкой. Однако, по существу, эти деревья не относятся к настоящим капустным пальмам (Cabbage palms) и к пальмам вообще, поскольку те растут только в более теплом климате; это, в сущности, новая разновидность широколиственного драконова дерева (Dracaena australis). Мы потом встречали в этой бухте много таких деревьев, их верхушечная почка, длинная и нежная, почти как миндальный орех, вкусом немного напоминает капусту[196].
На следующее утро я сопровождал капитана Кука к бухте, расположенной в северо-западной части залива; из-за некоторых обстоятельств она была названа Гусиной. Дело в том, что у нас еще оставалось пять живых гусей из числа захваченных на мысе Доброй Надежды, мы хотели оставить их в Новой Зеландии, дабы они тут размножились и одичали. Для подобной цели наиболее удобной показалась нам эта бухта, поскольку там никто не жил, а корма было много. Мы выпустили гусей на берегу для блага будущих мореплавателей и жителей Новой Зеландии, сказав: «Плодитесь и размножайтесь и заселяйте землю!» Едва оказавшись на суше, они стали искать в иле корм и, судя по всему, должны были почувствовать себя хорошо в этом отдаленном уголке; можно было надеяться, что со временем они, как мы и хотели, распространятся по всему острову. Остаток дня мы провели, охотясь на птиц, и подстрелили белую цаплю (Ardea alba), распространенную в Европе[197].
Хорошей погоде, державшейся восемь дней подряд, 25-го пришел конец. Вечером начался дождь и лил до следующего полудня. Похоже, что в бухте Даски хорошая погода, особенно в это время года, редко держится так долго, во всяком случае ни до, ни после этого она не бывала хорошей два дня подряд. Предчувствуя это, мы использовали погожие дни для пополнения запасов топлива и воды, а также привели в порядок паруса на корабле. Все наши люди работали на борту; сходни были убраны, и мы вышли на середину бухты, намереваясь с первым попутным ветром поднять паруса.
Трудно представить более явные доказательства превосходства цивилизованного состояния человека над диким, нежели перемены и улучшения, произведенные нами в этих местах. За несколько дней считанная горстка наших людей вырубила столько леса на более чем моргене земли, сколько полсотни новозеландцев со своими каменными орудиями не одолели бы и за три месяца. Пустынный и дикий угол, где бесчисленные растения вырастали и гибли, предоставленные сами себе, мы превратили в пригодное для житья место, где постоянно были чем-то заняты сто двадцать человек.
Quales apes aestate nova florea rurа Exercet sub solo labor. Virgil[198]Мы срубили строевой лес, который без нас сгнил бы и упал. Наши плотники изготовили из него доски, остальное пошло на топливо. На берегу бурного ручья, для которого мы устроили более удобный сток в море, стояли изделия наших бондарей — целый ряд новых или отремонтированных бочек, наполненных водой. Здесь же дымился большой котел, в коем из местных растений, на которые прежде не обращали внимания, варился здоровый, вкусный напиток. Неподалеку матросы готовили превосходную рыбу для своих товарищей, часть которых работала по бортам и на мачтах корабля, чистила, конопатила, приводила в порядок такелаж. Люди, занятые разнообразным трудом, оживляли вид, слышались всевозможные звуки, и ближняя гора громким эхом откликалась на мерные удары кузнечных молотов.
В этой новой колонии расцвели даже изящные искусства. Один начинающий художник[199] зарисовал, как умел, животных и растения, встреченные в здешних неисследованных лесах; романтические же виды дикой девственной страны удостоились пламенной кисти, и природа дивилась на мольберт художника (господина Ходжса), где была воспроизведена столь верно. Высокие науки тоже почтили своим присутствием эту дикую глушь. Здесь была воздвигнута обсерватория, оснащенная лучшими инструментами, с помощью которых астрономы — в неусыпном усердии — наблюдали за ходом звезд. Растения, порожденные здешней почвой, и чудеса животного мира, встреченные в лесах и в море, занимали умы философов, кои проводили многие часы, исследуя их особенности и пользу[200]. Словом, всюду, куда ни бросишь взгляд, можно было увидеть расцвет искусства и восход науки на земле, до сих пор пребывавшей в ночи невежества и варварства!
Но недолго длилась эта прекрасная картина, возвысившая человечество и природу. Она исчезла словно метеор, так же быстро, как и возникла. Мы унесли свои инструменты и орудия обратно на корабль, и, кроме клочка суши, очищенного от леса, не осталось никаких следов нашего здесь пребывания. Правда, мы посеяли на берегу семена лучших сортов кое-каких европейских садовых растений, но, скорее всего, сорняки довольно быстро должны были заглушить их; через несколько лет мы вряд ли смогли бы узнать место нашей стоянки, которую вновь поглотит первоначальный хаос этих мест. Sic transit gloria mundi[201]! С точки зрения разрушительного будущего нет большой разницы , между мгновением и столетием!
Прежде чем окончательно распрощаться с этими берегами, хочу привести следующие астрономические замечания из дневника капитана Кука.
«Обсерватория, которую мы устроили в бухте Пикерсгилл, находилась под 45° 47' 261/2" южной широты и 166° 18' восточной долготы по Гринвичу. Здесь выяснилось, что хронометр Кендалла показывает долготу на 1°48', а хронометр Арнольда — всего на 39' 25" меньше той, которая указана на карте. На мысе Доброй Надежды хронометр Кендалла, к общему удивлению, показывал с точностью до минуты долготу, которую астрономическим путем определили и вычислили там Мезон и Диксон. Однако необходимо заметить, что ход хронометра не всегда был постоянным, поэтому на месте каждой новой стоянки приходилось делать наблюдения, чтобы внести поправку. Большое отклонение, обнаруженное в бухте Даски, отчасти связано с нашим предположением, что хронометр Кендалла имеет постоянный суточный ход (meantime), тогда как еще на мысе Доброй Надежды выяснилось, что это уже не так. Теперь наш астроном господин Уолс установил, что хронометр Кендалла ежедневно спешит на 6,461", тогда как хронометр Арнольда, суточный ход которого подвержен большим колебаниям, отстает на 99,361"».
27-го был открыт новый проход к морю на севере, и, поскольку он оказался удобнее того, которым мы пришли сюда, мы решили воспользоваться им и 29-го пополудни подняли якорь, намереваясь плыть дальше вдоль бухты. Однако ветер внезапно стих, поэтому пришлось опять стать на якорь на глубине 43 саженей под северным берегом острова, который мы назвали Лонг-Айленд, примерно в 2 милях от бухты, где мы находились до сих пор. На следующее утро подул легкий западный ветер, и в 9 часов мы подняли якорь; однако ветер был такой слабый, что всех наших шлюпок, которые буксировали корабль, едва хватало, чтобы преодолеть встречное течение. К 6 часам вечера нам с большим трудом удалось продвинуться не далее чем на 5 миль и поэтому пришлось опять бросить якорь возле того же самого острова, шагах в ста от берега.
На рассвете мы попытались лавировать против легкого ветра, дувшего вдоль бухты, по вскоре он совсем стих, и течение понесло нас назад, причем корма корабля оказалась возле отвесной скалы, в глубоком месте, но так близко от берега, что флагшток запутался в ветвях дерева. Шлюпкам удалось отбуксировать судно, которое не потерпело никакого ущерба, и мы снова бросили якорь ниже того места, где стояли прошлой ночью, в маленькой бухточке на северном берегу Лонг-Айленда. Здесь мы обнаружили две хижины и два очага, из чего можно было заключить, что здесь еще недавно жили.
Мы встретили также разных новых птиц и рыб, в том числе некоторые европейские разновидности ставрид, а также пятнистых и гладких акул (Scomber trachurus, Squalus canicula и Squalus mustelus Linn.). У капитана началась лихорадка и сильные боли в ноге, которые перешли в ревматический отек правой ноги и, вероятно, были вызваны тем, что он так много ходил по воде, а затем в мокрой одежде долго сидел без движения в лодке.
Штиль и непрекращающиеся дожди задержали нас в бухте до 4 [мая] пополудни. Потом наконец с юго-запада подул легкий ветер; но едва мы с его помощью продвинулись до выхода в море, как он опять переменился и начал дуть навстречу, так что пришлось нам вновь бросить якорь на восточной стороне прохода у песчаного берега. Такие повторявшиеся стоянки давали нам возможность обследовать берега, и никогда мы не возвращались, не обнаружив новых богатств животного и растительного мира.
Ночью нам пришлось выдержать несколько сильных шквалов с дождем, градом и снегом; порой гремел гром, а когда рассвело, мы увидели, что все горы вокруг покрыты снегом. В 2 часа пополудни поднялся легкий ветер с зюйд-зюйд-веста; с помощью наших шлюпок он вынес нас через проход в открытое море, где мы в 8 часов вечера отдали якорь у крайнего мыса. Берега прохода были с обеих сторон круче всех, виденных нами до сих пор; их дикий пейзаж украшали тут и там бесчисленные водопады и множество драконовых деревьев.
Поскольку капитан из-за своего ревматизма не мог выходить из каюты, он послал офицера исследовать южный морской рукав, который поворачивал от найденного нами нового прохода к востоку в глубь страны. Мой отец и я тоже приняли участие в экспедиции. В наше отсутствие по приказу капитана была произведена приборка всех межпалубных помещений. С помощью огня здесь был очищен и освежен воздух — предосторожность, которую никогда нельзя забывать в сыром и суровом климате. Тем временем мы поднялись на веслах по новому рукаву, наслаждаясь зрелищем прекрасных водопадов по обоим берегам. Мы нашли несколько хороших мест для стоянок, а также всюду видели много рыбы и пернатой дичи. Зато лес, в основном низкорослый, уже начал заметно пустеть, большая часть листвы облетела с ветвей, а та, что еще оставалась, была увядшей и пожелтевшей. Такого рода приметы наступающей зимы особенно бросались в глаза в этой части залива; но очень может быть, что впечатление столь ранней зимы создавалось благодаря соседству высоких гор, уже покрытых снегом.
В 2 часа мы вошли в бухту, чтобы приготовить на обед немного рыбы, а затем, подкрепившись, плыли до самого вечера дальше, решив заночевать неподалеку от конца этого морского рукава, на небольшом участке ровного берега. Хотя мы разожгли костер, поспать нам почти не удалось, ибо ночь выдалась очень холодная, а наши ложа были слишком жесткие. На другое утро мы направились на север к маленькой бухте, где заканчивался этот морской рукав протяженностью около 8 миль. Там мы некоторое время постреляли птиц и уже собирались возвращаться на «Резолюшн», как хорошая погода внезапно испортилась, с северо-запада пришла буря со шквалистым ветром и сильным дождем. Мы поскорей постарались вернуться в морской рукав, а добравшись до начала прохода, где стоял на якоре корабль, разделили остаток бутылки рома с нашими гребцами, дабы их подбодрить, поскольку от этого места до корабля оставалась самая трудная часть пути. Подкрепившись таким образом, мы уверенно двинулись дальше; однако волны, заходившие сюда из открытого моря, были на редкость сильные и высокие, а ветер, от которого теперь не защищал берег, дул такой, что, несмотря на все наши усилия, он за считанные минуты отнес нас на полмили назад. Положение было опасное, в любую минуту шлюпка могла перевернуться и затонуть, поэтому больше всего мы были бы рады вернуться опять в протоку, которую недавно столь опрометчиво покинули. С невероятным трудом нам это удалось, и примерно в 2 часа пополудни мы наконец вошли в небольшую славную бухту у северной стороны рукава. Здесь мы поставили шлюпку в безопасное, насколько это было возможно, место и решили устроиться пообедать. С этой целью мы взобрались на голый утес и разожгли костер, чтобы испечь немного рыбы; но, хотя мы до костей промокли и ужасно мерзли на резком ветру, стоять близко у огня не было никакой возможности; ветер постоянно взвихривал пламя, и нам то и дело приходилось уклоняться, чтобы не обожгло. Наконец ветер так усилился, что на открытом месте стало почти невозможно стоять прямо. Чтобы обезопасить шлюпку и себя, мы решили поискать убежища на другой стороне бухты и устроить ночевку в лесу. Каждый захватил по головне, и мы поспешили к шлюпке. Наверно, вид у нашей процессии был довольно зловещий, нас можно было принять за лихих людей, вышедших на какое-нибудь страшное дело. Увы, в лесу оказалось еще хуже, чем на скале, с которой нас прогнала буря; здесь было так сыро, что едва удавалось поддерживать огонь. Негде было укрыться от дождя, с удвоенной силой лившего на нас теперь еще и с деревьев, и мы задыхались от дыма, который из-за ветра не мог подниматься вверх. Словом, нечего было и помышлять об ужине; голодные, полузамерзшие, мы вынуждены были завернуться в свои мокрые плащи и лечь на сырую землю. Сколь ни плачевно было такое положение, особенно для тех из нас, у кого от холода начались ревматические боли, каждый был до того обессилен, что мгновенно заснул.
Было, наверно, около двух ночи, когда сильный раскат грома разбудил нас. К тому времени буря разыгралась вовсю и перешла в настоящий ураган. Вокруг вырывало с корнем громадные деревья и с ужасным треском валило их на землю, завывало в густых ветвях так громко, что порой почти не было слышно страшного рева волн. Беспокоясь о шлюпке, мы отважились в непроглядной темени пойти к берегу; вдруг вспышка молнии на миг осветила весь залив, и мы увидели, как по голубым горам на разной высоте, пенясь, бегут бурные потоки. Казалось, что все стихии, объединившись, грозят гибелью природе.
S'odono orrendi tuoni, ognor piu cresce Non han piu gli elementi ordine о segno De'fieri venti il furibondo sdegno. Increspa e inlividisce il mar la faccia E s'alza contra il ciel che lo minieccia. Tassone[202]Вслед за молнией раздался самый сильный удар грома, какой нам когда-либо приходилось слышать; его долгие страшные раскаты семикратно отозвались в нагромождениях окрестных скал. Мы словно застыли на месте, сердца наши бились при мысли, что буря или эта молния могли уничтожить корабль; тогда, нам пришлось бы оставаться в этой пустынной части мира и дожидаться здесь погибели. В таких вот страхах провели мы остаток ночи, которая показалась нам самой долгой в нашей жизни.
Наконец часам к 6 утра буря начала утихать, и, едва забрезжил рассвет, мы сели в шлюпку и довольно скоро добрались до корабля, который, к счастью, не получил никаких повреждений, хотя из-за шторма пришлось убрать брам-реи и нижние реи. Морской рукав, который мы теперь занесли на план и в котором провели столь скверную ночь, получил название Вет-Джекит-Ам [Мокрый рукав] — на память о наших промокших насквозь куртках.
Теперь оставалось обследовать только один рукав к северу от упомянутого. Поскольку капитан теперь чувствовал себя получше, он решил сам выполнить последнюю в здешних местах работу. Милях в 10 от входа в эту протоку угадывался выход из нее. Здесь тоже было много удобных бухт, свежая вода, лес, рыба и птица. Возвращаться пришлось против ветра под сильным дождем; около 9 часов вечера, промокшие до нитки, они вернулись на борт.
Наутро небо прояснилось, но ветер оставался встречным, не позволяя выйти в море. Поэтому капитан решил еще раз отправиться в залив, чтобы пострелять птиц, и мы присоединились к нему. Охота заняла целый день и оказалась довольно удачной, в то время как офицеры, захотевшие поохотиться в других местах, вернулись почти с пустыми руками.
На следующий день ветер по-прежнему дул с запада, причем довольно сильно, так что капитан предпочел опять не выходить в море. Вместо этого после полудня, когда ветер стал немного слабее, он направился к острову, лежавшему у входа в залив, чтобы поохотиться на тюленей. С помощью команды он убил их около десятка, но взять с собой смог только пять, на остальных не хватило места в шлюпках.
Ночью выпал снег и покрыл почти сплошь все горы; казалось, будто совсем наступила зима. Погода была ясная, воздух холодный, но ветер дул попутный, и капитан приказал сниматься с якоря. Тем временем была послана шлюпка, чтобы подобрать убитых накануне тюленей. Когда она вернулась, мы окончательно покинули бухту Даски и уже к полудню находились в открытом море.
Итак, мы провели здесь шесть недель и четыре дня, в изобилии обеспеченные свежей едой, все время в трудах и в движении. Несомненно, это весьма способствовало выздоровлению тех, кто ко времени нашего прибытия сюда страдал от цинги, и укрепило силы остальных. Но вряд ли нам удалось бы поддерживать здоровье и бодрость без росткового пива, поскольку, если говорить по правде, климат в бухте Даски оставляет желать лучшего. Во всяком случае, здоровым его не назовешь хотя бы потому, что за все время нашего здесь пребывания лишь одну педелю держалась хорошая погода, а все остальное время шли дожди. Однако наши люди страдали от такой погоды безусловно меньше, чем кто-либо другой, поскольку англичане и у себя на родине привыкли по большей части к сырости. Другим недостатком бухты Даски можно считать то, что здесь нет ни дикого сельдерея, ни ложечницы, ни других антицинготных растений, которые так часто встречаются в проливе Королевы Шарлотты [пролив Кука] и в других местах Новой Зеландии. Немало неприятностей доставляют и мошки, ядовитые укусы которых вызывают настоящие нарывы, как при оспе. Плохо также, что здесь нет ничего, кроме лесов, диких и непроходимых; наконец, что горы здесь ужасно круты и, следовательно, не могут быть обжиты. Однако все эти обстоятельства, особенно два последних, неприятны скорее для обитателей этой страны, нежели для мореплавателей, которые лишь ненадолго решили бросить здесь якорь и подкрепить силы; для таких путешественников бухта Даски, несмотря на все свои недостатки, всегда окажется хорошим прибежищем, особенно если им, подобно нам, доведется долго не видеть земли и провести много месяцев в открытом море, то и дело борясь с трудностями. Проход в нее надежный, нет никаких опасных камней, скрытых под водой, повсюду столько гаваней и бухт, что всегда легко найти место для якорной стоянки, где будет достаточно леса, воды, рыбы и птицы.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Плавание от бухты Даски к проливу Королевы Шарлотты.— Воссоединение с «Адвенчером».— Рассказ о том, что происходило у них
Как только вернулась шлюпка с тюленями, мы подняли паруса и поплыли на север, сопровождаемые стаями черно-коричневых альбатросов и голубых буревестников. С юго-запада накатывали огромные волны. Чем дальше мы уходили вдоль берега, тем ниже казались горы, а термометр за первые двадцать четыре часа поднялся на 7 1/2°: когда мы покидали бухту Даски, он показывал 46°[7,7°С], а на другой день в 8 утра — 53 1/2° [11,9°С]
14-го мы находились близ мыса Фаулвинд, что значит «встречный ветер»; как бы оправдывая это название, ветер переменился и стал дуть нам навстречу. Он бушевал весь день 16-го, и все это время мы лавировали около мыса Рокс-Пойнт.
На другое утро в 4 часа ветер опять стал попутным, мы направились на восток и около 8 утра находились как раз напротив мыса Феруэлл. Берег здесь был низменный и пустынный, но в глубине виднелись высокие горы с заснеженными вершинами. Целые стаи маленьких ныряющих буревестников (Procellaria tridactyla, Little diving petrels) летали или плавали вокруг нас, а иногда ныряли, проплывая с достойной изумления скоростью под водой большие расстояния. Внешне они напоминали тех, что мы видели 29 января и 8 февраля, когда под 48° южной широты искали остров Кергелен.
В 4 часа пополудни, когда мы находились где-то недалеко от мыса Стефенс, ветер почти утих, а порой и вовсе не чувствовался. На юго-западе были видны плотные облака, а в южной части мыса шел дождь. Некоторое время спустя мы вдруг увидели в этой стороне на поверхности моря беловатое пятно, из которого поднялся водяной столб, напоминавший видом стеклянную трубу. Другой подобный столб, состоявший из тумана, опустился из облаков, как будто желая соединиться с первым. Это действительно произошло; так возникло атмосферное явление, называемое водяной смерч. Вскоре мы увидели еще три подобных столба, возникших таким же образом. Ближайший находился от нас примерно в 3 английских милях, у основания он имел в поперечнике около 70 клафтеров[203]. Когда этот феномен начал формироваться, термометр показывал 56 1/2° [13,6°С]. Поскольку природа и происхождение его до сих пор так мало известны, нам следует обращать внимание на все, даже ничтожные обстоятельства, с ним связанные. Основание столба, где вода находилась в сильном движении и по витой (спиралевидной) линии поднималась, подобно пару, вверх, образовывало на поверхности моря большое пятно, которое при свете солнца приобретало красивый желтоватый оттенок. Сами столбы имели цилиндрическую форму, однако вверху они были толще, нежели внизу. Они довольно быстро продвигались по поверхности моря, но с иной скоростью, чем облака, и потому принимали изогнутое, косое положение. Часто они проходили рядом один с другим в разных направлениях, а так как было безветренно, мы пришли к выводу, что каждый из этих водяных смерчей производит собственный ветер или таковым движется. Наконец они один за другим распались, вероятно потому, что верхняя часть двигалась обычно несравненно медленнее нижней, так что колонны становились слишком скошенными и слишком растягивались в длину.
По мере того как черные облака приближались к нам, на море появились небольшие кудрявые волны, ветер постоянно менялся, дул то с одной стороны, то с другой. Сразу вслед за этим мы увидели, как примерно в двухстах клафтерах от нас море пришло в сильное движение. Вода крутилась там на площади поперечником в 50—60 саженей вокруг центральной точки и затем превращалась в водяную пыль, которая силой вращательного движения поднималась к облакам в форме витой колонны. В это время на корабль посыпался град, а облака над нами были черные и тяжелые. Прямо над одним из водоворотов облако медленно опустилось, все более и более принимая вид длинной тонкой трубы. Казалось, эта труба хочет соединиться с вихрем водяной пыли, который между тем поднялся высоко из воды; прошло немного времени, и они действительно соединились, образовав вертикальную цилиндрическую колонну. Можно было отчетливо видеть, как вода внутри вихря с силой вздымается вверх; похоже было, что внутри там образовалось полое пространство. Нам показалось вероятным, что вода образует не плотную, а полую колонну; это предположение подтверждал также ее цвет, которым она весьма напоминала прозрачную стеклянную трубу. Вскоре затем и этот последний водяной смерч наклонился и распался, подобно другим, с той лишь разницей, что столб разорвался, можно было видеть вспышку молнии, за которой, однако, не последовало грома.
Все это время наше положение было весьма опасным и тревожным. Грозное величие атмосферного явления, связавшего море и облака, смутило даже самых старых наших моряков. Они не знали, что делать и как быть. Издалека мы наблюдали такие смерчи и прежде, но никогда еще они не окружали нас вплотную, и каждому вспоминались страшные истории об ужасных опустошениях, которые производили эти вихри, когда проходили через судно или сталкивались с ним. Мы в самом деле приготовились к худшему и взяли на гитовы[204] все паруса. Однако каждый думал, что это нам мало поможет и что, если мы попадем в такой смерч, он переломает все мачты и реи. Существовало мнение, будто пушечный выстрел, производя сильное сотрясение воздуха, способен рассеять смерч. Поэтому было приказано привести в готовность четырехфунтовую пушку, но, поскольку с ней, как это бывает, долго провозились, опасность успела миновать прежде, чем удалось поставить опыт.
В какой мере причиной этого явления можно считать электричество, мы установить не смогли, но, что оно вообще должно тут играть какую-то роль, можно заключить хотя бы по молнии, которую было ясно видно, когда распадался последний водяной столб. От возникновения первого из них и до исчезновения последнего прошло три четверти часа. Когда около 5 часов появился последний смерч, термометр показывал 54° [12,2°C], то есть на 2 1/2° меньше, чем при возникновении первого. Море в том месте, где мы тогда находились, имело глубину 36 саженей, а местность по характеру напоминала другие места, где путешественники наблюдали подобные водяные смерчи, а именно это был морской пролив или так называемый проход. Д-р Шоу и Тевено[205] видели такое же явление в Средиземном и Персидском [Персидский залив] морях; на островах Вест-Индии, на пути от Малакки в Китайское море — это обычное явление. Каких-либо особых открытий, связанных с ним, нам сделать, увы, не удалось. Наши наблюдения лишь подтвердили то, что уже видели другие и что подробно описывал д-р Бенджамин Франклин[206]. Его проницательная гипотеза о том, что вихри и смерчи имеют одинаковое происхождение, ни в малейшей мере не была поколеблена нашими наблюдениями, и читателей, интересующихся наукой, мы отсылаем к его трудам[207], где они найдут самое полное и наилучшее описание этого явления.
На другое утро в 5 часов мы подошли ко входу в пролив Королевы Шарлотты [пролив Кука], а в 7 часов увидели на южной оконечности острова Моту-Аро, где, согласно предыдущему описанию капитана Кука[208], находилась хиппа, то есть укрепленное поселение[209], троекратную вспышку. Судя по всему, сигналы подавали европейцы, и мы предположили, что это наши друзья с «Адвенчера». Поэтому капитан приказал выстрелить из нескольких четырехфунтовых пушек, на что, к нашей радости, тотчас ответили из бухты Шип-Коув [Моретото], расположенной напротив острова. К полудню мы уже имели возможность видеть наших старых товарищей но путешествию. «Адвенчер» стоял здесь на якоре, и вскоре к нам отправилось оттуда несколько офицеров. Они привезли нам в подарок свежую рыбу и рассказали, что у них произошло с тех пор, как мы расстались.
После полудня был штиль, поэтому пришлось идти в бухту на буксире, и мы стали на якорь не ранее 7 часов вечера. Тем временем на борт к нам поднялся капитан Фюрно. В честь нашего воссоединения он велел своему кораблю приветствовать нас тринадцатью пушечными выстрелами, на что наши люди с радостью ответили. Кому доводилось пережить подобное, может представить себе наш восторг, для коего были двойные причины; ведь бесчисленным опасностям подвергались оба корабля и оба с божьей помощью счастливо их избежали.
Потеряв нас из виду, «Адвенчер» продолжал свой путь между 50° и 54° южной широты на север. С запада то и дело налетали сильные бури. 28 февраля, находясь примерно под 122° западной долготы по Гринвичу, капитан Фюрно решил продвигаться к Вандименовой земле, то есть к южной оконечности Новой Голландии, которую открыл Абель Янсен Тасман в ноябре 1642 года[210]. 9 марта он достиг юго-западной части побережья и обогнул южную оконечность Вандименовой земли, направляясь к ее восточной части, где 11-го пополудни и стал на якорь в бухте, названной в честь корабля бухтой Адвенчер; видимо, это была та самая бухта, где однажды уже останавливался Тасман, назвав ее бухтой Фредерик-Хенри. Южная оконечность этой земли представляла собой нагромождение бесплодных черных скал, чем напоминала оконечности Африки и Америки. Берег вокруг бухты Адвенчер был песчаный и гористый, а на самых отдаленных горах виднелись деревья, правда хилые и без подлеска. К западу от бухты находилось пресноводное озеро, на нем плавали стаи диких уток и других водоплавающих птиц. К северо-востоку, недалеко от берега, располагалась группа довольно высоких и тоже покрытых лесом островов, которую Тасман принял, видимо, за один большой остров, обозначив его на своих картах как остров Марии. В этом заливе «Адвенчер» находился пять дней, капитан Фюрно запасся там свежей водой, а также нашел несколько необычных животных, в том числе новую разновидность вороны и прекрасного белого ястреба[211]. Туземцев они ни разу не встретили, однако в глубине острова как будто видели дым.
15-го вечером они отбыли из бухты Адвенчер и пошли вдоль песчаного и гористого побережья на север. В глубине горы были гораздо более высокими, а вдоль побережья встречались острова; особое внимание они обратили на те, что носили имена Тасмана, Схоутена и Ван дер Линда. Примерно под 41° 15' южной широты они достигли входа в маленькую бухту, которую назвали бухтой Костров, поскольку видели здесь множество огней, без сомнения разожженных дикарями. Вплоть до 19 марта они продолжали обследовать здесь побережье, что, однако, было сопряжено с опасностью из-за малой глубины. Когда наконец к полудню 19-го они достигли 39°29' южной широты, а земля все еще тянулась дальше к северо-западу, они сделали вывод, что между Вандименовой землей и Новой Голландией нет пролива. Поскольку капитан Фюрно прибыл сюда только для того, чтобы разрешить этот до сих пор спорный вопрос, и теперь, как ему казалось, достаточно все выяснил, он приказал повернуть корабль и направился к условленному месту встречи у берегов Новой Зеландии.
Тем не менее все еще нельзя утверждать с уверенностью, что обе земли действительно соединяются. С одной стороны, из-за недостаточной глубины капитан Фюрно зачастую вынужден был удаляться от берега настолько, что совершенно терял его из виду, а значит, в том или ином месте мог остаться проход, им не замеченный; во-вторых, между последним участком суши, который он видел на севере, и Пойнт-Хикс, самой южной точкой, до которой добрался капитан Кук во время своего прошлого плавания в 1777 году, еще осталось неисследованным пространство в 22 морские мили, то есть достаточное для пролива или прохода между Новой Голландией и Вандименовой землей. С другой стороны, то, что на Вандименовой земле водятся четвероногие животные, которые обычно редко встречаются на островах, делает наличие такого пролива маловероятным[212]. Как бы то ни было, ни одна часть света не заслуживает исследования больше, чем Новая Голландия; ведь мы знакомы лишь с береговой линией этой большой земли, природные же богатства ее нам, в сущности, совсем еще неизвестны. О местных жителях мы знаем только, что они, как единодушно свидетельствуют путешественники, несравненно более дики, чем любой другой, обитающий под жаркими небесами народ, и ходят совершенно нагими; их, вероятно, совсем немного, так как обитаемо, по всей видимости, лишь побережье. Словом, землю эту можно считать совершенно еще неизведанной, хотя по размеру она не уступает всей Европе и лежит преимущественно в тропиках, то есть и по своим размерам, и по великолепному расположению заслуживает особого внимания и сулит большие надежды. Эти надежды подтверждаются множеством достопримечательностей из области животного и растительного царства, которые были найдены во время предыдущего плавания капитана Кука на «Индевре» на одном только морском побережье; нет почти никакого сомнения, что внутренние области этой земли хранят бесчисленные сокровища природы, способные принести пользу и благо первому же цивилизованному народу, который постарается отыскать их[213]. В юго-западной части побережья, возможно, имеется проход в эти внутренние области; ведь трудно предположить, что на такой большой земле между тропиками не найдется ни одной достаточно большой для судоходства реки, а упомянутая часть побережья на вид кажется наиболее пригодной для выхода такой реки в море.
Но возвращаюсь к своему рассказу.
Переход от Вандименовой земли до Новой Зеландии из-за восточного ветра занял у «Адвенчера» 15 дней. 31 апреля корабль достиг южного побережья Новой Зеландии близ Рок-Пойнта, а 7-го благополучно стал на якорь в проливе Королевы Шарлотты, точнее, в бухте Шип-Коув.
Здесь команда занималась тем же, что и мы в бухте Даски. Правда, они не додумались до пивоварения, поскольку ничего о нем не знали. На южной оконечности острова Моту-Аро они нашли хиппу, то есть укрепленный поселок, покинутый жителями, и их астроном устроил здесь обсерваторию. Туземцы, численность которых достигала, возможно, ста человек и которые делились на ряд независимых групп, часто воевавших друг с другом, начали с ними торговать. Несколько раз к ним приходили и люди из глубинных частей страны, и, поскольку встречали их очень хорошо, они ничуть не боялись подниматься на борт, напротив, без всякого страха и с большим аппетитом угощались у матросов; особенно им нравились сухари и гороховый суп. Они охотно и усердно меняли свою одежду, ремесленные изделия и оружие, которые приносили с собой в большом количестве, на гвозди, топоры и прочие вещи.
11 мая, в тот самый день, когда мы выходили из бухты Даски, несколько человек с «Адвенчера», находившиеся на берегу, где одни работали, другие охотились, очень ясно ощутили толчок землетрясения; те же, кто оставался на корабле, не почувствовали ничего. Это заставляет думать, что в Новой Зеландии некогда были или имеются сейчас огнедышащие горы, ибо оба эти величественных явления, видимо, всегда взаимосвязаны друг с другом[214].
К тому времени, как мы пришли в пролив Королевы Шарлотты, на «Адвенчере» уже потеряли всякую надежду увидеть нас когда-нибудь и настраивались зимовать здесь. Их капитан сказал нам, что думал оставаться здесь до весны, а потом направиться на восток для исследования высоких южных широт. Напротив, капитан Кук отнюдь не собирался проводить тут в бездействии столько месяцев. Он знал, что можно было гораздо лучше подкрепить свои силы на островах Общества, которые он посетил в прошлый раз. Поэтому он приказал обоим кораблям как можно скорее подготовиться к плаванию, а поскольку мы были уже готовы, наша команда помогла «Адвенчеру» закончить свою работу.
На другой же день после прибытия мы занялись исследованиями на берегу и нашли в здешних лесах примерно те же деревья и кустарники, что и в бухте Даски. Однако погода и климат здесь более благоприятствовали ботаническим занятиям, поскольку многие растения еще цвели. Нам также удалось добыть несколько неизвестных птиц. Однако главное преимущество этой гавани перед местом нашей предыдущей стоянки заключалось в том, что здесь всюду встречались антицинготные растения, которых в бухте Даски не было. Мы скоро собрали большой запас дикого сельдерея и вкусной ложечницы (Lepidium)[215]; то и другое растения теперь ежедневно подбавлялись в суп, который приготовлялся на завтрак из пшеничной или овсяной муки, а также и на обед к гороховому супу. Скоро нашему примеру последовала и команда «Адвенчера», которая до сих пор не знала, что эти растения можно употреблять в пищу. Кроме того, мы нашли разновидность овощного осота (Sonchus oleraceus), а также траву, которую наши люди называли Lambs quarters (Tetragonia cornuta); и то и другое мы часто с удовольствием ели вместо салата. Хотя птицы и рыбы здесь было не так много, как в бухте Даски, обилие этой превосходной зелени компенсировало недостачу. Здесь было также много черной ели и новозеландского чайного дерева, и мы научили наших друзей использовать их в пищу.
Мы посетили также хиппу, или индейское укрепление, где господин Бейли, астроном с «Адвенчера», устроил свою обсерваторию. Она находится на крутой, стоящей особняком скале, подняться к ней можно лишь с одной стороны по неудобной тропе, где едва ли могут разминуться двое. Вершина была прежде обнесена изгородью, которую матросы в основном уже выломали и употребили на топливо. Внутри этих защитных сооружений стояли без всякого порядка хижины островитян. Они не имели боковых стен, то есть жилище состояло из одной лишь кровли, жерди которой сходились кверху. Эта кровля делалась из веток, переплетенных наподобие плетня, сверху они покрывались древесной корой и, наконец, здешним льном. Как нам рассказали, в этих хижинах кишмя кишели паразиты, особенно блохи, и отсюда можно было заключить, что здесь еще недавно жили. На мой взгляд, туземцы живут здесь каждый раз лишь недолго, до тех пор, пока есть угроза нападения врага. К упомянутым паразитам относились также крысы, которых наши путешественники встречали здесь в огромном множестве; для того чтобы хоть как-то избавиться от них, приходилось ставить не простые ловушки, а зарывать в землю несколько больших котлов, куда эти животные попадались ночью. Судя по их числу, они либо относились к первоначальным обитателям Новой Зеландии, либо, во всяком случае, появились здесь задолго до того, как эта страна была открыта европейцами[216].
Капитан Фюрно показал нам несколько участков земли на скалах, которые он велел вскопать и засеять огородными семенами. Благодаря этому на нашем столе часто появлялся салат и прочая европейская зелень, хотя в этих местах была уже глубокая зима. Этим мы были обязаны климату, который здесь несравненно лучше, нежели в бухте Даски; он столь мягок, что, несмотря на близость покрытых снегом гор, мы в проливе Королевы Шарлотты совсем не мерзли; по крайней мере холодов не было за время нашего здесь пребывания, то есть до 6 июня, что соответствует в этом полушарии нашему декабрю.
22-го мы отправились на расположенный к югу от нас остров, который капитан Кук во время своего прошлого путешествия назвал Лонг-Айленд. Он состоит из длинного и в большинстве мест узкого горного хребта, весьма крутого с обеих сторон, однако сверху совершенно плоского. На северо-западном побережье его мы нашли красивый пляж, а выше маленький участок плоской земли, по большей части болотистой и заросшей различными травами. В других местах всюду попадались противоцинготные растения, а также новозеландский лен (Phоrmium), который чаще всего встречался возле старых, покинутых хижин туземцев[217]. Мы решили вскопать несколько участков и посеять на них европейские огородные семена, которые, судя по всему, здесь хорошо развиваются. Затем мы поднялись на гору, но не нашли там ничего, кроме сухой, уже увядшей травы и низкорослого кустарника, под которым свили себе гнезда множество перепелов, совершенно похожих на европейских. Несколько глубоких и узких ущелий, сбегавших от вершины к морю, заросли деревьями, кустарником и лианами; в них водилось много мелкой птицы, но встречались также и соколы. Там, где утесы отвесно поднимались из моря или нависали над водой, гнездились большие стаи красивых бакланов; они устраивались на маленьких выступах скалы или в небольших углублениях, не более фута, которые нередко, видимо, расширялись самими птицами. Глинистая порода, из которой сложено большинство гор в проливе Королевы Шарлотты, довольно мягка; она залегает в наклонных слоях зеленовато-серого, голубого или желто-коричневого цветов, которые обычно опускаются к югу, и пронизана жилами кварца. В ней содержится разновидность зеленого талька, называемая Lapis nephriticus — достаточно твердый, полупрозрачный, хорошо поддающийся полировке камень; иногда он более мягкий, непрозрачный и бледно-зеленый. Туземцы делают из этого камня зубила, топоры, а иногда и пату-пату, то есть боевые топорики; английские ювелиры называют эту породу нефрит. В некоторых местах мы нашли также пласты черной скальной породы (Saxum Linn.), состоящей из черной плотной слюды (Mica) с вкраплениями кварца. В больших пластах встречаются также различные виды роговика и глинистого сланца; сланец особенно часто и обычно в обломках можно встретить также на морском берегу. Моряки называют его shingle; под этим названием он упоминался и в описании предыдущего путешествия капитана Кука. Цвет у него часто ржавый, что явно связано с присутствием частиц железа; отсюда, как и из наличия описанных выше минералов, можно предположить, что в этой части Новой Зеландии должно иметься железо, а возможно, и другие руды.
На берегу мы собрали различные породы кремня и помимо этого несколько кусков черного, плотного и тяжелого базальта, из которого местные жители также изготовляют боевые топоры, или пату-пату. Наконец перед самым отплытием мы нашли на берегу несколько кусков беловатой пемзы; как и вышеупомянутая базальтовая лава, это несомненно свидетельствует, что в Новой Зеландии действуют или действовали прежде вулканы.
Утром 23-го к нам подошли два маленьких каноэ с пятью индейцами, которых мы увидели первыми со времени нашего прибытия. Они напоминали обитателей бухты Даски, с той лишь разницей, что с самого начала не испытывали к нам такого недоверия, как те, и ничуть нас не боялись. Мы выменяли у них рыбу и кое-что подарили вдобавок. Без малейшего колебания поднялись они на корабль и так же уверенно последовали за нами в каюты. Поскольку мы как раз садились за стол, они совершенно спокойно поели вместе с нами. Зато когда дело дошло до вина и водки, они не захотели составить нам компанию, выказав к тому и другому непреодолимое отвращение, и не стали пить ничего, кроме воды. Они были столь непоседливы, что от стола, побежали в рулевую рубку и там еще раз подкрепились у офицеров, при этом выпили немало воды, которую для них подсластили сахаром, поскольку знали, что он им необычайно нравится. Они готовы были взять все, что видели и до чего могли дотянуться, но, стоило им хоть как-то дать понять, что мы не можем или не желаем с этой вещью расстаться, они охотно возвращали ее на место. Особенно интересовали их, видимо, стеклянные бутылки, которые они называли таха; едва заметив одну, они тотчас показывали на нее, говорили мокх и прикладывали руку к груди, что всегда означало желание получить что-нибудь. Бусы, ленты, белая бумага и тому подобные мелочи их совершенно не интересовали, но железо, гвозди и топоры очень им нравились; это доказывает, что они уже познакомились на опыте со значением этих товаров и научились их ценить; равнодушие к этим вещам, которое отметил капитан Кук во время прошлого путешествия, объясняется просто тем, что тогда они не имели никакого понятия о пользе и прочности железных изделий.
Некоторые члены нашей команды настолько с ними освоились, что захотели после еды воспользоваться их каноэ, чтобы отправиться на берег. Однако индейцам такая вольность пришлась не по душе. Они тотчас пошли в каюту капитана и пожаловались ему. Следовательно, они поняли, что капитан здесь командует; когда тот восстановил справедливость и приказал вернуть каноэ, туземцы весьма довольные вернулись на берег.
На другой день уже на рассвете они появились снова и привели с собой много других, в том числе женщин и детей. Похоже было, что они пришли торговать. Мы в этом не собирались им препятствовать, но сами сразу же после завтрака с капитанами обоих кораблей отправились в очень широкую бухту, которая находится в северной части пролива и во время прошлого путешествия получила название бухты Уэст-Бей. По пути мы встретили двойное каноэ с тринадцатью туземцами, которые направлялись к нам. Видимо, эти люди помнили капитана Кука, потому что они сразу обратились к нему и спросили о Тупайе[218], индейце с О-Таити, который приезжал с ним в прошлый раз и который был еще жив, когда корабль находился в Новой Зеландии[219]. Услышав, что он умер, они, судя по всему, очень опечалились и произнесли несколько слов жалобным тоном. Мы знаками показали им, что они могут плыть к кораблю в Шип-Коув; но, увидев, что мы отправились в другое место, индейцы тоже вернулись в бухту, из которой вышли.
Горы здесь оказались не такие крутые, как в большинстве мест на южной оконечности Новой Зеландии, особенно ближе к берегу, но почти сплошь покрыты зарослями, такими же густыми и непроходимыми, как в бухте Даски. Зато здесь было несравненно больше голубей, попугаев и маленьких птиц, многие из которых, видимо, перелетели сюда на зиму из холодных краев. На берегу водились устрицеловки, или морские сороки, а также бакланы, но уток было мало. В Уэст-Бей много красивых бухт с дном, удобным для якорной стоянки. От берега полого поднимались холмы, поросшие деревьями и кустарником, но вершины кое-где были безлесные, там можно было увидеть лишь обычный папоротник (Acrostichum furcatum). Примерно так же выглядели многие острова в проливе и большая часть юго-восточного побережья до мыса Коамару против бухты Ост-Бей.
Собрав много новых растений, среди которых была разновидность перца, напоминающая вкусом имбирь, а также настреляв достаточно птицы, мы поздно вечером вернулись на корабль.
Пока нас не было, с севера приходило большое каноэ с двенадцатью индейцами, которые торговали своими каменными топорами, палицами, копьями и даже веслами. Большая шлюпка, посланная утром в ближнюю бухту, чтобы доставить зелень для команды, а для коз и овец травы, к нашему приезду еще не вернулась; когда она не пришла и на другой день, мы стали беспокоиться за судьбу двенадцати человек, которые в ней находились. Среди них были третий корабельный лейтенант, лейтенант морских пехотинцев, господин Ходжс, плотник и констебль. У нас было тем больше оснований для беспокойства, что их не могли задержать ветер или ненастье; погода утром 25-го была как раз превосходной, лишь после стало дождливо и ветрено.
26-го пополудни, когда немного прояснилось, пропавшая шлюпка наконец вернулась, но люди в ней были совершенно без сил. Весь запас провизии, который они взяли с собой, состоял из трех сухарей и бутылки водки, а из-за волн нельзя было поймать ни одной рыбины. Они что было сил гребли к кораблю, но не могли справиться с волной; после того как их изрядно помотало, они вошли в бухту, где несколько заброшенных индейских хижин дали им кров. Изголодались они ужасно, ведь единственную их пищу составляли улитки, которых удалось найти на скалах.
На другое утро мы совершили прогулку по берегу бухты, где искали растения и птиц, а после полудня отправились на скалистый мыс Пойнт-Джексон пострелять бакланов, которых мы теперь научились употреблять в пищу вместо уток. В промежутке нас вторично посетила семья индейцев, которая уже была у нас 23-го. На этот раз их, похоже, интересовала только возможность поесть с нами, поскольку для обмена они не принесли ничего. Мы спросили, как их зовут; понадобилось некоторое время, чтобы они поняли наш вопрос. Наконец мы узнали, что старшего из них зовут Товаханга, других Котугхэа, Когхоээ, Кхоээ, Коллэкх и Таывахеруа. Последний был мальчик лет четырнадцати, в нем было что-то очень приятное, он казался также наиболее живым и смышленым из всех. Мы взяли его с собой в каюту и посадили за стол, где он весьма храбро принялся за еду. Среди прочего он, съел, даже проглотил с громадным аппетитом большую порцию бакланьего паштета; против ожидания тесто ему понравилось больше мяса. Капитан угостил его мадерой, и он выпил больше стакана, хотя вначале и скривился весьма кисло. Затем на столе появилась бутылка сладкого капского вина, ему тоже предложили стакан, и это вино ему так понравилось, что он не переставал облизывать губы, а скоро потребовал второй стакан, который ему и дали. После этого он пришел в крайнее возбуждение, стал говорливым, пустился в пляс по каюте. Затем ему захотелось получить плащ капитана, лежавший на стуле. Отказ очень его огорчил. Тогда он потребовал пустую бутылку, но, не получив и ее, в сильнейшем гневе выбежал из каюты. На палубе он увидел наших слуг, они складывали белье, вынесенное для просушки. Он тотчас утащил у них скатерть, однако ее у него сразу отобрали. Тут он уже перестал сдерживаться, затопал ногами, стал угрожающе ворчать или скорее рычать что-то сквозь зубы; наконец до того разозлился, что не мог уже выговорить ни слова. В поведении мальчика особенно ясно проявились чувствительность и легкая ранимость, присущие этому народу, и мы подумали, что эти люди, на свое счастье, не знают опьяняющих напитков, которые, несомненно, сделали бы их еще более дикими и необузданными.
На другое утро мы увидели вокруг несколько каноэ, в которых находилось всего около тридцати индейцев. Они привезли для обмена всевозможные изделия и оружие, а взамен получили много разных вещей, потому что наши люди занимались обменом очень усердно и перебивали товар друг у друга. Среди них приехало и несколько женщин. Их щеки были раскрашены охрой и маслом, губы, покрытые крапинками или татуировкой, которая здесь в большой моде, казались иссиня-черными. Почти у всех, как и у обитателей бухты Даски, были тонкие кривые ноги с толстыми коленями. Причина, несомненно, в том, что они мало бывают на ногах, поскольку на суше, видимо, по большей части лежат без дела, а в каноэ обычно сидят, поджав ноги под себя. Впрочем, цвет кожи у них довольно светлый, средний между оливковым и красного дерева, волосы смолисто-черные, лица круглые, носы и губы скорее толстые, чем приплюснутые. Глаза черные, обычно живые и не лишенные выразительности, верхняя часть туловища хорошо сложена. Вообще весь их внешний облик был отнюдь не безобразен. Со времени отплытия с мыса Доброй Надежды наши матросы не имели дела с женщинами, так что они весьма усердно заинтересовались ими, и по тому, как принимались их ухаживания, было видно, что в здешних местах не очень заботятся о стыдливости и что победа должна быть делом не слишком трудным. Однако благосклонность этих красоток зависела не только от их желания. Сначала надо было спросить разрешения у мужчин, имевших над ними полную власть. Если с помощью большого гвоздя, рубахи или тому подобного удавалось купить их согласие, то женщины могли удалиться со своими кавалерами, а после попросить еще подарок и для себя. Должен при этом отметить, что некоторые лишь с крайней неохотой позволяли использовать себя для столь постыдного промысла, и мужчинам часто приходилось пускать в ход весь свой авторитет, даже угрозы, прежде чем те соглашались уступить вожделениям парней, которые бесчувственно смотрели на их слезы и слушали их стенания. Кто заслуживает большего отвращения: наши люди, которые считали себя принадлежащими к цивилизованной нации, но могли вести себя столь по-скотски, или эти варвары, принуждающие своих собственных женщин к столь постыдным делам? На этот вопрос я не могу дать ответа.
Когда новозеландцы увидели, что нет более доступного и простого способа получить железные изделия, как с помощью этого низменного промысла, они стали вскоре ходить по всему кораблю, предлагая без разбору своих дочерей и сестер. Однако, насколько мы могли видеть, замужним женщинам они никогда не позволяли вступать в подобные отношения с нашими матросами. В этом смысле их представления о женском целомудрии весьма отличаются от наших: незамужняя девушка может иметь много любовников без всякого ущерба для своей чести, но, как только она выйдет замуж, от нее требуется самое неукоснительное соблюдение супружеской верности. То есть они не придают большого значения воздержанию незамужних женщин, так что, надо думать, знакомство с распутными европейцами не ухудшало нравственного состояния этого народа. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что новозеландцы унизились до столь постыдной торговли женщинами лишь с той поры, когда изделия из железа породили у них новые потребности. Чтобы удовлетворить их, они и прибегли к действиям, о которых никогда прежде не могли и помыслить и которые далеки также и от наших понятий о чести и чувствительности.
Достаточно печально само по себе уже то, что все наши открытия стоят жизни многим невинным людям. Но как ни тяжки они для маленьких нецивилизованных народов, это поистине сущая мелочь по сравнению с невосполнимым ущербом, который причиняет им разрушение нравственных основ их жизни. Если бы сие зло в какой-то мере компенсировалось тем, что их научили бы действительно полезным вещам или искоренили бы среди них какие-либо безнравственные либо пагубные обычаи, тогда мы могли бы по крайней мере утешать себя мыслью, что, потеряв в одном, они приобрели в другом. Боюсь, однако, что наше знакомство с жителями Южного моря принесло им только вред; так что, на мой взгляд, лучше всего убереглись от него как раз те народы, которые держались всегда подальше от нас, из опасения или недоверия никогда не позволяя нашим морякам вступать с ними в слишком близкие отношения. Словно по виду, по выражению лиц они тотчас распознали их легкомыслие и остереглись распущенности, в которой не без основания обвиняют моряков!
Некоторых из этих дикарей привели в каюту к господину Ходжсу, пожелавшему зарисовать наиболее характерные лица. Не без труда удалось заставить их хотя бы несколько мгновений посидеть спокойно. Мы показывали им всякие мелочи и кое-что подарили. Среди них были главным образом пожилые мужчины с седыми головами, а также несколько молодых людей, лица которых бывали особенно выразительными; у них были необычайно лохматые густые волосы, которые падали на лоб и, разумеется, придавали им еще более дикий вид. Почти все были среднего роста и лицом, цветом кожи, нарядами совершенно напоминали жителей бухты Даски. Их одежды сплетены из волокон льна, но не украшены перьями; вместо них плащ по четырем углам отделан кусками собачьей шкуры — украшение, которого не могло быть в бухте Даски, ибо там нет собак. Поскольку в это время года погода уже становится холодной и дождливой, почти все носили также богхи-богхи[220], то есть грубый плетеный плащ из соломы, ниспадающий с плеч . Вообще же их одежда из ткани была обычно старая, грязная и не столь тонкой выделки, как это описано в истории предыдущего плавания капитана Кука. У мужчин волосы небрежно ниспадают с головы, у женщин же они коротко острижены; это различие, видимо, повсеместно. Женщины также носят головной убор из коричневых перьев, который упоминается в описании прошлого плавания капитана Кука.
После нескольких часов пребывания на борту они начали тащить все, что попадало под руки. Некоторых поймали, когда они намеревались утащить песочные часы, рассчитанные на четыре часа, лампу, несколько носовых платков и ножей. Увидев такие воровские проделки, капитан приказал прогнать их с корабля и показать, что им больше не разрешено будет подняться на борт. Они хорошо поняли, что это унижение, и их горячий темперамент, не выносящий никакой обиды, дал себя сразу знать. Один даже стал грозить нам из своего каноэ, как будто обещал отомстить. Однако до насилия дело не дошло, вечером все они спокойно сошли на берег и соорудили против корабля несколько хижин из веток, чтобы провести там ночь. Затем они вытащили на берег каноэ, разожгли костер и приготовили себе ужин, состоявший из рыбы, которую они перед тем очень ловко поймали со своих лодок при помощи круглой сети. И сеть, и способ этой ловли описаны в книге о предыдущем путешествии Кука.
На другое утро, воспользовавшись хорошей погодой, мы отправились на Лонг-Айленд, чтобы посмотреть сено, которое заготовили там наши люди восемь дней назад. Мы хотели также насобирать зелени близ расположенной там, но покинутой индейской деревни. Нам опять удалось найти кое-какие новые растения, а также подстрелить несколько маленьких птиц, отличавшихся от уже известных.
После полудня капитан разрешил большинству матросов сойти на берег, где они стали приобретать у туземцев разные диковины, а заодно и добиваться благосклонности девушек, не обращая ни малейшего внимания на их ужасающую нечистоплотность. Не потеряй они вообще всякой чувствительности, их удержала бы от сношений с этими женщинами хотя бы мода намазывать лица охрой и жиром. К тому же от новозеландок так несло, что их запах можно было почуять издалека, а насекомых на них было столько, что они то и дело выискивали их в одежде и щелкали на зубах. Достойно удивления, что находились люди, способные по-скотски возиться с созданиями столь отвратительными, и что этому не препятствовали ни собственные чувства, ни чистоплотность, которая воспитывается у англичан с молодости.
Unde
Наес tetigit Gradive, tuos urtica nepotes?
Juvenal [221]Прежде чем они вернулись на борт, одна из этих красоток украла у матроса куртку и передала своему молодому соплеменнику. Хозяин куртки нашел ее и забрал назад. Туземец в ответ стукнул его кулаком, однако англичанин отнесся к этому как к шутке. Но когда он повернулся, чтобы идти на корабль, дикарь кинул в него большим камнем. Тут матрос вспылил, накинулся на парня и показал ему, что такое добрый английский бокс. В мгновение ока у новозеландца оказался подбит глаз и раскровенен нос; этого было довольно, чтобы обратить его в бегство. Капитан Кук всячески стремился распространить здесь европейские культурные растения. Он приказал обработать участок земли, посеять на нем всевозможные семена, а затем высадить молодые растения в четырех-пяти местах. Один такой участок он заложил на берегу Лонг-Айленда, другой — на скале, где находилась хиппа, еще два — на Моту-Аро, пятый, довольно большой участок был разбит в глубине бухты Шип-Коув, где стояли на якоре наши корабли. Особое внимание он уделил при этом полезным, питательным корнеплодам, прежде всего картофелю, часть которого нам посчастливилось сохранить свежим. Он высеял также различные виды зерновых, большие бобы, фасоль, горох и все последнее время нашего здесь пребывания занимался почти исключительно этим.
1 июня рано утром к нам подошло несколько каноэ с дикарями, которых мы прежде не видели. Лодки их были разной величины, три из них имели паруса, что встречается здесь не часто. Парус представлял собой большую треугольную циновку и одним концом крепился к мачте, другим — к шесту; они соединялись внизу под острым углом и очень легко могли подниматься и убираться. Верхняя, широкая часть паруса была украшена по кромке пятью пучками коричневых перьев. Днище лодки было сделано из выдолбленного дерева, борта же — из досок или планок. Эти планки они накладывают одну на другую и крепко соединяют, пропуская сквозь маленькие дырки шнуры из новозеландского льна, а зазоры плотно проконопачивают волокнами тростника (Typha latifolia). Среди них были двойные каноэ, то есть две лодки, соединенные поперечинами и бечевками. Другие, попроще, имели так называемый аутригер (выносной поплавок), то есть узкую доску, прикрепленную с одной стороны каноэ параллельно к нему при помощи поперечной перекладины, чтобы не дать лодке перевернуться. Все эти каноэ были старые и почти обветшавшие; ни одно из них не было украшено резьбой и росписью так богато, как те, что видел капитан Кук во время своего первого плавания на Северном острове этой земли. Однако в основном устройство их точно такое же; например, на носу у всех было вырезано бесформенное человеческое лицо, все имели высокую корму, весла с заостренной лопастью.
Владельцы этих лодок привезли на мену различные украшения, большей частью вырезанные из кусков зеленого Lapis nephriticus; некоторые из них по форме были для нас в новинку. Одни — плоские, с острыми лезвиями, как у топора, другие — длинные, тонкие — служили серьгами, третьи — отшлифованы в виде маленьких зубил и вставлены в деревянные ручки; наконец, были вырезанные с большим тщанием сидящие на корточках фигуры, лишь отчасти напоминающие человеческую, обычно с огромными глазами из перламутра. Это украшение, называемое э-тигхи, носили на груди при помощи надетого через шею шнура как мужчины, так и женщины; мы предположили, что оно должно иметь какое-то религиозное значение[222]. Среди прочего они сбывали нам доходящие до колен передники из плотной ткани, отделанные красными перьями, по краям отороченные белой собачьей шкурой и украшенные кусочками раковины «морское ухо». Этот наряд женщины надевали во время танцев. Мы приобрели также много рыболовных крючков, довольно бесформенных, сделанных из дерева и на конце снабженных кусочком зазубренной кости, по их словам, человеческой. Кроме тигхи многие носили по нескольку шнуров с нанизанными человеческими зубами. Они, однако, отнюдь не считали таковые бесценными, как утверждалось в описании предыдущего плавания капитана Кука, и охотно выменивали их на железные изделия и другие мелочи.
В лодках было много собак; видимо, они очень ценили этих животных, так как каждый держал свою на веревке, обвязанной вокруг туловища. Это была длинношерстная порода с острыми ушами, очень напоминавшая обычных овчарок или chien de Berger графа Бюффона (см. его «Естественную историю»), окраски самой разной: пятнистые, черные или, наоборот, совсем белые. Их кормили исключительно рыбой, то есть в этом отношении собаки жили так же, как их хозяева; правда, эти питались еще и мясом собак, а шкура их шла на разные украшения и предметы одежды. Мы приобрели у них несколько, но старые не захотели у нас жить, они тосковали и не принимали еду; молодые, напротив, очень скоро привыкли к нашей пище[223].
Нескольких новозеландцев, поднявшихся тем временем на корабль, повели в каюту, где им преподнесли подарки; однако ни один не проявил при этом ни удивления, ни интереса, как это было у наших друзей из бухты Даски. Лица у некоторых были разрисованы особым образом глубоко надрезанными спиральными линиями; у одного рослого крепкого мужчины средних лет эти отметины так глубоко были врезаны в кожу, составляя сплошной рисунок на лбу, носу и подбородке, что борода, обычно у них очень густая, у него состояла лишь из нескольких разрозненных волосков. Звали его Трииго-Вайя; он, видимо, пользовался среди остальных уважением, как никто другой из приходивших к нам до сих пор.
Из всех наших товаров они охотнее всего брали в обмен рубахи и бутылки; последние они ценили особенно высоко, должно быть потому, что у них не было других сосудов для хранения жидкости, кроме маленьких калебас, то есть тыкв, которые росли только на Северном острове, а здесь, в проливе Королевы Шарлотты, имелись лишь у немногих. При любом обмене они старались не остаться в накладе и заламывали очень высокие цены на всякую мелочь, однако не огорчались, если получали меньше, чем требовали. Некоторые, будучи в особенно добром расположении духа, исполнили для нас на корме хейву, то есть танец. Они сняли свои мохнатые верхние одежды, стали в ряд, затем один завел песню, вытягивая при этом попеременно руки и сильно, чуть ли не с яростью топая ногами. Все остальные подражали его движениям и время от времени повторяли последние слова его песни, что, видимо, служило своего рода рефреном. Можно было различить здесь нечто вроде стихотворного размера, но трудно сказать, были ли это рифмованные стихи. Голос у запевалы был довольно скверный; мелодия его песни, до крайности простая, состояла из чередования лишь немногих звуков[224]. Вечером все индейцы уплыли туда, откуда прибыли.
На другое утро мы сопровождали капитанов Кука и Фюрно в бухты Ост-Бей и Грас-Коув, где набрали полную лодку противоцинготных трав, а заодно еще раз попытались сделать кое-что для туземцев. Как уже говорилось, мы всюду сажали полезные европейские злаки и коренья; теперь же мы захотели обогатить дикарей и животными, которые впоследствии могли бы сослужить службу местным жителям и будущим мореплавателям. С этой целью капитан Фюрно уже выпустил в бухте Каннибал-Коув одного кабана и двух свиней, дабы они размножились в здешних лесах. Мы же оставили тут козла и козу, которых высадили на берег в пустынной части бухты Ост-Бей. Эти места были избраны потому, что здесь наши новые колонисты, судя по всему, были бы в наибольшей безопасности от местных жителей, единственных, кого им следовало опасаться. Ожидать от невежественных новозеландцев рассудительности, которая позволила бы им понять пользу от размножения этих животных, конечно, не приходилось.
В районе бухты Грас-Коув мы увидели в воде большое животное. Судя по величине, это был морской лев, однако мы не смогли подойти к нему достаточно близко, чтобы застрелить и рассмотреть как следует[225]. Если это был действительно морской лев, то он, а также маленькая летучая мышь, которую мы встретили в лесах, да еще здешняя домашняя собака увеличивают число новозеландских млекопитающих до пяти. Вряд ли этот список может существенно пополниться; мы, сколько ни искали, не нашли в дальнейшем ни одного нового животного. Мы обошли лес вдоль и поперек и не только собрали изрядный запас дикого сельдерея и ложечницы, но и обнаружили несколько новых растений и птиц, после чего поздно вечером возвратились на корабль.
3 июня несколько шлюпок были посланы на Лонг-Айленд, чтобы доставить оттуда на борт сено. Корабли стояли уже готовые к плаванию, дрова и вода были запасены, команда благодаря здешней здоровой растительной пище хорошо подкрепила силы, так что ничто больше не мешало нам при первой возможности отплыть. Когда одна из наших шлюпок собиралась возвращаться на корабль, с нее заметили большое двойное и одно простое каноэ, в которых находилось около 50 человек! Оба каноэ тотчас погнались за шлюпкой. Поскольку наши люди не были вооружены, они поставили парус и вскоре настолько оторвались от новозеландцев, что те прекратили погоню и вернулись в Ост-Бей, откуда вышли. Трудно сказать, были ли у них враждебные намерения, но все же было бы неблагоразумно подпускать при таком численном превосходстве людей, всегда способных предпринять что-нибудь неожиданное и необъяснимое, следуя лишь своевольному инстинкту.
На следующее утро, 4 июня, мы подняли флаг св. Георга, знамена и вымпелы, дабы с принятой в море торжественностью отметить день рождения его величества короля. Семейство индейцев, имена которых я приводил выше и которые теперь стали нашими знакомыми, поскольку они расположились в бухте неподалеку от нашего корабля, очень вовремя появилось сегодня на борту. Позавтракав вместе с ними в рулевой рубке, офицер доложил капитану, что с севера приближается двойное каноэ со множеством людей. Мы вышли на палубу и увидели, что оно находится от нас на расстоянии примерно ружейного выстрела и в нем 28 человек. Они прошли мимо «Адвенчера» к нашему кораблю, заключив, вероятно, по его величине, что он — главный. Индейцы, гостившие у нас, уверяли, что это враги, и хотели, чтобы мы открыли по ним огонь. Глава этого семейства Товаханга вскочил на ружейный ящик, стоявший на корме, схватил копье и сделал им несколько воинственных и угрожающих жестов. Затем он заговорил с ними весьма оживленно и торжественно, с вызовом размахивая над головой большим топором из зеленого новозеландского камня, которого мы до сих пор еще у него не видели. Тем временем каноэ приблизилось к нам вплотную, не обращая внимания на нашего друга и оратора, так что мы его попросили замолчать.
Двое красиво сложенных мужчин стояли выпрямившись, один на носу, другой в середине каноэ, остальные сидели. На первом был совершенно черный плащ из плотной материи, отороченный четырехугольными кусками собачьей шкуры. Он держал в руке зеленый новозеландский лен и время от времени произносил отдельные слова. Другой же, внятно артикулируя, произнес торжественную речь, то повышая голос, то понижая. По оттенкам его речи и по движениям, сопровождавшим ее, можно было подумать, что он то спрашивает, то хвастает, то грозит, говорит то с вызовом, то доброжелательно. Иногда он долгое время говорил спокойно и вдруг опять начинал кричать так сильно, что потом ему приходилось делать небольшую паузу, чтобы перевести дыхание. Когда он окончил свою речь, капитан предложил ему подняться на борт. Какое-то время он пребывал в нерешительности, но колебание длилось недолго, природная дерзость оказалась сильнее недоверия, и он взошел на корабль. Все его люди скоро последовали его примеру. Поднимаясь на борт, каждый приветствовал индейское семейство, по здешнему обычаю прикасаясь носом к носу; наши матросы называли это «носоваться друг с другом». Ту же честь они оказывали и тем из нас, кто находился на палубе.
Обоих ораторов, как главных персон, пригласили в каюту. Второго, того, что держал речь, звали Теирату, жил он, по его словам, на северном острове этой земли, называемом Тира-Вити[226]. Они тоже спросили о Тупайе и, услышав, что его уже нет в живых, очень огорчились, как и упомянутые выше индейцы, и тоже произнесли несколько слов в печальном и жалобном тоне. Вот до какой степени сей человек своими природными достоинствами и своей обходительностью сумел снискать уважение и любовь у этого невежественного и грубого народа! Видимо, ему, более чем кому-либо из нас, удалось способствовать культурному развитию этого народа, ибо он не только обладал основательным знанием здешнего языка, но и был более близок их образу мыслей и представлениям, нежели мы, европейцы. Нам, пожалуй, мешала чрезмерная дистанция между обширностью наших сведений и ограниченными познаниями этих людей, и мы не умели найти звенья для цепи, которая соединила бы их представления с нашими.
Теирату и его спутники были более крупного сложения, нежели все, кого мы до сих пор видели в Новой Зеландии. Среди них не было ни одного малорослого, а многие — выше среднего роста. Их одежда, украшения и оружие также были богаче, нежели у жителей пролива Королевы Шарлотты, что свидетельствовало, видимо, о благосостоянии и изобилии, какого мы здесь еще не знали. Некоторые плащи у них были сплошь подбиты собачьими шкурами. Этих шкур у них, казалось, тоже было особенно много, и они не только придавали им внушительный вид, но и служили им добрую службу в холодную погоду, которая здесь уже чувствовалась. Одежды, изготовленные из волокон новозеландского льна, были нередко совсем новые, с пестрой отделкой по краям. Эта отделка была красная, черная и белая, причем такого одинакового узора, что можно было счесть ее за произведение весьма цивилизованного народа.
Черная краска их тканей столь прочна и долговечна, что заслуживает внимания английских мануфактуристов, которым как раз такой краски до сих пор недостает. Лишь из-за плохого знания языка мы не смогли как следует расспросить их об этом.
Плащ сделан из четырехугольного куска ткани. Оба верхних конца его соединяются спереди на груди либо завязками, либо булавкой из кости, китового уса или зеленого камня. Примерно посередине плаща с внутренней стороны прикреплен пояс, сплетенный из травы, который можно обвязать вокруг тела, так что плащ плотно прилегает к бедрам, а нижний край свисает до колен, нередко и до икр. Хотя внешним видом они превосходят обитателей пролива Королевы Шарлотты, в том, что касается нечистоплотности, они вполне на них похожи, и насекомые во множестве ползают по их одеждам. Волосы они, как принято здесь, завязывают в пучок на затылке, смазывают жиром и втыкают в них белые перья; сзади в пучок вставляются большие гребни из китовой кости, торчащие прямо вверх. У многих на лицах спиралеобразная татуировка, некоторые раскрашивают себя также красной охрой и маслом. Им вообще доставляло большое удовольствие, когда мы красили им щеки чем-либо красным. Они носили при себе маленькие калебасы с маслом, которым намазывались; было ли это масло растительное или животное, мы не могли выяснить.
Все инструменты, которые они при себе имели, снабжены необычайно тонкой резьбой и вообще изготовлены с большим старанием. Они продали нам топор, лезвие которого сделано из тончайшего зеленого нефрита, а рукоятка украшена ажурной, чрезвычайно искусной резьбой. Мы обнаружили у них также некоторые музыкальные инструменты, в том числе трубу, или, вернее, деревянную трубку длиной 4 фута и довольно тонкую. Мундштук имел в поперечнике самое большее 2, а внешний конец примерно 5 дюймов. Они извлекали из нее всегда один и тот же звук, напоминавший грубый рев зверя, хотя у лесного трубача звук наверняка разнообразнее. Другая труба сделана была из большой раковины «рог тритона» (Миrех Tritonis), которая соединялась с деревянной частью, украшенной искусной резьбой; на конце, служившем мундштуком, имелось отверстие. Страшный рев был единственным звуком, который из него извлекался. Третий инструмент, названный нами флейтой, представлял собой полую трубку, расширявшуюся в середине и имевшую здесь, а также на обоих концах отверстия. Как и первый инструмент, он был составлен из двух полых кусков дерева, так точно подогнанных в длину друг к другу, что они образовывали цельную трубу.
Двойное каноэ, в коем прибыли некоторые из них, казалось новым. Оно имело в длину примерно 50 футов. И нос, и высокая корма были искусно украшены спиралеобразной резьбой, как это нарисовано и описано в книге о предыдущем плавании капитана Кука. Бесформенное украшение на носу, в котором с большим трудом можно было обнаружить сходство с человеческой головой, было снабжено парой глаз из перламутра и длинным языком, свисавшим из пасти. Подобными фигурами они украшают что угодно, особенно же изделия, связанные с войной. Вероятно, здесь повсеместно принято оскорблять и дразнить врагов, показывая им высунутый язык, что объясняет частое изображение таких гримасничающих рож. Их можно увидеть не только на носах боевых каноэ и на рукоятках боевых топоров; подобные украшения носят на шнуре, свисающем с шеи на грудь, их вырезают даже на веслах.
Эти туземцы пробыли у нас на борту недолго, потому что начал подниматься ветер. Все вернулись на свои лодки и поплыли к Моту-Аро. Днем капитан и несколько офицеров отправились на этот остров и увидели там семь вытащенных на берег каноэ, в которых прибыло сюда около 90 индейцев. Все они были заняты постройкой хижин. Наших людей встретили дружелюбно. Капитан раздал им подарки, в том число медные позолоченные медали, дюйм и три четверти в поперечнике, выбитые в честь этого плавания для распространения среди различных народов, которых мы встретим за это время. На одной стороне было погрудное изображение короля с надписью «Georg III, King of Great Britain, France and Ireland» [Георг III, король Великобритании, Франции и Ирландии][227]. На другой изображены два военных корабля с надписанными названиями «Resolution» [«Резолюшн»] и «Adventure» [«Адвенчер»], а внизу можно было прочесть «Sailed from England, March MDCCLXXII» [Отплыли из Англии в марте 1772]228]. Несколько таких медалей уже было роздано обитателям бухты Даски, а также и здесь, в проливе Королевы Шарлотты. Индейцы воспользовались случаем обменять на изделия из железа и стекла много своего оружия, инструментов, одежды и украшений, которых у этих новозеландцев было несравненно больше, чем мы до сих пор встречали у местных жителей. Капитан и его спутники заметили, что Теирату начальствует над всеми, так как они неизменно оказывали ему большое почтение. Чем определялось его превосходство, трудно сказать. Обычно здесь всюду почитаются люди в летах, вероятно из-за их опыта. Однако тут дело было в другом, ведь Теирату был человек крепкий, бодрый, во цвете лет. Но, возможно, когда начинается война, новозеландцы, подобно североамериканским дикарям, считают необходимым иметь предводителя, на которого можно положиться в час опасности, а для этого, конечно, лучше всего подходят молодые, энергичные люди. Чем воинственнее народ или группы, на которые он разделен, тем более необходимым представляется такой вид правления. Несомненно, они должны были понять, что способности вождя не передаются по наследству и, следовательно, не обязательно переходят к сыну; возможно, они также узнали на опыте, что наследственное правление естественно ведет к деспотизму[229].
Капитан Кук опасался, как бы индейцы, обнаружив на этом острове наш огород, по невежеству не опустошили его. Поэтому он сам повел туда вождя Теирату и показал ему все растения, особенно же картофель, который дикарь оценил очень высоко. Несомненно, он был уже с ним знаком, ибо похожее растение, а именно сладкий виргинский картофель (Convolvulus batatas), разводится в некоторых местах Северного острова, откуда он прибыл[230]. Он также обещал капитану не уничтожать огород, а дать ему спокойно, расти, после чего они попрощались. Когда капитан вернулся на корабль, морские пехотинцы дали три залпа в честь дня рождения короля, и наша команда троекратно крикнула «ура».
После полудня ветер стал крепчать и не менялся оба последующих дня, так что нам пришлось оставаться здесь до 7-го. Утром этого дня мы подняли якорь и вместе с «Адвенчером» отплыли из Шип-Коув. Пребывание в проливе Королевы Шарлотты укрепило здоровье наших людей, и они чувствовали себя теперь совершенно так же, как при отбытии из Англии. На нашем корабле был единственный больной, морской пехотинец, который и прежде все время страдал от чахотки и водянки.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Плавание от Новой Зеландии к О-Таити
После полудня [7 июня] мы достигли пролива Кука и прошли по нему на юг. Теперь перед нами был лишь бескрайний океан, известный под названием Южного моря. Та часть этого великого моря, что расположена под более благодатными теплыми широтами, уже исхожена многими кораблями, но в более холодные его места, так называемые средние широты, до первого плавания капитана Кука на «Индевре», то есть до 1770 года, еще не отваживался входить ни один европеец. Тем не менее считалось, что здесь должна находиться большая земля, и географы, обозначавшие ее на своих картах как Южный материк (Теrrа australis), полагали, что Новая Зеландия составляет его западное побережье; на востоке же, по их мнению, еще предстояло открыть часть этого материка, расположенную против Америки. Но поскольку в ходе предыдущего плавания капитан Кук выяснил, что Новая Зеландия представляет собой не что иное, как два больших острова, и что ни на востоке от нее до самой Америки, ни на юге до 40° нет никакой земли, размеры этого Южного материка несколько ограничили; но и в сузившихся границах он выглядел достаточно внушительным, чтобы привлечь внимание последующих мореплавателей. Таким образом, мы собирались проплыть по еще не исследованной части этого моря, пройти, несмотря на зимнее время, между 50° и 40° южной широты на восток с целью открытия новых земель. Многие из нас отправились в это опасное плавание, твердо уверенные, что мы скоро найдем берега этого Южного материка, природные богатства которого будут наградой за все перенесенные труды и лишения. Однако капитан Кук и некоторые другие, исходя из опыта как предыдущего плавания, так и этого, не слишком надеялись открыть новые земли и даже сомневались, существует ли вообще такой Южный материк.
На следующее утро в 8 часов мы еще находились у выхода из пролива и по-прежнему видели высокие, покрытые снегом горы Южного острова. Несмотря на такой зимний вид, погода здесь была ясной и мягкой, термометр в тени показывал 51° [10,6°С]. Большие стада китов проплывали мимо корабля; в большинстве своем они были совсем черными, с белым пятном перед задним спинным плавником. Мы выстрелили и попали одному в голову так точно, что он уже не мог нырнуть, а начал сильно биться на поверхности воды, окрасившейся кровью. Он имел на вид около 9 футов в длину, тело у него было узкое, а голова тупая, поэтому наши матросы назвали его bottle-nose. У Дейла так называется совсем другая рыба, а именно клюворылый кит, нос которого напоминает бутылочное горлышко. Ветер как раз был попутный, так что мы могли делать три с половиной английские мили в час; поэтому капитан не счел возможным задержаться и подобрать убитую рыбу[231].
«Днем капитан и астроном хотели завести хронометры, но никто не смог повернуть шпиндель в хронометре господина Арнольда, поэтому пришлось его спустить».
С тех пор как земля скрылась из виду, вокруг корабля продолжали летать бесчисленные стаи альбатросов трех различных видов. Наиболее распространенный и многочисленный вид имел неодинаковую окраску, что мы объясняли разным возрастом птиц. Самые старшие — совсем белые, у тех, что помоложе, часть перьев коричневая, самые молодые — целиком коричневые. Некоторые из наших матросов, прежде ходившие в Ост-Индию, говорили своим товарищам, что по сравнению с трудностями, которые довелось испытать нам, плавание в Ост-Индию просто пустяк. Они рассказывали также, как хорошо, между прочим, живут в таких плаваниях капитаны, и, перекинувшись разными анекдотами и шуточками на эту тему, позабавились наконец мыслью, что отлетевшие души всех этих капитанов в расплату за свои былые роскошества превратились теперь в этих вот альбатросов и вынуждены летать по Южному морю, куда при жизни они остерегались заходить. Теперь им приходится бедствовать, почувствовав себя игрушкою бурь и волн, от которых в своих каютах они обычно не особенно страдали. Эта шутливая и не лишенная поэтичности выдумка может служить подтверждением тому, что я говорил выше о своеобразном нраве моряков.
Офицеры, которым после свежей новозеландской пищи не захотелось опять есть солонину, приказали убить свою черную собаку и половину мяса послали капитану. Нам зажарили кострец, и так мы впервые отведали собачьего мяса. На вкус оно напоминало баранину настолько, что нельзя было заметить ни малейшей разницы. Для наших холодных краев, где принято питаться мясом и где мясная пища, видимо, необходима человеку по природе, поистине странно это иудейское предубеждение против собачьего мяса, тогда как мы не задумываясь едим мясо самого грязного из животных — свиньи. Если учесть, что собаки размножаются быстро, можно сказать, что природа создала их специально для того, чтобы они служили нам пищей. Возможно, кому-то покажется, что трудно убивать и есть наших собак ввиду их природных способностей. Однако не следует забывать, что сами эти способности и преданность их нам являются лишь результатом нашего же воспитания! В Новой Зеландии и, по рассказам, также на островах Южного моря, между тропиками, собаки — самые глупые и ограниченные животные, каких только можно себе представить. Они там кажутся ничуть не умнее и не ученее наших овец, которых принято считать символом ограниченности и глупости. В Новой Зеландии собак кормят рыбой, на других островах — фруктами и растениями. Возможно, это сказывается на их природе, возможно также, что воспитание порождает новые инстинкты. Новозеландские собаки получают в пищу то, что остается после хозяев, в том числе и кости других собак; таким образом уже щенки у них становятся пожирателями себе подобных. У нас на борту жила одна молодая новозеландская собака. До того как мы ее купили, она не пробовала еще ничего, кроме материнского молока; тем не менее она с великой жадностью поела в тот день собачьего жаркого, сожрав и мясо, и кости, тогда как другие, европейского типа собаки, которых мы взяли на мысе Доброй Надежды, не притронулись к ним, не говоря уже о том, чтобы их поесть.
До 16-го мы держали курс все время на юго-восток, постоянно окруженные буревестниками и альбатросами; иногда можно было увидеть и отдельных серых чаек (Larus catarractes); в море плавали большие пучки водорослей. Все это нам было уже знакомо, и мы не решались делать из этого какие-либо выводы. Термометр, за которым наблюдали каждое утро в 8 часов и который при нашем отбытии из Новой Зеландии показывал 51° [10,6°С], упал по мере нашего продвижения к югу до 48° [8,8°С], а то и до 47° [8,3°С]. Следует, однако, заметить, что вообще температура и погода были очень переменчивы. Поэтому каждый день, обычно утром, мы видели на горизонте радугу или часть ее. Ветер до сих пор также все время менялся и обошел весь компас с запада через север на восток и так далее, однако по большей части он дул с юга, что было для нас неожиданно и очень некстати, поскольку он дул нам все время навстречу, да еще сопровождался обычно туманом, дождем и высокими волнами. Достигнув 46° 17' южной широты, мы повернули, насколько нам позволял ветер, на северо-восток.
23-го ветер и погода помягчели. Капитан Фюрно воспользовался этим, а также соседством обоих кораблей, чтобы подняться к нам на борт и отобедать с нами. Он сообщил капитану, что его люди чувствуют себя хорошо, исключая одного-двух человек, которым пришлось расплачиваться за общение с нездоровыми женщинами. Это известие было нам особенно неприятно, ибо из него следовало, что отвратительная болезнь достигла уже и Новой Зеландии, поскольку нигде больше наши люди заразиться не могли. Ввиду страшных последствий, какие эта пагуба могла иметь для новозеландцев, мы сочли необходимым всерьез разобраться, не занесена ли она европейцами, и если да, то при каких обстоятельствах? Первооткрыватель этой земли, Абель Янсен Тасман, пришел сюда в 1642 году. Однако он не завязал с местными, жителями никаких дружественных отношений, очень даже вероятно, что никто из его людей не сходил на берег. Следующим мореплавателем, который более чем сто лет спустя, в 1769 и 1770 годах, посетил Новую Зеландию, был капитан Пондишери, миновал Малаккский пролив, стал на якорь возле островов Общества, где некоторые его люди подхватили заразу. Но поскольку плавание от этих островов до Новой Зеландии заняло почти два месяца, у врача было достаточно времени, чтобы совершенно вылечить больных, и к моменту прибытия туда он заверил капитана, что ни у кого из них не осталось ни малейшего следа болезни. Несмотря на это, капитан Кук из предосторожности не отпускал на берег никого, кто проходил курс лечения, опасаясь, как бы в их теле не остались скрытые следы этой заразы. А чтобы исключить всякую возможность передать ее невинному народу, на борт не допускалась ни одна женщина. Третьим европейцем, посетившим Новую Зеландию, был французский мореплаватель капитан Сюрвиль. Он вышел в плавание на корабле «Сен Жан ле Баптист» из Пондишери, миновал Малаккский пролив, стал на якорь возле островов Ваши [Батан], прошел мимо Манилы, открыл к юго-востоку от Новой Британии, под 101/2° [южной] широты и 158° восточной долготы, землю, которой дал название Порт-Сюрвиль, и затем направился к Новой Зеландии. Оттуда он по торговым делам пошел в Кальяо в Южной Америке, но там утонул при попытке выйти на берег, а поскольку вместе с ним оказались потерянными все его бумаги, корабль задерживали почти два года, после чего отослали обратно во Францию со всеми товарами.
Господин Сюрвиль 9 декабря 1769 года находился в бухте Даутлесс [Лopистoн] в Новой Зеландии и видел, как мимо проплывал «Индевр». Но капитан Кук не мог видеть французский корабль, который стоял на якоре за горой[232]. Что там делал господин Сюрвиль и какие у него были отношения с местными жителями, я не знаю, однако бухта Даутлесс находится так далеко от пролива Королевы Шарлотты, что жители этих двух мест вряд ли могли общаться друг с другом. Следовательно, даже если предположить, что команда господина Сюрвиля занесла болезнь в бухту Даутлесс, остается непонятным, как она могла бы распространиться оттуда так далеко на юг. То же самое можно сказать и о господине Марионе и о капитане Крозе, двух французских мореплавателях, чьи путешествия 1772 года я упоминал выше, поскольку общение, которое имели их команды с туземцами, ограничивалось только бухтой Островов [Бен-оф-Айлеидс] на самой северной оконечности Северного острова, то есть также весьма далеко от пролива Королевы Шарлотты. Непосредственно после этих двух кораблей в Новую Зеландию пришли мы; однако у нас не было ни малейшей причины предполагать, что наши люди могли занести сюда какую бы то ни было венерическую болезнь. Минуло уже шесть месяцев с той поры, как мы покинули мыс Доброй Надежды, а это было последнее место, где матросы могли ее заполучить. После этого они пять месяцев провели в открытом море, а за это время можно было бы совершенно излечиться даже от самой тяжелой формы болезни. Но у нас на борту, напротив, не было ни одного венерического больного. Можно ли было предположить, что все это время яд оставался скрытым в людях, которые не ели ничего, кроме солонины, не пили ничего, кроме спиртных напитков, и которым при этом приходилось терпеть сырость, холод и все прочие неприятности южного климата? Из всего этого мы заключили, что венерические болезни в Новой Зеландии имеют местное происхождение, а не занесены сюда европейцами, и за все время нашего дальнейшего плавания у нас не было причины изменить это мнение[233]. Если же вопреки всему наши предположения ошибочны, тогда это постыдное обстоятельство следует записать в счет цивилизованным европейским нациям, несчастный же народ, зараженный этим ядом, вправе проклясть их память. Вред, который они таким образом нанесли этой части рода человеческого, никогда и никоим образом не может быть извинен и исправлен. Хотя они купили и оплатили удовлетворение своих желаний, это тем менее может служить оправданием несправедливости, что сама плата (изделия из железа) была постыдна, и нравственные основы этого народа оказались подорванными, тогда как постыдная болезнь ослабляет и губит только тело. Народ, который, несмотря на свою крайнюю дикость, горячий темперамент и ужасные обычаи, показал себя храбрым, благородным, гостеприимным и не способным ни на какое вероломство, заслуживает сострадания вдвойне, если для него даже любовь, источник самых сладостных и счастливых ощущений, станет причиной страшнейшего бедствия — причем безо всякой его вины.
До начала июля ветер оставался по-прежнему переменчивым. Он больше четырех раз обошел весь компас против солнца. Все это время мы часто видели альбатросов, буревестников и морскую траву. Почти каждое утро появлялась также радуга; однажды мы видели даже сильную радугу ночью при свете луны.
9-го мы находились примерно на той же долготе, которой достиг капитан Кук во время своего прошлого плавания, и под 40°22' южной широты, то есть на этот раз дальше к югу на 2 1/4°. Здесь у нас упал за борт молодой козел; его сумели выловить и сделали все возможное, чтобы вернуть к жизни: растирание, табачную клизму; однако все оказалось безуспешно.
17-го, когда мы находились под 227° восточной долготы [133° западной долготы] и примерно 40° южной широты, капитан наконец приказал повернуть на север. До сих пор в поисках Южного материка мы большей частью плыли на восток, причем держались в широтах, где, по общим предположениям, этот материк должен был находиться. Часы на сей раз тянулись для нас особенно долго, так как время года было неприятное и суровое, ветер но большей части дул нам навстречу и никакой новизны не сулил; напротив, все было однообразно и давно известно. Единственное, что мы приобрели,— это уверенность в том, «что в средних широтах Южного моря нет никакой большой земли». За пять дней мы достигли уже 31° южной широты. Теперь пропали альбатросы и буревестники, термометр поднялся до 611/2° [16,4°C], и мы впервые со времени нашего отплытия с мыса Доброй Надежды смогли снять зимнюю одежду. Чем ближе подходили мы к тропику, тем лучше становилось настроение команды. Вечерами матросы уже начали развлекаться на палубе всякими играми. Живительная мягкость и теплота воздуха казались нам чем-то совершенно новым и радостным; недаром же мы предпочитаем теплый климат всякому другому и считаем его наиболее полезным для человека.
25-го после полудня мы увидели тропическую птицу — верный признак того, что за 30° южной широты мы попали в более мягкий климат. Заходящее солнце озаряло облака сияющим золотистым светом, утверждая нас во мнении, что нигде воздух не бывает столь прекрасным, а небеса столь великолепными, как между тропиками.
28-го «Адвенчер» подошел к нам так близко, что мы могли переговариваться с его командой. Они рассказали нам, что три дня назад умер их повар и что двадцать человек на судне болеют цингой. Это известие было для нас тем более неожиданным, что на нашем корабле ни у кого не было даже признака цинги; вообще у нас на борту был лишь один тяжелобольной. Желая им помочь, капитан Кук на другой день послал туда одного из своих людей исполнять обязанности кока, а некоторые из наших спутников воспользовались случаем, чтобы подняться на борт «Адвенчера», и там отобедали. Они обнаружили, что капитан Фюрно, как и другие, страдает ломотой в суставах, а многие еще и поносом. Среди больных цингой хуже всего было плотнику, у которого уже пошли большие синеватые пятна на ногах. Такая разница в самочувствии команд наших двух кораблей объяснялась, вероятно, тем, что на «Адвенчере» не хватало свежего воздуха. Наш корабль держался выше над водой, поэтому даже в плохую погоду мы могли оставлять открытыми больше люков, чем они. Кроме того, наши люди чаще ели квашеную капусту и употребляли больше сусла, главное же, они ставили солодовые припарки на места, покрытые цинготными пятнами, и на опухшие суставы, чего на «Адвенчере» как раз не делали. По этому поводу нелишне будет заметить, что цинга в теплых краях бывает особенно опасной н тяжелой. Пока мы находились в более высоких и холодных широтах, она никак не давала себя знать, разве что у отдельных людей, нездоровых и склонных к ней по природе. Но в первые же десять дней теплой погоды на борту «Адвенчера» умер от нее больной, а у многих других проявились тяжелейшие ее симптомы. Видимо, жара способствует воспалению и нагноению, и даже у тех, кто не был опасно поражен цингой, она усиливала бледность и слабость.
«1-го августа мы находились под 25° 1' южной широты, то есть в местах, где, по сведениям капитана Картерета, должен быть остров Питкэрн; поэтому мы внимательно обозревали море, но ничего примечательного не видели. Правда, капитан Кук предположил, что, судя по дневнику Картерета, остров мог остаться в 15 английских морских милях к востоку, но, поскольку со здоровьем команды на втором корабле обстояло столь неблагополучно, было решено не тратить времени на поиски этого острова»[234].
4-го молодая сука, которую мы взяли на мысе Доброй Надежды и которую покрыл пудель, ощенилась десятью щенятами; один из них появился на свет мертвым. Молодой новозеландский пес, о котором упоминалось выше и который столь жадно пожирал собачье жаркое, тотчас набросился на этого щенка и с жадностью его съел. Это, мне кажется, может служить доказательством того, насколько воспитание способно порождать и закреплять у животных новые инстинкты. Европейские собаки никогда не станут есть собачьего мяса. Они, кажется, скорее испытывают к нему отвращение. Новозеландские же, видимо, получают от своих хозяев остатки еды, в том числе рыбу, собачье и человечье мясо, и то, что поначалу было привычкой отдельных собак, с течением времени превратилось в общий инстинкт всего вида. Во всяком случае, так обстояло дело с нашим псом-каннибалом; ведь он появился на корабле таким молодым, что не пробовал еще ничего, кроме материнского молока, и, следовательно, еще не мог привыкнуть к собачьему, а тем более к человечьему мясу. Тем не менее он, как уже было сказано, ел собачину в жареном и сыром виде, и когда один матрос как-то порезал себе палец и протянул ему, тот не только проявил готовность слизать кровь, но и попытался вцепиться в него зубами.
6-го пополудни, когда мы находились под 19 1/2° южной широты, долгий штиль сменился восточным пассатом; прошел сильный ливень, ветер стал по-настоящему свежим. По всему он должен был начаться гораздо раньше, уже когда мы вошли в тропики, ведь эти места можно, собственно, считать его границей. Но, вероятно, столь позднее начало ветров объясняется временем года, ведь солнце в ту пору еще находилось над другим полушарием, здесь же, в южном, была еще зима[235]. Но самым странным для нас был характер ветров со времени нашего отплытия из пролива Королевы Шарлотты и до начала настоящего пассата. Мы ожидали, что между 50° и 40° южной широты большую часть всего времени должен был дуть постоянный западный ветер, как это обычно бывает в Северном полушарии. Оказалось, однако, что за 2—3 дня ветер обегал весь компас, надолго же устанавливался лишь иногда ветер с востока, причем по временам он бывал очень сильный. Так что название Тихое море, которое обычно применяют ко всему Южному морю, подходит, на мой взгляд, лишь к той его части, что лежит между тропиками, ибо только там ветер постоянен, а погода обычно хорошая, теплая и море менее беспокойно, нежели в более высоких широтах.
Как и в Атлантическом море, альбатросы, бониты и дорады [корифены] охотились за летучими рыбами. Большие черные птицы с длинными крыльями и вилкообразными хвостами, которых называют фрегатами и которые обычно парят высоко в воздухе, вдруг со скоростью стрелы кидались сверху на рыб и никогда не упускали добычи. Точно так же охотятся за рыбой олуши английских морей, принадлежащие к тому же роду[236]. Поэтому рыбаки придумали ловить этих птиц на селедку, которая насаживается на заостренный нож, прикрепленный к маленькой, свободно плавающей дощечке; птица бросается на нее и накалывается.
11-го утром милях в 6 к югу от себя мы увидели низкий остров в 4 мили длиной, казавшийся столь же плоским, как само море. Лишь кое-где виднелись отдельные, как бы выраставшие из моря группы деревьев, над которыми возвышались верхушки кокосовых пальм. После томительной скуки нашего плавания один вид земли способен был нас обрадовать, хотя мы ничего от нее не ожидали; особенно красивого впечатления остров не производил, но взгляду был приятен просто сам вид природы. Термометр все время показывал между 70° [21,1°С] и 80° [26,6°C], однако жара не казалась чрезмерной, поскольку при ясной погоде нас сопровождал довольно крепкий, приятно освежавший пассат, а полотняные тенты на задней палубе давали нам и тень.
Остров получил название Резолюшн-Айленд [атолл Тауэре]. Вероятно, его видел и господин Бугенвиль, насколько можно судить по его дневнику. Он расположен под 17°24' южной широты и под 141°39' западной долготы от Гринвича [237].
К полудню мы находились под 17°17' южной широты и держали курс почти прямо на восток. Вечером, в половине шестого, показался еще один остров такого же рода, он находился от нас в 4 английских милях и был назван островом Даутфул [атолл Текокото]. Так как солнце уже зашло, мы шли на север до тех пор, покуда не миновали остров и могли не опасаться, что наткнемся в темноте на берег. На другое утро перед рассветом нас испугал неожиданный шум прибоя едва в полумиле от корабля. Мы тотчас сделали поворот, дали «Адвенчеру» сигнал об опасности и поплыли правее вдоль рифа[238]. Когда рассвело, мы увидели в том месте, откуда слышался прибой, круглый остров с большим бассейном посредине. Северная сторона острова поросла пальмами и прочими деревьями. Они стояли группами и имели весьма живописный вид. Остальную же часть острова составлял лишь узкий ряд невысоких скал, через которые с грохотом перекатывались волны. Судя по цвету воды, соленое озеро в той части, что находилась ближе к нам, было мелким, но дальше к северному лесистому берегу оно становилось глубже; с нашей стороны оно выглядело беловатым, а с той было голубым. Этот остров капитан Кук назвал именем Фюрно [атолл Марутеа]. Он расположен под 17°5' южной широты и под 143° 16' западной долготы[239].
Когда мы обошли риф с южной стороны, у северной оконечности острова показалось каноэ под парусом. В подзорную трубу можно было различить в нем шесть-семь человек; одни из них стоя правил рулевым веслом. Было похоже, что они вышли в море не ради нас и к кораблю не шли, а оставались вблизи лесистого берега острова.
Весь день до самого заката мы шли дальше при попутном ветре и хорошей погоде. С наступлением темноты мы легли в дрейф, потому что обилие низких островов и скал вокруг, которых обычно не заметишь, покуда не окажешься совсем рядом, делало плавание опасным. Рано утром мы опять подняли паруса и прошли мимо еще одного такого же острова, который находился справа от нас и получил название острова Адвенчер [атолл Мотутунга]. Он находится под 17°4' южной широты и 144°30' западной долготы[240].
Переговорив еще раз с «Адвенчером», мы узнали, что у них в списке больных тридцать человек, почти все с цингой. На нашем же корабле люди почти не знали этой болезни, и предпринимались все меры, чтобы поддержать их в таком добром здравии. Они усердно ели кислую капусту, их койки каждый день проветривались, а весь корабль часто окуривался порохом с уксусом.
После полудня мы увидели прямо перед собой остров, состоявший из цепи низких скал, на которых росли группы деревьев. Судя по расположению и виду, это был тот самый остров, который капитан Кук во время своего прошлого плавания назвал Чейн-Айленд, то есть Цепной остров [атолл Aнaa]. Чтобы ночью не останавливаться, как накануне, а продолжать плавание, капитан приказал пустить перед кораблем шлюпку с фонарем. Как, только со шлюпки увидели бы опасное место, они дали бы об этом сигнал. Такая предосторожность была необходима из-за множества низких островов, которые, как уже было сказано, нередко встречаются в Южном море между тропиками и отличаются своеобразным строением. Состоят они из скал, которые поднимаются из моря отвесно, точно стены, но во многих местах едва выступают над водой, в самых высоких местах не более чем на 6 футов. Часто они имеют форму круга, посреди — бассейн с водой, у берегов же море бездонно. Растительности на них бывает немного, самое лучшее и полезное из растений, несомненно, кокосовое дерево[241]. Несмотря на столь скудную природу и малые размеры, некоторые из них обитаемы. Но как они оказались заселены, сказать так же трудно, как и объяснить, откуда появились жители на более высоких островах Южного моря. Коммодор (ныне адмирал) Байрон, а после него капитан Уоллис, проходя во время своих кругосветных путешествий мимо этих низких островов, посылали на берег своих людей, которых туземцы встретили испуганно и неприязненно. Видимо, из-за своей малочисленности они боялись нападения. Неприязнь же объяснялась тем, что на этих маленьких круглых островах им с немалым трудом удавалось обеспечить необходимым пропитанием самих себя, и вряд ли им могли понравиться чужаки, грозившие забрать последнюю малость. Поэтому мы ничего не можем сказать об их происхождении, ведь до сих пор совершенно неизвестны их язык и обычаи, а это единственное, что может рассказать о происхождении таких народов, по имеющих письменности и документов [242].
Утром 15-го августа мы увидели высокую гору с плоской вершиной. Ее впервые открыл капитан Уоллис и назвал островом Оснабург [Мехетиа]. Затем его видел господин Бугенвиль, на его карте он называется Пик де ля Будёз, или Ле Будуар. Гора кажется довольно высокой, а вершина как бы отломана и похожа на кратер вулкана, который извергался здесь когда-то. Сам остров почти круглый, а гора, со всех сторон поднимавшаяся круто, имела вид конуса. На побережье почти не было видно равнинных участков, а там, где они имелись, земля, как и вся гора, заросла красивой зеленью. Пока мы наслаждались этим приятным видом, один из наших офицеров, которого капитан Уоллис посылал здесь когда-то на берег, рассказал, что на этих деревьях растут хлебные плоды, столь прославленные путешествиями Ансона, Байрона, Уоллиса и Кука [243]. Он добавил, что на местном языке остров называется Меатеа и жители его относятся к тому же типу, что и обитатели островов Общества и О-Таити; последний находится отсюда лишь в половине дневного плавания. Вот все, что мы могли узнать об этом острове, поскольку оставались от него в добрых 4 милях, и, вероятно, по этой причине ни одно каноэ не отошло к нам от берега.
Так как ветер был слабым, мы послали на «Адвенчер» шлюпку, которая доставила к нам капитана Фюрно. Было приятно услышать от него, что понос, который недавно распространился среди его людей, уже прошел и что цинга ни у кого не приняла опасной формы. Таким образом, близость О-Таити позволяла надеяться, что свежая растительная пища вскоре поможет полностью искоренить болезнь.
На закате солнца гора этого вожделенного острова уже показалась над горизонтом из позолоченных облаков. Все на корабле, кроме разве одного-двух человек, которых это не взволновало, жадно поспешили на палубу и устремили взоры к сей земле, пробуждавшей самые большие ожидания — не только потому, что, по единодушным свидетельствам всех мореплавателей, бывавших здесь, на ней имелось изобилие свежей пищи, но и потому, что местные жители обладали особенно добрым и приятным нравом. По всей вероятности, первым открыл этот остров испанец Педро Фернандес де Кирос. Он отплыл 21 декабря 1605 года из Лимы в Перу и 10 февраля 1606 года открыл остров, который назвал Сагитария; судя по всему, это и был нынешний О-Таити [244]. На его южной стороне, где де Кирос подошел к берегу, не было гавани, и он довольствовался том, что послал в лодке на берег нескольких своих людей, которых встретили дружелюбно и приветливо. Затем этот остров нашел капитан Уоллис 18 июня 1767 года и назвал его именем Георга Третьего. Из-за несчастного недоразумения, происшедшего между ним и туземцами, он приказал открыть огонь, в результате чего было убито 15 человек и многие ранены. Однако добросердечные туземцы забыли потери и раны своих собратьев, вскоре затем заключили с ним мир и снабдили его большим количеством продовольствия, главным образом всяческими кореньями, превосходными плодами, курами и свиньями. Господин Бугенвиль 2 апреля 1768 года, то есть примерно спустя десять с половиной месяцев после капитана Уоллиса, достиг восточного побережья этого острова и узнал его настоящее название. Он пробыл на нем десять дней и снискал за это время большое уважение и дружбу местных жителей, которым он ответил добром и вообще воздал должное прекрасному характеру этого народа. Затем в апреле 1769 года сюда на корабле «Индевр» прибыл капитан Кук, дабы наблюдать прохождение Венеры. Он пробыл здесь три месяца и с помощью шлюпки осмотрел весь остров, используя любую возможность, чтобы проверить и подтвердить прошлые наблюдении и сообщения о нем.
Всю ночь мы шли к берегу и в ожидании утра читали прекрасные описания острова, сделанные нашими предшественниками. Мы уже начали забывать тяготы, перенесенные в суровых южных широтах; исчезла тягостная скорбность, омрачавшая до сих пор наши лица, пугающие видения болезней и страх смерти отступили назад, и все наши заботы утихли.
Somno positi sub nocte silenti Lenibant curas ot corda oblita laborum. Virgil[245]ГЛАВА ВОСЬМАЯ Стоянка в Бухте О-Аитепиеха малого полуострова О-Таити.— Прибытие в бухту Матаваи
Devenere locos laetos et amoena vireta Fortunatorum nemorum, sedesque beatas. Largior hic campos aether et lumine vestit Purpureo. Virgil.[246]Стояло утро, прекраснее которого не мог бы вообразить поэт, когда мы в двух милях от себя увидели остров О-Таити [Таити]. Восточный ветер, сопровождавший нас до сих пор, утих, а ветерок с берега доносил прекрасные свежие ароматы и волновал поверхность моря. Покрытые лесом горы величественных очертаний вздымали свои вершины, уже озаренные первыми лучами солнца. Под ними виднелся ряд пологих холмов, покрытых, как и горы, лесами и расцвеченных в разные оттенки, от зеленого до осеннего багрянца. Перед нами простиралась равнина, осененная плодоносящими хлебными деревьями и бесчисленными пальмами, широко раскинувшими свои царственные кроны. Все пребывало еще в глубоком сне; едва занимался рассвет, и тихие тени еще витали над пейзажем. Но постепенно стали различимы под деревьями дома и каноэ, вытащенные на песчаный берег. В полумиле от берега параллельно ему тянулась гряда невысоких скал, над которыми пенился морской прибой, за ними же вода была гладкой и обещала надельную стоянку. Наконец солнце осветило и равнину. Жители просыпались, все начало оживать.
Едва заметив в море большой корабль, несколько туземцев поспешили на берег, столкнули в воду свои каноэ и поплыли к нам. Вскоре они прошли между рифами, и одно каноэ приблизилось к нам на расстояние слышимости. В нем сидели два почти совершенно нагих человека, на головах у них было что-то вроде тюрбанов, на бедрах — передники. Они махали большими зелеными листьями и время от времени выкрикивали:
«Тайо!» — возглас, который нам и без словаря нетрудно было растолковать как дружественное приветствие. Когда каноэ вплотную подошло к корме, мы тотчас спустили им подарок: бусы, гвозди и медали. Они в ответ передали нам зеленую банановую ветвь, которая у них символизирует мир, и попросили прикрепить ее к кораблю так, чтобы все видели. Ветвь прикрепили к снасти главной мачты, после чего наши друзья тотчас вернулись на берег.
Вскоре весь берег оказался усыпанным множеством людей. Одни смотрели на нас, другие, доверившись заключенному мирному союзу, сталкивали в воду каноэ и грузили в них плоды своей земли. Не прошло и часа, как нас окружили сотни таких лодок, в каждой из них находилось от одного до четырех человек. Они настолько доверяли нам, что приплыли без оружия. Со всех сторон слышалось дружелюбное «Тайо!», и мы отвечали искрение, от души радуясь происходящему. Они привезли нам множество кокосовых орехов, бананов, а также плодов хлебного дерева и других растений, которые усердно меняли на бусы и мелкие гвозди. Предлагались на обмен и легко находили желающих также куски материи[247], рыболовные крючки, каменные топоры и разные прочие изделия. Множество каноэ, сновавшие взад-вперед между нами и берегом, представляли собой прекрасное зрелище, своего рода ярмарку на воде. Я тоже через окно каюты начал приобретать дары здешней природы и через полчаса уже имел две-три разновидности неизвестных птиц и много новых рыб. Рыбы эти, пока оставались живыми, отличались исключительно красивым цветом, поэтому я потратил все утро, чтобы их зарисовать и запечатлеть яркие краски, покуда они не исчезли вместе с жизнью.
Черты людей, окружавших нас, были столь же мягкими, сколь и приятным было их поведение. Роста они примерно нашего, цвет кожи — коричневый, как у красного дерева; у них красивые черные глаза и волосы, вокруг пояса они носили кусок материи собственной работы; другое полотнище живописно обертывалось вокруг головы наподобие тюрбана. Женщины достаточно миловидны, чтобы обратить на себя внимание европейцев, которые больше года не видели соотечественниц. Их одежда состояла из полотнища с отверстием посередине для головы, сзади и спереди оно доходило до колен. Поверх него надевался другой кусок материи, тонкостью напоминавшей миткаль, который на разный манер, однако довольно изящно обертывался вокруг тела ниже груди наподобие туники; свободный конец перекидывался через плечо, иногда очень грациозно. Хотя этот наряд, возможно, и уступал по красоте драпировкам, какими мы любуемся у греческих статуй, однако он превосходил всё наши ожидания и был островитянкам необычайно к лицу. Представителей обоих полов украшали или, вернее, изменяли до неузнаваемости уже описанные другими путешественниками странные черные пятна, которые получались путем накалывания кожи, а затем втирания в эти места черной краски[248]. У людей простого звания, которые ходили по большей части нагими, такие пятна имелись в основном на бедрах, наглядно показывая, сколь различны представления людей о красоте и в то же время сколь одинаково все они склонны так или иначе делать себя красивее, чем есть.
Вскоре несколько туземцев поднялись к нам на борт. В каждом их движении, в каждом поступке чувствовалась необычайная мягкость нрава — основная черта их национального характера, достойная внимания каждого, кто изучает человеческое сердце. Внешне их расположение к нам проявлялось по-разному. Одни трогали наши руки, другие прижимались к плечу, третьи нас обнимали. Их удивлял белый цвет нашей кожи, и иногда они раздвигали у нас на груди одежду, дабы убедиться, что мы устроены так же, как они.
По тому, как мы интересовались названиями разных предметов, а кое-что уже знали по словарям, составленным предыдущими путешественниками, они поняли, что мы не прочь научиться их языку, и не пожалели труда, чтобы дать нам уроки, радуясь, когда нам удавалось правильно произнести слово. Что до меня, то ни один язык не показался мне легче этого. Из него изгнаны твердые и шипящие согласные, причем почти каждое слово оканчивается гласным звуком. Требуется лишь тонкий слух, чтобы различать многочисленные оттенки гласных, естественные для языка, ограничившегося столь малым числом согласных; но если это как следует усвоить, речь получается весьма приятной и благозвучной. Мы также заметили, что «о» и «э», которыми начинается большинство названий и имен (как это отмечалось еще во время первого плавания капитана Кука), являются не чем иным, как артиклями наподобие тех, что ставятся перед именами во многих восточных языках; в ходе дальнейшего повествования я буду их либо опускать, либо отделять от имени дефисом. Я уже упоминал, что господину Бугенвилю посчастливилось сразу узнать настоящее название острова, без артикля, и он совершенно правильно воспроизвел его, насколько позволяли особенности французского языка, как Таити; правда; индейцы произносят его с легким придыханием; Тахити.
В рифе перед нами имелся проход к бухте Ваиуруа, расположенной на меньшем полуострове О-Таити[249]. Поэтому мы послали шлюпку разведать как проход, так и гавань. Выяснив, что дно удобно для якорной стоянки, и выполнив таким образом свое поручение, наши люди вышли на берег. Вокруг них сразу собралась толпа туземцев. Мы находились так близко от берега; что слышали даже визг поросят, и звук этот казался нам тогда милее, чем самая прекрасная музыка величайших виртуозов. Однако приобрести хотя бы нескольких поросят нашим посланцам не удалось; продавать их отказывались, ссылаясь на то, что все они принадлежат эри, то есть королю[250].
Тем временем к кораблю подошло большое каноэ. В нем находился прекрасно сложенный мужчина, ростом около 6 футов, и с ним три женщины. Все они поднялись на борт, и мужчина представился нам. Его звали О-Таи. В этой части острова он был, видимо, важной персоной и принадлежал к разряду вассалов, или свободных людей, которые в описании первого путешествия капитана Кука названы манахунэ. Вскоре он присоединился к офицерам, собравшимся на палубе, рассудив, вероятно, что это общество и это место наиболее ему приличествуют. Цветом кожи он был заметно светлее своих соотечественников, коих мы до сих пор видели, и в этом отношении немногим уступал вест-индским метисам. У него были действительно красивые и правильные черты: лоб высокий, брови дугообразные, большие черные глаза полны выразительности, нос пропорциональный; в рисунке рта — что-то особенно приятное и привлекательное, губы, правда, несколько толстоваты, но не выпячены и тоже не лишены приятности; борода черная, в мелких завитках; смолисто-черные, от природы вьющиеся волосы опускались, как принято здесь, до шеи. Увидев, однако, как мы связываем себе волосы в пучок на затылке, он тотчас перенял эту моду, использовав черный шелковый шейный платок, который подарил ему господин Клерк. В общем он был хорошо сложен, хотя слегка толстоват, да еще ступни ног казались непропорционально большими.
С помощью своих словарей мы задали ему несколько вопросов. Одни из первых был: жив ли еще Тутаха? В ответ мы услышали: он умер, его убили жители Теиаррабу [Таити-ити], меньшего полуострова, где он был ахеатуа э-эри, то есть королем[251]. Эти сведения вскоре единодушно подтвердили все его соотечественники. Из трёх приехавших с ним женщин одна была его жена, а дне другие — сестры. Последним доставляло особое удовольствие объяснять нам, как произносить их имена, довольно благозвучные: одну звали Мароия, другую Марораи. Цвет их кожи был еще светлее, чем у О-Таи, ростом же они были на 9—10 дюймов ниже его. У Марораи была грациозная фигура, особенно верхняя часть тела — весьма красивого и нежного сложения. Правда, в целом черты у нее были не такие правильные, как у брата, зато приятное круглое лицо сияло невыразимо прелестной улыбкой.
Видимо, они еще никогда не бывали на корабле, так все их здесь удивляло. Не ограничившись осмотром палубы, они в сопровождении одного из наших людей спустились в офицерские каюты и весьма внимательно осмотрели там все. Марораи особенно понравились покрывала, которые она увидела на койках, и она всячески пыталась получить их от своего провожатого в подарок, хотя и безуспешно. Он, правда, был не совсем против сделать ей такой подарок, но потребовал за это некой особой милости, на которую Марораи поначалу никак не соглашалась; Однако, увидев, что другой возможности добиться своего нет, после некоторого сопротивления поддалась. Победитель уже собирался праздновать свой триумф, когда корабль в самое неподходящее время, какое только можно вообразить, наткнулся на скалу и, увы, испортил ему всю радость. Испуганный любовник, лучше, нежели его возлюбленная, понимавший, какая опасность грозит судну, тотчас же оставил свою индейскую подругу и выбежал на палубу, куда поспешили, каждый на свой пост, и другие моряки. Вскоре обнаружилось, что течение при полном штиле незаметно вынесло нас на скалы и что мы крепко сели на них, еще не успев достичь входа в гавань, хотя туда можно было добросить камнем. Тем временем корабль несколько раз подряд ударило о скалы, так что положение наше выглядело весьма плачевным. К счастью, весь день было безветренно, море оставалось спокойным, и у скал не было особого прибоя. Но, поднимись только обычный на море ветер, спасти корабль было бы уже невозможно.
В этих обстоятельствах офицеры и пассажиры, все без различия, делали что могли. Незамедлительно была снаряжена шлюпка, на ней был завезен и отдан неподалеку от нас якорь, благодаря чему осадка корабля несколько уменьшилась и он снова обрел плавучесть. Когда индейцы увидели, что нам приходится худо, они включились в работу, помогая нам убирать снасти и тому подобное. Имей они против нас хоть какие-нибудь коварные замыслы, сейчас им предоставлялась наилучшая возможность доставить нам неприятности; но в этом случае, как и во всех других, они проявили себя в высшей степени дружелюбно и доброжелательно. Заниматься этой тяжелой работой приходилось при редкостной жаре. Термометр в тени показывал 90° [32,2°C], солнце казалось пылающим, на небе не видно было ни единого облачка, не чувствовалось ни малейшего ветерка.
«Адвенчер» в это время находился поблизости, но избежал опасности, поскорее отдав якоря. Среди прочего, своим спасением мы обязаны были и тому обстоятельству, что скалы, на которые нас вынесло, имели уступы, так что якорю было за что зацепиться, а это случай редкий, обычно коралловые рифы совершенно отвесные. После полуторачасовых усилий, часа примерно в три, мы сумели сняться. Мы поскорее подкрепились, и, поскольку это место могло оказаться весьма опасным, если бы подул восточный ветер, с обоих кораблей были спущены шлюпки, чтобы отбуксировать наш корабль опять в море.
Около пяти часов на помощь нам пришел легкий ветер. Тогда освободившиеся шлюпки мы послали к «Адвенчеру», чтобы помочь ему сняться с якоря. Но там, не дожидаясь нас, уже подняли паруса, чтобы, воспользовавшись благоприятным ветром, без промедления следовать за нами.
Всю ночь оба корабля лавировали в разных направлениях. Опасные скалы освещались множеством огней, при свете которых индейцы ловили рыбу. Когда один из офицеров решил пойти спать, он не обнаружил на своей койке покрывала; вероятно, его унесла красавица Марораи, после того как ее столь поспешно покинул любовник; причем ей надо было воспользоваться этой маленькой возможностью особенно искусно и как можно скорее, иначе ее отсутствие на палубе могло быть замечено и показалось бы подозрительным.
На другое утро мы опять приблизились к берегу и пошли вдоль северной стороны меньшего полуострова. Вскоре, как и накануне, нас окружили каноэ, в которых туземцы привезли много всевозможной провизии, за исключением мяса. Они совершенно оглушили нас дружественными восклицаниями. Каноэ нередко переворачивались, но для находившихся там это была невелика беда, так как и мужчины, и женщины были превосходными пловцами и весьма проворно забирались опять в свои лодки. Поняв, что я интересуюсь растениями и другими природными достопримечательностями, они навезли много подобной всячины, но то это были одни только листья без цветов, то, наоборот, цветы без листьев. Тем не менее я узнал обычную разновидность черного паслена и прекрасную эритрину, или коралловый цветок. Таким же образом я получил всевозможные раковины, кораллы, птиц и т. п.
В 11 часов мы бросили якорь в маленькой бухте под названием О-Аитепиеха [Пихаа], расположенной в северной части южного, или малого, полуострова О-Таити, который на местном языке называется Теиаррабу. Теперь народ начал прибывать по-настоящему, каноэ приплывали со всех сторон. Люди так набросились на наши бусы, гвозди, ножи, что нам в обмен удалось получить невероятное количество их материй, циновок, корзин и прочих предметов, а также кокосовых орехов, плодов хлебного дерева, ямса и бананов252]. Торговцы часто поднимались на палубу и, улучив минуту, пробовали украсть какую-нибудь мелочь. Некоторые проявляли такую жадность, что даже перебрасывали купленные нами кокосовые орехи обратно через борт своим товарищам, и те продавали их нашим людям вторично. Чтобы не допускать такого обмана, мы прогнали воров с корабля, проучив их несколькими ударами хлыста, что они снесли терпеливо[253].
Жара в тот день была такая же, как накануне. Термометр показывал 90° [32,2°С] в тени, хотя небо было покрыто облаками, а к полудню опять установилось безветрие. Мы сильно потели от такой жары, но все же она оказалась для нас не столь чувствительной, во всяком случае не столь тягостной, как можно бы подумать. Напротив, мы чувствовали себя несравненно свежее и бодрее, чем ожидалось, особенно после вчерашней изматывающей работы. Благодарить за это следовало близость земли. Плоды хлебного дерева и ямса, привезенные с берега, пришлись нам по вкусу куда более наших заплесневелых сухарей, а бананы и яблоки, называемые здешними жителями э-виэ, составили прекрасный десерт[254]. Единственное, чего мы еще могли бы пожелать к столу, это кур и свиней, которые заменили бы приевшуюся нам солонину.
После обеда оба капитана, а с ними еще несколько человек впервые сошли на берег, чтобы навестить О-Ахеатуа, которого все здешние жители называют своим эри. Корабль в это время был окружен множеством каноэ, с которых торговали плодами, фруктами, а также разнообразными местными изделиями. Даже на палубе кишели индейцы, в том числе и женщины, запросто уступавшие желаниям наших матросов. Некоторым из тех, кто занимался этим делом, не исполнилось еще девяти-десяти лет, у них не было никаких признаков зрелости. Столь ранний разврат, видимо, свидетельствовал об особом сладострастии здешних жителей и не мог не оказать влияния на весь народ[255]. Прежде всего сразу бросалось в глаза, что все, в том числе и эти распутные девушки, были сплошь малорослые. Лишь некоторые были выше среднего роста, остальные ниже среднего, что доказывало обоснованность взглядов графа Бюффона на раннее общение полов (см. его «Естественную историю»). Черты лица у них неправильные, простые, зато глаза красивые, большие и очень живые; непринужденный смех и желание нравиться еще более возмещали недостаток красоты, так что наши матросы были совершенно ими очарованы и самым легкомысленнейшим образом отдавали рубахи и прочую одежду, лишь бы заслужить благосклонность этих новых метресс. Безыскусная простота здешних одеяний, оставлявших неприкрытыми хорошо сложенные груди, красивые плечи и руки, разумеется, тоже играла свою роль, а одного вида этих нимф, которые во всевозможных соблазнительных позах ловко проплывали мимо корабля, не имея вообще других одежд, кроме тех, в коих создала природа, было более чем достаточно, чтобы лишить матросов последних остатков рассудительности, которая помогла бы им справиться со своими страстями.
Поводом, заставившим островитян плавать вокруг, послужил пустяк. Один из офицеров, которому понравился мальчик лет шести, подплывший вплотную к кораблю на каноэ, захотел ему бросить с кормы нитку бус, но бросил неудачно, и бусы попали в воду. Не долго думая, мальчик нырнул и достал их. Чтобы вознаградить такую ловкость, мы стали бросать ему всякие другие вещи, и тогда множество мужчин и женщин тоже захотели показать нам свое проворство. Они доставали не только отдельные бусины, которые мы горстями бросали в воду, но и большие гвозди, хотя они из-за своей тяжести очень быстро шли ко дну. Более всего нас изумила необычайная скорость, с какой они ныряли; в прозрачной воде это было очень ясно видно. Здесь любят купаться, как это уже заметил во время своего прошлого путешествия капитан Кук, а потому все, конечно, уже с самого раннего детства умеют плавать и настолько привычны к воде, что своей ловкостью и проворством могли бы сравняться с амфибиями. Порезвившись так вокруг корабля до заката солнца, они мало-помалу возвратились на берег.
К этому времени вернулись на борт капитаны со своими спутниками, так и не повидав короля, который, видимо, от недоверчивости не пожелал их принять, но велел лишь передать, что завтра сам нанесет визит. Чтобы не считать время напрасно потерянным, они предприняли прогулку вдоль берега на восток. Множество туземцев повсюду следовали за ними и, когда они подошли к ручью, наперебой стали предлагать услуги, чтобы перенести их на своих плечах. На другом берегу ручья индейцы постепенно стали расходиться, так что под конец с ними остался лишь один-единственный человек. Они попросили его быть их проводником и, следуя за ним, прошли на необитаемый мыс. Здесь все заросло травой и кустарником, а когда они пробились сквозь заросли, перед ними оказалось пирамидообразное сооружение из камней, основание которого впереди имело ширину примерно 20 шагов (60 футов). Все сооружение состояло из нескольких террас или ступеней, возведенных одна над другой, однако они, особенно со стороны берега, были сильно разрушены и уже поросли травой и кустарником. Проводник сказал им, что это место погребения или священная площадь для собраний, марай. Он назвал ее марай но-Ахеатуа, то есть место погребения Ахеатуа, нынешнего короля Теиаррабу. Вокруг сооружения стояли пятнадцать тонких, почти вертикально воткнутых в землю деревянных столбов, некоторые высотой по 18 футов, на каждом было вырезано от шести до восьми маленьких, довольно уродливых мужских и женских фигур. Те и другие располагались одна над другой, но верхняя всегда была мужская. При этом лица у всех были повернуты в сторону моря; они напоминали человеческие лица, обычно вырезаемые на носу каноэ. Называли их э-тиэ или э-тихи. Несколько в стороне от марай стояло нечто вроде соломенного навеса на четырех столбах; перед ним была изгородь или частокол из планок, увешанных бананами и кокосовыми орехами, но-т'этуа, для божества[256]. В тени этой кровли они уселись отдохнуть, а проводник предложил им подкрепиться частью бананов, заверив, что их «маа маитаи» — «хорошо есть». Таким приглашением нельзя было пренебрегать, и они, не раздумывая, храбро угостились за счет богов, тем более что плоды действительно оказались вкусными и оправдали похвалы проводника. К вечеру они вернулись на корабль, весьма довольные хорошим приемом, который им оказал этот радушный народ, и принесли растения, в коих мы тотчас узнали виды, произрастающие лишь между тропиками.
На другой день мы вышли на палубу, чтобы насладиться прохладным утренним воздухом. Перед нами открывался великолепнейший вид, лучи утреннего солнца вдвойне усиливали природное очарование пейзажа. Гавань, в которой мы находились, была маленькой, так что два наших корабля занимали почти все ее пространство. Вода в ней была чистая, как кристалл, с поверхностью гладкой, словно зеркало, а вокруг волны белоснежной пеной разбивались о скалы. Перед горами лежала небольшая равнина, судя по своему плодородному виду, обеспечивающая изобилие и счастье всем ее обитателям. Среди гор, прямо напротив судна, открывалась узкая возделанная долина со множеством жилищ. С обеих сторон ее окружали холмы, покрытые лесом, дальше они поднимались ввысь, удивляя разнообразием очертаний и красок. Еще выше в глубине виднелись крутые горные вершины романтических форм; особенно выделялась своим живописно прекрасным и в то же время зловещим видом одна, как будто грозившая рухнуть. Небо было ясное, воздух живительно теплый; словом, все радовало нас и вселяло новую бодрость.
Между тем с обоих кораблей были посланы в О-Ваиуруа шлюпки, чтобы достать якоря, которые мы потеряли, когда наткнулись на скалы. Одновременно группе морских пехотинцев и матросов было приказано сойти на берег, чтобы приобрести продовольствие и пополнить наши пустые бочки пресной водой. С этой целью они устроили недалеко от берега в покинутой хижине пост, который не только давал им защиту от солнца, но и оберегал благодаря изгороди от туземного воровства.
Когда мы уже собирались вместе с капитаном выйти на берег, ему нанес визит один из здешних вождей по имени О-Пуэ в сопровождении двух сыновей. Они принесли капитану в подарок немного материи и других мелочей, а за это получили ножи, гвозди, бусы и рубаху, которую один из них сразу надел на себя и в этом наряде вместе с другими вышел сопровождать нас на берег.
Едва высадившись, мы поспешили удалиться от песчаного пляжа, где нечего было ожидать каких-либо открытий для нашей науки, и направились к плантациям, которые казались такими привлекательными с корабля, хотя листва и трава повсюду уже по-осеннему пожелтели. Вскоре выяснилось, что вблизи эти места не менее приятны и что господин Бугенвиль не слишком преувеличивал, когда описывал эти места как земной рай. Мы прошли через рощу хлебных деревьев; правда, в это время года на них уже не было плодов. От опушки шла узкая, протоптанная тропа, по которой мы вскоре добрались до нескольких хижин, почти спрятанных в зарослях. Над всеми другими деревьями возвышались кокосовые пальмы, и ветви их касались друг друга. Банан красовался своими роскошными широкими листьями, а кое-где и гроздьями плодов. На тенистых деревьях с темно-зеленой листвой росли золотисто-желтые яблоки, пряные на вкус и сочные, как ананас. Промежутки были засажены то молодыми китайскими шелковичными деревьями (Morus papyrifera), кора которых употребляется туземцами для изготовления здешних материй, то различными видами кореньев Arum или эддо[257], ямсом, сахарным тростником и прочими полезными растениями.
Хижины индейцев располагались в тени хлебных деревьев на ровной площадке довольно тесно друг к другу и были обсажены благоуханными кустарниками, такими, как гардения, гветтарда и калофиллум. Простота их устройства, равно как и чистота, гармонировала с безыскусной красотой окрестных лесов. По большей части они не имели стен, а состояли только из крыши, покоившейся на столбах, и были открыты во все стороны. Превосходный климат этих краев, вероятно наилучший на земле, позволял вполне обходиться без стен, поскольку, чтоб укрыться от росы и дождя, единственных стихий, от которых жителям надо было защищаться, в большинстве случаев хватало одной крыши. Вместо черепицы для нее используются листья пандануса, или пальмового орехового дерева[258], а столбы делаются из стволов хлебного дерева, которое таким образом используется для самых разнообразных целей. Однако некоторые хижины, вероятно просто для того, чтобы человек мог чувствовать себя более укрытым, были опоясаны еще своего рода тростниковыми плетнями, что придавало им сходство с большими клетками для птиц. В этом подобии стены оставлялось отверстие для двери, которая запиралась доской. Перед каждой хижиной можно было видеть маленькую группу людей, лежавших в мягкой траве или сидевших со скрещенными ногами, проводивших счастливые часы в беседах и в отдыхе. Некоторые при нашем приближении встали и присоединились к толпе, сопровождавшей нас, но многие, особенно люди зрелого возраста, оставались сидеть и довольствовались тем, что приветствовали нас, когда мы проходили, дружелюбным «тайо!».
Так как наши провожатые знали, что мы собираем растения, они усердно рвали все то же, что и мы, и приносили нам. На этих плантациях действительно было много всяких диких растений; здесь царил тот прекрасный природный беспорядок, который всегда бесконечно превосходит строгую ухоженность искусственных садов, но который поистине достоин изумления, если его умело создать посредством искусства. Встречались в основном разные травы, более тонкие, чем наши северные, но они имели свежий вид и образовывали мягкий покров, поскольку росли в тени. Помимо прочего, они помогали почве сохранять влагу и таким образом обеспечивали питание деревьям, которые тоже были в превосходном состоянии.
Всевозможные мелкие птицы населяли тенистые кроны хлебных и других деревьев. Пение их было весьма приятно, хотя в Европе почему-то распространено вздорное мнение, будто птицам жарких стран не дано гармоничных голосов. На верхушках самых высоких кокосовых пальм обычно сидели маленькие красивые сапфирно-синие попугаи; другую разновидность, зеленую с красными пятнами, можно было часто видеть под банановыми деревьями, а также в хижинах, где жители охотно держат у себя этих прирученных птиц, должно быть, ради их красных перьев. Зимородок с темно-зеленым оперением и такого же цвета кольцеобразной полосой вокруг белого горла, большая кукушка и всевозможные голуби весело прыгали по ветвям, а голубоватая цапля важно ступала по берегу моря, выискивая моллюсков, улиток и червяков. Красивый ручей, катившийся по ложу из гальки, спускался, изгибаясь точно змея, по узкой долине, чтобы у места впадения в море наполнить наши пустые бочки серебристо-чистой водой.
Мы прошли довольно далеко вдоль изогнутого берега, когда встретили большую группу индейцев. Они следовали за тремя мужчинами, наряженными в полотнища из красной и желтой материи и в такие же изящные тюрбаны. В руках у этих мужчин были длинные палки или посохи. Вместе с одним из них шла женщина, вероятно его жена. Мы спросили, что это за процессия, и нам ответили: «Те-апуние». Заметив, что мы еще недостаточно знаем их язык, чтобы понять это выражение, индейцы пояснили, что это «тата-но-т'эатуа», то есть мужчины, принадлежащие божеству и марай (месту погребения и собраний). По сути, их можно было назвать и жрецами. Мы остановились посмотреть, не будет ли тут чего-то вроде богослужения или тому подобной церемонии, но, ничего особенного не дождавшись, вернулись на берег.
К обеду капитан Кук с нами и двумя сыновьями упоминавшегося уже О-Пуэ возвратился на корабль, так и не повидав Ахеатуа, который по причинам, никому не известным, все еще не желал допускать нас до себя.
Оба наших гостя-индейца сели с нами за стол и отведали наших овощей, к солонине же не притронулись. После обеда один из них, улучив минуту, стащил нож и оловянную ложку, хотя капитан и так уже подарил ему безвозмездно множество всяких вещей, коими он мог бы удовольствоваться, не нарушая столь безобразным манером законы гостеприимства. Увидев, что его воровство обнаружено и что мы намерены за это прогнать его с палубы, он, не долго думая, прыгнул за борт, доплыл до ближайшего каноэ и преспокойно взобрался на него. Возмущенный бесстыдством этого малого, капитан Кук не удержался и выстрелил ему поверх головы из мушкета, однако добился этим лишь того, что индеец снова прыгнул в воду и перевернул каноэ. В него выстрелили еще раз, но он опять нырнул, едва увидев вспышку на мушкетной полке, и так же поступил при третьем выстреле. Тогда капитан велел спустить лодку и поплыл к каноэ, за которым прятался ныряльщик. Тот не стал его дожидаться, а поплыл к двойному каноэ, которое находилось неподалеку. За ним погнались туда. Но это каноэ, преодолев прибой, добралось до берега, откуда индейцы стали бросать в наших людей камнями, так что те сочли за лучшее вернуться. Наконец по берегу был дан выстрел из четырехфунтовой пушки, и он нагнал такого страху, что наши люди без сопротивления захватили два двойных каноэ и доставили на корабль.
Когда суматоха утихла, мы вышли на берег неподалеку от того места, где наполнялись водой наши бочки, чтобы перекусить, прогуляться и восстановить доверие жителей, утраченное из-за рассказанной истории. Маршрут мы избрали иной, нежели утром, и нашли хижины, вокруг которых росло множество бананов, ямса, аронника [таро] и т. п. Обитатели их оказались дружелюбными, приветливыми людьми, однако из-за случившегося они держались несколько более пугливо и сдержанно, чем прежде. Наконец мы подошли к большой хижине со стенами из тростника, весьма славной на вид. Она, видимо, принадлежала Ахеатуа, который сейчас находился в другом месте. Здесь мы нашли свинью и несколько кур, первых, коих жители позволили нам увидеть, ибо до сих пор они тщательно прятали их и не желали продавать, ссылаясь на то, что они принадлежат эри, то есть королю. Они и на этот раз стали говорить то же, хотя мы предлагали им в обмен топор — высшую, по их мнению и потребностям, цену, какую они могли за это запросить. Немного передохнув, мы тем же путем вернулись назад, имея при себе небольшую партию новых растений.
Вечером была снаряжена шлюпка, чтобы похоронить в море морского пехотинца по имени Исаак Тейлор, умершего сегодня утром после долгой болезни. С тех пор как мы покинули Англию, он постоянно страдал лихорадкой, чахоткой и астмой. Чем дальше, тем больше болезнь брала свое и наконец перешла в водянку, от коей он и скончался. Все остальные на корабле чувствовали себя хорошо, не считая одного человека, который был особенно предрасположен к цинге и, едва мы выходили в море, то и дело оказывался в постели, так что с великим трудом удавалось поддерживать его жизнь, несмотря на постоянное применение сильнейших профилактических средств. Однако и он, и те, что заболели цингой на «Адвенчере», весьма скоро выздоровели единственно благодаря прогулкам по берегу и ежедневной растительной пище.
На другое утро к нам подошли на своих каноэ несколько индейцев и попросили вернуть две лодки, захваченные у них накануне. Капитан Кук сам чувствовал, что вчерашнее происшествие свело на нет весь торг, ибо никто больше не поднимался на корабль и даже на воде можно было увидеть лишь нескольких индейцев. Поэтому он велел незамедлительно вернуть им каноэ, дабы восстановить добрые отношения с туземцами. Правда, это проявление нашей справедливости произвело действие не столь быстрое, как нам хотелось бы, но все же не осталось и без успеха, так как по прошествии двух-трех дней торговля наладилась по-прежнему.
Восстановив таким образом мир, мы отправились на берег собирать растения. Сильный ливень, прошедший ночью, сделал воздух заметно прохладнее, а нашу прогулку весьма приятной, поскольку жара набрала силу не так рано, как обычно. Дождь сделал всю местность еще красивее. Деревья и растения как будто заново ожили, освеженная земля в лесах источала дивное благоухание. Множество мелких птиц приветствовали нас своей оживленной утренней песней; еще никогда не слышали мы здесь такого хора, возможно потому, что еще никогда не выходили в путь так рано, а может, и потому, что утро было особенно прекрасным.
Не прошли мы и нескольких сотен шагов, как из лесу донесся громкий стук, точно там работали плотники. Этот звук возбудил наше любопытство, мы пошли на него и наконец увидели маленький навес; под ним сидели пять или шесть женщин. Расположившись по обеим сторонам длинного четырехугольного бруса, они отбивали на нем волокнистую кору шелковичного дерева, чтобы выделать из нее материю. Инструмент, коим они пользовались, представлял собой узкий четырехугольный кусок дерева, на котором по всей длине были вырезаны параллельные борозды; на каждой следующей из четырех сторон они были глубже и становились все ближе одна к другой. Женщины приостановили работу, чтобы мы могли осмотреть кору, колотушки и брус. Они показали нам нечто вроде клейкой жидкости в скорлупе кокосового ореха, которой время от времени обрызгивали отбиваемую кору, чтобы ее отдельные кусочки составили сплошную массу. Этот клей, изготовлявшийся, как мы поняли, из Hibiscus esculentus, необходим для работы, так как полотнища иногда достигают от 6 до 9 футов в ширину и 150 футов в длину, хотя состоят из отдельных маленьких кусочков. Для изготовления материи годится только кора молодых деревьев, вот почему на их шелковичных плантациях не встретишь ни одного старого дерева. Когда дерево достигает толщины одного дюйма, то есть возраста примерно двух лет, его срубают, не заботясь о том, что им не хватит деревьев, ибо едва срубят одно, как от корня его уже поднимаются молодые побеги. Так что, если давать им дожить до цветения и плодоношения, то они при таком быстром росте распространились бы, наверное, по всему острову. Туземцы предпочитают деревья как можно более прямые и высокие, любят, чтобы под кроной не было ни единого сучка, чтобы кора была гладкой и снималась длинными кусками. Как ее обрабатывают, прежде чем она попадает под колотушки, нам неизвестно. Женщины, которых мы застали за этим занятием, были одеты весьма бедно, в старые грязные лохмотья, а что работа была отнюдь не легкой, можно было судить хотя бы по их грубым, мозолистым рукам.
Продолжив свой путь, мы скоро достигли узкой долины. Благообразный мужчина, мимо хижины которого мы проходили, лежал в тени и пригласил нас отдохнуть с ним рядом. Увидев, что мы не против, он разложил на вымощенном камнями месте перед хижиной банановые листья и поставил стул, сделанный из древесины хлебного дерева, на который пригласил сесть того, кого счел среди нас старшим. Когда и остальные опустились на траву, он побежал в дом, принес несколько испеченных плодов хлебного дерева и положил их перед нами на банановые листья. Кроме того, он принес еще корзину ви, или таитянских яблок, и предложил нам угоститься. Угощение всем понравилось, прогулка и свежий утренний воздух возбудили в нас хороший аппетит, да и фрукты были превосходные.
Таитянский способ приготовлять плоды хлебного дерева (как и все прочие блюда, они пекутся в земле с помощью горячих камней) представляется несравненно лучшим, нежели наша варка. При такой готовке сохраняется весь сок, который сгущается от высокой температуры; при варке же в плод впитывается много воды и он много теряет во вкусе и сочности.
На закуску хозяин принес пять кокосовых орехов, которые открыл весьма нехитрым способом, причем наружные волокна оторвал зубами. Свежий светлый сок он перелил в пустую скорлупу спелого кокосового ореха и дал нам каждому по очереди. Люди здесь всегда держались благожелательно и дружелюбно, и иногда, если мы хотели, они продавали нам кокосовые орехи и другие плоды за стеклянные бусы. Однако такого поистине бескорыстного и гостеприимного человека, как этот, мы еще не встречали за время нашего краткого здесь пребывания. Мы сочли своим долгом, как могли, отплатить ему и подарили лучшее, что имели при себе: множество прозрачных стеклянных бус и гвоздей, чем он был крайне доволен.
Отдохнув и подкрепившись, мы расстались с сей мирной обителью патриархального гостеприимства и отправились дальше, не обращая внимания на то, что некоторым из толпы индейцев, сопровождавшей нас, это, видимо, пришлось не по вкусу. Мы не ждали, что это недовольство принесет нам какие-то неприятности, наоборот, число наших провожатых уменьшалось по мере того, как большинство возвращалось в свои дома, а это нас устраивало. Несколько человек, оставшихся с нами, взяли на себя обязанности проводников, и скоро мы дошли до края долины. Здесь кончались хижины и плантации индейцев, перед нами теперь были горы, к которым вела сквозь дикие заросли утоптанная тропа, местами затененная высокими деревьями. В зарослях мы нашли различные растения, а также птиц, до сих пор еще неизвестных натуралистам. Вознаградив себя таким образом за свои труды, мы вернулись на берег, чему от души радовались наши индейские друзья и проводники.
На берегу, там, где шел торг, мы увидели большую толпу туземцев. Наши люди приобрели у них много аронника [таро] и других растений, но мало плодов хлебного дерева. Это было связано с поздним временем года, когда плоды оставались лишь на некоторых деревьях. Стояла сильная жара, и нам захотелось искупаться. Проток ближней реки, образовывавший довольно обширный пруд, представлял для этого наилучшую возможность. Вполне освежившись в его прохладной воде, мы к обеду вернулись на корабль.
После полудня стало дождливо и ветрено, ветер сорвал «Адвенчер» с якоря, однако быстрые действия команды позволили вскоре исправить положение. Поскольку плохая погода вынуждала нас оставаться на корабле, мы все это время приводили в порядок собранные нами растения и животных и зарисовали неизвестные прежде экземпляры. Хотя мы занимались сбором растений уже три дня, новых видов было открыто пока не очень много. На таком процветающем острове, как Таити, это может служить убедительным доказательством достигнутой его обитателями высокой культуры. Ведь будь он меньше возделан, благодатная почва в таком климате заросла бы сотнями видов диких трав, тогда как теперь трудно было встретить хотя бы несколько. Животных тут тоже было немного, и не только из-за незначительной величины острова, но и потому, что он отделен от всех материков. Кроме полчищ крыс, которым жители позволяют свободно бегать вокруг, не предпринимая никаких мер, дабы вывести их или хотя бы уменьшить их число, мы встретили здесь из четвероногих только свиней да собак. Куда больше тут разных птиц, да и рыбы такие разнообразные, что едва ли не всегда, когда индейцы предлагали на продажу свежий улов, можно было надеяться на открытие. Такое многообразие этого класса живых существ объясняется, конечно, тем, что они легко и беспрепятственно могут перемещаться из одной части океана в другую; по той же причине некоторые виды их, особенно в тропиках, можно встретить по всему миру.
Что до мира растений, то здешние условия можно назвать неблагоприятными для ботаники. Но тем более благоприятны они во всех других отношениях. Конечно, натуралист хотел бы найти побольше диких растений, которых, как уже было сказано, на Таити немного; зато тем больше здесь съедобных овощей и фруктов, таких, как ямс, аронник [Tapo], таитянское яблоко, бананы и плоды хлебного дерева. Всего этого, особенно первых трех видов, для которых как раз сейчас был сезон, туземцы приносили нам для обмена в таком количестве, что ими могли прокормиться команды обоих кораблей. Наши цинготные больные от такой здоровой пищи поправлялись буквально на глазах, да и все мы чувствовали себя необычайно хорошо, если не считать поноса из-за резкой перемены в еде.
Недоставало только свежей свинины. Эту нехватку нам переносить было тем более трудно, что на каждой прогулке мы встречали множество этих животных, хотя островитяне и старались прятать их от нас. Наконец они стали запирать их в подобие маленьких хлевов, построенных низко и сверху плоско покрытых досками, так что получалось нечто вроде платформы, на которой сами жители сидели или лежали. Мы всеми мыслимыми способами пытались уговорить их, чтобы они продали нам свиней, предлагая взамен топоры, рубахи и другие товары, которые здесь особенно высоко ценились. Все тщетно. Они твердили, что свиньи — собственность эри, короля[259]. Вместо того чтобы удовольствоваться таким ответом и воздать должное доброй воле людей, которые снабжали нас пусть не свиньями, но всем другим продовольствием, благодаря которому поправились наши больные, да и все мы подкрепились, кое-кто из команды предложил капитанам забрать необходимое количество свиней силой, а затем отдать жителям столько европейских товаров, сколько мог, самое большее, стоить похищенный скот. Этот тиранический, более того, низменный и своекорыстный замысел был отвергнут с достойным презрением и негодованием.
Наша ботаническая коллекция была все еще довольно скудна, так что ее зарисовка и описание доставили нам мало работы. Поэтому у нас имелось достаточно свободного времени, чтобы каждый день заново отправляться на экскурсию, как для того, чтобы найти побольше, так и для того, чтобы ближе наблюдать характер, нравы и нынешнее состояние местных жителей.
20-го в полдень вместе с несколькими офицерами я предпринял прогулку к восточной оконечности бухты. По пути нам встретился широкий ручей, слишком глубокий, чтобы перейти его вброд, поэтому мы решили сесть в индейскую лодку и благополучно на ней переправились. На другом берегу среди зарослей виднелось довольно большое строение. Приблизившись, мы увидели перед ним полотнища тонкой таитянской материи. По словам индейцев, их расстилают на траве после того, как выстирают в реке. Возле дома на шесте висел щит круглой формы, сплетенный из волокон кокосового ореха примерно так, как плетутся корзины; с наружной или лицевой стороны он был украшен блестящими зелено-голубыми перьями голубя, а также тремя дугообразными рядами акульих зубов. Я спросил, можно ли его купить. Мне ответили «нет»; вероятно, его повесили здесь, чтобы проветрить. Средних лет мужчина, отдыхавший в этом доме, пригласил нас сесть рядом, а когда мы это сделали, стал очень внимательно изучать мою одежду. У него на пальцах были очень большие ногти, чем он немало гордился. Я скоро заметил, что это почетный знак, ведь возможность отращивать такие ногти имеют те, кто не работает. Подобный обычай встречается среди китайцев, которые тоже весьма гордятся этим. Занесен ли сам обычай сюда из Китая, или же обоим народам, не имевшим между собой ничего общего, случайно пришло на ум одно и то же? Полагаю, ответить на сей вопрос не в силах даже проницательные Нидхэм или де Гинь[260].
В разных углах хижины сидели с одной стороны мужчины, с другой женщины и отдельно друг от друга ели свой обед, состоявший из хлебных плодов и бананов. Казалось, и те и другие, в зависимости от того, к кому мы были ближе, хотели, чтобы мы присоединились к их трапезе. В этой стране существует странный обычай, по коему оба пола должны есть раздельно; но почему так происходит и что послужило этому причиной, об этом мы смогли узнать так же мало, как и капитан Кук во время своего прошлого плавания.
Покинув эту хижину, мы через благоуханные заросли дошли до другой, где находился О-Таи с женой, детьми, а также с обеими сестрами, Маройей и Марораи. С нами был офицер, оставшийся без своих покрывал, но он предпочел не вспоминать про них, а попробовал завоевать сердце своей красотки с помощью новых подарков, для чего не жалел ни бус, ни гвоздей, ни других мелочей. Девушка брала их весьма любезно, однако снисходить к пылкому желанию своего возлюбленного отнюдь не собиралась. Видимо, покрывала были единственным, о чем она мечтала и ради чего готова была ему ненадолго уступить; а их она, надо думать, уже имела, и теперь любовник, видимо, ничем больше не мог ее привлечь. По крайней мере так мы объяснили ее поведение. К тому же она принадлежала к знатному семейству, а во время прошлого пребывания на острове капитана Кука вообще почти (или вовсе) не бывало случая, чтобы женщина из высшего сословия позволила себе такую вульгарность.
У них мы пробыли недолго, поскольку начинало смеркаться. До берега добрались уже так поздно, что шлюпки успели вернуться на корабль. Поэтому, когда один индеец предложил переправить меня в своем каноэ за единственную бусинку, которая оставалась у меня после сегодняшней прогулки, я без колебания согласился и таким образом благополучно прибыл на борт, хотя жалкая лодчонка не имела даже выносного поплавка (аутриггера), который предохраняет от переворачивания.
На рассвете следующего дня мы опять сошли на берег и снова направились на восток. Чем ближе мы подходили к восточной части бухты Аитепиеха, тем шире становилась равнина, тем богаче были посадки хлебных деревьев и кокосовых пальм, бананов и других деревьев, на которых, проходя, можно было уже увидеть зачатки будущего урожая. Хижин здесь тоже становилось все больше, и многие из них на вид были чище и новее, чем в месте нашей стоянки. В одной из них, имевшей стены из тростника, мы увидели большие рулоны материи и множество щитов, которые висели внутри на кровле. Все это, как и сам дом, принадлежало королю, Ахеатуа.
Мили две мы шли по красивым лесам и посадкам хлебных деревьев и видели, как повсюду люди приступали к своим повседневным трудам, слышали стук колотушек, которыми отбивали материи. Не следует думать, будто работать так неустанно заставляют людей нужда и бедность, потому что, куда бы мы ни приходили, вокруг нас вскоре всегда собиралась большая толпа и усердно сопровождала нас целый день, иногда пренебрегая даже обедом. Впрочем, усердие их было не совсем бескорыстным. Хотя держались они в общем доброжелательно, дружелюбно и услужливо, но при этом не упускали ни малейшей возможности стащить какую-нибудь мелочишку, проявляя подчас большую изобретательность. Всякий наш дружеский взгляд или улыбку они считали самым подходящим поводом, чтобы попросить: «Тайо, поэ!», что означало примерно: «Друг, дай бусину!» Удовлетворяли мы просьбу или нет, на поведении их это никак не сказывалось, они оставались такими же веселыми и дружелюбными. Если они слишком надоедали частыми просьбами, мы иногда передразнивали их в том же тоне, что всегда вызывало громкий смех всей толпы. То и дело они громко переговаривались друг с другом, главным образом про нас. Каждому, кто вновь присоединялся к числу наших спутников, сообщали наши имена, которые в их произношении сводились к нескольким гласным со смягченными согласными. Затем каждому рассказывалось, что мы делали или что сказали за утро. Обычно нас сразу просили выстрелить из ружья. Мы соглашались при условии, что они сами укажут нам птицу. При этом мы иногда попадали в затруднительное положение, так как птица, которую они нам показывали, сидела шагов за пятьсот. Они не знали, что наши ружья стреляют лишь на определенное расстояние, а мы, не желая выдавать им эту тайну, обычно делали вид, будто не видим птицу, пока не подходили к ней под этим предлогом на расстояние выстрела. Первый выстрел очень их испугал, некоторые даже упали ничком на землю, другие отбежали назад шагов на двадцать, пока мы не приободрили их дружескими словами, а более храбрые сотоварищи не принесли убитую птицу. Вскоре они к этому привыкли, правда, по-прежнему вздрагивали при каждом новом выстреле, но, во всяком случае, не более того.
При всем дружелюбии этих встреч повсюду продолжали прятать от нас свиней, а когда мы про них спрашивали, либо смущались, либо заявляли, что у них свиней нет, либо повторяли, что они принадлежат Ахеатуа. Так что мы решили не возобновлять этих разговоров и, хотя почти в каждой хижине видели припрятанных свиней, притворялись, будто их не замечаем или нам до этого нет дела. Такое поведение еще более увеличивало их доверие к нам.
Пройдя несколько миль, мы присели на большие камни, которые образовывали нечто вроде приподнятой мостовой перед одной из хижин, и попросили у туземцев хлебных плодов и кокосовых орехов в обмен на бусы. Они охотно принесли все, чем были богаты, и скоро перед нами уже стоял завтрак. Желая насладиться им спокойнее, мы велели толпе наших провожатых усесться поодаль, дабы они не могли стащить мушкет или вещи, которые на время еды придется положить на землю. Добрые люди постарались сделать наш завтрак обильнее и вкуснее; они принесли нам кокосовую скорлупу с маленькими рыбками, которых здесь едят сырыми, макая в соленую воду. Мы попробовали, и это показалось нам не лишенным приятности; но поскольку мы не привыкли к сырой еде, то поделили это лакомство, как и остатки плодов, между наиболее симпатичными нашими провожатыми.
Позавтракав, мы собрались дальше в горы, но индейцы стали уговаривать нас остаться на равнине. Было очевидно, что эта просьба вызвана одной лишь ленью, ибо им казалось излишним трудом подниматься в гору; но мы уже не нуждались в провожатых и поэтому продолжили путь, несмотря на их неудовольствие; часть нашей свиты тут же и осталась, а другие разошлись.
Лишь несколько человек, менее ленивых, чем другие, захотели показать нам дорогу. Они провели нас вверх по ущелью между двумя горами, где мы нашли новые дикие растения и встретили много маленьких ласточек, летавших над ручьем, который стекал по галечному ложу. Берег ручья, извиваясь, точно змея, привел нас к отвесным, поросшим пахучим кустарником скалам, с которых чистая, как кристалл, водяная колонна низвергалась в гладкий прозрачный водоем с берегами в пестрых цветах. Это было одно из самых красивых мест, какие я когда-либо видел в своей жизни. Ни один поэт не способен описать подобную красоту. Внизу под нами простиралась плодородная, возделанная и населенная равнина, а за нею синело широкое море. Деревья, осенявшие своими густолиственными ветвями пруд, дарили нам прохладную тень, а приятный ветерок, веявший над водой, еще более смягчал дневной жар. Мы улеглись здесь на мягкую траву, чтобы под однообразный и торжественный гул водопада, в который иногда вплетались голоса птиц, описать собранные растения, покуда они не завяли. Наши провожатые-таитяне тоже расположились под кустами и смотрели на нас тихо, внимательно. Мы охотно провели бы весь день в сем очаровательном глухом уголке! Однако наши занятия не допускали бездеятельности; едва покончив с описанием и напоследок еще раз полюбовавшись романтической местностью, мы вернулись на равнину.
Здесь нас встретила большая толпа индейцев, сопровождавших господ Ходжса и Гринделла[261], к которым присоединились и мы. С господином Ходжсом был малый необычайно красивого сложения, которому особенно нравилось нести его рисовальную папку. Наверное, ни один знак расположения не доставил бы этому молодому человеку большего удовольствия, чем подобное доказательство оказанного ему доверия; во всяком случае, он весьма гордился возможностью идти на глазах у земляков рядом с нами и держать папку. Другие тоже вели себя более по-свойски, нежели обычно, возможно польщенные привилегией, оказанной их земляку, возможно потому, что им нравилось, как спокойно идут среди них господа Ходжс и Гринделл, оба безоружные. Такой вот мирной процессией мы дошли до просторной хижины, где собралось несколько семейств. Старый мужчина, взгляд которого светился доброжелательством и спокойствием, лежал на чистой циновке, положив голову на скамеечку, служившую ему подушкой. Фигура его отличалась каким-то особенным благородством. Седые волосы завитками спадали с головы, густая, белая как снег борода опускалась на грудь, глаза оживленные, полные щеки дышали здоровьем. Морщин, которые у нас отличают стариков, было мало, ибо печали, заботы и несчастья, столь рано старящие нас, казалось, были совсем неизвестны этому счастливому народу. Несколько детей, вероятно его внуков, как водится здесь, совершенно голых, играли со стариком, повадка, взгляд и выражение лица которого могли служить наглядным доказательством того, насколько простая жизнь может до позднего возраста сохранить силу чувств. Вокруг расположились несколько мужчин и девушек, весьма красиво сложенных. Ко времени нашего прихода вся компания, очевидно, была занята дружеской беседой после здешней скромной трапезы. Они пригласили нас сесть рядом с ними на циновки, и мы не заставили себя просить дважды. Казалось, они еще никогда не видели близко европейца, во всяком случае все с крайним любопытством тотчас принялись изучать нашу одежду и оружие; однако природное непостоянство не позволяло им задерживаться на одном предмете больше чем на мгновение. Удивлялись нашему цвету кожи, пожимали наши руки, не могли понять, почему на них нет никакой татуировки и почему у нас не длинные ногти. Старательно выспрашивали наши имена и радовались, когда могли повторить их. Но индейское произношение настолько искажало звучание, что даже специалисты по этимологии не могли бы узнать, о ком идет речь. Форстер превратился в Матара, Ходжс в Орео, Гринделл в Терино, Спаррман в Памани, а Георг в Теори[262]. Как и всюду, гостеприимные хозяева предложили нам кокосовые орехи и э-ви, дабы мы могли утолить жажду, а старший пригласил оценить музыкальные таланты своего семейства. Один из молодых мужчин дул ноздрями в бамбуковую флейту с тремя отверстиями, а другой при этом пел. Вся музыка, как игра на флейте, так и пение, сводилась лишь к однообразному чередованию трех-четырех звуков, не похожих ни на наши полные тона, ни на полутона; если сравнить их с нотами, это было нечто среднее между нашими половинками и четвертями. Впрочем, тут не было и следа мелодии, не соблюдался и такт, то есть получалось лишь некое усыпляющее жужжание. Такая музыка, конечно, не могла оскорбить слуха фальшивыми звуками, но это было единственное ее достоинство, и лучше ее было просто не слушать. Странно, что, хотя вкус к музыке распространен у всех народов на земле, понятия о гармонии и благозвучии у разных наций бывают столь отличными.
Обитатели этой хижины как бы воплощали представление о счастливом народе. Господин Ходжс набросал здесь несколько картин, способных дать миру более наглядное представление об этих сценах, нежели слова. Занятие его привлекло взоры всех индейцев, и велико же было их удивление и удовольствие, когда они узнавали сходство между рисунком и лицами своих земляков!
Несмотря на все наши старания изучить их язык, мы пока продвинулись в нем недостаточно далеко и потому оказались лишены удовольствия, какое, без сомнения, доставила бы нам беседа с этими счастливыми людьми. Несколько слов да немая пантомима — вот все, чем мы могли объясняться. Но даже этого было, достаточно, чтобы доставить удовольствие добрым людям; во всяком случае, наша ученость и стремление им понравиться были им столь же приятны, как нам их готовность служить и давать уроки.
За все это время старик не переменил своей позы. Не поднимая головы со скамеечки, он задал нам несколько незначительных вопросов, например: как зовут эри, то есть командира корабля; как называется земля, из которой мы приплыли; надолго ли мы останемся; с нами ли наши женщины и т. п. Хотя он, казалось, про все уже знал от своих земляков, но хотел либо сам услышать подтверждение их слов, либо просто занять нас разговором. Мы как могли ответили на его вопросы, а затем раздали немного бус, медалей и прочих мелочей его семейству, после чего пошли дальше.
Таким образом мы могли бы обойти пешком весь остров. Гостеприимство жителей обещало нам возможность подкрепиться в любой хижине, к которой бы мы свернули, да и дорога всюду была приятная: между горами и морем вокруг всего острова тянулась непрерывная равнина. Земля на этой узкой полосе совершенно плоская, идорога во многих местах поросла нежной травой. Мы могли не опасаться никаких зверей, даже комары и москиты не гудели вокруг. Леса из хлебных деревьев дарили приятную тень и в полуденный зной, который к тому же смягчался прохладным ветерком с моря.
Поскольку местные жители привыкли в эти часы отдыхать, они и теперь один за другим ушли в кусты; лишь несколько человек осталось с нами. Мы прошли еще около двух миль к юго-востоку и вышли к морю, которое здесь довольно далеко вдавалось в берег, образуя маленькую бухту. Всюду вокруг были плантации. Посреди прекрасного луга мы увидели также марай, или место погребения, сооруженное из трех рядов камней, ступенчато положенных друг на друга. Каждая ступень была высотой около трех с половиной футов, и все они поросли травой, папоротником и мелким кустарником. Перед марай, в стороне, противоположной от моря, находилась стена из плотно подогнанных один к другому камней, высотой примерно 3 фута; между ней и марай стояли две-три кокосовые пальмы и несколько молодых казуарин, печально свисающие ветви которых придавали всей сцене торжественно-меланхолический вид. Неподалеку от этого марай, окруженного густыми зарослями, мы увидели маленькую хижину (тупапау); в ней лежало мертвое тело, покрытое белым полотнищем, которое свисало по сторонам длинными складками. Здесь росли молодые кокосовые пальмы и бананы, а вокруг цвела драцена. Рядом стояла другая хижина, в ней находился запас пищи для божества (эатуа), а неподалеку был установлен столб, на котором висела завернутая в циновку птица. В этой последней хижине, находившейся на небольшом возвышении, мы увидели женщину, сидевшую в горестной, задумчивой позе. При нашем приближении она встала и сделала знак, чтобы мы не подходили ближе. Мы издали предложили ей небольшой подарок, однако она не пожелала его взять, и от наших провожатых-индейцев мы узнали, что эта женщина имеет отношение к марай; умерла тоже женщина, и эта, видимо, была занята траурной церемонией.
Мы не стали ей мешать и, как только господин Ходжс кончил зарисовывать это место, отправились назад. Было что-то величественное в этой сцене, все в ней наводило на религиозные размышления. На обратном пути к источнику, где мы обычно высаживались на берег и откуда вечером возвращались на корабль, мы прошли мимо просторного дома, построенного в удобнейшем месте под группой невысоких кокосовых пальм, увешанных плодами. Несколько жареных рыбешек, которых мы приобрели за бусы, составили нашу трапезу. Те, кто не захотел есть, искупались тем временем в море, а затем появились не в своей обычной одежде, а в таитянском ахау из здешней материи, что доставило туземцам большое удовольствие[263].
Далее путь наш лежал вдоль берега моря мимо еще одного марай, весьма похожего на предыдущий; оттуда мы прошли к прелестному дому, где возлежал в небрежнейшей позе, положив голову на деревянную подушку, весьма тучный мужчина. Двое слуг готовили ему еду. Они накрошили в довольно большое деревянное корытце плод хлебного дерева и бананы налили туда воды и подбавили перебродившего кислого теста (махеи) из плода хлебного дерева, покуда смесь не стала совсем жидкой, так что ее можно было пить. Инструмент, которым все это растиралось, представлял собой пестик из черного полированного камня, вероятно разновидности базальта. Затем рядом с лежащим мужчиной села женщина и стала запихивать ему в рот целыми пригоршнями большие куски жареной рыбы и плодов хлебного дерева, которые он поглощал с жадным аппетитом. Было видно, что его не интересует ничто, кроме собственного брюха; вообще это было воплощение флегматичной бесчувственности. Он едва удостоил нас беглого взгляда, а односложные слова, которые можно было разобрать среди жевания, были приказания людям, чтобы они, глазея на нас, не забывали его кормить. Вид и поведение этого знатного человека едва не испортили всего огромного удовольствия от наших прогулок по острову, особенно сегодняшней. До сих нор мы льстили себя приятной надеждой, что наконец-то нашли на земле маленький уголок, где целый народ достиг цивилизованного уровня и сумел при этом сохранить некое простое равенство, когда все сословия имеют более или менее одинаковую пищу, одинаковые удовольствия, одинаково работают и отдыхают. Но эта прекрасная мечта рассеялась при виде сего ленивого чревоугодника, который проводил свою жизнь в таком же пресыщенном безделье, без всякой пользы для человеческого общества, что и привилегированные тунеядцы в цивилизованных государствах, поглощающие богатства страны, в то время как их более трудолюбивые сограждане вынуждены зарабатывать свой хлеб в поте лица.
Ленивое самодовольство этого островитянина отчасти напоминало о роскоши, которая столь распространена среди знати в Индии и других восточных странах и о которой со справедливым осуждением писал сэр Джон Мандевиль в книге о своих путешествиях в Азию[264]. Этот храбрый рыцарь, чей образ мысли и героизм вполне соответствовали духу рыцарства того времени, провел свою жизнь в непрестанных трудах, и он испытывал искреннее негодование, встречая где бы то ни было чудовищных ленивцев, тративших свои дни «без единого рыцарского приключения, в безделии, точно свинья, которую откармливают в хлеву, дабы она набралась жира»[265].
Оставив этого таитянского обжору, наша компания разделилась. Я остался с господином Ходжсом и Гринделлом, а когда дружелюбный юноша, несший папку художника, пригласил их в дом своих родителей, пошел с ними. Мы туда добрались только в 5 часов вечера. Хижина была маленькая, но славная, на камнях, выложенных перед домом, постланы листья, на них в красивом порядке лежало много кокосовых орехов и вкусно приготовленных плодов хлебного дерева. Двое стариков стояли рядом и отгоняли крыс. Молодой человек подбежал к ним и, когда мы приблизились, представил нам как своих родителей. Было видно, как от души они радуются возможности видеть и угостить друзей своего сына. Они пригласили нас сесть и приступить к приготовленной трапезе. Вначале мы не могли понять, когда они успели приготовиться к нашему приходу. Но потом вспомнили, что несколько часов назад наш юный провожатый послал вперед одного из своих друзей — вероятно, для того, чтобы предупредить родителей. Впервые за день нам представилась возможность как следует поесть, и можно себе представить, что мы набросились на еду с большим аппетитом. Но, пожалуй, труднее представить радость гостеприимных стариков и их славного сына, когда они увидели, что нам так понравилось их угощение. Рядом с этой старой благородной парой, обслуживавшей нас за столом, можно было бы поэтически забыть, что мы люди, и вообразить себя богами, которых угощают Филемон и Бавкида [266], и лишь наша неспособность вознаградить их, как подобает богам, напомнила нам, что мы смертные. Тем не менее мы собрали все гвозди и бусы, какие у нас еще оставались, и подарили им эти мелочи скорее в знак нашей благодарности, нежели в оплату за их доброту. На прощание юноша собрал все, что мы не смогли доесть, и донес нам до корабля. Здесь его отдарили, дав топор, рубаху и другие менее ценные вещи, так что он был вознагражден более богато, нежели мог ожидать, и в тот же вечер, удовлетворенный, вернулся к родителям.
За время нашего отсутствия как на корабле, так и на берегу продолжалась обычная меновая торговля, и не произошло ничего особенного, если не считать того, что капитан Кук встретил одного своего старого знакомого, Туахау, который ездил с ним во время прошлого путешествия на лодке вокруг острова. Когда мы вернулись, он с двумя своими земляками еще находился на борту и явно намеревался у нас переночевать. В прошлый раз, когда капитан Кук стоял на якоре в бухте Матаваи, индейцы поступали так часто; но сейчас никто пока на это не отваживался. Туахау, уже знакомый с нашим образом жизни и с предметами на корабле, предоставил двум своим неопытным спутникам изумленно все разглядывать, сам же вступил в оживленную беседу с нами. Он спрашивал о Табане — господине Банксе, о Толано — докторе Соландере, Тупайе и других людях, которых видел здесь прежде и имена которых запомнил. Он был рад услышать от нас, что господин Банкс и доктор Соландер пребывают в добром здравии. Он часто повторял этот вопрос, точно это было для него особенно важно, и неизменно получал тот же самый ответ. Он также спросил, не собираются ли они еще на Таити, и по взгляду его чувствовалось, что он желает их увидеть опять. Услышав о смерти Тупайи, он пожелал узнать, была ли эта смерть насильственной или естественной, и испытал облегчение, поняв из наших слов и знаков, что причиной его кончины была болезнь. Мы, со своей стороны, спросили, каким образом умер Тутаха, правивший здесь во время прошлого приезда капитана Кука. Из его долгого рассказа мы поняли не все, но уловили главное, а именно что между ним и Ахеатуа, отцом нынешнего короля на Теиаррабу, произошло большое морское сражение, не принесшее победы ни одной стороне; потом Тутаха со своим войском пришел к перешейку, который соединяет обе половины острова, и там состоялось ожесточенное сражение, в ходе которого он, Тубораи-Тамаиде и несколько других его знатных подданных погибли. После смерти Тутахи О-Ту, который до сих пор имел лишь титул регента Таити, принял на себя действительный сан и сумел установить мир. Однако старый Ахеатуа недолго наслаждался плодами своей победы, ибо несколько месяцев спустя после установления мира, он умер, и теперь его сын, носивший то же имя и в соответствии с местными обычаями еще при жизни отца принявший титул те-эри, а также пользовавшийся положенными при этом почестями, унаследовал главное — действительную королевскую власть[267].
Выслушав эту историю, мы взяли карту Таити, которая была выгравирована на меди к описанию предыдущего плавания капитана Кука, и положили перед Туахау, не сказав, что это такое. Но он был слишком опытный мореход, чтобы тотчас не разобрать, что это. Радуясь возможности увидеть изображение своей родины, он сразу же показал нам кончиком пальца расположение всех веннуа, то есть округов, и назвал их в том порядке, в каком они значились на карте. Дойдя до округа О-Ваиуруа, расположенного немного к югу от места нашей нынешней стоянки, он тронул нас за руку, чтобы мы внимательней смотрели на карту, и рассказал, что в тамошнюю гавань некоторое время назад заходил корабль, который он называл пахие но пеппе, и пять дней стоял там на якоре; его команда получила от местных жителей десять свиней, а один матрос, бежавший с этого судна, еще и сейчас находится на острове. Мы предположили, что это, видимо, испанское судно, вполне вероятно, что повторная экспедиция английского корабля могла заново обратить внимание испанцев на этот впервые открытый ими остров, а возможно, и вызвала беспокойство за их обширные владения в Южной Америке, находившиеся неподалеку. Как это ни покажется странным, такое наше предположение подтверждалось самим словом «пеппе». Оно, конечно, весьма далеко от «Испания», от которого, как нам думается, произошло. Но мы уже знали, что таитяне умели искажать чужие названия еще почище англичан или французов[268]. Чтобы выяснить все получше, мы задали Туахау еще несколько вопросов об этом корабле, но смогли узнать только, что бежавший матрос все еще находится у Ахеатуа и советует ему не давать нам свиней. Какие бы своекорыстные, лицемерные или сумасбродные намерения ни имел этот человек, лучшего совета своему покровителю он, пожалуй, дать не мог. Самым надежным путем сохранить богатства своих подданных, а к числу этих богатств прежде всего относятся свиньи, и самым наилучшим способом воспрепятствовать возникновению новых потребностей у этого счастливого народа, было, конечно же, как можно скорее принудить нас к отъезду, а для этого наилучшим средством было отказывать нам в пропитании, в коем мы больше всего нуждались. Действительно, следует самым серьезным образом высказать пожелание, чтобы общение европейцев с жителями островов Южного моря было прервано, покуда эти невинные люди, столь счастливо живущие в неведении и простоте, не успели заразиться испорченными нравами цивилизованных народов. Увы, печальная истина состоит в том, что политические системы Европы и любовь к людям никак не согласуются друг с другом.
На другой день наши люди, выходившие на берег, принесли известие, что видели Ахеатуа и что он специально явился в этот округ дать нам аудиенцию. Они были допущены к нему без церемоний, и его величество, окруженный своим двором, предложил половину стула, на коем сам сидел, одному из наших рулевых, господину Смиту. Он также милостиво заявил, что желал бы видеть капитана Кука и что он уступит ему любое число свиней, если тот согласится уплатить за каждую по топору. Это была самая отрадная новость, услышанная нами за долгое время. Наши люди при этом смогли заметить человека, цветом лица похожего на европейца, однако, когда они обратились к нему, он скрылся в толпе. Был ли это действительно европеец, или им просто запал на ум рассказ Туахау, сказать трудно. Достоверно лишь, что больше никто из нас его не видел.
Чтобы немедля воспользоваться хорошим настроением Ахеатуа, капитаны с несколькими офицерами, а также доктор Спаррман, мой отец и я на другое утро отправились на берег. Один из оставшихся переночевать на борту индейцев по имени Опао показывал нам дорогу. Он посоветовал идти вверх по течению реки, из которой наполнялись водой наши бочки. Пройдя этой дорогой около мили, мы встретили толпу людей. Верхний край одежды у всех был спущен, чтобы обнажить плечи,— знак почтения, который оказывался только королю. Поэтому мы предположили, что он где-то поблизости, и вскоре нашли его среди толпы. Он восседал на большом, сделанном из крепкого дерева стуле, который носил за ним один из его слуг. Ахеатуа вспомнил капитана Кука, едва его увидев, и тотчас освободил ему место на своем кресле, а капитан Фюрно и остальные устроились на больших камнях. Как только мы присели, индейцы столпились вокруг так тесно, что скоро нам стало жарко, и королевским слугам пришлось ударами оттеснять людей, чтобы нам было чем дышать.
О-Ахеатуа, король О-Таити (Малого Таити, называемого обычно Теиаррабу), был юноша лет семнадцати-восемыадцати, хорошо сложенный и ростом уже 5 футов 6 дюймов, хотя он, похоже, еще продолжал расти. В чертах его лица было что-то мягкое, но невыразительное, во всяком случае, при первой нашей встрече на нем читался только страх и недоверие, что, разумеется, свидетельствовало не столько о величии, сколько о нечистой совести человека, незаконно получившего власть. Цветом кожи он был светлее своих подданных; у него были гладкие длинные светло-коричневые волосы, на конце рыжевато-желтые. Все его одеяние в тот раз состояло из широкого полотнища (марро) из тончайшей белой материи, достававшее до колен. Голова и остальная часть тела оставались непокрытыми. По обе стороны от него стояли вожди и знать, выделявшиеся крупным, тучным телосложением — преимущество, которым этот класс людей обязан своему ленивому образу жизни и обильной пище. У одного из них была странная татуировка, какой мы прежде не видели: его руки, ноги, бедра и бока почти сплошь были покрыты черными пятнами различной формы. Этот мужчина, которого звали Э-Тие, отличался особенно крупным телосложением и, похоже, был особенно приближен к королю-эри, который почти по любому случаю обращался к нему за советом. Король на своем стуле, или троне, держался куда более важно и чопорно, чем можно было ожидать от человека его возраста. Такая нарочитая, заученная манера поведения, вероятно, должна была придать большую торжественность нашей аудиенции. При дворе каких-нибудь древнефранкских государей этому наверняка воздали бы должное; на Таити же мы не ожидали такого маскарадного притворства.
После первых приветствий капитан Кук подарил Ахеатуа кусок красной ткани (бязи), покрывало, широкий плотничий топор, нож, гвозди, зеркало и бусы. Мой отец преподнес ему подобные же подарки, в том числе султан из ярко-красных перьев, прикрепленных к витой проволоке или шпильке. Эту вещь его величество оценил особенно высоко, да и все собравшиеся испустили громкое «о-вэ!» — возглас изумления и восхищения. Затем король спросил про господина Банкса, о котором до него справлялся Туахау. Он поинтересовался также, долго ли мы намерены здесь оставаться, и дал при этом понять, что был бы доволен, если бы мы задержались на пять месяцев. Капитан Кук отвечал, что вынужден отплыть отсюда незамедлительно, ибо не может получить вдоволь продовольствия. Тогда король ограничил свое пожелание одним месяцем, наконец, пятью днями. Капитан Кук повторил то же, что и раньше, и тогда Ахеатуа обещал назавтра прислать нам свиней. Подобные обещания мы слышали уже не раз, но ни разу они не исполнялись. Поэтому мы опять не придали его словам никакого значения. Теиаррабу мало походил на совершенное государство, и мы давно убедились, что сердечность и доброта среднего сословия, которое оказывало нам гостеприимство и множество всяких благородных услуг, ни в малейшей мере не позволяли судить об образе мыслей двора и придворных с их показной блестящей вежливостью, собиравшихся лишь кормить нас пустыми обещаниями, но исполнение их постоянно откладывать.
Во время этой беседы окружавшие нас простолюдины, коих набралось человек пятьсот, шумели так громко, что не слышно было собственных слов. Слугам короля приходилось поэтому не раз кричать «Маму!» («Тихо!») и подкреплять этот приказ увесистыми ударами палок. Увидев, что капитан Кук отнюдь не намерен затягивать срок своего здесь пребывания, эри, поднялся и сказал, что хочет проводить нас до берега, куда его слуги должны были нести его стул и полученные им подарки.
Он уже не заботился о важности, которую напустил на себя во время аудиенции, и всю дорогу весьма по-свойски беседовал с нашими матросами. Меня он попросил назвать ему по именам всех людей с обоих кораблей, которые находились на берегу; его также интересовало, есть ли у нас на борту женщины, и, когда я ответил, что нет, его величество в приступе благодушия предложил выбрать из числа дочерей его страны, что было воспринято как чистый комплимент.
Вскоре мы подошли к хижине с тростниковыми стенами. Король сел в их тени. Мы тоже укрылись там от солнца, до сих пор прятавшегося за облаками. Потребовав кокосовых орехов, он заговорил о пахие но пеппе, то есть испанском корабле, про который впервые поведал нам Туахау. Согласно его рассказу, корабль пять месяцев назад прибыл в Ваиуруа и пробыл там десять дней. Он добавил, что капитан велел повесить четверых своих людей, пятый же избежал наказания. Мы долго расспрашивали об этом европейце, которого они называли О-Пахуту) но ничего не смогли из него вытянуть. Заметив, что мы так интересуемся этим человеком, придворные льстецы его величества стали нас уверять, что он умер. Потом мы узнали, что в то самое время, которое назвали нам индейцы, дон Хуан де Лангара и Хуарте, вышедший из Кальяо в Перу, посетил Таити; про обстоятельства же его путешествия до сих пор ничего не известно.
Пока мы отдыхали в этом доме, Э-Тиэ (Эти), толстяк, которого мы сочли ближайшим советником короля, спросил нас, есть ли в нашей стране бог (эатуа) и поклоняемся ли мы ему (эпуре). Мы ответили, что признаем единого бога, который все сотворил, но является невидимым, и что у нас также в обычае обращать к нему свои просьбы и молитвы. Он, казалось, очень этому обрадовался и повторил наши слова с некоторыми, надо полагать, пояснительными добавками своим землякам, сидевшим поблизости. Затем он снова обратился к нам и, насколько мы могли понять, сказал, что представления его земляков в этом вопросе совпадают с нашими. Действительно, многие сведения подтверждают, что это простое и единственно верное представление о боге было известно во все времена и во всех землях и что запутанные учения о нелепом многобожии, встречавшиеся почти у всех народов земли, были только уловкой лукавых умов, заинтересованных в распространении подобных заблуждений. Видимо, жажда власти, похоть и лень навели бесчисленную толпу языческих священнослужителей на дьявольскую мысль сковать и ослепить умы народов суеверием. Им было нетрудно осуществить сей замысел еще и потому, что человек по природе склонен к чудесному; только это и объясняет, почему подобные предрассудки столь глубоко и прочно укоренились в системе человеческих знаний, что они и поныне еще в чести и что немалая часть рода человеческого в этом вопросе все еще позволяет грубейшим образом себя обманывать[269].
Пока Э-Тие разговаривал о религии, король Ахеатуа забавлялся карманными часами капитана Кука. С великим вниманием наблюдал он за движением колесиков, совершавшимся как бы само собой. Изумленный этим тиканьем, которого он не мог понять и объяснить, король вернул их со словами: «Они говорят»(парау) — и спросил, для чего служит эта вещица. С большим трудом удалось ему объяснить, что мы употребляем их для определения времени, которое он и его земляки обычно узнают по движению солнца над горизонтом. После такого объяснения он назвал часы «маленькое солнце», дав этим понять, что все уразумел.
Мы уже собирались вернуться на берег, когда пришел человек со свиньей, которую король подарил капитану, заверив, что тот получит еще одну. Это было неплохое начало, и мы без скучных церемоний позволили себе в дальнейшем обращаться к его величеству просто с сердечным «тайо», что значило больше, нежели иные многословные речи.
После обеда капитаны вместе с нами опять отправились к королю. Мы нашли его там же, где оставили, и он опять попросил нас задержаться хотя бы еще на несколько дней. Ему, как и прежде, ответили, что мы вынуждены отплыть просто потому, что он не желает снабдить нас скотом. В ответ он тотчас велел принести двух свиней и подарил по одной каждому капитану, за каковую щедрость был вознагражден всевозможными железными изделиями. Во время беседы мы велели одному из наших морских пехотинцев, шотландцу, поиграть на волынке, и, хотя для наших ушей эта грубая музыка была почти невыносима, королю и всем присутствовавшим индейцам она доставила невообразимое удовольствие. Недоверие, которое еще чувствовалось во время нашего первого разговора, теперь совершенно исчезло, и, останься мы еще, оно перешло бы в неограниченное доверие, к которому король по своей молодости и природному добродушию казался, во всяком случае, склонным. Заученная, вымученная важность была отброшена, порой он вел себя почти как ребенок. Например, его величество нашел особое удовольствие в том, чтобы раскалывать нашим топором маленькие палочки и срубать молодые побеги бананов. Но хотя теперь и можно было в какой-то мере надеяться, что он всерьез исполнит свое обещание насчет свиней, мы не хотели показать, что останемся здесь дольше. А потому к вечеру попрощались по всей форме, вернулись на борт и еще до наступления ночи подняли большие якоря.
Когда на другое утро жители увидели, что мы приводим в порядок паруса, они толпами на маленьких каноэ, полных кокосовых орехов и других плодов, поплыли к кораблю и стали сбывать все по низким ценам, чтобы не упустить последней возможности заполучить европейские товары. Вкус к мелочам и игрушкам, который столь непостижимым образом распространен более или менее по всему миру, заходил здесь так далеко, что они уступали дюжину превосходных кокосовых орехов за одну-единственную стеклянную бусинку, ценя это бесполезное украшение дороже, чем гвоздь, который мог принести какую-то пользу. Нам показалось, что островитяне теперь не так мошенничают, как вначале. Вероятно, они опасались, что малейший обман тотчас положил бы конец торгу, который особенно захватил их, когда они увидели, что он продлится недолго. Чтобы использовать его выгоды как можно дольше, они сопровождали нас еще мили полторы за рифы и повернули к берегу лишь тогда, когда мы выслали шлюпку с лейтенантом Пикерсгиллом, чтобы, со своей стороны, тоже не упустить этой возможности.
Теперь мы как бы снова оказались предоставлены самим себе. Можно было немного отдохнуть и перевести дух, чего мы не позволяли себе во время краткой стоянки у острова, где было так много нового. Эта передышка была для нас тем более кстати, что давала возможность осмыслить разнообразный собранный здесь материал. По всему, что мы видели и слышали на этом острове, его можно назвать одним из счастливейших уголков на земле. Впрочем, после того как мы долгое время не видели ничего, кроме моря, льдов да небес над головой, даже пустынные скалы Новой Зеландии показались нам столь желанными, что поначалу мы тоже ими восхищались. Однако это было лишь первое впечатление, и с каждым днем мы все более убеждались, что эта земля пребывает еще в состоянии диком и хаотическом. На О-Таити все было иначе. Остров оказался прекрасен не только издалека; чем ближе мы к нему подплывали, тем великолепнее становились его виды, а во время каждой прогулки мы открывали все новые красоты. Чем дольше мы здесь находились, тем более подтверждалось первое впечатление, хотя с провизией на Таити обстояло хуже, нежели в Новой Зеландии, где было больше рыбы и птицы, тогда как здесь приходилось вспоминать и про солонину. Конечно, причиной недостатка плодов было время года, соответствовавшее нашему февралю, ибо, хотя зима здесь и не бывает холодной, как в землях, далеких от тропиков, но все же в эту пору, как и всюду, растительный мир набирается соков для нового урожая. Поэтому с некоторых деревьев спали листья, другие растения вовсе увяли или выглядели иссохшими, поскольку дожди здесь начинаются лишь тогда, когда солнце вновь оказывается над Южным полушарием. Так что листва и трава на равнине всюду были темно-бурые. Более живую зелень можно было встретить еще лишь в лесах на вершинах высоких гор, почти постоянно окутанных облаками, отчего там всегда влажно. Оттуда туземцы и приносили нам, между прочим, немало диких бананов, вехие (вехи) и благоуханную древесину э-ахаи, с помощью которой придается такой сильный запах их кокосовому маслу[270].
Обилие трещин и разрушенный вид более высоких горных вершин объясняется, по всей видимости, бывавшими здесь землетрясениями, а наличие среди горных пород лавы, из которой туземцы делают многие свои инструменты, еще больше убедило нас, что на острове существовали некогда огнедышащие горы. Об этом свидетельствовали также плодородная почва на равнине, которая состоит из жирного перегноя, перемешанного с остатками вулканических пород, а также черный железистый песок, который часто встречается в предгорье. В первой цепи гор есть немало совершенно бесплодных, сложенных из желтой глины, перемешанной с железистой охрой, пород; на других горах есть хорошая, плодородная почва, там, как и в более высоких горах, растут леса. В некоторых местах встречаются куски кварца, благородных же металлов нет и следа, если не считать частиц железа, содержащихся повсюду в лаве. Однако возможно, что в горах содержится все же плавкая железная руда. Что до кусков селитры величиной с яйцо, которые, по свидетельству капитана Уоллиса, якобы находили на острове, то при всем моем уважении к его познаниям в морском деле тут я вынужден усомниться, поскольку до сих пор вообще не было найдено ни одного образца самородной селитры в куске, в чем можно убедиться по «Минералогии» Кронстедта[271].
На такие мысли об ископаемых Таити нас навел вид этого острова, вдоль берегов которого мы теперь плыли на север, все еще вглядываясь в места, столь нам понравившиеся и где мы открыли столько нового. Тем временем нас позвали к столу, где нас ожидало блюдо из свежей свинины. Поспешность, с какой мы за него принялись, да и отменный аппетит свидетельствовали о том, до чего мы соскучились по такой пище. Нас удивило, что мясо совсем не имело того жирного вкуса, какой у него обычно бывает в Европе. Сало напоминало костный мозг, а мясо на вкус было нежное, как телятина. Дело, вероятно, в том, что таитянские свиньи питаются исключительно плодами. Возможно, такое питание сказывается и на инстинктах животных. Они мелкой, так называемой китайской породы и не имеют висячих рваных ушей, которые граф Бюффон считает признаком рабства среди животных[272]. Они также были чище и не валялись в грязи, как наши европейские свиньи. Хотя это животное можно назвать подлинным богатством Таити, не следует думать, что на нем держится хозяйство острова. Даже если истребить всех свиней, народ в целом ничего особенно не потеряет, поскольку эти животные являются собственностью исключительно высшего сословия. Забивают их редко и, вероятно, лишь по торжественным поводам, и знать поглощает мясо с такой жадностью, какую некоторые англичане (лондонские олдермены)[273] проявляют к блюдам из черепахи. Простому же человеку доводится отведать свинины крайне редко, она остается для него лакомым блюдом, хотя именно этот класс населения заботится о содержании и кормлении животных.
К вечеру установился штиль и продолжался почти до утра, однако затем, подул юго-восточный ветер, с помощью которого мы скоро увидели северную часть О-Таити, а также остров Эимео [Mypea]. Горы образовывали здесь более крупные массивы и выглядели красивее, чем в Аитепиехе. Горы пониже были не так круты, но тоже безлесны, равнины от берега до подножия ближайших гор — просторнее, в некоторых местах они на вид имели в ширину милю. К 10 утра мы имели удовольствие видеть, как от берега к нам направилось несколько каноэ. Их длинные узкие паруса, сделанные из сшитых циновок, вымпелы из перьев, кучи кокосовых орехов и бананов, которые возвышались над бортами,— все это вместе представляло собой живописную картину. Они уступили нам свои товары за малое количество бус и гвоздей, а затем сразу вернулись на берег, чтобы привезти еще.
Днем возвратилась также наша шлюпка с лейтенантом Пикерсгиллом. Он оказался весьма удачлив в своих закупках в Аитепиехе и привез оттуда девять свиней, а также много фруктов. Его величество король Ахеатуа все время находился на площадке, где происходил торг. Он уселся возле наших железных изделий и торговал за нас со своими подданными, причем подходил к делу весьма справедливо: за больших свиней давал топоры побольше, за меньших — поменьше. Между делом он, как и накануне вечером, развлекался тем, что раскалывал палочки, к великому удовольствию наших матросов, которые отпускали весьма меткие замечания насчет королевских и детских забав. Распродав все свои товары, господин Пикерсгилл после полудня отбыл из Аитепиехи и вечером прибыл в Хиддиа [Хитиаа] в округе О-Реттие (Эрети), где в 1768 году бросил якорь господин Бугенвиль[274].Там его весьма гостеприимно принял благородный старик, чей нрав и поведение по достоинству оценил галантный французский мореплаватель. На другое утро к господину Пикерсгиллу пришел его брат Тарурие и попросил, чтобы тот захватил его с собой на корабль, чьи паруса были видны оттуда. Когда он поднялся на борт, мы заметили у него особенность в выговоре, а именно: букву «т» он всякий раз выговаривал как «к»; ту же особенность мы впоследствии замечали у всех его земляков. Несколько ранее в своем каноэ к кораблю приплыл еще один человек из того же округа по имени О-Вахуа; оба, он и Тарурие, пообедали с нами. Мой отец подарил в знак дружбы первому несколько бус и маленький гвоздь. Честный островитянин тотчас ответил на этот подарок красиво выделанным рыболовным крючком из перламутра. Такое добросердечие было вознаграждено более крупным гвоздем. Тогда он послал мальчика в своем каноэ на берег, и тот вернулся часа в четыре вместе с его братом, а также с подарками: кокосовыми орехами, бананами и циновками. В поведении О-Вахуа было столько благородства и оно так превосходило обычные представления об обмене и выгодной соразмерности ответного подарка, что он сразу заслужил наше глубокое уважение. Мы тоже не поскупились на подарок, более для того, чтобы поощрить его благородство, нежели для того, чтобы отплатить ему. С этим он вечером отбыл от нас радостный, точно ему привалило неожиданное счастье.
С помощью легкого ветра мы понемногу приблизились к берегу, как бы позолоченному сиянием солнца. Вскоре мы смогли различать мыс, получивший название мыс Венус [Венюс] из-за производившихся там наблюдений[275]. Можно было поверить словам тех, кто побывал здесь до нас и утверждал, что это красивейшая часть острова. Бухта Матаваи, к которой мы теперь приближались, была окружена широкой равниной, а лесистая долина между горами казалась большим лесом в сравнении с узкими ущельями на Теиаррабу.
Было около 3 часов пополудни, когда мы подошли к этому мысу. На берегу собралась толпа народа. Они наблюдали за нами с живейшим интересом, но, увидев, что мы бросаем якорь в заливе, многие пустились наутек сломя голову. Они побежали вдоль берега на запад через холм Уан-Три-Хилл [Тахараа] в сторону О-Парре [Паре], будто спасались от нас.
Один мужчина в толпе выделялся своим нарядом. По словам нашего друга О-Вахуа, это был сам О-Ту, король О-Таити-Нуэ [Таити-нуи], или Большого Таити. Он был очень высокого роста и хорошо сложен, однако тоже убегал, подобно большинству своих подданных, и индейцы на борту объяснили, что он нас боится.
Хотя солнце уже клонилось к закату, когда мы стали на якорь, вскоре палубы обоих кораблей заполнили индейцы разного возраста и сословий. Многие узнали среди матросов и офицеров старых знакомых, и общая радость была неописуема. Пришел и благородный старик О-Вхаа [Оухаа], радушный нрав и дружеские услуги которого хвалил капитан Кук в описании своего первого плавания, особенно в связи с неприятным случаем, когда морские пехотинцы застрелили одного индейца. Увидев господина Пикерсгилла, он сразу его вспомнил, назвал таитянским именем Петродеро и на пальцах показал ему, что он уже третий раз на острове. Действительно, господин Пикерсгилл уже был здесь и с капитаном Уоллисом, и первый раз с капитаном Куком. Знатный мужчина по имени Маратата посетил капитана Кука со своей супругой (Тедуа)-Эрарариэ, милой молодой женщиной. Ей и ее мужу было подарено множество вещей, коих они, пожалуй, не заслужили хотя бы потому, что оба, кажется, поднялись на борт единственно ради этой своекорыстной цели. Такое же счастье привалило и тестю Марататы, крупному, тучному человеку, который бесстыдным образом у всех что-нибудь выпрашивал. В знак дружбы они поменялись с нами именами, то есть каждый из них избрал себе друга, к которому был особенно расположен. Этого обычая мы не наблюдали во время нашей предыдущей стоянки, где туземцы были сдержаннее и недоверчивее. К 7 часам большинство их покинули судно, но обещали завтра утром вернуться, в чем мы не сомневались после столь доброй встречи.
Всю ночь сияла очень яркая луна. Не видно было ни облачка. Гладкая поверхность моря сверкала точно серебро, и пейзаж перед нами был неописуемо прекрасен. Самая бурная фантазия не могла бы придумать подобного. Кругом царила нежная тишина, слышались голоса индейцев, оставшихся на борту, дабы провести славный вечер со своими старыми друзьями и знакомыми. Они сидели повсюду на корабле, разговаривали о том о сем, а что не удавалось передать словами, поясняли знаками. Прислушавшись, мы уловили, что они интересуются, в частности, как шли дела у наших людей со времени отъезда отсюда, а также рассказывали о печальной участи Тутахи и его друзей. Наибольшее участие в беседе принимал Гибсон, морской пехотинец, которому остров в прошлый раз так понравился, что он чуть было здесь не остался, и который понимал местный язык лучше любого из нас, за что туземцы особенно высоко ценили его. Эти добрые люди отнеслись к нам несравненно доверчивее и чистосердечнее, чем жители Аитепиехи, и это было для нас особенно ценно, поскольку означало, что они благородно позабыли о прошлых оскорблениях и что их добрым, неиспорченным душам чужда мысль о мести или ожесточении. Для чувствительного сердца поистине утешительна мысль, что человеколюбие естественно для человека и что дикие обычаи недоверия, злобы и мести свидетельствуют лишь о постепенной порче нравов. Действительно, найдется лишь немного примеров, когда народы, не до конца погрязшие в варварстве, действовали бы вопреки стремлению к миру, которое от природы свойственно человеку. Сие подтверждает опыт Колумба, Кортеса и Писсаро в Америке, а также Менданьи, Кироса, Схоутена, Тасмана[276] и Уоллиса в Южном море. Этому не противоречит даже нападение таитян на «Дельфина»[277]. Скорее всего, наши люди, сами того не сознавая, дали повод к подобным действиям каким-нибудь оскорблением. Но избежать этого можно было; ведь первый закон природы — самосохранение, и, вероятно, туземцам могло служить оправданием, что наши люди оказались непрошеными гостями и агрессивной стороной. Как бы то ни было, у них имелись причины опасаться за свою свободу. Но когда они на горьком опыте испытали превосходство европейцев и им объяснили, что корабль хочет взять лишь немного провизии, а пробудет здесь совсем недолго, короче, как только они убедились, что чужаки не бесчеловечны и не чужды справедливости, что британцы, во всяком случае, не более дики и не более варвары, нежели они сами, островитяне тотчас изъявили готовность открыть пришельцам объятия, забыть случившееся недоразумение и щедро наделить их дарами своей природы. Каждый старался перещеголять другого в гостеприимстве, от ничтожнейшего подданного до королевы, так что, прощаясь с их дружественной землей, гости по праву могли бы сказать:
Invitus, regina, tuo de littore cessi.
Virgil.[278]ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Стоянка в бухте Матаваи
Еще в прошлый раз, побывав в бухте Матаваи, капитан Кук понял, что, если хочешь здесь получить достаточно продовольствия без насилия и кровопролития, нужно добиться расположения короля. Поэтому, не теряя времени, он собирался сразу же отправиться в О-Парре [Паре], где, по-видимому, находился король О-Ту. Однако ему пришлось задержаться, поскольку на борт, как и обещали, прибыли Маратата с женой. В ответ на полученные накануне подарки они принесли ему несколько кусков своих лучших материй и очень гордились тем, что им позволили войти в большую каюту, тогда как другие их земляки должны были остаться за дверью.
Как только с «Адвенчера» прибыл капитан Фюрно, капитан Кук вместе с ним, а также с доктором Спаррманом, с моим отцом и со мною спустился на полубаркас. Маратата и его жена без церемоний составили нам компанию и тотчас заняли лучшие места на корме. Другие индейцы последовали их примеру, покуда лодка не переполнилась так, что матросы не могли шевельнуть веслами. Поэтому большинству непрошеных гостей пришлось, к их огорчению, высадиться. Каждый явно гордился и радовался, если ему разрешалось остаться в лодке. Этому в немалой мере способствовал ее красивый вид: она была заново покрашена, а новый зеленый тент давал приятную тень.
Мы поплыли на веслах через бухту и пристали к берегу возле мыса, на котором среди густых зарослей стоял каменный мараи наподобие тех, что мы видели в Аитепиехе. Капитану Куку это место погребений и собраний было известно под названием Тутаха-мараи, но, когда он назвал его так, в разговор вмешался Маратата и сказал, что после смерти Тутахи марай больше ему не принадлежит и называется теперь О-Ту-мараи. Какая превосходная мораль для князей и королей: напомнить им об их смерти и одновременно дать понять, что после смерти им не будет принадлежать даже место, где покоится их тело! Пока мы плыли, Маратата и его жена обнажили свои плечи — честь, которую все жители, без различия сословий, оказывают мараи, из чего мы могли заключить, что здесь эти места особенно почитаются. Вероятно, по их представлениям, в таких местах непосредственно присутствует божество; каждый народ испокон веков примерно так относится к святым местам своих собраний.
Это была прекраснейшая часть О-Таити. Равнины здесь были широкие, у всех гор — мягкие очертания, закругленные вершины и пологие склоны. На берегу, поросшем прекраснейшей травой и до самой воды затененном пальмами, было множество народа. Едва мы вышли из лодки, раздался громкий радостный крик. Нас немедленно провели к хижинам, скрытым под хлебными деревьями, и перед одним из самых больших домов мы увидели квадратную площадку в 20—30 шагов, обнесенную изгородью высотой дюймов 18. Посредине этой площадки, на земле, скрестив ноги, сидел король. Его окружала группа людей обоего пола; судя по своему сложению, цвету кожи и поведению, они принадлежали к числу высшей здешней знати. Матросы положили перед королем на землю наши подарки, служившие как бы верительными грамотами капитану Куку, после чего мы все подошли поближе, и нам предложили усесться вокруг его величества. Хотя внешне народ здесь как будто проявляет большое почтение к своему повелителю, о чем свидетельствует хотя бы то, что в его присутствии каждый без исключения должен обнажать плечи, это почтение, однако, не помешало всем тесниться вокруг с неистовым любопытством. Поскольку же толпа, а следовательно, и давка были несравненно больше, чем во время нашей аудиенции у Ахеатуа, то стоявшим по углам огороженной площадки королевским слугам приходилось немало стараться, чтобы хоть как-то удерживать людей на расстоянии. Особенно старался один из них, который расчищал для нас дорогу; он немилосердно колотил вокруг палкой и не одну сломал о головы, многие из них разбив в кровь
Menava quella mazza fra la gente
Ch' un imbriaco Svizzero paria
Di quei, che con villan modo insolente,
Sogliono innanzi 'l Papa il dì di testa
Rompere a chi le braccia, a chi la testa.
Tassone[279]Тем не менее толпа все время продолжала напирать, как это делает английская чернь худшего пошиба, с той лишь разницей, что эти сносили действия королевских слуг более терпеливо. Во время прошлого пребывания здесь капитана Кука король О-Таити не допустил до себя наших людей, вероятно, из-за политических расчетов своего дяди Тутахи, который тогда держал в своих руках всю власть и, наверное, боялся, что потеряет уважение европейцев, если те узнают, что не он первый и главный человек на острове. О-Ту (нынешнему королю) было уже 24—25 лет, и он лишь недавно получил власть, которую, видимо, узурпировал у него Тутаха.
Не только по положению, но и внешне он был самым большим человеком на острове: 6 футов 3 дюйма. Телосложение у него было крепкое, пропорциональное, вообще выглядел он здоровым и не казался предрасположенным к чрезмерной тучности. В облике его было что-то мрачное, а возможно, и робкое, но все же чувствовались величие и ум, а живые черные глаза смотрели выразительно. У него была черная бородка клинышком и густые вьющиеся волосы. Портрет его выгравирован на меди по рисунку господина Ходжса и помещен в отчете капитана Кука об этом плавании. Братья и сестры О-Ту были похожи на него; волосы их тоже, подобно равномерно густому курчавому парику, стояли торчком вокруг головы. Старшему из братьев было лет 16, а младшему — около 10. Старшая же из сестер, которая на этот раз присутствовала тут одна, выглядела лет на 25—26. Поскольку здешние женщины обычно коротко стригут волосы, прическа этой дамы выделялась и, видимо, составляла привилегию королевской семьи. Ее высокий ранг, однако, не освобождал ее от обычного требования этикета: обнажать плечи в присутствии короля. Женщинам этот обычай давал возможность разнообразно и необычайно выгодно демонстрировать красоту своего сложения. Все ее одеяние состояло из длинного куска белой материи, тонкой, как муслин. Такой кусок обычно сотней разнообразных способов непринужденно обертывается вокруг тела, в зависимости от желания, таланта и вкуса каждой молодой красотки. У них не существует общей моды, которая бывает к лицу лишь некоторым, а других скорее портит до неузнаваемости, нежели красит; нет, врожденная свобода проявляется в их нарядах, а природная грация дополняет благородную простоту одежды и телосложения.
Единственные, кто могли не обнажать плечи, были хоа[280], королевские придворные, которых лучше всего сравнить с камергерами и которых у короля было 12, прислуживавших ему по очереди. К их числу относились и те, кто, подобно швейцарцам, избивал народ и расчищал место. Мы сидели между дядями, тетями, кузенами и другими родственниками короля. Все эти знатные особы наперебой стремились показать нам свое расположение, заверить нас в дружбе, и все ради того, чтобы получить бусы и гвозди. Но способы и приемы, какими они старались раздобыть эти мелочи, были весьма различными, и поэтому не всем одинаково везло. Когда мы, например, оделяли бусами ту или иную группу, к нам то и дело протискивались какие-нибудь молодые наглые парни и тоже протягивали руки, как будто имели право претендовать на нашу щедрость. Такие обычно ничего не получали. Труднее было отказать в подарке старым почтенным людям, которые тянули к нам трясущиеся пальцы, сердечно пожимали нам руки и в надежде на нашу доброту шептали на ухо свои просьбы. Дамы постарше призывали себе на помощь искусство и лесть. Они обычно спрашивали, как нас зовут, объявляли нас своими детьми и знакомили с родственниками, которые таким образом становились и нашими родственниками. Постаравшись затем еще как-нибудь польстить нам, они просительным тоном, с любезной миной говорили: «Аима поэ ити но те тайо меттуа?», что значило: «Не найдется ли у тебя бус для твоей милой мамочки?» То есть они взывали уже к нашей детской любви, и если находили отклик, то получали свое. Такая форма просьбы представляла характер этого народа в самом выгодном свете. Ведь предполагать в других добрые побуждения, когда те сами их не имеют,— это уже свидетельство утонченности нравов, присущей лишь цивилизованным народам. Женщины помоложе, в расцвете лет, прибегали к другим уловкам. Они и так были каждая по-своему миловидны, да еще очень старались понравиться, а делать это они умели прелестно, как только это могут делать где-либо наши сестры, так что отказать им было нелегко, ибо кто способен устоять перед столь юными, милыми и очаровательными девушками?
Пока мы раздавали подарки придворным дамам и господам, они послали своих слуг (таутау) за большими кусками лучшей материи ярко-красной, алой или бледно-желтой расцветки, надушенной тончайшими благоуханными маслами, чтобы сделать нам ответные подношения. Они возлагали эту материю поверх наших одежд и скоро так загрузили нас ими, что мы едва могли шевельнуться.
Это важное занятие — получение подарков — прерывалось вопросами о Табане (господине Банксе), Толано (д-ре Соландере) и о других знакомых. Однако о Тупайе (Тупейе), или Паруа, как его обычно называли, спросили лишь несколько человек. Известие о его смерти они тоже приняли довольно равнодушно, хотя, нам казалось, земляки должны были бы особенно ценить широкие познания этого человека.
Наш шотландец тем временем играл на волынке, к величайшему удовольствию зрителей, изумленных и восхищенных его игрой. Король О-Ту был так доволен его искусством, по правде сказать невысоким, что в награду велел дать ему большой кусок сравнительно грубой материи.
Поскольку это был лишь церемониальный визит, мы не хотели долго задерживаться и собирались уже прощаться, когда нас задержал приход Э-Хаппаи, отца короля. Это был высокий худой человек с седой бородой и такой же головой; но, несмотря на свой преклонный возраст, он еще не казался дряхлым. Подарки, преподнесенные ему капитанами, он принял с тем холодным безразличием, которое присуще старым людям. В описании предыдущего путешествия уже рассказывалось о странных установлениях, в силу которых сын принял власть еще при жизни отца; но все же нас удивило, что старый Хаппаи, сверх того, должен был подчиняться общим законам и, подобно другим, обнажать плечи в присутствии своего сына. Таким образом, на кровное родство здесь совсем не обращают внимания, чтобы придать больше величия королевскому достоинству, и такое толкование природных отношений, на мой взгляд, свидетельствует о большем уровне культуры и рассудительности, чем казалось многим. Однако, хотя Хаппаи и не имел теперь верховной власти, простой народ, помнивший о его роде и положении, воздавал ему немалые почести, и король тоже заботился о достойном его содержании. А именно под его началом непосредственно находился округ или провинция О-Парре, откуда он получал для себя и для своих слуг все, что ему было нужно. Ради этого старого человека мы задержались немного дольше, чем собирались, а затем, попрощавшись с отцом и сыном, вернулись к полубаркасу, возле которого все это время оставался Маратата, вероятно чтобы земляки подумали, будто он пользуется у нас особым доверием.
За время нашего отсутствия на мысе Венус были поставлены палатки для дровосеков, водоносов и больных с «Адвенчера». Астрономы с обоих кораблей также установили свою обсерваторию примерно на том же самом месте, где во время прошлого плавания господин Грин и капитан Кук наблюдали прохождение Венеры.
Вернувшись на борт, мы увидели, что на корабле полно индейцев, в том числе и несколько лиц высокого звания. Благодаря своему положению они имели свободный проход по всему судну, но именно по этой же причине нигде нельзя было укрыться, когда они выпрашивали стеклянные бусы. Чтобы избавиться от такого невыносимого попрошайничества, капитаны вскоре вернулись к палаткам, а вместе с ними и мы, чтобы посмотреть природные достопримечательности сего места. После еды мы предприняли новую прогулку, но, поскольку оба раза могли уйти недалеко, наши открытия составили лишь несколько растений и птиц, каких мы еще не видели в Аитепиехе.
На другое утро очень рано из Парре к кораблю подплыло множество каноэ. В одном из самых маленьких находился король, который пожелал собственнолично передать капитану Куку ответные подарки. Это была всевозможная снедь, в том числе живая свинья, несколько больших рыб: бычковая макрель (Cavalha, Scomber hippos) и белая макрель (Albecore) примерно 4 футов в длину и уже приготовленные, наконец, несколько корзин с плодами хлебного дерева и бананами[281]. Все это было поднято на корабль. Капитан Кук стоял на борту. Он попросил его величество подняться, однако на сей раз никто не тронулся, покуда на капитана не накинули, согласно таитянскому этикету, множество лучших здешних материй, так что он превратился в невероятно толстую фигуру. Лишь после того как эта церемония была выполнена, О-Ту поднялся на корму и обнял капитана. Он выглядел, однако, очень озабоченным, хотя с ним обращались дружелюбно и старались всячески показать, что опасаться нечего. Поскольку палуба оказалась битком набита королевскими родственниками и приближенными, его пригласили в каюту. Но спуститься по трапу между палубами показалось ему опасным, и он послал вперед своего брата, миловидного юношу лет 16, вполне нам доверявшего. Тому понравилась каюта, и он так расхвалил ее, что король наконец отважился спуститься сам. Здесь ему опять дали всякие ценные подарки. Свита его величества так заполнила каюту, что в ней едва можно было повернуться. Особенно худо приходилось капитану Куку под грузом церемониальных таитянских одежд; да и без них было слишком жарко. Как уже упоминалось, каждый из индейцев избрал себе среди нас особого друга; эту новую дружбу подкрепляли взаимные подарки. К тому времени на борт прибыл капитан Фюрно, и мы сели завтракать. Гости отнеслись к этому новому для них событию весьма спокойно и согласились сесть на стулья, которые показались им крайне непривычными, но необычайно удобными. Король уделил большое внимание нашему завтраку, состоявшему на сей раз наполовину из английских, наполовину из таитянских блюд. Он немало удивлялся, что мы пьем горячую воду (чай) и едим плод хлебного дерева с маслом. Сам он в еде участия не принимал, но некоторые из его спутников держались не столь осторожно, они ели и пили в свое удовольствие все, что им предлагалось.
После завтрака на глаза О-Ту попался пудель моего отца. Обычно он выглядел весьма прилично, но на сей раз был грязный, испачканный, как матрос, в смоле и варе. Тем не менее его величество пожелали его заполучить, и просьба эта была удовлетворена. Король очень обрадовался, тотчас велел одному из своих камергеров (хоа) взять собаку и всюду носить ее с собой. Вскоре он сказал капитану Куку, что должен вернуться на берег, и со свитой и всеми полученными подарками вышел на палубу. Здесь капитан Фюрно подарил ему еще козла и козу, которых специально доставил со своего корабля. Нам стоило немалого труда объяснить королю пользу этих животных и как их содержать. Он обещал не забивать их, не разлучать и заботиться об их потомстве. Полубаркас был уже готов, и король вместе с капитаном и другими отбыл на нем в О-Парре, где тогда находилась резиденция его величества. О-Ту выглядел необычайно довольным, он задал несколько вопросов и, казалось, совершенно избавился от недавнего недоверия и страха. Козы так занимали его, что он не мог говорить почти ни о чем другом и, похоже, готов был слушать без конца, как их надо кормить и содержать.
Когда мы прибыли на берег, ему показали прекрасную травянистую лужайку в тени хлебного дерева и сказали, что коз хорошо пасти в таких местах. Весь берег был усыпан индейцами. Они радостным криком встретили выходившего из лодки короля. Среди толпы находилась также мать Тутахи, почтенная седая матрона. Увидев капитана Кука, она подбежала к нему и обняла, как друга своего сына. При этом она столь живо вспомнила свою потерю, что начала громко плакать, немало нас этим тронув. Столь нежная чувствительность несомненно подтверждает изначальную доброту человеческого сердца и всегда вызывает сочувствие.
Оттуда мы поспешили к нашим палаткам на мысе Венус, где туземцы уже устроили настоящий базар. Тут можно было увидеть все виды фруктов, причем очень дешевых: так, полная корзина плодов хлебного дерева или кокосовых орехов стоила не больше одной бусины. Мой отец встретил здесь своего друга О-Вахау, который опять подарил ему много фруктов, несколько рыб, немного тонкой материи, а также перламутровые рыболовные крючки. Мы хотели ответить на его щедрость, однако благородный человек начисто отказался принять хоть что-нибудь и сказал, что подарил все эти мелочи моему отцу как другу, бескорыстно. Словом, казалось, все в тот день сошлось, чтобы мы получили самое выгодное представление об этом славном народе.
К полудню мы вернулись на корабль и после обеда занялись зарисовкой и описанием собранных коллекций. На палубах все время толпились индейцы обоего пола; они обшаривали все уголки и тащили, что только удавалось. Вечером случилось происшествие, новое и странное для нас, но знакомое тем, кто уже бывал на Таити. Наши матросы пригласили на корабль несколько женщин самого низкого сословия, которые не только охотно пришли, но и после заката, когда их земляки вернулись на берег, пожелали остаться на борту. Мы уже знали по опыту, до чего продажны таитянские девушки, но там они занимались своим распутством только днем, на ночь же никогда не отваживались остаться на судне. Здесь же, в Матаваи, английских моряков успели узнать получше, и девицы не сомневались, что на них можно положиться, более того, что это наилучший путь заполучить у них бусы, гвозди, топоры или рубахи. Так что вечером между палубами царило такое веселье, словно мы стояли на якоре не возле Таити, а где-нибудь в Спитхеде[282]. Прежде чем стемнело, девушки собрались в носовой части палубы. Одна из них дула в носовую флейту, остальные танцевали, и далеко не все из этих плясок соответствовали нашим представлениям о приличии и благопристойности. Но ведь многое из того, что, по нашим понятиям, можно бы назвать предосудительным, при здешней простоте нравов считалось совершенно невинным, так что, в сущности, таитянские распутницы куда менее развратны, чем их цивилизованные европейские сестры. Когда стемнело, они исчезли с палубы; любовники угостили их свежей свининой, и они ели ее жадно, хотя только что в присутствии своих земляков не хотели до нее дотрагиваться, поскольку в силу здешнего обычая, не совсем нам понятного, мужчины и женщины не вправе есть вместе. Удивительно, сколько мяса могли поглотить эти женщины; их жадность явно показывала, что дома они лакомятся им редко, если вообще когда-нибудь видят.
Нам были слишком памятны нежная печаль матери Тутахи, благородная доброта нашего друга О-Вахау; вообще наше мнение о таитянах было весьма высокое; тем более бросалось в глаза поведение этих созданий, отбросивших всякую сдержанность и предавшихся одним лишь животным страстям. Сколь несовершенна человеческая природа, если даже такой добрый, простодушный и счастливый народ способен опускаться до подобной испорченности и безнравственности! Можно лишь сокрушаться, что человек особенно склонен злоупотреблять самыми богатыми и прекрасными дарами благого творца и что ему столь свойственны заблуждения!
На следующее утро к кораблю явился О-Ту со своей сестрой Тедуа-Таураи и другими родственниками; он велел передать на борт свинью и большую рыбу, но сам подняться не пожелал. Такие же подарки он привез капитану Фюрно, но не решился подняться на «Адвенчер», покуда мой отец не вызвался сопровождать его. Пришлось повторить всю церемонию с заворачиванием капитана в таитянские материи, прежде чем их величество отважился взойти на борт. Однако сразу после этого он почувствовал себя вполне уверенно и пошел на палубу, где капитан Фюрно преподнес ему ответные подарки.
Тем временем его сестра Тедуа-Таураи согласилась подняться на корабль капитана Кука; мы обратили внимание, что все находившиеся при этом женщины обнажили плечи, оказав ей те же почести, что и королю. Таких же почестей удостоился и юноша Ватау, сопровождавший своего брата-короля; его называли т'эри Ватау; из этого можно, видимо, заключить, что, хотя титула эри удостаиваются все вожди и знать, главным образом он относится к членам королевской семьи. Недолго пробыв на «Адвенчере», О-Ту перешел на «Резолюшн», забрал свою сестру и вместе с ней, а также обоими капитанами отбыл в О-Парре.
На рассвете 29-го мы велели поставить себе палатки на берегу и отправились исследовать природу острова. За ночь легла сильная роса, освежившая все растения; наряду с утренней прохладой это сделало нашу прогулку весьма приятной. Возле палаток находилось лишь несколько индейцев; все же некоторые проводили нас до реки, через которую мы должны были переправиться, ибо при этом можно было заработать. Обычно они за единственную бусинку готовы были нас перенести на плечах, чтобы мы не промочили ног. Большинство жителей уже встало, некоторые купались в реке Матаваи, что утром было для всех первым делом. В этой теплой стране очень нужно и полезно купаться почаще, особенно утром, когда прохладная, свежая вода помогает укрепить нервы, которые обычно ослабляются постоянной жарой. Кроме того, чистота тела не только наилучшим образом предупреждает воспалительные болезни, но и способствует общительности людей; напротив, нецивилизованные народы, у которых не вошло в обычай купаться, бывают столь нечистоплотны, что из-за вони не могут собираться в большом количестве, да и посторонний недолго выдержит среди них.
Мы подошли к маленькой хижине, где жила бедная вдова со своим многочисленным семейством. Ее старший сын Нуна, подвижный мальчик лет 12 с каштановым цветом кожи и очень приятный, веселый на вид, все время особенно льнул к европейцам. При этом он проявлял немалые способности и понимал нас с полуслова лучше, чем другие его земляки, с которыми при всем старании, прибегая к пантомиме и словарям, мы бы не добились такого толка. Мы договорились накануне, что он будет нашим проводником. Когда мы подошли, его мать уже приготовила нам кокосовые орехи и прочую снедь; она сидела на камнях перед хижиной со своими детьми. Младшему из них на вид было года четыре. Хотя она еще выглядела довольно бодрой, на лице у нее было столько морщин, что в этой стране, где девушки так рано созревают, было неловко считать ее матерью таких маленьких детей. Подошла еще женщина, помоложе, лет 23—24; как мы узнали, это была старшая сестра Нуны. Судя по ее возрасту, матери могло быть лет около 40, но не приходится удивляться, что она выглядела старше, ибо, как известно, в жарких странах этот пол обычно увядает раньше, нежели в краях холодных. Напротив, не достойно ли удивления, что, несмотря на свое раннее созревание, здешние женщины остаются плодовитыми двадцать лет и более? Дело, видимо, в том, что они проводят жизнь в счастливой простоте, не зная забот и нужды, и, несомненно, именно потому здешнее население так многочисленно.
Мы договорились с одним дюжим парнем, что он понесет за нами провизию, которую приготовила гостеприимная старая женщина. Он повесил ее, разделив поровну, на концы четырехфутовой палки, а палку положил на плечо. Нуна и его младший брат Топарри, лет четырех, провожали нас весело и охотно. На прощание мы подарили всей семье бусы, гвозди, зеркала и ножи.
Вначале идти было довольно трудно, поскольку пришлось подняться на гору. Однако труды наши оказались напрасными, ибо, кроме нескольких карликовых кустов и засохших папоротников, мы не нашли здесь ни одного растения. Зато, к немалому своему удивлению, мы увидели, как с этой сухой, бесплодной вершины взлетела перед нами стая диких уток. Что занесло их сюда с обычных гнездовищ в тростниках и на болотистых берегах рек, сказать трудно.
Вскоре мы перевалили еще через одну гору, где папоротники и кустарники, видимо, недавно горели, поскольку одежда наша становилась черной от прикосновения к ним. Спустившись, мы наконец достигли плодородной долины, по которой к морю стекал прелестный ручей. Туземцы запрудили его в нескольких местах камнями, чтобы провести воду на поля, засаженные съедобным корнем (Arum esculentum), так как этим растениям нужна болотистая, насыщенная водой почва. Их здесь два вида; у одного большие блестящие листья и корень длиной добрых 4 фута, но очень грубоволокнистый, у другого мелкие бархатистые листья, а корень тоньше и вкуснее. Впрочем, вкус у обоих острый и едкий, если корень не выварить несколько раз в воде; но свиньи охотно и без вреда для себя поедают его и сырым[283].
Чем дальше мы продвигались по ручью, тем уже становилась долина, а горы с обеих сторон круче и лесистее. Но всюду, где земля была хоть чуть ровнее, росли кокосовые пальмы, бананы, шелковичные деревья и разные коренья; несколько домов стояли тесно друг к другу. Кое-где встречались большие гряды камней, нанесенных с гор и обкатанных водой. В горах мы сорвали несколько новых растений, не раз рискуя при этом сломать себе шею, так как обломки скал то и дело выкатывались из-под ног.
Нас обступили индейцы, они принесли на продажу много кокосовых орехов, плодов хлебного дерева и яблок. Набрав достаточный запас, мы наняли несколько человек, чтобы они несли за нами покупки. Пройдя около 5 английских миль, мы уселись на красивом лугу под деревьями, чтобы пообедать. Наряду с купленными фруктами нашу еду составляли свинина и рыба, захваченные нами с корабля. Таитяне стояли вокруг, а проводникам и помощникам мы разрешили сесть с нами. Они с удовольствием угощались, но были удивлены, что мы каждый кусок макаем в белый порошок, совершенно им неизвестный. Дело в том что мы захватили с корабля немного соли и употребляли ее ко всем блюдам, в том числе и к плодам хлебного дерева. Некоторые захотели ее попробовать, и вкус показался им отчасти знакомым, поскольку они обычно добавляют морскую воду в виде соуса в рыбные и морские блюда.
Около 4 часов пополудни мы решили возвращаться, когда увидели группу индейцев. Они шли через горы с грузом диких плантанов[284], которые здесь растут без ухода, но некоторые несравненно худшего качества, нежели те, что возделываются на равнинах. Они несли их на продажу к палаткам, и, поскольку нам было по пути, мы пошли вместе с ними вниз по ручью. Здесь в одном месте пробегавшие мимо дети нашли между камнями маленьких раков и предложили нам. Как вклад в знания о природе острова они были нам весьма кстати, и мы подарили детям мелкие бусинки. Но едва это увидели старшие, как более пятидесяти мужчин и женщин пошли вброд по ручью и принесли столько этих раков, что нам скоро пришлось остановить их и оставить без вознаграждения.
Часа через два мы наконец добрались до наших палаток на мысе Венус и застали там почтенного О-Вахау, который опять подарил моему отцу фрукты. Во время нынешней прогулки мы заметили, что здесь больше праздных людей, чем в Аитепиехе, хижины и посадки здесь также казались более запущенными, чем там, а вместо дружеских приглашений приходилось то и дело слышать лишь нескромные просьбы о бусах и гвоздях. Однако в общем мы могли быть вполне довольны туземцами; во всяком случае, они разрешали нам беспрепятственно ходить по всей их прекрасной стране. Правда, нам то и дело приходилось убеждаться в их необычайной склонности к воровству, но ничего ценного похищено не было, поскольку в карманах, до которых легче всего дотянуться, мы обычно и не носили ничего, кроме носового платка, а он представлял собой всего лишь кусок тонкой таитянской материи, так что, даже если туземцам и удавалось опустошить наши карманы, они потом обычно сами возвращались и со смехом отдавали добычу. По-моему, эта склонность у таитян более простительна, чем у нас; ведь их потребности так легко удовлетворить, живут они в общем одинаково и обычно поводов для воровства имеют мало. Их открытые, без дверей и засовов, дома достаточно показывают, что в этом смысле им нечего друг друга опасаться. Так что виноваты отчасти мы сами, поскольку дали им возможность познакомиться с вещами, перед соблазном которых они не могли устоять. К тому же сами они, кажется, не считали свое воровство предосудительным, вероятно полагая, что для нас это не слишком большой ущерб.
В наше отсутствие капитан Кук нанес визит королю в Парре, и в его честь был исполнен драматический танец, главную роль в котором играла ее королевское величество Таураи. Она появилась в том же самом наряде, и ее пантомима была точно такой же, какой ее описал капитан Кук в книге о предыдущем плавании. В промежутке, пока принцесса отдыхала, танцевали двое мужчин; они также пели, вернее, произносили с особыми гримасами слова, имевшие, видимо, отношение к танцу, но непонятные нашим людям. Все представление длилось часа полтора, и Тедуа-Таураи продемонстрировала при этом искусство, превосходившее все, что капитан видел в прошлый раз на Улиетеа [остров Раиатеа][285].
Утром капитан Кук послал лейтенанта Пикерсгилла в юго-западную часть острова для закупки свежих продуктов, особенно свиней, ибо до сих пор мы получили от короля лишь двух. Мы же весь день оставались на борту, чтобы описать собранные накануне растения. Вечером в 10 часов на берегу против корабля поднялся сильный шум; капитаны предположили, что это кричат наши люди, и тотчас послали шлюпки с офицерами, которые привезли на борт виновников. Это были несколько морских пехотинцев и один матрос; они отпросились у офицера, старшего в палатках, погулять, но задержались сверх положенного и избили одного индейца. Капитан велел тотчас заковать их в кандалы, ибо для сохранения добрых отношений с туземцами было крайне важно примерно наказать этот проступок. На следующий день обещал явиться О-Ту со своим отцом, однако, прослышав про шум, он проникся к нам недоверием и поэтому послал в качестве курьера или посла (вханно но т'эри) одного из самых знатных придворных по имени Э-Ти, чтобы извиниться за свое отсутствие. Но прежде чем тот добрался до судна, доктор Спаррман и я сошли на берег и направились к месту, где накануне вечером случилась эта суматоха, намереваясь двинуться оттуда дальше в глубь страны. На берегу нас встретил старый О-Вхаа, неизменно к нам расположенный, и выразил свое неудовольствие вчерашним происшествием. Мы, со своей стороны, заверили его, что нам оно не менее неприятно, но что виновные уже в кандалах и будут строго наказаны, чем полностью его удовлетворили. Не имея спутников, мы попросили О-Вхаа найти нам кого-нибудь, кому можно было бы доверить нести вещи. Вызвалось несколько человек, но он по своему усмотрению выбрал крепкого расторопного парня. Мы дали ему мешок для растений и корзины с таитянскими яблоками, купленными нами тут же.
Пройдя через холм Уан-Три-Хилл, мы добрались до одной из ближних от О-Парре долин. Здесь нам повезло: мы сделали открытие в области ботаники, обнаружив новое дерево великолепнейшего вида. Оно было украшено множеством прекрасных цветов, белых, как лилии, но более крупных и имевших массу тычинок, темно-красных на кончиках. Многие цветы уже опали, вся земля кругом была покрыта ими. Мы назвали это прекрасное дерево б а р р и н г т о н и я, на местном же языке его именуют худду, и туземцы уверяют, что если плод этого дерева, напоминающий орех, расколоть и, смешав с мясом моллюсков, бросить в море, рыбы будут на время так оглушены, что всплывут на поверхность и их можно будет ловить руками. Примечательно, что подобными свойствами обладают многие растения между тропиками, прежде всего зерна куккеля (Cocculi indici), известные в Ост-Индии и употребляемые именно для этих целей[286].
Мы не могли нарадоваться своей ботанической находке, однако с более подробным исследованием ее надо было подождать до возвращения на корабль. Поэтому мы, не задерживаясь, отправились к приятной на вид хижине из тростника, вокруг которой росли благоуханные кусты и несколько кокосовых пальм. Как и можно было ожидать при здешнем достохвальном гостеприимстве, хозяин дома, едва увидев нас, велел мальчику забраться за орехами на самую высокую пальму, и тот выполнил поручение с замечательной ловкостью. Он прикрепил к обеим ногам кусок твердой банановой коры, как раз такой длины, чтобы можно было обхватить дерево, и она служила ему опорой, с помощью которой он на руках подтягивался все выше. Конечно, ему облегчало подъем природное устройство кокосовой пальмы, которая каждый год образует вокруг ствола толстое кольцо, но все же скорость и легкость, с какой он это делал, были поразительными. Мы оказались недостойными такой доброты и внимания, так как на прощание ничего ему не подарили и никак не вознаградили мальчика за ловкость.
Оттуда мы опять поднялись вверх по долине, среди которой, как это обычно здесь бывает, протекал маленький ручей, спускавшийся с гор. Слева он был замкнут горой, на которую мы собирались подняться, невзирая на ее крутизну. Нам, однако, пришлось трудно, и наш спутник таитянин смеялся, что от усталости мы то и дело садимся перевести дух. Сам он сопел позади нас, сильно дыша открытым ртом. Мы попробовали последовать его примеру, которому его, видимо, научила сама природа, и нашли, что это действительно лучше частого и неглубокого дыхания, при котором нам прежде недоставало воздуха.
На вершине горы дорога опять стала ровнее, к тому же нас весьма освежал приятный воздух. Мы немного прошли по этому плоскогорью, но палящий зной, усиленный жаром выжженной земли, вскоре вынудил нас присесть в тени пандануса. Вид отсюда был превосходный. Глубоко внизу расстилалась прекрасная равнина Матаваи, за ней лежал залив, где стояли наши корабли; он был покрыт множеством каноэ и замкнут рифами, которые окружают О-Таити. Полуденное солнце лило ровный, спокойный и однообразный свет на весь этот пейзаж. На расстоянии около 6 больших английских миль (лиг) виднелся низменный остров Тедхуроа [атолл Тетиароа], который состоял из скал, расположенных по небольшой окружности и заросших пальмами. Дальше взгляд терялся в бескрайнем море. Наш спутник показал нам также расположение других соседних островов, не видных отсюда, и ответил на наши вопросы, растет ли там что-нибудь и если да, то что; гористы ли эти острова или равнинны, обитаемы или необитаемы либо посещаются только время от времени? Тедхуроа принадлежал к числу последних, откуда как раз возвращались два каноэ под парусами. По словам таитянина, они, наверно, выходили на рыбную ловлю, которая там, в замкнутом море, очень хороша[287].
Отдохнув немного, мы направились дальше к горам, в глубь острова. Они привлекали нас не только красивым видом своих еще густолиственных лесов, где мы надеялись найти новые растения, но и своей кажущейся близостью. Однако тут нам скоро пришлось убедиться в обратном: мы шли и шли по высохшим горам и долинам, чувствуя, что не доберемся туда сегодня. Хотели заночевать, однако раздумали, ибо не знали, когда должны отплывать наши корабли, да и провизии у нас с собой не было. Кроме того, наш провожатый сказал, что в горах мы не встретим ни людей, ни жилья, ни продовольствия, так что лучше всего вернуться в долину Матаваи, куда прямо вела узкая тропа, которую он нам показал. Мы последовали его совету, однако спуск по этой дороге оказался опаснее, чем подъем по другому склону. Мы оступались на каждом шагу, а кое-где вынуждены были просто садиться и так съезжать вниз. От сухой травы подошвы наши стали такими скользкими, что в этом смысле нам приходилось хуже, нежели нашему индейцу, который шел босиком и потому гораздо более уверенно. Мы отдали ему наши ружья, чтобы помогать себе и руками, но потом забрали их назад, велели ему пойти вперед и в самых опасных местах опирались на его руку.
Когда мы спустились примерно до половины склона, он крикнул людям, которых увидел в долине, чтобы те шли сюда. Нам показалось, что на таком далеком расстоянии они не могли ничего услышать, во всяком случае ответа не последовало никакого. Но через недолгое время мы увидели, как несколько человек довольно быстро поднимаются в гору. Не прошло и получаса, как они были рядом с нами. Они принесли с собой три свежих кокосовых ореха, которые показались нам несравненно вкуснее всего, что мы когда-либо пробовали. Так ли оно было на самом деле, или нам это показалось из-за усталости, судить не берусь. Эти люди убедили нас немного отдохнуть и обнадежили, сказав, что немного ниже, в долине, нас ждет партия кокосовых орехов, которые они приготовили и из которых принесли только часть, чтобы мы выпили все не слишком поспешно. Их забота во всех отношениях заслуживала благодарности, однако мы так хотели пить, что едва дождались возобновления спуска.
Наконец мы достигли ровного места, где была красивая небольшая роща и где мы, опустившись на траву, вкусили прохладного нектара, о котором позаботились наши друзья. Освежившись, мы почувствовали себя совсем окрепшими и с новыми силами стали спускаться в долину. Там скоро собралось много индейцев, вызвавшихся проводить нас по равнине к морю. В то время как они собирались, мимо проходил представительного вида мужчина с дочерью, девушкой лет 16. Он пригласил нас откушать в его доме, расположенном чуть выше. Хотя мы очень устали, нам все же не хотелось пренебрегать его вежливостью, и мы последовали за ним. Пройти пришлось около 2 миль по прекрасному берегу реки Матаваи, где всюду росли кокосовые пальмы, хлебное дерево, яблони и шелковица, чередуясь с плантациями бананов и Arum. Река извивалась по долине из стороны в сторону, и наш предводитель, шедший со своими слугами, все время настаивал на том, чтобы перенести нас на спине.
Наконец мы подошли к дому, расположенному на небольшом холме, возле которого тихо шумела но каменистому ложу река. Вскоре было приготовлено угощение, в углу дома разостлали на земле красивые циновки, и родственники нашего друга вместе с ним расселись вокруг нас. Его дочь красотой сложения, светлым цветом кожи и приятными чертами лица превосходила всех таитянских красавиц, коих мы до сих пор видели; как и ее юные подруги, она делала все, чтобы нам было приятно. Помимо их обычных улыбок самое действеннее средство, которое они пускали в ход, дабы подбодрить нас, заключалось в том, что они своими нежными руками мягко растирали нам плечи и бедра, слегка сжимая между пальцами мышцы. Эта операция подействовала на вас превосходно. Способствовала ли она кровообращению в тонких сосудах или возвращала вялым, усталым мышцам их эластичность, судить не берусь; во всяком случае, мы после этого почувствовали себя совершенно бодрыми, и от нашей усталости вскоре не осталось и следа. Капитан Уоллис тоже упоминает эту здешнюю процедуру и по собственному опыту воздает должное ее благотворному воздействию. Осбек, описывая свое путешествие в Китай, рассказывает, что там эта операция весьма обычна и что особенно хорошо ее умеют делать китайские цирюльники[288]. Наконец, и в описании ост-индского путешествия Гроуза можно найти подробное известие об искусстве, которое у тамошних жителей называется «чам-пинг» и, видимо, представляет собой не что иное, как сладострастно-утонченную разновидность этого укрепляющего средства[289]. Заслуживает упоминания, что последний приводит место из Марциала и Сенеки, из коих с большой вероятностью можно заключить, что сие искусство знакомо было и римлянам:
Percurrit agili corpus arte tractatrix
Manumque doctam spargit omnibus membris.
Martial[290]Теперь у нас не было причины жаловаться на недостаток аппетита, который до сих заглушался только усталостью, поэтому, едва принесли еду, состоявшую, как это принято при здешнем скромном образе жизни, лишь из фруктов и кореньев, мы от души набросились на нее и, поев, почувствовали себя вновь такими же свежими, как рано утром. Проведя таким образом два часа среди этого гостеприимного семейства, мы подарили нашему доброму хозяину, а также его прекрасной дочери и ее подругам, чьи старания больше всего помогли так быстро восстановить наши силы, столько бус, гвоздей и ножей, сколько позволял наш запас, и часа в три попрощались с ними.
На обратном пути мы прошли мимо нескольких домов, жители которых располагались группами в тени своих фруктовых деревьев и совместно наслаждались прекрасным послеполуденным временем. В одном из этих домов мы увидели мужчину, занятого приготовлением красной краски, которую они употребляют для материи, выделываемой из коры китайского шелковичного дерева. К своему большому удивлению, мы обнаружили, что составляется она всего лишь из желтого сока мелкой разновидности фиг, называемых здесь матти [291], а также зеленого сока папоротника и других трав. Просто их смешение дает интенсивную темно-красную краску, которую женщины руками втирают в материю, так что она приобретает ровную окраску. Если же хотят нанести особый узор, то пользуются бамбуковой трубкой, которая обмакивается в сок и прижимается то в одном, то в другом направлении. Эта краска, однако, очень нежная, к тому же она не выносит никакой сырости, даже дождя; она выцветает и просто от действия воздуха, приобретает скоро грязный оттенок. Несмотря на это, материи, окрашенные и тем более разрисованные ею, очень высоко ценятся у таитян, их носят лишь знатные люди. За гвозди и бусы мы купили несколько кусков такой материи и затем возвратились к нашим палаткам, находившимся примерно в 5 милях от места, где мы обедали. Там мы попрощались и вознаградили нашего честного спутника, которого рекомендовал нам О-Вахау и который служил нам с большей верностью и добросовестностью, нежели можно было ожидать при распространенной среди этого народа склонности к воровству. Его поведение было тем более достохвально, что за время этого похода у него не раз имелась возможность беспрепятственно бежать со всеми нашими гвоздями и ружьями. Чтобы противостоять такому искушению, требовалась поистине необычайная для здешних мест степень честности. За несколько бусин нас затем перевезли в каноэ на корабль.
Капитан и мой отец, которые за время нашего отсутствия предприняли прогулку на запад, только что вернулись на борт. Они рассказали нам, что, как только мы рано утром ушли, к ним пожаловал в качестве посланца короля Э-Ти и передал в подарок капитану свинью, а также фрукты, но, при этом сообщил, что из-за вчерашнего случая О-Ту испытывает матау, то есть страх, и плохо о нас думает. Чтобы показать ему, насколько мы сами не одобряем разнузданности наших людей, преступники были выведены на палубу и при нем, к ужасу всех присутствовавших таитян, получили каждый по двенадцать ударов. После этой экзекуции капитан Кук велел погрузить в лодку трех овец, то есть последних, оставшихся из числа закупленных на мысе Доброй Надежды, и вместе с капитаном Фюрно, а также моим отцом отправился на берег, дабы вернуть расположение короля, без которого мы не могли получить по всей стране продовольствия. Когда они прибыли в Парре, им сказали, что король отправился отсюда на запад. Тогда они последовали за ним и, пройдя 4—5 миль, остановились в округе, называемом Титтаха [Атехуру], где им пришлось несколько часов дожидаться короля. Из страха перед нами он действительно убежал за 9 миль от бухты Матаваи. Столь поспешное бегство по такому ничтожному поводу свидетельствовало о его крайней трусости, однако ее можно ему простить, если вспомнить, каким ужасным и кровавым способом европейцы до сих пор доказывали этому народу свою силу и превосходство.
Лишь в 3 часа пополудни О-Ту и его мать прибыли к капитану: он — полный страха и недоверия, она — со слезами на глазах. Однако, когда Э-Ти рассказал ему, как преступники при нем были наказаны, он успокоился, а вид незнакомых животных, которых капитан Кук, повторив свои дружеские заверения, подарил ему, вскоре и вовсе привел его в хорошее расположение духа. По просьбе его величества нашему шотландцу опять пришлось поиграть на волынке, и невысокое искусство сего виртуоза произвело здесь воздействие не меньшее, чем арфа Давида, чьи гармоничные звуки обычно развеивали тоску Саула[292]. Скоро это воздействие музыки сказалось. Король велел принести свинью и подарил ее капитану Куку, а затем подарил и другую свинью капитану Фюрно. Поскольку оба вскоре собирались отплыть от острова и потому думали, что это последняя возможность получить подарки от его величества, они попросили дать что-нибудь и Матаре, то есть моему отцу. Тот так и сделал, но подарил лишь маленького поросенка. Когда же наши люди выразили некоторое неудовольствие такой разницей, из толпы выступил один из родственников короля по восходящей линии, которого все называли медуа (отец), и, сильно жестикулируя, горячо заговорил с королем, показывая то на наших людей, то на полученных овец, то на маленького поросенка. Едва он закончил свою речь, как поросенка забрали, а вместо него принесли большую свинью. Наши люди вознаградили такую любезность, щедро одарив всех железными изделиями и прочими мелочами. Индейцы в ответ подарили им несколько ахау, или кусков здешней материи, в которую одели наших людей, после чего те попрощались со всем двором и около 5 часов вернулись на корабль.
Поскольку на другой день капитан собирался окончательно покинуть остров, были сделаны приготовления к отплытию. Увидев эти действия, значение которых индейцы уже знали но прежнему опыту, они напоследок прибыли целой толпой, привезли рыбу, моллюсков, фрукты, материи, и начался торг. Около 3 часов пополудни вернулся лейтенант Пикерсгилл, которого с позавчерашнего дня не было на корабле, так как он отправился закупать продовольствие. Он побывал на другой стороне плодородной равнины Папарра [Папара], где находился О-Аммо, некогда король всего Таити, со своим сыном, юным Т'Эри Дерре. Первую ночь он провел на границе маленького округа, принадлежавшего в настоящее время королеве О-Пуреа (Обереа)[293]. Едва узнав об их прибытии, она явилась и, как старых знакомых, самым дружеским образом пригласила к себе. Поскольку вскоре после отплытия капитана Уоллиса она разошлась со своим супругом, от былого величия этой женщины, некогда столь знаменитой и среди сограждан, и среди европейцев, совсем, ничего не осталось. Виной тому были прежде всего внутренние войны между двумя половинами острова, из-за которых весь округ Папарра пришел в большой упадок. Она пожаловалась лейтенанту, что стала тихти (бедной) и не может даже подарить свинью своим друзьям-европейцам. Поскольку от нее ожидать было нечего, Пикерсгилл на другое утро вернулся в Папарру, где нанес визит прежнему супругу О-Пуреа, которого звали Аммо. Он успел жениться на одной из самых красивых девушек острова, но сам с тех пор состарился и стал бессилен. Его красотка подарила нашим людям свинью, а когда они собрались уходить, отправилась вместе с ними, взяв одну из своих служанок, и весь день преспокойно плавала с ними в шлюпке, в то время как ее собственное каноэ шло рядом, чтобы увезти ее обратно. Она была очень любопытна и, похоже, не видала еще европейцев. В частности, она сомневалась, все ли у них такое же, как у ее земляков, пока наглядно не удостоверилась в сходстве. Со своей спутницей она наконец сошла на берег в Аттахуру, где их хорошо принял знатный вельможа но имени Потатау, и в его доме они провели следующую ночь. Потатау тоже разошелся со своей женой Полатехерой и взял себе помоложе, да и та нашла себе другого любовника или мужа; несмотря на это, оба новых семейства продолжали жить под одной крышей как ни в чем не бывало. На другое утро Потатау заявил господину Пикерсгиллу, что хотел бы сопровождать его в Матаваи, чтобы посетить капитана Кука, но не уверен, хорошо ли тот его примет. Господин Пикерегилл заверил его в этом, но все-таки для большей надежности Потатау поднял перед собой несколько желтых перьев, связанных в маленький пук, попросил господина Пикерсгилла взять в руку такой же и поклясться, «что Туте (капитан Кук) хочет быть другом Потатау». Когда это было исполнено, он тщательно завернул перья в кусок таитянской материи и сунул их в свой тюрбан. Нам уже было известно по рассказам наших предшественников, что жители этого острова обычно пользуются такими красными и желтыми перьями во время своих молитв; но что они употребляют их и в церемониях, подобных вышеописанной, то есть для торжественных клятв, а значит, имеют представление о присяге, показалось нам совсем новым. Потатау полностью полагался на эту церемонию и после нее уже не сомневался в правдивости своих друзей; он сразу приказал захватить двух свиней, несколько кусков материи, а затем вместе с супругой и слугами направился к лодке господина Пикерсгилла. Но когда Потатау, сопровождаемый большой толпой, дошел до берега, все его люди стали просить его, чтобы он не садился с нами. Некоторые даже упали ему в ноги и обнимали его колени, стараясь удержать. Женщины, плача, кричали, что Туте убьет его, едва он вступит на борт, а некий пожилой мужчина, живший в доме Потатау, видимо старый верный слуга семьи, оттаскивал его за одежду. Потатау был тронут, несколько мгновений он колебался, но вскоре взял себя в руки, оттолкнул старика и воскликнул решительным голосом: «Туте аипа матте те тайо!», то есть «Кук не убьет своего друга!». С этими словами он прыгнул в лодку, гордо и смело, как человек, знающий себе цену, чем вызвал у англичан: известное почтение. Прибыв к нам на корабль, он со своей женой Ваиниеау, а также с бывшей женой и ее любовником тотчас спустился в каюту, чтобы передать подарки капитану Куку. Потатау был один из самых крупных мужчин, которых мы видели на острове, при этом в его лице было столько кротости, красоты и величия, что господин Ходжс сразу захотел его нарисовать как одну из благороднейших моделей в природе. Портрет помещен в описании данного путешествия, сделанном капитаном Куком. Все в этом человеке было необычайно величественно — например, бедра были такого же обхвата, как у самого сильного из наших матросов. Просторные одежды и белый тюрбан очень шли его фигуре. Особенно нам нравилось его благородство и прямодушие, выгодно отличавшие его от недоверчивого О-Ту. Полатехера, первая жена, была похожа на него ростом и сложением и в этом отношении показалась нам самой примечательной из всех здешних женщин. И в облике ее, и в поведении было что-то мужское; она казалась олицетворением силы и властности. Это особенно проявилось, когда здесь стоял на якоре корабль «Индевр». Полатехера тогда назвала себя сестрой капитана Кука, и, когда однажды, невзирая на это, ее не хотели пустить в форт на мысе Венус, она раскидала часовых, пытавшихся преградить ей путь, и пожаловалась своему названому брату на постыдный прием, который ей был оказан.
Пробыв у нас некоторое время, они узнали, что мы уже готовы поднять паруса. С дружелюбием, какое только можно себе представить, и со слезами на глазах они спросили, вернемся ли мы когда-нибудь еще на Таити. Капитан Кук обещал вернуться сюда через семь месяцев. Это вполне их удовлетворило и успокоило, они попрощались с нами, сели в свои каноэ, которые следовали за ними до корабля, и уплыли к себе на запад.
Тем временем на корабль явился молодой таитянин низшего сословия, хорошо сложенный, лет примерно 17, с отцом. Несколько дней назад он сказал капитану, что хочет уехать с ним «но те веннуа теи Бретане», то есть «в страну Британию». Вся его экипировка состояла из узкой набедренной повязки, и в таком вот совершенно беззащитном виде он бестрепетно отдался под наше попечение. Его отцу, человеку средних лет, капитан Кук подарил топор и несколько менее ценных вещей, после чего тот спокойно, с полным самообладанием вернулся в свое каноэ, не выказав ни малейшей печали от разлуки с сыном.
Но едва мы вышли к рифам, как к нам подошло каноэ с двумя или тремя индейцами, которые от имени короля О-Ту потребовали вернуть парня; при них было несколько кусков материи, которые они собирались подарить за это капитану. Однако железных изделий, отданных за бедолагу, они вернуть не могли, так что пришлось им вернуться ни с чем. Парень, которого звали Пореа, долго разговаривал с ними, стоя на корме, и они явно убеждали его отказаться от своего намерения, предвещая ему, насколько мы поняли, смерть, ежели он останется у нас. Все эти угрозы не поколебали его, но все же, когда каноэ вернулось на остров, взгляд, которым он проводил своих земляков, был исполнен тоски. Наконец он так загрустил, что не смог сдержать слез. Дабы развеять его печаль, мы позвали его в каюту, где он стал причитать, что теперь наверняка умрет и что его отцу тяжело будет оплакивать свою потерю. Капитан Кук и мой отец утешали его и обещали заменить ему отца. В ответ он бросился к ним на шею, стал целовать, обнимать и от крайней степени отчаяния вдруг перешел к необычайной радости и веселости. Вечером он поужинал, а затем лег на пол в каюте, однако, увидев, что мы еще не ложимся, поднялся опять и оставался с нами, покуда мы, поужинав, тоже не отправились спать.
Было несказанно жалко покидать этот прекрасный остров теперь, когда по-настоящему только началось знакомство с его счастливыми обитателями. Мы пробыли здесь всего 14 дней, из них два были потрачены на переход из одной гавани в другую. К тому же все это короткое время мы были постоянно чем-то заняты, а значит, лишь немногие мгновения могли посвятить изучению здешней жизни. В их хозяйстве, нравах и обычаях мы нашли столько нового и достопримечательного, что в первый момент были как бы ошеломлены обилием впечатлений; впоследствии, однако, выяснилось, что многое уже наблюдали наши предшественники. Поэтому, дабы не злоупотреблять снисходительностью читателя, я не стану повторяться и во всем, что касается их жилищ, одежды, пищи, домашних занятий, судоходства, болезней, религии и погребальных обрядов, равно как и оружия, войн и системы правления этих островитян, адресую его к описанию предыдущего плавания капитана Кука на корабле «Индевр», которое подготовил к печати д-р Хауксуорт. Так что приводимые далее сведения о Таити следует рассматривать лишь как дополнение и пояснение к тому, что известно уже до меня. Надеюсь все же, что и нынешнее мое повествование будет, несмотря на это, достаточно интересным и что своеобразие точки зрения, с какой я наблюдал многие уже известные предметы, в некоторых случаях придаст им новизну.
Капитан Кук в описании своего путешествия (т. 1, с. 188) указывает, что гавань О-Аетипиеха расположена на меньшем полуострове под 17°46'28" южной широты и 149°13'24" западной долготы от Гринвича. Из этого он заключает, что величина всего острова, которую в первом плавании он оценивал в 30 морских миль, на самом деле существенно меньше. Наблюдения, сделанные на мысе Венус во время этого плавания, с точностью до нескольких секунд совпали с теми, что произвел здесь покойный д-р Грин.
Ветер к моменту нашего отплытия был настолько слаб, что до заката мы все еще видели остров совсем близко. Даже в это мертвое зимнее время пейзаж его своей красотой превосходил любое место в мире. Плодородная земля и благодатный климат здесь как бы сами собой порождают такое обилие разнообразных съедобных растений, что жителям острова обеспечено беззаботное, счастливое существование. И хотя под луной нет ничего совершенного и даже само счастье понятие относительное, все-таки немногие народы на земле находятся в таком завидном положении! Поскольку пропитание здесь дается легко, а потребности этого народа столь ограниченны, естественно, главнейшая цель нашего земного бытия, то есть продолжение рода, на Таити не так отягощена, как в более цивилизованных странах, где нужда и горе нередко делают брак тягостным и трудным. Добрые обитатели острова беспрепятственно следуют своим природным влечениям, в результате население весьма велико для сравнительно малой возделанной его части. До сих пор населены лишь равнины и долины, хотя почва позволила бы возделать и многие из горных местностей и прокормить еще огромное количество жителей. Если в течение долгого времени жителям ничто не помешает, они смогут начать обработку этих мест, сейчас совсем неиспользуемых и, так сказать, лишних.
Общественное устройство на Таити в какой-то мере можно сравнить со старой европейской феодальной системой. Народ подчиняется одному правителю и делится на три класса: эри, манахуна и таутау[294]. Хотя между ними есть существенное различие, оно гораздо меньше влияет на счастливое состояние народа в целом, чем можно было бы подумать, ибо образ жизни народа вообще слишком прост, чтобы разница в положении порождала в этом смысле заметные различия. Там, где климат и обычаи не требуют, чтобы люди непременно одевались с ног до головы, где легко найти материал для изготовления отвечающей приличиям одежды, где, наконец, все потребное для жизни достается каждому без труда и усилий, там, конечно же, нет места тщеславию и зависти. Правда, свиней, рыбу, кур и материи имеет здесь, как правило, только знать; однако недоступность лакомства может сделать несчастным в крайнем случае отдельного человека, но не весь народ. Другое дело — испытывать недостаток в самом необходимом, а именно таков обычно удел простого человека в цивилизованных странах, что является следствием расточительства знати. На О-Таити между самым высоким и самым низким сословиями в общем нет такой разницы, как в Англии даже между уровнем жизни ремесленника и поденщика. Простой народ на Таити при всякой возможности выказывает к своим вождям такую любовь, что кажется, будто они рассматривают себя в целом как одну семью, а в предводителе видят как бы старшего брата, которому по праву первородства даны некоторые преимущества. Вероятно, и система их правления поначалу была совсем патриархальной, общего правителя почитали лишь как «отца всего народа», покуда эта простая форма правления постепенно не видоизменилась в теперешнюю. Но и теперь еще в близости между королем и его подданными чувствуются следы былых патриархальных отношений. Человек самого низшего звания может говорить с королем свободно, как с равным себе, и видеть его, когда пожелает. При деспотизме это уже было бы весьма затруднительно. И в своих занятиях король тоже не особенно отличается от подданных; еще не испорченный тщеславием, ложными представлениями о чести и пустых прерогативах, он не считает зазорным, если понадобится, сам сесть за весла в своем каноэ.
Однако долго ли сможет просуществовать сие счастливое состояние, сказать трудно; леность знати как будто не сулит ему долговечности. Правда, пока еще полевые и сельскохозяйственные работы не слишком тягостны для таутау, которые должны их исполнять, но поскольку праздная знать размножается несравненно быстрее, нежели они, то в будущем этому трудящемуся классу придется взять на себя еще больше работы, а от этого можно ждать всяких дурных последствий. Чрезмерная работа будет уродовать простой народ, изнурять его силы; необходимость больше находиться под палящим солнцем сделает чернее их кожу, а частое и раннее распутство их дочерей приведет наконец к тому, что они выродятся в маленьких карликов, тогда как только знать сохранит преимущества крупного, красивого телосложения и светлого цвета кожи, поскольку одни они будут без ограничений удовлетворять свой неуемный аппетит, живя без забот и без дела. Наконец простой народ ощутит этот гнет и задумается о его причинах, тогда в нем пробудится сознание ущемленных человеческих прав, и это вызовет революцию. Таков обычный круговорот во всех государствах. Пока Таити, конечно, может еще долго не опасаться подобных перемен, но не ускорит ли знакомство с иноземной роскошью наступления этого несчастливого периода? Европейцам стоило бы самым серьезным образом над этим призадуматься. Поистине, если знания и ученость отдельных людей должны покупаться ценой счастья целого народа, то не лучше ли было бы и для открывателей, и для открываемых, если бы Южное море оставалось навеки неведомо беспокойным европейцам!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Рассказ о пребывании на островах Общества
После заката ветер, сопровождавший нас от Таити, посвежел и быстро понес нас вдаль от этого счастливого острова, впрочем все еще видного при лунном свете.
На другой день, 2 сентября, в 11 часов мы увидели остров Хуахейне [Хуахине], расположенный примерно в 31 морской миле от Таити и открытый капитаном Куком 11 июля 1769 года. Многие из наших людей к тому времени уже ощутили последствия своего распутства с женщинами в бухте Матаваи, однако болезнь у всех протекала в довольно мягкой и доброкачественной форме. Стоит ли спорить о том, занесена ли эта зараза на Таити французскими или английскими мореплавателями, не принимая в расчет еще третьей возможности, более выгодной для обеих спорящих сторон? Почему мы не вправе предположить, что эта болезнь уже была известна на острове до того, как там появился первый европеец [295]? То обстоятельство, что никто из команды капитана Уоллиса не подхватил здесь заразу, во всяком случае не опровергает этой гипотезы, оно доказывает лишь, что те женщины, с которыми они имели дело, были здоровы. Легко понять, что туземцы тогда старались не допустить до европейцев больных женщин, ибо опасались навлечь на себя гнев могучих чужестранцев, которым они причинили бы тем самым ужасное зло. Мы, правда, слышали о болезни, называемой «о-пэ-но-пеппе» («язва Пепе»); считалось, что она была завезена называвшимся так кораблем, который бросил здесь якорь за два, а по словам других, за три и даже за пять месяцев до нас. Однако, если судить по описанию симптомов, эта болезнь представляла собой не что иное, как род проказы, и в ее распространении испанцы или другие иностранцы, находившиеся на этом судне, могли быть совершенно неповинны. Болезнь могла разгореться, когда пришел корабль, и, если между экипажем и больными имелись какие-нибудь, даже косвенные, контакты, этого было достаточно, чтобы вызвать ошибочные заключения. Это тем более вероятно, что жители и без того страдают разными формами проказы. Так, встречаются формы элефантизма, напоминающие фрамбезию, равно как и кожная проказа и, наконец, чудовищные гниющие язвы, имеющие отвратительный вид[296]. Однако все эти виды бывают очень редко, особенно последний, что, несомненно, следует приписать хорошему климату и простой, здоровой пище островитян; нельзя не воздать должное вообще их образу жизни, который по праву можно считать главной причиной того, что на Таити так редки, да почти вообще и не встречаются опасные и смертельные болезни.
На закате солнца мы легли в дрейф в 2 морских милях от Хуахейне, а утром, в 4 часа, обогнули северную оконечность этого острова и направились к бухте О-Ухаре [Фаре]. Глубокий пролив разделяет Хуахейне на две половины, соединенные низким перешейком, который во время прилива целиком оказывается под водой. Горы здесь не так высоки, как на Таити, и, судя по виду, были когда-то вулканами. Вершина самой высокой из них напоминает формой кратер огнедышащей горы, и черные ноздреватые скалы по одному склону очень похожи на лавы. На рассвете мы увидели несколько других островков, относящихся к островам Общества, такие, как О-Раиетеа [Раиатеа], О-Таха [Тахаа] и Борабора [Бора-Бора]. Последний, как и остров Меатеа [Махетиа], состоит из единственной высокой горы, но Борабора выглядит гораздо внушительнее. Сама вершина этой горы тоже имеет форму вулканического кратера.
В бухту О-Ухаре есть два прохода; мы решили воспользоваться южным, а так как сильный ветер дул как раз от берега, нашим морякам пришлось проявить все свое умение, чтобы пойти против ветра. Проход имеет длину от 9 и примерно до 12 сотен футов, а между рифами ширина едва достигает сотни саженей, однако наша команда сумела проплыть по этому узкому и опасному проходу с удивительным искусством, при помощи шести-семи маневров, каждый из которых занял всего 2—3 минуты. Мы еще не прошли до конца, когда «Адвенчер», плывший позади нас, во время одного из разворотов слишком приблизился к скалам и неудачно сел бортом на коралловый риф. Мы в этот момент были слишком озабочены, как благополучно провести собственный корабль, и потому не могли сразу прийти к ним на помощь. Но, едва став на якорь, что заняло немного времени, мы послали туда свои шлюпки, и они отбуксировали корабль в бухту. Он не пострадал, отделавшись так же легко, как наше судно возле Теиаррабу, где мы тоже сели на мель.
Местность напоминала Таити, только все было помельче, поскольку весь остров имел в окружности примерно 6—8 морских миль. Здесь не было больших равнин, и лишь кое-где можно было увидеть пологие холмы, подобные тем, что на Таити располагались перед более высокими и обширными горами; здесь, на Хуахейне, горы круто переходили в равнину. Но красивых мест было все же немало.
Ни одно каноэ не вышло нам навстречу, но едва мы стали на якорь, как их появилось множество, груженных кокосами, плодами хлебного дерева и большими курами. Вид кур был нам особенно приятен, ибо на Таити удалось заполучить лишь двух, настолько остров был в этом смысле опустошен предыдущими мореплавателями. У одного из индейцев, поднявшихся к нам на борт, была огромная мошоночная грыжа[297], что, однако, не доставляло ему видимых неудобств, во всяком случае он очень легко и быстро поднялся по наружному трапу.
Местные жители говорили на том же самом языке, были точно так же сложены и так же одеты, как и обитатели Таити; однако не видно было ни одной женщины. В торговле они были отменно честны, и за короткий срок мы приобрели за гвозди и бусы дюжину больших кур с превосходным оперением.
В 11 часов капитаны сошли на берег и направились к навесу, доходившему до земли; навес защищал двойное каноэ, вытащенное на берег. Здесь они оставили часть людей торговать с жителями, и торг пошел так хорошо, что к вечеру мы имели уже двадцать свиней и добрую дюжину собак, обмененных на большие гвозди и маленькие топоры. Собаки были глупейшими тварями, но их мясо считалось у островитян самым вкусным.
При первой же вылазке нам попались два растения, каких мы еще до сих пор не видели. Мы также заметили, что на хлебных деревьях уже есть молодые плоды величиной с мелкие яблоки; однако туземцы сказали, что созреют они только месяца через четыре. Бананов близ места нашей высадки, казалось, совсем не было, но из другого округа нам принесли несколько связок этих плодов; следовательно, здесь умеют так ухаживать за деревьями, что одни из них плодоносят раньше, другие позже[298]. Однако легко было заметить, что этих поздних плодов было немного и предназначались они только для знати.
К обеду мы вернулись на борт, а поев, сразу же снова сошли на берег и там узнали, что завтра прибудет правитель острова. Такого множества спутников, как на Таити, во время прогулок у нас не было, и нам не так докучали. Если не считать навеса, где производился торг, и тому подобных мест общих собраний, вокруг нас редко толпилось более 15—20 человек. Объясняется это прежде всего тем, что сам остров гораздо меньше, а значит, и не так населен, как Таити; кроме того, местные жители еще не настолько познакомились с нами, чтобы сопровождать нас в расчете на выгоду. Вообще они показались нам не такими любопытными и пугливыми, как таитяне, у которых было достаточно поводов не только чтобы оценить нашу доброту, но и чтобы опасаться нашего огнестрельного оружия.
Вместе с нами на берег вышел наш таитянский спутник Пореа в плотной куртке и матросских штанах. Он нес пороховой рог капитана Кука и мешочек для дроби; ему очень хотелось, чтоб здесь его принимали за одного из наших людей. Он даже не заговаривал на своем родном языке, а лишь невразумительно бормотал, так что в самом деле сумел ввести в заблуждение туземцев. Чтобы обман был еще убедительнее, он просил больше не называть его таитянским именем Пореа, а пожелал иметь английское имя. Матросы стали называть его Томом, чем он был вполне доволен. Скоро он усвоил и обычное обращение «сэр!», но выговаривал его, однако, как «дзьорро». Неизвестно, чего он хотел добиться таким маскарадом; наверное, ему казалось, что в облике английского матроса он станет больше значить, нежели таитянский таутау.
На другой день мой отец сопровождал капитана к месту, где шел торг. Оттуда они поплыли к северной оконечности бухты и там пристали к берегу. Возле хижины в окружении слуг сидел на траве правитель Ори, который осуществлял управление всем островом от имени своего племянника, настоящего короля Тери-Териа[299].
Увидев его, они хотели сразу выйти из шлюпки, но два индейца, плывшие с ними от места торга, попросили их посидеть, пока им не вручат в знак мира и дружбы несколько молодых банановых побегов. До этого сами они тоже принесли два таких побега. Последние украсили гвоздями, зеркалами, медалями и прочими мелочами. Затем индейцы и часть команды вынесли все это на берег и вручили Ори. При вручении первого побега они попросили сказать: «Но т'Эатуа!», то есть «Для божества», а при вручении второго — «Но те тайо О-Туте но Ори», то есть «Ори от друга Кука».
Индейцы, со своей стороны, передали нашим людям один за другим пять таких побегов.
С первым они вручили свинью, сопроводив дар словами: «Но т'Эри», что значит «от короля». Под королем подразумевался Т'Эри-Териа, ребенок семи-восьми лет.
Со вторым — тоже свинью: «Но т'Эатуа» — «Для божества».
Третий сопроводили словами «но те Тоимои». Этого тогда не поняли; впоследствии мы выяснили, что эти слова примерно значат «добро пожаловать».
С четвертым преподнесли собаку: «Но те Таура» — «От веревки». Хотя слово мы поняли, смысл выражения остался еще более неясным, чем в предыдущем случае, а что еще хуже, мы так его и не поняли.
С последним нам опять передали свинью: «Но те тайо Ори но Туте» — «От друга Ори Куку».
В заключение церемонии мужчина, который принес все эти вещи, достал еще красный мешочек. В нем находилась фальшивая монета и оловянная пластинка, на которой было написано:
His Britannic Majesty's Ship Endeavour.
Lieutenant Cook commander. 16. July. 1769. Huahine.
To есть: «Корабль его величества короля Великобритании „Индевр" под командованием лейтенанта Кука. 16 июля 1769. Хуахине».
Это свидетельство о своем первом посещении острова Хуахейно капитан Кук передал когда-то Ори на хранение, и, вероятно, тот теперь предъявил его, показывая, что предписание было выполнено в точности.
Взяв все это, капитан со своими спутниками вышел на берег, обнял Ори, старого, худого, с гноящимися глазами мужчину лет 50—60. Он принял наших людей как добрых знакомых и друзей, подарил капитану, сверх всего остального, несколько больших свертков материи. Скоро толпа островитян собралась возле хижины своего правителя. Принесли много кур, свиней и собак, которых мы быстро обменяли на гвозди, ножи и маленькие топоры.
Тем временем мы с доктором Спаррманом направлялись к дому Ори берегом от места, где шел торг. По дороге мы всюду видели много свиней, собак и кур. Куры свободно бегали по лесу и сидели на хлебных деревьях. Свиньи тоже имели возможность бродить повсюду, но пищу получали обычно от старух. Мы видели, как одна старая женщина особым образом кормила маленького поросенка заквашенным тестом хлебного дерева (махеи). Она держала животное одной рукой, а другой подносила к его рту кусок свиной кожи. Когда тот раскрывал рот, чтобы его схватить, она запихивала туда пригоршню кислого теста, которое без такой хитрости он есть не желал. Собаки, несмотря на свою ужасающую глупость, были в чести у здешних женщин. Ни одна европейская дама так не заботится о своей болонке и не ведет себя при этом столь забавно. Например, какая-то женщина средних лет давала щенку сосать свою грудь. Мы сочли подобную нежность чрезмерной и не удержались от того, чтобы указать ей на это; однако она лишь засмеялась в ответ и сказала, что дает иногда сосать грудь и маленьким поросятам. Из дальнейших расспросов мы узнали, что недавно она потеряла грудного ребенка; таким образом наше мнение оказалось необоснованным, ведь в подобных случаях давать грудь собаке — вполне дозволенное средство, когда-то распространенное даже в Европе. У собак на этом острове короткое тело; роста они разного: от болонки до крупного пуделя. Голова широкая, морда острая, глаза маленькие, уши стоят торчком, шерсть длинная, гладкая, жесткая и разной окраски, но чаще всего белая либо коричневая. Они почти никогда не лаяли, зато иногда выли и очень боялись чужих.
Нам встретились здесь разные птицы, подобные тем, что мы видели на Таити, а кроме того, голубой зимородок с белым брюшком и серая цапля. Когда мы стали в них стрелять, оказалось, что многие относятся к этим двум птицам с религиозным почтением и называют их эагуа — слово, обычно обозначающее божество. Но не меньше нашлось и других, которые помогали нам обнаружить этих же птиц и просили их застрелить. Впрочем, и первые никогда не выражали заметного неудовольствия, если мы их убивали. Божествами они их не считают, ибо, согласно их религии, божества невидимы, однако название эатуа, очевидно, обозначает, что их все же почитают здесь больше, нежели у нас ласточек, аистов и тому подобных птиц, которых тоже стараются защитить от озорной молодежи[300]. К сожалению, во всем, что касается здешней религии и общественного устройства, мы недостаточно осведомлены, ибо пробыли на острове недолго и слишком мало знали язык, чтобы получить необходимые сведения.
Тем временем мы продолжали свой путь к северной стороне бухты, где господин Смит[301] наблюдал за матросами, наполнявшими водой наши бочки. Там собралось множество индейцев, которые принесли на продажу столько свиней, что мы имели теперь свежего мяса достаточно, чтобы кормить команды обоих кораблей. Зато фруктов и зелени было мало, мы почти не видели бананов, плодов хлебного дерева или кокосовых орехов; приходилось довольствоваться клубнями ямса, которые едят вместо хлеба в вареном виде с мясом.
Пройдя дальше вдоль берега, покрытого тонким белым ракушечным песком и поросшего кокосовыми пальмами, а также кустарником, мы к полудню добрались до жилища Ори, а оттуда вместе с капитаном Куком, и другими вернулись на борт. Капитан оказался еще более удачливым в торговле с туземцами, чем все другие, специально для этого отряженные; его закупки едва уместились в шлюпке. После полудня мы опять навестили Ори, у которого на этот раз собрались самые знатные островитяне. Таким образом, нам представилась возможность сразу увидеть представителей всех сословий, и они оказались настолько похожими на таитян, что мы не увидели никакой внешней разницы между обоими народами. Женщины здесь тоже не были более светлокожими или более красивыми, чем на других островах, как это утверждали другие путешественники. Возможно, тут просто сыграли роль случайные обстоятельства. Чем здешние женщины действительно отличаются от таитянок, так это тем, что они не выпрашивают бусы и тому подобные подарки, а также не столь щедры на свою благосклонность. Правда, когда мы выходили на берег и потом возвращались к шлюпкам, некоторые женщины устраивали непристойные церемонии, подобные тем, что описаны капитаном Куком в книге о прошлом плавании, где он рассказывает о таитянке по имени Урэтуа; но это были представительницы самого низшего сословия, кроме того, они не делали таких приготовлений, как та.
Более заметна разница в поведении обоих народов. Например, на Хуахейне мы не сталкивались с такой степенью гостеприимства. В отличие от Таити здесь также не принято просто так давать подарки или хотя бы отдаривать. Зато во время наших прогулок жители нам не докучали и вообще были более безразличными. Они не так опасались нас, как таитяне, выстрелы наших мушкетов не вызывали у них ни страха, ни удивления. Все это, вероятно, объяснялось разницей в опыте встреч жителей обоих островов с европейцами. Что же касается гостеприимства, то, должен заметить, и здесь не было недостатка в его проявлениях. Например, один вождь по имени Таунуа пригласил моего отца в свой дом, расположенный в центре равнины; там его очень хорошо приняли и к тому же продали щит, подобный тому, что упоминался в рассказе о нашем пребывании на О-Таити.
Утром на корабль явился Ори со своими сыновьями. Старший, красивый мальчик лет 11, принял наши подарки весьма равнодушно, зато ему, как и другим здешним жителям, очень понравилась волынка, и он все время просил на ней сыграть. Во время прошлого пребывания здесь капитана Кука Ори принял имя Кука и теперь требовал, чтобы все его так звали.
Позднее мы вместе со своим знатным гостем вернулись на берег в разделились на группы, чтобы поискать растения и другие достопримечательности. Когда вечером мы встретились, д-р Спаррман, который в одиночку дошел до северной оконечности острова, рассказал нам, что видел большое соленое озеро длиной в несколько миль, расположенное параллельно морскому берегу и окруженное гниющей тиной, которая распространяла невыносимую вонь. Там он нашел несколько растений, довольно часто встречающихся в Ост-Индии, но необычных для других островов Южного моря. Индеец, который помогал ему нести собранные растения, проявил необычайную преданность. Когда д-р Спаррман садился, чтобы описать их, этот индеец садился позади него и держал обеими руками полы его одежды, чтобы, по его словам, уберечь карманы от воров. Благодаря этому у доктора ничего не украли, но некоторые индейцы ругались и корчили ему рожи, считая, вероятно, что ничем не рискуют, так как других европейцев здесь не было.
На другой день он пошел гулять совсем один, без провожатого, а мы с капитаном Куком остались у места, где производился торг. Не успели мы оглянуться, как из большой толпы протиснулся индеец по имени Тубаи в одежде из красной материи, с пучком птичьих перьев на поясе и запретил людям продавать нам свиней и плоды хлебного дерева; при этом он схватил мешок с гвоздями, который держал в руке корабельный писарь. Когда тот позвал на помощь, индеец отпустил мешок, выхватил у одного из наших людей помоложе, который приценивался к большой курице, гвоздь и грозился ударить его, если тот будет сопротивляться. Капитан Кук как раз собирался вернуться на корабль. Едва услышав о происшествии, он вернулся и велел Тубаи немедленно удалиться. Поскольку тот не проявил никакого желания подчиниться, капитан вырвал у него из рук две большие дубинки. Тот попробовал сопротивляться, но, когда капитан вытащил кортик, убежал. Дубинки, сделанные из казуаринового дерева, были затем по приказу капитана сломаны и брошены в воду.
Жители, видимо, ожидали, что все это будет иметь дурные последствия, они сразу начали уходить с места торга, но их позвали вернуться. Все согласились, что Тубаи тата-ино (злой человек). Следовательно, они сами считали, что справедливость на нашей стороне. Тем не менее, едва капитан Кук сел в шлюпку, чтобы вызвать с корабля команду морских пехотинцев для охраны места торга, как вся толпа сразу побежала прочь. Мы не могли понять, в чем дело, однако не прошло и нескольких минут, как загадка прояснилась сама собой. К нам бежал д-р Спаррман, почти совсем нагой и с явными следами сильных побоев. Во время прогулки к нему присоединились два индейца; не переставая заверять в своей дружбе, повторяя на все лады: «Тайо!», они уговорили его зайти дальше в глубь острова. Там, не успел он оглянуться, как они выхватили у него кортик, единственное его оружие, а когда он нагнулся за камнем, ударили его по голове так, что он упал на землю. Тогда туземцы сорвали с него куртку и все, что смогли. Он сумел вырваться и побежал вниз к берегу, однако, на беду, зацепился по пути о колючий кустарник. Они опять догнали его и избили. Несколько ударов пришлось в висок, и он потерял сознание. Индейцы стали стаскивать с него через голову рубаху, но та крепко держалась на пуговицах. Тогда они вздумали отрубить ему руку, но тут он, к счастью, очнулся, зубами откусил на рукавах пуговицы, и разбойники со своей добычей убежали.
Почти в сотне шагов от места, где это происходило, обедали несколько индейцев. Когда д-р Спаррман пробегал мимо них, они пригласили его сесть с ними, но он спешил, как мог, к месту торга. Немного дальше он встретил еще двух, индейцев. Увидев его, они сразу сняли свои ахау (одежды), завернули его в них и проводили до берега. Щедро расплатившись с этими благородными людьми, мы все поспешили на корабль, с тем чтобы вернуться уже с более многочисленным отрядом. Д-р Спаррман переоделся и вместе с нами направился с жалобой к Ори.
Добрый старик тотчас изъявил готовность сотрудничать с капитаном Куком и разыскать воров, хотя это решение привело в ужас его родственников. Человек 50 присутствовавших, мужчины и женщины, стали жалобно стенать, увидев, что он садится с нами в шлюпку. Некоторые самым трогательным образом пытались его отговорить, другие обнимали его и удерживали. Однако он не уступил и, отправляясь с нами, сказал, что ему нечего бояться, поскольку он ни в чем не виноват. Чтобы успокоить их, мой отец предложил остаться с ними в качестве заложника, однако Ори не согласился, сам же взял с собой на борт лишь одного из родственников.
Мы направились к расположенной прямо напротив кораблей глубокой бухте, в окрестностях которой произошел разбой, а оттуда пошли далеко в глубь острова. Все напрасно — люди, которых Ори послал схватить разбойников, не нашли никого. Пришлось нам ни с чем возвращаться на корабль, и Ори отправился вместе с нами; слезы его старой жены и молодой дочери не могли его удержать. Увидев, что ее плач не помогает, девушка в каком-то отчаянии схватила несколько ракушек и расцарапала ими себе лицо до крови, однако мать вырвала у нее ракушки и вместе с Ори проводила нас на корабль. Ори хорошо у нас подкрепился, жена же его, по местным обычаям, не пожелала притронуться к пище.
После обеда мы доставили его домой, где собрались знатнейшие семейства острова. Все сидели на земле в большой печали, некоторые плакали. Мы, растрогавшись, сели с ними и употребили все свои познания в таитянском языке, чтобы успокоить их и приободрить. Особенно подавлены были женщины, они долго не могли прийти в себя. Горе островитян столь наглядно свидетельствовало о доброте их сердец, что нельзя было не растрогаться. Увидев, что мы всерьез хотим их утешить, они наконец успокоились и вновь исполнились к нам доверия. Среди наблюдений, которые нам представилось возможным сделать во время этого плавания, поистине одно из самых приятных то, что обитатели сих островов отнюдь не погружены в чувственную жизнь, как ошибочно уверяли другие путешественники, напротив, мы встретили у них благородство и образ мыслей, делающий честь человечеству. Испорченность встречается у всех народов, но на одного негодяя в этой стране в Англии или в других цивилизованных странах мы могли бы найти полсотни.
Торг, прерванный на некоторое время сим происшествием, теперь возобновился, хотя и был не таким оживленным, как прежде. Мы закупили также изрядный запас фруктов и кореньев. Вечером две лодки с посланцами Ори вернулись, доставив кортик д-ра Спаррмана и кусок его куртки. И то и другое было передано нам, когда мы вернулись на борт.
На рассвете следующего дня капитаны опять отправились к дому Ори и вернули ему оловянную пластинку, на которой была выгравирована дата открытия этого острова; они, кроме того, дали ему еще маленькую медную пластинку с надписью: «His Britannick Majesty's Ships „Resolution" and „Adventure". September. 1773»[302]. И подарили несколько медалей, сказав, что тот может все это показывать иностранцам, которые прибудут сюда после нас. Как только они вернулись на борт, мы подняли якоря и вместе с «Адвенчером» вышли из гавани.
За время своей трехдневной стоянки мы закупили здесь много живых свиней и кур, что доказывало, как высоко на этом острове ценятся железные изделия. На одном только нашем корабле было 290 свиней, 30 собак и около 50 кур; на «Адвенчере» было не меньше.
Едва мы подняли паруса, как к кораблю на маленьком каноэ подплыл Ори. Он прибыл на борт сообщить, что нашел воров, равно как и остатки похищенных вещей, и что оба капитана, а также д-р Спаррман могут отправиться с ним вместе на берег, чтобы быть свидетелями наказания. К сожалению, мы не совсем его поняли и таким образом упустили возможность посмотреть, как здесь производится наказание. Капитан Кук решил, что Ори требует вернуть ему одного из подданных, которые против его желания оказались на «Адвенчере». Он послал за ними туда шлюпку. Но так как «Адвенчер» уже ушел далеко вперед, да и нас попутный ветер весьма быстро уносил в море, Ори не захотел больше ждать. Сердечно попрощавшись с нами, он вернулся в свое маленькое каноэ, где с ним находился только один человек, и поплыл к берегу.
Вскоре с «Адвенчера» вернулась наша шлюпка, доставив О-Маи, единственного индейца, который захотел плыть вместе с нами в Англию. Капитан Кук оставил его у себя на корабле, пока мы не достигли Раиетеа, куда направлялись; там его опять вернули на «Адвенчер», на котором он и добрался до Англии, некоторое время являясь там объектом всеобщего любопытства. Находясь у нас, он проявил себя как человек самого низкого сословия. У него даже не хватило тщеславия искать общества капитана, держался он возле оружейника и других простых матросов. Но, прибыв на мыс Доброй Надежды, где капитан Фюрно велел ему как следует нарядиться и ввел его в лучшее общество, он стал выдавать себя не за таутау, то есть простого человека, а за хоа, то есть королевского камергера или придворного[303]. Публика всячески развлекалась разными баснями, пущенными про этого индейца; можно было услышать даже смехотворное предположение, будто он — жрец солнца, каковых у него на родине вообще не бывает. Это был высокий, но очень тонкий мужчина; особенным изяществом отличались его руки. По лицу же никак нельзя было составить правильного понятия о красоте, присущей жителям Таити. Думается, мы не погрешим против истины, сказав, что на Таити и на всех островах Общества найдется немного столь непримечательных лиц, как у него. К тому же кожа у него была такая черная, какую не встретишь даже среди простонародья, и она меньше всего соответствовала рангу, который он себе приписывал. Поистине достойно сожаления, что именно этот человек должен был представлять народ, который все мореплаватели описывали как людей красивого сложения и светлого цвета кожи. Душевными достоинствами он не отличался от большинства своих земляков. Он не был выдающимся гением, как Тупайа, но у него было чувствительное сердце и открытый ум, который быстро все схватывал; он был способен на благородство и сострадание, мог быть деятельным, но также небрежным. Дальнейшие сведения о нем читатели могут найти в моем предисловии, где рассказывается о его пребывании в Англии, о том, чему он там научился, и о его возвращении.
Покинув Хуахейне, мы взяли курс на запад и доплыли до южной оконечности острова, который капитан Кук открыл в 1769 году и который на его картах обозначен как Улиетеа; у таитян же и других жителей островов Общества он называется О-Раиетеа. На другое утро мы бросили якорь в проходе между рифами. Целый день потребовался, чтобы нас отбуксировали в бухту Хаманено [Хааманино]. Остров по виду очень напоминает Таити; он раза в три больше Хуахейне, поэтому и равнины, и горы там такие же большие, как на Таити. Скоро нас окружило множество каноэ, жители привезли на продажу свиней, но, поскольку мы в достатке запаслись ими на Хуахейне, наши люди не особенно ими интересовались и предлагали за них очень мало. В одном из каноэ находился вождь по имени Оруверра, родом с соседнего острова Борабора (Бола-бола) [Бopa-Бopa], мужчина поистине атлетического сложения, но с очень маленькими руками. На плечах у него была татуировка в виде причудливых четырехугольных пятен, а на груди, животе и спине — в виде длинных черных полос; поясница и бедра были совсем черны от татуировки. Он принес несколько зеленых побегов и маленького поросенка, которого подарил моему отцу, так как никто больше им не интересовался. Получив в ответ железные изделия, он тотчас вернулся в каноэ на берег. Вскоре он прислал своему новому другу второе каноэ с кокосовыми орехами и бананами, за которые его люди совсем ничего не хотели брать в ответ. Можно себе представить, как нам понравилась такая бескорыстная доброта, ибо нет большего удовольствия для человеколюбца, нежели видеть у других близкие ему добрые и достойные свойства.
После полудня нас посетил другой вождь, также уроженец Бораборы. Он спросил, как зовут моего отца; отец в ответ справился о его имени. Его звали Хереа. Такого толстого человека мы еще не видели на Южном море. Живот его имел в обхвате 54 дюйма, а каждое бедро — 313/4 дюйма. Замечательны были и волосы: они свисали длинными, черными волнисто-завитыми косицами до самых бедер и были так густы, что голова казалась вдвое больше. Телосложение, цвет кожи и татуировка у него, как и у Оруверры, были отличительными знаками его ранга, который ему, как и таитянской знати, давал право на безделье и сибаритство. Вероятно, есть смысл объяснить здесь, каким образом сии уроженцы Бораборы обрели почет и собственность на Раиетеа. Читавшие описание предыдущего плавания капитана Кука помнят, что О-Пуни, король Бораборы, покорил не только Раиетеа и О-Таху, то есть два острова, находящихся внутри одного кольца рифов, но также и остров Мауруа [Маупити], в 15 морских милях к западу. Значительную часть этих покоренных земель он разделил между своими воинами и другими подданными в качестве награды. Покоренному королю Раиетеа по имени У-Уру он, правда, оставил титул и достоинство, но ограничил его господство только округом Опоа, а на Таху поставил вице-королем своего родственника по имени Баба[304]. Ко времени этого переворота многие жители названных островов бежали на Хуахейне и Таити в надежде когда-нибудь освободить свою родину. Тупайя и О-Маи тоже были уроженцами Раиетеа; уплыв на английских кораблях, они, видимо, надеялись способствовать освобождению угнетенной родины, ибо думали, что получат в Англии много огнестрельного оружия. Останься Тупайя в живых, он, вероятно, осуществил бы этот план; О-Маи же не хватало ни способностей, ни знаний, чтобы разобраться в нашем военном искусстве и затем употребить его на помощь землякам. Тем не менее он мечтал об освобождении своей родины и в Англии не раз говорил: если капитан Кук не поможет ему в осуществлении его замыслов, он постарается, чтобы его земляки не давали капитану продовольствия. В этом своем намерении он оставался непреклонен, и лишь перед самым отъездом его уговорили занять более миролюбивую позицию. Мы не могли понять, что побуждало жителей этих островов заниматься завоеваниями, подобно королю О-Пуни. По словам уроженцев Бораборы, этот остров был менее плодороден и приятен, нежели те, что он покорил вооруженной силой. То есть ими двигало не что иное, как честолюбие, столь неожиданное при простоте и благородстве его народа. Увы, это лишний раз доказывает, что даже наилучшим людским сообществам не чужды несовершенства и слабости!
На второй день после прибытия капитан вместе с нами отправился к большому дому, стоявшему у самого берега; там жил Ореа, правитель острова. Он сидел на земле в окружении своего семейства и множества знатных людей. Едва мы расположились рядом с ним, как вокруг тотчас собралась большая толпа туземцев, и от сильной давки стало ужасно жарко. Ореа был толстый мужчина среднего роста с жидкой рыжеватой бородой, с необычайно живым взглядом; он сердечно шутил и смеялся вместе с нами, не требуя строгого соблюдения церемоний и тому подобного жеманства. Его жена была уже в летах, но сын и дочь казались не старше 12—14 лет. У дочери была необычно светлая кожа, а в лице вообще очень немного национальных черт. Прежде всего у нее был красивый нос, а по глазам ее можно было принять за китаянку. Она была невысока, но нежного и пропорционального сложения. Особенно красивы были руки, зато ноги и ступни казались слишком толстыми. Ей также не очень шли коротко остриженные волосы. Все же в ней было что-то очень привлекательное. Как и у большинства ее соотечественниц, у нее был мягкий, приятный голос. Когда она просила о бусах или других подобных мелочах, отказать ей было невозможно.
Поскольку мы сошли на берег отнюдь не для того, чтобы оставаться в доме, мы вскоре встали и пошли в лес стрелять птиц и собирать растения. К искренней нашей радости, простой народ отличался здесь качествами, которых недоставало жителям Хуахейне; эти люди были доверчивы и общительны, подобно таитянам, но без невыносимого попрошайничества последних.
После обеда мы совершили еще одну прогулку и подстрелили несколько зимородков. Возвращаясь с охоты, мы встретили Ореа с его семейством и капитана Кука, вместе гулявших по равнине. Ореа не горевал о подстреленных птицах, которых мы несли, но одна из его дочерей стала оплакивать смерть своего эатуа, а когда мы хотели до нее дотронуться, убежала от нас прочь. Ее мать и другие женщины казались не менее расстроенными, и перед нашим возвращением на корабль Ореа самым серьезным тоном попросил больше не убивать на его острове зимородков и цапель; других же птиц мы могли стрелять сколько угодно. Мы спросили, почему так чтятся две эти птицы, но объяснения опять не смогли получить.
На другой день мы поднялись на одну из ближних гор, а по пути, в долинах, нашли много новых растений. Вершина горы состояла из желтоватого аргиллита, на склонах нам попались кремень, а также образцы ноздреватой, губчатой лавы, в коей были следы железа. Этот столь повсеместно используемый и полезный металл, вероятно, имелся здесь повсюду и в большом количестве. Лава подтвердила наше предположение, что этот остров, как и другие встречавшиеся нам острова, возник, должно быть, некогда при извержении подземного огня.
Индеец, который нас сопровождал и нес небольшой запас провизии, показал нам с вершины этой горы различные места на море, где, по его словам, должны были находиться острова, сейчас нам не видные. На западе, сказал он, лежит остров Мопиха [атолл Мопелиа], немного юго-западнее — другой, под названием Веннуа-Аура [атолл Сцилли][305]. Оба состояли только из кольцеобразных, поросших пальмами коралловых рифов и были необитаемы; их, как и другие острова, посещали только время от времени. Вероятно, это были те самые острова, что открыл капитан Уоллис и назвал островами лорда Хау и Сцилли.
Когда мы днем спустились с горы, капитаны уже вернулись на борт, успев до этого увидеть большое танцевальное представление, исполненное самыми знатными женщинами острова. Было очень жарко, поэтому мы тоже поспешили с берега на борт и увидели вокруг обоих кораблей множество каноэ. В них находились люди разных сословий, предлагавшие материи из коры шелковичного дерева в обмен на маленькие гвозди. Наши бусы высоко ценились дамами как украшения, однако они пользовались не таким успехом, как гвозди; нам не давали за них даже фруктов, самых дешевых и доступных здесь продуктов. На Таити подобные безделушки ценились несравненно выше. Не свидетельствует ли тамошняя особая склонность к таким мелочам и нарядным украшениям о более высоком уровне общего благосостояния и не им ли она порождена? Богатство, во всяком случае, обычно ведет к расточительности.
Весь остаток дня держалась такая жара, что лишь на закате солнца мы опять смогли выйти на берег. Мы высадились у источника и увидели маленький тупапау, то есть навес, под которым на помосте лежало мертвое тело. Это место погребения находилось в густой, тенистой роще. Ни здесь, ни на других островах я до сих пор не видел, чтобы мертвые тела столь беспечно оставлялись, в добычу тлению, и немало удивился, что на земле вокруг всюду лежали черепа и кости. Расспросить, что бы это значило, было некого. Я долго ходил тут, не встретив ни одного индейца. Как я узнал потом, все жители этого округа собрались возле дома своего правителя, где барабаны дали знак к началу еще одной хивы, или танцевального представления. Они очень ценили это развлечение и сбегались ради него из самых дальних мест.
Тихий вечер, красота природы придавали особое очарование прогулке. Благодаря отсутствию жителей было так тихо, что я чувствовал себя будто на зачарованном острове. Наконец нам встретилось несколько индейцев. Один из них показался нам очень смышленым. Мы спросили его, в частности, есть ли здесь вокруг острова и какие. В ответ он назвал девять: Мопиха, Веннуа-Аура, Адиха, Таутиха, Ваувау, Уборру, Тубуаи, Аухеиау и Роротоа. О двух первых мы в это утро уже узнали кое-что от нашего индейца-провожатого, насчет же семи остальных наш новый знакомый сказал, что все они обитаемы, кроме Адиха, который посещают время от времени. Уборру, по его рассказам, был веннуа, то есть высоким островом, все же остальные — моту, низменными островами, состоявшими лишь из коралловых рифов[306].
Однако эти рассказы не вполне удовлетворили наше любопытство. Чтобы узнать подробности, мы обратились к Ореа, который наутро явился к нам на борт со своим сыном Техаиурой и другими вождями. Сведения этих людей лишь частично совпали с рассказом нашего вчерашнего провожатого; так, из всех девяти островов, упомянутых им, они назвали только первый, второй, седьмой и девятый и утверждали при этом, что второй постоянно обитаем. Зато они говорили еще о большом острове Ворио, или Вориеа, а также об Ориматарра, но в том, где находятся эти два обитаемых острова и как далеко отсюда, они расходились[307]. Никто из тех, кого мы об этом спрашивали, сам там не бывал. Сколь ни были неопределенны эти известия, все же можно было понять, что прежде у сих народов судоходство было распространено более, чем теперь. Тупайя, когда-то покинувший Таити на «Индевре», мог назвать несравненно больше крупных островов и нарисовать их размер и положение на карте, копию каковой передал мне лейтенант Пикерсгилл. Эту карту можно считать в общем достоверной; мы нашли на ней все упомянутые выше острова, кроме Уборру и Тубуаи; однако величину их и расположение он указал, видимо, неправильно, иначе мы уже должны были бы встретить, во всяком случае, многие из них, чего, однако, не произошло. Весьма вероятно, что Тупайя, дабы создать себе репутацию человека знающего и ученого, набросал эту карту Южного моря просто по воображению, а некоторые названия, наверное, даже сочинил, поскольку указано им было более 50 островов [308].
Ореа и его сын позавтракали с нами и вернулись на берег с богатыми дарами, полученными в ответ на их подарки. Мы вскоре последовали за ними и были приглашены на танцевальное представление, хиву. Это было тем приятнее, что мы до сих пор ни разу еще его не видели.
Сцена представляла собой лужайку между двумя параллельно расположенными постройками, длиной около 75 футов и шириной 15 футов. В большем из этих домов могло разместиться много зрителей, меньший же, стоявший на сваях, представлял собой тесную хижину, открытую со стороны сцены, с других же сторон закрытую. Внутри ее из решеток и циновок была сделана перегородка, за которой наряжались актеры. На земле лежали три большие, красиво выделанные циновки с черными полосами по углам. На открытой стороне меньшей хижины стояли три вырезанных из дерева и увешанных акульими зубами барабана, больший фута 3 высотой и 12 дюймов в поперечнике. В них бьют четыре-пять человек просто пальцами, но с невероятной быстротой.
Когда мы уселись в расположенной напротив хижине среди самых знатных дам острова, наконец появились актрисы. Одна из них была Пойадуа, прекрасная дочь Ореа, другая — высокая, хорошо сложенная женщина с красивым лицом и цветом кожи. Одежда обеих танцовщиц заметно отличалась от их обычных нарядов. Вокруг груди был туго обернут кусок местной коричневой материи и кусок голубой европейской ткани, что не так уж отличалось от наших облегающих дамских платьев. Вокруг бедер с помощью шнура были валиками накручены один поверх другого четыре ряда местной ткани, попеременно красного и белого цвета. Со шнура свисали до ступней белые полотнища, образуя нечто вроде юбки, столь длинной и широкой, что мы боялись, не помешает ли она им танцевать. Шея, плечи и руки оставались обнаженными, на голове же было множество кос из человеческих волос, называемых тамау; они были уложены вокруг головы одна поверх другой, образуя тюрбан высотой около 8 дюймов, внизу более узкий, чем наверху, внутри заполненный благоуханными цветами гардении. На передней стороне этого тюрбана были звездообразно воткнуты три-четыре ряда маленьких цветов; на смолисто-черном фоне головного убора они выглядели как прекрасный жемчуг. Танцовщицы двигались под бой барабана и, казалось, под руководством старого мужчины, который танцевал вместе с ними, напевно произнося какие-то слова. Среди их поз и жестов иные были весьма вольные, однако в общем не столь непристойные, как в нашей опере, когда целомудренные английские дамы согласно моде должны смотреть на некоторые сцены только сквозь веер[309]. Движения их рук поистине были грациозны, а непрестанная игра пальцев — необычайно изящна. Нашим представлениям о красоте, благородстве и гармонии не соответствовало разве что ужасное обыкновение кривить рот так безобразно, что никто из нас не мог бы этого даже воспроизвести. Они кривили его в сторону, выпячивали, одновременно совершая губами конвульсивные волнообразные движения, как будто судороги для них стали привычными и обязательными. Протанцевав минут десять, они ушли в ту часть хижины, которую я выше назвал комнатой для переодевания, а вперед выступили пять завернутых в циновки мужчин, чтобы представить нечто вроде драмы. Она состояла из непристойных танцев, которые чередовались с разговором, подчиняясь размеренному ритму, причем некоторые слова они выкрикивали очень громко. Их позы, видимо, точно соответствовали содержанию. Один упал на колени, другой бил его и таскал за бороду, затем попробовал сделать то же с двумя другими, но те побили его палкой. Потом они ушли, и барабан возвестил о начале второго действия. Опять танцевали две женщины, примерно так же, как в первый раз, их вновь сменили мужчины, и наконец танцовщицы завершили спектакль еще одним актом. После представления они выглядели совершенно измотанными и тяжело дышали, особенно одна танцовщица, довольно крепкая; от жары она раскраснелась, так что можно было увидеть, насколько тонка и бела ее кожа. Дочь Ореа провела свою роль на удивление хорошо, хотя лишь накануне уже дважды участвовала в такой же хиве. Офицеры с обоих кораблей, как и все мы, завалили танцовщиц бусами и другими украшениями — заслуженной наградой за их искусство.
После полудня на корабль явился У-Уру, король Раиетеа, вместе с Ореа и множеством дам. Он принес в подарок капитану Куку свинью и получил в ответ европейские товары. Среди женщин, сопровождавших его, была танцовщица, красивым цветом кожи которой мы так были восхищены. Звали ее Теина, или Теинамаи; обычная одежда, в которой она сейчас появилась, шла ей несравненно больше, нежели громоздкий театральный наряд. Ее длинные неподстриженные волосы были небрежно заплетены узкой лентой из белой материи и ниспадали природными локонами более красиво, чем их могла бы расположить фантазия художника. Глаза на круглом лице, сиявшем прекрасной улыбкой, смотрели пылко и выразительно. Господин Ходжс попробовал было ее нарисовать, но ее живость и непоседливость необычайно затрудняли эту задачу, делая ее почти неисполнимой. Видимо, поэтому портрет Теины, помещенный в книге об этом путешествии капитана Кука, удался не так хорошо, как другие. Сколь ни мастерски выгравировал его на меди господин Шервин[310], он все-таки бесконечно далеко уступает чарующему изяществу оригинала. Но, хотя ему недостает сходства, он все-таки может служить образчиком распространенного у этих и соседних с ними островитян типа лица; кроме того, на рисунке довольно верно изображен десятилетний таитянский мальчик. Вечером наши знатные гости, весьма довольные полученными подарками, вернулись на берег, однако немало женщин из простонародья осталось на корабле; они понравились матросам не меньше таитянских девушек.
Примечательно, что даже этой части женщин присуще было известное тщеславие, поскольку они называли себя не иначе как тедуа (мадам) — титул, который здесь относят к знатным дамам. Мы это знали еще по Таити; например, когда где-нибудь проходила сестра короля, индеец, первым ее заметивший, обычно громко кричал: «Тедуа харре-маи!» («Мадам идет!»), чтобы земляки могли выполнить свой долг и обнажить плечи. Часто в таких случаях они говорили просто «эри», что вообще означало лицо королевской крови. Но наши матросы, не понимавшие здешнего языка, попросту полагали, что всех их Дульсиней зовут одинаково; это приводило иногда к забавным случаям.
Два следующих дня мы занимались ботаническими и физическими исследованиями. На побережье, у северной оконечности острова, мы обнаружили много глубоких бухт, переходивших в болота, где водилось множество диких уток и куликов. Эти птицы оказались, однако, более пугливыми, чем мы ожидали; выяснилось, что местные жители не меньше нас любили ими полакомиться. В воскресенье нам опять показали хиву в том же исполнении; танец был такой же, только покороче.
14-го на рассвете капитаны Кук и Фюрно послали каждый по шлюпке к острову О-Таха, расположенному в 2—3 морских милях отсюда внутри того же кольца рифов, что и Раиетеа. Они надеялись запастись там фруктами, которых в месте нашей стоянки было мало. Как лейтенант Пикерсгилл, так и господин Pay [311] взяли с собой запас бус и гвоздей. Поскольку д-р Спаррман и мой отец не хотели упустить возможности исследовать этот остров, они отправились с ними.
Тем временем Ореа, правитель того округа, где мы стояли на якоре, пригласил нас в гости. Днем капитаны обоих судов, а также несколько офицеров и пассажиров, в гом числе и я, сошли на берег, запасшись перцем, солью, ножами, вилками и несколькими бутылками вина. Пол в доме нашего хозяина был устлан листьями, заменявшими скатерть. Мы уселись вокруг вместе со здешней знатью. Вскоре индеец-простолюдин принес жареную свинью, завернутую в банановые листья, и положил ее перед нами на землю. Другой принес еще одну свинью. За ним последовали другие с корзинами, полными плодов хлебного дерева, бананов и перебродившего теста из плодов хлебного дерева, называемого махеи. Хозяин предложил самим ухаживать за собой, после чего обе свиньи были очень быстро разделаны.
Нас сразу тесно обступили простолюдины; все стали выпрашивать у нас свинину. Каждый, кто что-нибудь получал, честно делился с соседом, и так из рук в руки мясо доходило до тех, кто стоял позади и из-за давки не мог к нам пробиться. Мужчины съедали свои порции с большим аппетитом, женщины же заворачивали свои куски в листы, дожидаясь, пока останутся одни. Жадность, с какой они подступали к нам, без конца повторяя свои просьбы, да и недовольные взгляды знатных, когда мы что-то уделяли просителям, убедили нас, что простому человеку на этом острове подобные лакомства недоступны.
Свиное мясо, приготовленное по-здешнему, показалось всем нам вкусней, чем приготовленное любым европейским способом. Оно было более сочное, чем наше вареное, и во всех отношениях нежнее, чем наше жареное. Сок и вкус сохраняются благодаря равномерной температуре, при которой оно держится в земле[312]. Сало не имеет ни малейшего сладковатого или неприятного привкуса, а кожа, которая в нашем свином жарком обычно бывает как каменная, здесь была столь же нежной, как и остальное мясо. Пошли в ход и наши бутылки. Ореа выпил свой стакан не моргнув глазом, чему мы удивились, тем более что жители этих островов обычно всюду проявляют неприязнь к нашим крепким напиткам.
Добродетель трезвости действительно свойственна почти всем здесь, особенно же простонародью, хотя у них есть свой опьяняющий напиток, до которого особенно охочи некоторые старые вожди. Он изготовляется из корня перечного растения, называемого здесь ава, крайне отвратительным способом, который я сам наблюдал в один из первых дней по прибытии. Этот корень разрезается на куски, затем несколько человек мелко его разжевывают, и масса, смоченная слюной, выплевывается в большой сосуд с водой или кокосовым молоком. Эта весьма «аппетитная» каша процеживается затем через волокна кокосового ореха, пережеванные комки тщательно выдавливаются, чтобы оставшийся в них сок полностью смешался с молоком кокосового ореха. Наконец напитку дают отстояться в другой большой скорлупе, после чего он готов к употреблению. Эту ужасную смесь они поглощают с необычайной жадностью, и некоторым старым пьяницам она так нравится, что они опустошают не одну скорлупу. Наш пассажир Пореа, который здесь был не столь сдержан, как на Хуахейне, однажды привел в каюту капитана кого-то из своих новых знакомых, и они принялись за изготовление этой гадости. Не прошло и получаса, как он до того напился, что вскоре его нашли неподвижным на полу. Его лицо было красным, а глаза закатились. В таком бесчувственном состоянии он проспал некоторое время, а когда пришел в себя, выглядел сконфуженным. Впрочем, пьянство, как и другие проявления невоздержанности, здесь не наказывается. Старики, приверженные этому пороку, на вид иссохшие и худые; у них шелушащаяся, вялая кожа, красные глаза и по всему телу красные пятна. Все это, по их собственному признанию, является прямым следствием пьянства; очевидно, перечное растение содержит вещества, вызывающие проказу. Но, кроме того, этот корень у всех жителей здешних островов считается символом мира, возможно потому, что выпивка способствует дружеским отношениям [313].
После того как мы поели, наши матросы и слуги полакомились оставшимися кусками, а индейцы, пользовавшиеся только что нашими щедротами, теперь приставали к ним. Однако матросы интересовались лишь красивыми девушками и, будучи от природы склонны к грубой чувственности, за каждый кусок мяса требовали от них какой-нибудь непристойности.
Чтобы удовольствие было полным, Ореа приказал еще раз устроить хиву. На этот раз мы были допущены за кулисы, или в раздевалку, чтобы посмотреть, как наряжаются танцовщицы. Это разрешение принесло им кое-какие подарки; например, нам пришла на ум мысль добавить к их головным украшениям несколько ниток бус, чем они были очень довольны. Среди зрителей были первые красавицы страны; особенно отличалась белизной кожи одна женщина; такой белизны мы до сих пор не встречали на этих островах. Ее кожа напоминала цветом белый, чуть сероватый воск; но этот оттенок не был связан с болезнью. С таким цветом кожи превосходно контрастировали ее красивые черные глаза и волосы, вызывая наше единодушное восхищение. Ее красота тоже была вознаграждена небольшими подарками, но, вместо того чтобы удовлетворить красавицу, они столь возбудили ее страсть к украшениям и безделушкам, что она приставала к каждому на нас, у кого могла предположить в кармане еще несколько бусин. У одного из наших товарищей случайно оказался с собой маленький висячий замок. Едва он попался ей на глаза, как она его потребовала. Владелец поначалу отказывал ей, но, поскольку она не отставала, он решил уступить; однако в шутку навесил замочек ей в ухо, заверив, что он для того и предназначен. Сначала она в это поверила и некоторое время казалась весьма довольной новым украшением, но вскоре почувствовала, что носить его слишком тяжело и больно, и попросила у владельца его снять. Тот, однако, выбросил ключ и заявил, что она сама это украшение выпросила, пусть оно останется у нее в ухе наказанием за неуемное попрошайничество. Девушка была безутешна, плакала самыми горькими слезами, просила то одного, то другого помочь ей; но даже если бы кто-то захотел это сделать, без ключа он был бессилен. Тогда она обратилась к правителю, и он вместе с женой, сыном и дочерью замолвил за девушку слово. Они даже предлагали в качестве выкупа материи и свиней — все напрасно. Наконец кто-то нашел ключ, подходивший к замку, и это положило конец стенаниям девушки, к общей радости ее друзей. Происшествие имело даже хорошие последствия: оно удержало и других ее землячек от привычки попрошайничать.
Благодаря гостеприимству хозяина и стараниям остальных день прошел вполне хорошо, и вечером мы довольные вернулись на борт. Тем более удивило нас, когда на другое утро, вопреки обычаям островитян, мы не увидели возле корабля ни одного каноэ. Чтобы выяснить, в чем дело, мы опять поспешили к дому Ореа, но, к еще большему своему удивлению, не застали там ни его, ни его семьи. Наконец, от нескольких индейцев, державшихся очень робко, мы узнали, что Ореа отправился в северную часть острова, боясь, как бы мы его не схватили. Чем меньше мы могли уразуметь, что вызвало эту беспричинную озабоченность, тем больше старались развеять опасения и еще раз заверить островитян в нашей дружбе. Для этого мы прошли несколько миль вдоль берега до места, куда он бежал. Там мы нашли все его окружение в слезах; пришлось использовать всяческие уловки, чтобы восстановить доверие. Бусы, гвозди и топоры помогали в таких делах лучше всего. Родственники Ореа рассказали, что капитан Кук хочет их схватить, чтобы заставить их земляков вернуть наших матросов, бежавших на О-Таху. Наконец мы поняли, в чем дело, и заверили их, что эти люди вовсе не бежали, они непременно вернутся еще сегодня. Ореа, однако, этим не удовлетворился, oн назвал по именам командиров каждой из шлюпок и спросил о каждом в отдельности, вернется ли и этот. Ему ответили «да», и он наконец удовлетворился.
Пока мы сидели с семейством Ореа, к капитану вдруг подбежал Пореа, наш таитянин, захотевший ехать с нами в Англию, отдал ему пороховой рог, который до сих пор всегда носил с собой, и сказал, что сейчас вернется. Прождав его довольно долго, мы поднялись на корабль без него, но и там его не нашли. Никто из местных жителей не мог нам сказать, куда он ушел, а капитан не очень-то и расспрашивал, чтобы не вызвать среди них нового переполоха.
После полудня я сопровождал капитана, который вновь захотел посетить Ореа. Там ко мне обратился молодой красивый человек и попросил, чтобы мы взяли его с собой в Англию. Его звали О-Хедиди [Хити-хити], он был лет семнадцати и, судя по цвету кожи, хорошего происхождения. Я поначалу не верил, что он готов оставить спокойную жизнь знатного человека на этом острове, и шутя рассказывал ему, с какими это связано неприятностями. Но все мои слова о суровой погоде, о непривычно плохой еде не произвели на него впечатления. Он стоял на своем. Несколько его друзей поддержали его просьбу. Тогда я представил его капитану Куку, и тот довольно легко дал согласие.
Вскоре мы все возвратились на борт, а еще до заката вернулись шлюпки, посланные на О-Таху, с грузом закупленных там бананов и кокосовых орехов, а также с несколькими свиньями. Отплыв от кораблей, они в то же утро бросили якорь на восточной стороне красивой бухты, называемой О-Хамане [Хамене]. По их описанию, остров и жители его напоминали то, что мы видели на других островах архипелага. Действительно, растения и животные здесь всюду одинаковы, разве что на одном острове чаще или реже встречаются одни виды, на другом — другие. Так, дерево, которое наши моряки называли яблоней (Spondias), очень распространено на Таити, зато весьма редко встречается на Раиетеа и Хуахейне, равно как и на Тахе. Кур на Таити мы почти не встречали, на островах же Общества их очень много. Крысы, которых на Таити тысячи, на О-Тахе не столь многочисленны, еще реже они встречаются на Раиетеа, а на Хуахейне их почти не видно.
Подкрепившись в бухте О-Хамане, наши люди направились на север, чтобы нанести визит правителю О-Тахи, возле дома которого должна была также состояться хива, танцевальное представление. По дороге они издалека увидели женщину, одетую весьма странно и всю раскрашенную черной краской. Это значило, что она в трауре и занята погребальной церемонией. Чем ближе они подходили к жилищу правителя, тем гуще становилась толпа людей, желавших посмотреть как на них, так и на хиву. Наконец они добрались до хижины. Эри, пожилой мужчина, сидел на деревянном стуле, половину которого он, увидев чужеземцев, уступил моему отцу. Вскоре три молодые девушки начали танец. Старшей было не больше десяти лет, младшей не исполнилось и пяти. Оркестр, как обычно, состоял из трех барабанов, а между действиями трое мужчин разыграли пантомиму про спящего путника, у которого воры очень искусно крадут вещи, хотя тот предусмотрительно и положил их рядом с собой. Во время этого представления народ должен был освободить дорогу для нескольких человек, которые подошли к дому парами и остановились у дверей. Среди них были и взрослые, и дети; верхняя часть туловища была совершенно обнажена и натерта кокосовым маслом, вокруг бедер — повязки из красной ткани, а вокруг головы — тамау, то есть шнуры, сплетенные из волос. О-Та назвал их о-да-видди[314], что, судя но знакам, которыми он сопровождал объяснение, должно было означать нечто вроде «скорбящие родственники». Когда эти люди приблизились к дому, на площадке перед ним постелили материю, но скоро ее опять скатали и отдали барабанщикам. Один из них обменялся несколькими словами с другим индейцем, и внезапно оба вцепились друг другу в волосы. Но чтобы праздник не прерывался, к барабану тотчас поставили другого, а спорщиков выгнали из дома. К концу танца зрителям пришлось еще раз освободить место, так как опять появились о-да-видди, но они, как и в первый раз, остановились перед домом, не устраивая никакой особой церемонии.
Перед хижиной вождя да берег были вытащены несколько каноэ, и в одном из них, с крышей, или навесом, лежал труп умершего, ради которого и состоялась упомянутая выше траурная церемония. В связи с этим нашим путешественникам пришлось отвести свои шлюпки немного подальше, к счастью, и там нашелся дом, под крышей которого они нашли защиту в эту дождливую и ветреную ночь.
На другое утро О-Та нанес им ответный визит и вызвался сопровождать их. Они взяли его с собой в шлюпку и пошли вокруг северной оконечности острова, где между его берегом и рифами располагалась целая группа длинных и плоских островов, поросших пальмами и другими деревьями. Здесь они приобрели много бананов и затем, пройдя несколько южнее, подкрепились в доме верховного правителя Бобы, которого Опуни, король Бораборы, поставил сюда наместником. Познакомиться с ним лично, однако, не удалось, поскольку он был в отъезде.
После обеда выяснилось, что, пока они ели, у них украли почти весь остаток их товаров, мешок гвоздей, зеркал и бус. Тогда офицеры решили забрать у жителей часть скота и другое имущество и держать у себя, покуда украденное не будет возвращено. Они приступили к делу тут же, на месте, где шел торг, конфисковали свинью, несколько перламутровых раковин и свертков материи, что удалось, однако, лишь после самых серьезных угроз огнестрельным оружием. Затем наши люди разделились. Часть стала охранять шлюпку, часть — конфискованные товары, остальные под командой лейтенанта отправились дальше, чтобы продолжить экзекуцию. Старый правитель О-Та сопровождал их, хотя, наверное, все это было ему ничуть не более приятно, чем собакам в басне Федра[315]. Всюду, куда они приходили, жители убегали и уводили свой скот в горы. Чтобы проверить, какое впечатление на них произведет огнестрельное оружие, офицер приказал выстрелить из трех мушкетов. После этого предупредительного выстрела вернулся один из беглецов, знатный человек, у которого из-за элефантиоза были невероятно толстые, отечные ноги и бедра. Он отдал нам свою свинью и несколько свертков материи. В жилище Бобы наши люди захватили еще два щита и барабан, с каковой добычей вернулись к дому, назначенному в качестве места сбора. Вечером О-Та попрощался с ними, но скоро вернулся с украденным мешком, в котором оказалась примерно половина гвоздей, бус и т. п., и провел с ними ночь. На другое утро владельцам конфискованных вещей было передано, что они могут все получить обратно, если доставят похищенные бусы и гвозди.
В ожидании этого наши люди направились к О-Херуруа [Хурепити], бухте на юго-западной стороне острова. Они не успели отойти далеко, когда О-Та и другой вождь, который на своих отечных ногах шел не хуже любого другого, принесли большую часть недостававших железных изделий и прочего, сказав, что все это было запрятано в кустах. Тогда наши люди отдали материю, свиней, щиты и все остальное. Они вознаградили также человека, в хижине которого переночевали, и старого вождя, поскольку оба проявили отменную верность и готовность служить. Получив обратно бусы, они смогли теперь приобрести в округе Херуруа и в бухте А-Пото-Пото (или Круглой) партию бананов.
Еще в одном месте они видели дом, более крупный, чем все виденные ими когда-либо на других островах Общества. Он был полон людей, в нем жили целые семьи. Это, видимо, был общественный дом, предназначенный для путешественников, наподобие караван-сараев в Леванте. Отдав остаток гвоздей и бус и пообедав, наши люди пустились в обратный путь и около четырех часов пополудни, насквозь промокшие из-за волн, которые захлестывали лодку, вернулись на корабль.
На другое утро пришел попрощаться Ореа со своей семьей и множеством других провожатых. Речи их были главным образом обращены к нашему новому спутнику О-Хедиди, который накануне взошел на борт. Друзья и знакомые протискивались к нему, подарили в дорогу много материй, а также добрую порцию перебродившего теста хлебного дерева. Это тесто — один из лучших продуктов питания. Дочь Ореа, которая до сих пор не отваживалась нас посетить, тоже по этому случаю поднялась на борт, чтобы выпросить у капитана зеленый навес с нашей шлюпки; он ей, видно, особенно понравился. Она получила массу подарков, но главного добиться не смогла. Индейцы напоследок развернули торговлю и продали нам много своих инструментов, домашней утвари и т. п. Когда мы наконец подняли паруса, добрые люди покинули нас в немалом огорчении. Их слезы были укором бесчувственности многих из нас. В самом деле, наше воспитание, по-видимому, приучает нас слишком сдерживать естественные движения сердца. От нас хотят, чтобы мы, как правило, стыдились их; увы, в конце концов они оказываются совсем подавленными. Напротив, на этих островах неиспорченные дети природы дают волю чувствам и радуются своей любви к ближнему:
Mollissima corda Humani generi dare se natura fatetur Quae lacrymas dedit; haec nostri pars optima sensus. Juvenal[316]ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Путешествие от островов Общества к островам Дружбы и рассказ о нашем пребывании там
В 10 часов мы благополучно миновали риф у Хаманено [Хааманино] и взяли курс на вест-зюйд-вест, так что долго еще видели острова Раиетеа [Paиaтea], Taxa [Taxaa] и Борабора [Бора-Бора]. Хотя прошло не больше месяца со времени нашего прибытия на Таити, мы чувствовали себя совсем оправившимися от последствий долгого, трудного плавания в холодном и сыром климате в самое плохое время года. Выздоровели даже те, кто особенно страдал от цинги. Вероятно, больше всего способствовали столь быстрому излечению свежие растения и плоды островов Общества, потому что больные чувствовали себя заметно лучше уже после Аитепиехи [Пихаа], хотя там у нас не было свежего мяса. Тем более уверены мы могли быть в здоровье команды на ближайший месяц, поскольку у нас в достатке имелись свежие съестные припасы. На каждом корабле было две-три сотни свиней, много кур и несколько собак, а также много бананов, разложенных на корме, как в фруктовом саду. Правда, из-за недостатка места несколько свиней издохли; немало потерь принесло и упрямство старых свиней, не желавших принимать непривычную пищу. Однако вскоре мы придумали способ справиться с этой бедой: забили и засолили всех свиней, которым не хватало места. В результате мы получили съедобное и сочное мясо, во всяком случае несравненно более вкусное и здоровое, чем та солонина, которую мы везли еще из Англии и которая просолилась уже до такой степени, что, когда ее вымачивали, вместе с водой уходил весь сок и все питательные вещества. Единственная неприятность, которую принесло пребывание на этих островах, состояла в том, что многие наши моряки из-за своих отношений с распутными женщинами заболели. Однако течение болезни было доброкачественно, излечивалась она самыми мягкими средствами и никому из пациентов не мешала в работе.
Наш юный друг О-Хедиди, которого мы взяли с собой вместо таитянина Пореа, очень страдал от морской болезни, ибо был непривычен к качке. Когда мы проплывали мимо Бораборы, он рассказал нам, что родился на этом острове и является родственником О-Пуни, воинственного короля, завоевавшего Таху и Раиетеа. Он поведал нам также, что вообще его зовут Махеине, но он обменялся именем с правителем Эимео [o-в Mypea], которого звали О-Хедиди. Этот обычай, как я уже заметил, существует на всех здешних островах. Король О-Пуни, по словам нашего спутника, находился в то время на острове Мауруа [Маупити], мимо которого мы проплывали после полудня. Он состоит из единственной конусообразной горы и, насколько мы могли судить по описаниям жителей Раиетеа, которые бывали там, похож на другие соседние острова.
Лишь на следующий день к нашему бедному другу вернулся аппетит. Для начала он попробовал кусок двадцативосьмифунтовой дорады [корифены], которую поймал один из наших людей. Мы хотели приготовить ее по-своему, но он заверил нас, что сырая она вкуснее, и попросил лишь миску воды, чтобы макать в нее рыбу; заедал он махеи, то есть кислым тестом плода хлебного дерева, служившим ему вместо хлеба. Прежде чем сесть за еду, он отделил кусок рыбы и немного махеи в качестве жертвы для эатуа, то есть божества, и произнес при этом несколько слов, которые мы приняли за короткую молитву. Примерно такая же церемония повторилась через несколько дней, когда он ел сырое акулье мясо. Все это убедило нас, что его землякам не чужды религиозные понятия, они даже совершают нечто вроде богослужебной церемонии, унаследованной, вероятно, от предков на материке.
До 23 [сентября] плавание продолжалось без особых происшествий, а в упомянутый день на рассвете мы увидели слева, по борту низменный остров. Мы направились к нему и к полудню увидели, что он состоит из двух частей. Измерения показали, что мы находились тогда под 19°8' южной широты. Земля обильно поросла кустарником и густолиственными деревьями, над которыми возвышались кокосовые пальмы. С помощью подзорных труб мы заметили, что берег здесь песчаный, но кое-где покрыт зеленью, скорее всего обычными в этих широтах лианами (Convolvulus brasiliensis). Оба острова, или обе части суши, соединялись по-видимому, скалистым рифом, но, несмотря на свой приятный вид, казались совершенно необитаемыми. Капитан Кук назвал этот остров Херви в честь теперешнего графа Бристольского [317]. За день до того возле корабля появилась птица, похожая на скакуна; теперь мы поняли, что она была предвестником земли; однако такие приметы, как я уже не раз замечал, бывают весьма обманчивы. Спустя три дня мы, например, опять видели птицу, которая даже села на снасти, однако не встретили никакой земли.
От острова Херви, лежащего под 19° 18' южной широты и под 158°54' западной долготы по Гринвичу, мы плыли все время на запад до 1 октября, когда в 2 часа пополудни раздался крик: «Земля!» Она виднелась прямо но курсу и казалась довольно высокой. Через четыре часа мы еще находились в 2—3 морских милях от берега. Горы поросли лесом и вид имели если не роскошный, то довольно приятный. У юго-западной оконечности мы заметили маленький скалистый остров, а к северу — низменную землю, которая тянулась дальше. Все это говорило о том, что лежавший перед нами остров — тот самый, который Тасман в 1643 году назвал Мидделбургом [Эуа], а северный остров, открытый тем же мореплавателем, был назван им Амстердамом [Тонгатапу]. Из-за начинавшихся сумерек мы легли в дрейф, но на рассвете обошли вокруг юго-западной оконечности Мидделбурга и пошли вдоль западного берега.
У подножия горы можно было различить равнинный участок, где росли молодые бананы. Их живая, свежая зелень необычайно красиво контрастировала с разнообразной окраской кустарника и коричневыми кокосовыми пальмами. В рассветных сумерках мы видели сквозь заросли тут и там огни в хижинах жителей, а вскоре и на берегу показалось несколько человек. Горы были невысокие. Кое-где на них росли отдельные живописно разбросанные группы деревьев, земля между ними поросла травой; такие красивые лужайки можно видеть в Англии. Несколько туземцев столкнули свои каноэ на воду и поплыли к нам. В одно из них, приблизившееся к кораблю, мы бросили канат, и один из находившихся там островитян тотчас поймал его; он подтянул каноэ вплотную к судну и вмиг оказался у нас на борту.
На палубе он протянул нам перечный корень, уже упоминавшийся в рассказе об островах Общества, затем коснулся своим носом наших носов, как обычно делают в знак дружбы новозеландцы, после чего, ни слова не говоря, уселся на палубе. Капитан подарил ему гвоздь, который он поднял над головой, сказав при этом «фагафетаи»[318], что, видимо, означало благодарность. Вся верхняя часть тела у него была обнажена, вокруг бедер же был повязан доходящий до колен кусок коричневой материи. По виду она того же сорта и выделки, что и таитянская, но с помощью клея или лака сделана жесткой и водонепроницаемой. Человек был среднего роста, с мягкими, довольно правильными чертами лица. Цвет кожи обычный для таитян, то есть напоминал светлое красное дерево или каштан. Борода была коротко острижена, черные волосы свисали вокруг головы короткими локонами, курчавые и как будто опаленные. На каждой руке — по три крупных пятна величиной примерно с гульден, вытатуированных на коже в виде рельефного пунктира, как это делают таитяне, только в них не была втерта черная краска. По рисунку они представляли собой вписанные одна в другую окружности. На теле тоже черные пятна. В ушной мочке имелось два отверстия, в которых он носил маленькую круглую палочку, на левой руке недоставало мизинца. Некоторое время он молчал, зато другие, отважившиеся подняться на борт вслед за ним, были куда разговорчивее. Поприветствовав нас прикосновением носа к носу, они сразу же обратились к нам на языке, из которого мы тогда ни слова не понимали.
Тем временем мы достигли северо-западной оконечности острова и в 9 часов благополучно бросили там якорь на открытом рейде в надежный грунт. И тотчас с берега к нам устремилось множество каноэ, в каждом по 3—4 человека, предлагавших свои изделия. Каноэ — маленькие, длиной футов 15, очень остроносые и с обоих концов покрытые. У большинства из них, как у маленьких таитянских каноэ,— выносные поплавки, однако сработаны они несравненно лучше и чище таитянских, все в них подогнано с изумительной точностью и отполировано. У здешних весел, как и у таитянских, короткие широкие лопасти, но они тоже сделаны лучше и из лучшего дерева. Собравшиеся подняли сильный шум, каждый показывал, что он хочет продать; всякого из нас, кто показывался на палубе, встречали криком. Звучание их речи было не лишено приятности, к тому же говорили они певуче. У некоторых достало смелости подняться на борт. Один из них был, очевидно, вождь или знатный человек; ему мы вручили подарки. Получая что-нибудь, он поднимал вешь над головой и каждый раз говорил «фагафетаи». Наибольшее восхищение вызвали, у него наше английское сукно и полотно, а также изделия из железа. Не проявляя ни малейшей робости или беспокойства, он спускался в каюты и шел всюду, куда его приглашали. От него мы узнали, что остров, близ которого мы стали на якорь (и который Тасман назвал Мидделбургом), на местном языке называется Эа-Уве, а другой, севернее (Амстердам Тасмана),— Тонгатабу. Для большей уверенности мы спрашивали про это и у других его земляков, Но каждый раз получали тот же самый ответ.
После завтрака мы вместе с капитаном и этим вождем сошли на сушу. Берег здесь был защищен идущим параллельно ему коралловым рифом, в некоторых местах которого имелись проходы, куда могли заплывать маленькие лодки. Туземцы, как находившиеся в каноэ, так и стоявшие на берегу, встретили нас громкими криками радости. Их каноэ подошли вплотную к нашей шлюпке, и оттуда нам бросали большие свертки материи, не требуя ничего взамен. Другие, и мужчины, и женщины, плавали вокруг, держа над головой мелочи на продажу вроде колец из панциря черепахи, рыболовных крючков из перламутра и т. и. Мы пробились через скопление лодок, но из-за мелководья не смогли приблизиться к берегу. Тогда жители добровольно вызвались перенести нас на плечах. На берегу они собрались вокруг нас, всячески выказывая свое дружелюбие и предлагая в подарок фрукты, оружие и домашнюю утварь.
Трудно было представить себе лучший прием, даже если вообразить, что они уже имели дело с европейскими кораблями и по опыту не сомневались в наших мирных намерениях. Однако здесь дело обстояло как раз наоборот, ибо до сих пор они еще не видели у себя ни одного европейца, а о давнем пребывании Тасмана на соседнем острове Амстердам могли знать только понаслышке. Так что подобный прием рекомендовал их самым выгодным образом. Видимо, они по природе были радушны, чистосердечны и чужды низкого недоверия. Это подтверждалось и тем, что среди них было много женщин, коих индейские народности обычно предпочитают прятать от чужеземцев. Женщины здесь были одеты от бедер до пят и дружелюбно улыбались, как бы приглашая подойти поближе.
Господин Ходжс сделал по наброску прекрасную картину о сей достопримечательной дружеской встрече, и она была выгравирована для книги капитана Кука об этом плавании. Я всегда готов воздать заслуженную хвалу работам сего талантливого художника, когда они верны истине, но в данном случае не могу не заметить, что упомянутая гравюра не дает верного представления о жителях Эа-Уве и Тонгатабу, как ни мастерски ее выгравировал на меди господни Шервин. Гравюры к описанию предыдущего плавания капитана Кука заслужили справедливый упрек в том, что они изображают не индейцев, а некие красивые фигуры в античном вкусе как по одежде, так и по всему своему облику; тот же упрек следует отнести и к упомянутой гравюре для данной книги. Можно было подумать, что господин Ходжс потерял свои оригинальные наброски с натуры к этой работе и, обнаружив пропажу, сделал новый, идеальный рисунок, руководствуясь лишь тонкой, художественной фантазией. Знатоки видят в этой гравюре греческие черты, фигуры, каких никогда не встречалось в Южном море, и восхищаются красивыми легкими одеяниями, покрывающими головы и тела, тогда как на этом острове женщины почти никогда не прикрывают плечи и грудь. Великолепна фигура старого благородного мужчины с длинной белой бородой, однако жители Эа-Уве никогда не отпускают длинной бороды, а подстригают ее с помощью ракушек.
Но возвращаюсь к своему рассказу. Мы не стали задерживаться на берегу, а последовали за вождем, который пригласил нас пройти дальше в глубь острова. От берега земля некоторое время круто поднималась, но затем переходила в красивый ровный луг, окруженный высокими деревьями и густым кустарником, так что отсюда было видно только море. На краю луга, шагах в 150 от места, где мы высадились, стоял очень красивый дом, крыша которого начиналась в 2 футах от земли. Дорога, ведущая к нему, шла через упомянутый зеленый луг, такой ровный и травянистый, что он напоминал лучшие английские лужайки. Нас пригласили зайти в дом отдохнуть. Пол был мило устлан прекрасными циновками, в углу мы увидели подвижную плетеную перегородку, за которой, судя но жестам жителей, были места для сна. Крыша, со всех сторон опускавшаяся к земле, состояла из стропил и круглых жердей, хорошо подогнанных друг к другу и покрытых циновкой из банановых листьев.
Едва мы расположились в этом доме, окруженном более чем сотней человек, как две или три женщины приветствовали нас песней, простой по мелодии, по очень приятной и звучавшей куда более музыкально, чем напевы таитян. У певиц были весьма благозвучные голоса, и они аккомпанировали друг другу, разом в такт прищелкивая большим и указательным пальцами и подняв при этом остальные три пальца. Когда три первые певицы кончили петь, три другие начали ту же самую мелодию, и наконец возник общий хор. Один из наших спутников записал мне их песню, которую я хочу предложить интересующимся музыкой читателям как образец здешнего музыкального искусства:
Весь напев не выходил за пределы этих нот, он не опускался ниже А и не поднимался выше Е. Пели они медленно и иногда завершали напев аккордом:
Добросердечие этого народа выражалось в каждой мелочи, в каждом жесте. Они наперебой угощали нас кокосовыми орехами с очень вкусным молоком. Казалось, все стремится сделать приятным наше пребывание здесь, даже воздух, что мы вдыхали, был напоен бальзамическим ароматом. Вначале мы не могли понять происхождения этого чудесного запаха, затем выяснилось, что обязаны им густолиственным цитрусовым деревьям, стоявшим позади дома в полном цвету. Мы, однако, недолго довольствовались одним запахом, ибо вскоре нам предложили и плодов с этих деревьев. В Вест-Индии они известны под названием шеддок, но в Батавии [Джакарта] и на островах Ост-Индии их называют пампельмус. Они круглые, величиной почти с детскую головку и превосходны на вкус [319].
По обеим сторонам луга, расстилавшегося перед домом, шла изгородь из тростниковых стеблей, сплетенных крест-накрест и крепко связанных. За изгородью начиналась настоящая плантация, или сад. Пройти туда можно было через дверь из досок. Дверь была подвешена так, что затворялась позади нас сама собой. Изгородь поросла заборным повоем (Convolvulus), в основном с голубыми цветами. Чтобы лучше оглядеться, мы разделились на группы. Каждый шаг приносил все новые приятные сюрпризы. Вся земля казалась просторным садом, всюду росли высокие кокосовые пальмы и бананы, тенистые цитрусовые и хлебные деревья. На этих прекрасных полях мы нашли много новых растений, каких не видели на островах Общества.
Наконец тропинка привела нас к жилому дому, расположенному, как и первый, на лугу и окруженному цветущим кустарником, который наполнял воздух благоуханием. Здешние жители производят впечатление более работящих и прилежных, чем таитяне. Они позволяли нам всюду беспрепятственно ходить и никогда не сопровождали нас, если мы сами о том не просили, так что мы могли не беспокоиться за свои карманы. Только не надо было носить при себе гвоздей — они их слишком волновали. Мы прошли одну за другой больше десятка плантаций, или садов, все были особо огорожены и соединены посредством калиток описанного устройства. Почти в каждом из этих садов мы нашли дом, но жителей нигде не было. Изгороди вокруг участков, видимо, указывали на более высокий уровень культуры, чем мы могли предполагать. Действительно, здешнее население и в ремесле, и в музыке, и в своих изделиях достигло большего, чем жители островов Общества, которые, правда, были зажиточнее, особенно на Таити, зато и ленивее. Насколько мы могли заметить, кур и свиней тут было совсем немного, да и хлебные деревья, способные дать обильную и превосходную пищу, здесь были весьма редки, так что питались жители, видимо, главным образом кореньями и бананами. Одеждой они были тоже не так богаты, как жители Таити; во всяком случае, по этой части дело не доходило, как там, до расточительства. Жилища, построенные умело и расположенные в благоуханных рощах, были все же не столь просторны и не столь удобны, как на Таити.
Полные этих впечатлений, мы вернулись к месту высадки, где собрались сотни жителей. Их внешний вид позволял судить, что, хотя земля здесь не так богата от природы, как на Таити, богатства распределяются среди народа гораздо равномернее. Там людей знатных можно было отличить по более светлому цвету лица и по упитанности; здесь же не было таких внешних различий. Вождь, поднявшийся к нам на борт и сопровождавший нас на берег, даже одеждой не отличался от обычного человека. Лишь по повиновению, с каким народ принимал его приказы, можно было понять, что он более высокого сословия.
Мы смешались с собравшейся толпой, где нас самым трогательным образом приветствовали стар и млад, мужчины и женщины. Они обнимали нас, иногда целовали нам руки и прижимали их к груди — словом, любым способом старались показать свою любовь и дружбу. Мужчины были нашего обычного среднего роста, от 5 футов 3 дюймов до 5 футов 10 дюймов, очень пропорционально сложены, все конечности были красивы, но несколько мускулистее, чем у таитян. Это, вероятно, связано с большим и постоянным физическим напряжением, которого требуют земледелие и домашнее хозяйство. Черты лица у них были мягкие и очень приятные, но более удлиненные, чем у таитян, особенно нос — острее и губы — тоньше.
«У них красивые черные глаза, большие и даже у стариков еще полные огня. Зубы здоровые, белые и красивые. Волосы, обычно черные и курчавые, и у мужчин и у женщин коротко острижены, а некоторые носят их зачесанными вперед, так что они стоят торчком, как щетка. Детей стригут еще короче, оставляют торчать лишь пучок волос на затылке, а также на каждом боку над ухом».
Бороды были острижены или, скорее, обкусаны как можно ближе к коже при помощи двух острых раковин (Mytili). Женщины были на несколько дюймов ниже мужчин, однако не такие маленькие, как женщины на Таити и островах Общества. Верхняя часть тела очень красивых пропорций, а руки и кисти рук столь же изящны, как у таитянок; зато у них, как и у тех, слишком большие ступни и слишком толстые ноги. Черты лица не отличались правильностью, но в них было что-то очень приятное, как обычно и у прекрасного пола на островах Общества; правда, там среди знати встречаются отдельные красотки, подобных которым мы здесь не видели.
Кожа и у мужчин, и у женщин была одинакового каштаново-коричневого цвета; все они казались сплошь людьми совершенно здоровыми. Мужчины кожу татуируют или разрисовывают, особенно на животе и на бедрах, причем еще более искусно, чем на Таити. Не были свободны от татуировки даже деликатнейшие части тела, для которых сия операция не только очень болезненна, но может оказаться и весьма опасной. Мы только дивились этому:
Nam et picta pandit spectacula cauda.
Herat[320]Женщины не украшали себя таким ужасным образом. Только на каждой руке у них, как и у мужчин, было по три круглых пятна в виде нескольких концентрических окружностей; на теле тоже имелась татуировка, но в нее не втиралась черная краска. А кроме этого, они довольствовались лишь несколькими черными точками на кистях рук.
Мужчины ходили почти совершенно обнаженные, по большей части лишь с узкой полоской материи на бедрах, вроде передника; но иногда она бывала довольно длинной и спускалась, как женская юбка, до колен. Женщины же обертывали материю вокруг тела прямо под грудью, откуда эта материя свисала до икр. По качеству она напоминала таитянскую, но была раскрашена четырехугольными полями на манер шахматной доски, а также покрыта клеем или лаком, который не пропускал воду. Иногда вместо материи употреблялись циновки очень хорошей выделки, внешне напоминавшие таитянские; их носили, хотя и редко, перебросив через плечи на грудь.
Украшениями мужчинам служили также перламутровые раковины; их подвешивали на шнур и надевали на шею. Женщины носили на шее несколько шнуров с нанизанными на них маленькими ракушками, семенами и рыбьими зубами; посредине висела круглая раковина (Operculum) величиной примерно с талер. В мочках у них имелись отверстия, иногда по два в каждой; в них вдевался маленький цилиндрический кусок черепашьего панциря или кость. Вместо них могли употребляться трубочки, заполненные красным твердым веществом, снаружи они были пестро раскрашены, иногда обожжены.
Мы обратили внимание, что у многих здесь не хватало мизинца, иногда даже на обеих руках. Это не зависело ни от пола, ни от возраста; даже кое-кто из детей, бегавших вокруг, был искалечен подобным образом. Лишь у некоторых стариков сохранились все пальцы, но эти люди были исключением из общего правила. Мы сразу предположили, что поводом для такого калечения служила смерть родственника или друга, как это бывает у готтентотов в Африке[321] и у жителей Калифорнии. Впоследствии разговоры с туземцами подтвердили это предположение[322]. Другая странность, которую мы здесь заметили, состояла в том, что на обеих скулах почти у всех имелось красное пятно, как будто выжженное или вытравленное едким веществом. У некоторых пятна были еще совсем свежие, у других уже покрыты струпьями, у многих от них остались лишь слабые следы. Мы не могли узнать, как и с какой целью наносятся эти пятна, однако предположили, что они вызваны каким-то лекарством вроде японской моксы, которое здесь употребляется для лечения болезней [323].
Несмотря на гостеприимство туземцев, мы не предполагали пробыть здесь долго, ибо капитаны не могли получить на острове достаточно свежей провизии, чтобы каждый день кормить команды кораблей. Дело заключалось не столько в том, что продовольствия было мало, сколько в том что мы с самого начала кинулись закупать оружие и утварь, побудив жителей попридержать самое пенное, а именно продовольствие. Вначале они еще приносили на продажу немного ямса, бананов, кокосовых орехов и пампельмусов, но скоро ограничили торговлю лишь своими ремесленными изделиями. Особенно много они продавали нашим людям рыболовных крючков из черепашьего панциря с зазубринами; некоторые были 7 дюймов в длину и формой напоминали те, что на Таити известны под названием витти-витти. Мужчины предлагали нам, кроме того, нагрудные украшения из раковин, а женщины — свои ожерелья, браслеты из перламутра и те маленькие круглые палочки из дерева или камыша, которые носят здесь в ушах вместо колец. Мы купили также гребни, служившие больше для украшения; они представляли собой несколько плоских палочек длиной около 5 дюймов, вырезанных из желтой древесины и вверху соединенных изящно, но прочно плетением из раскрашенных в коричневый и черный цвета кокосовых волокон. Из таких же волокон плетутся здесь всевозможные корзины; иногда они бывают коричневые с черными полями, а иногда просто коричневые, украшенные рядами круглых плоских бусинок, вырезанных из ракушек. Корзины были разные по форме и по узору, но всегда сделаны необычайно чисто и с большим вкусом.
Маленькие деревянные стулья, которые на этих островах служат вместо изголовья, встречались здесь чаще, чем на Таити. Мы видели также много скорлуп для еды и лопаточек, которыми перемешивают тесто из плодов хлебного дерева; их вырезают из казуаринового дерева (Casuarina equisetifolia)[324]. Наши матросы назвали его «деревом для дубинок», так как на всех островах Южного моря из него делаются дубинки и боевые палицы. Последние здесь встречались самой разнообразной формы; иногда они бывали такие тяжелые, что нелегко было ими пользоваться одной рукой. Нижняя часть, или собственно палица, обычно четырехугольная, а в самом верху, где ее держали, круглая. Другие имели форму лопатки, плоские и зазубренные; у третьих были длинные рукоятки и заостренное лезвие, были кривые, узловатые и т. д. Большинство сплошь покрывал резной узор, разделенный на поля. Эта работа, видимо, требовала много времени и невероятного терпения, ведь единственными орудиями служили острый камень, кусок коралла или раковина. Отделения или поля этого резного узора по величине и правильности формы были на удивление одинаковы, а поверхность, не покрытая резьбой, так прекрасно отполирована, словно это делал опытнейший и оснащенный лучшими инструментами художник.
Кроме палиц у них имелись также копья из упомянутой породы дерева. Чаще всего они представляли собой просто заостренные палки, но иногда заканчивались страшным острием — хвостом ската хвостокола. Были у них также луки и стрелы очень своеобразного устройства. Лук имел в длину 6 футов и толщину примерно в мизинец. В ненатянутом состоянии он был слегка изогнут. Вдоль выпуклой, или наружной, его стороны шел углубленный желоб, где иногда умещалась стрела около 6 футов длины, сделанная из тростниковой палочки, с острием из твердого дерева. Чтобы натянуть лук, нужно было не увеличивать его изгиб, как обычно, а, как раз наоборот, сначала выпрямлять, а затем сгибать в противоположную сторону. Тетиву при этом не надо было натягивать туго, простое изменение природного изгиба лука давало стреле достаточный толчок, а лук и тетива возвращались в прежнее состояние не так резко, чтобы можно было повредить кисть руки или предплечье стрелка. Пока наши люди научились обращаться с этим оружием, они сломали много луков, пытаясь натянуть их обычным образом.
Обилие оружия у туземцев не вязалось с миролюбием, которое они всячески нам демонстрировали и которое прежде всего выражалось в их готовности продавать нам это оружие. Следовательно, несмотря на это внешнее миролюбие, они должны были часто сводить счеты друг с другом или воевать с соседними островами. Но сколько мы об этом ни расспрашивали, ничего толком узнать не, могли.
Все вышеназванные товары, а также разные материи, циновки и прочие мелочи они приносили на продажу и охотно меняли на маленькие гвозди, а иногда и на бусы. Относительно бус их вкусы отличались от вкусов таитян. Те всегда выбирали прозрачные, эти же больше ценили темные, с красными, белыми или голубыми полосками. Мы торговали с ними до полудня, а потом вернулись на корабль, недосчитавшись маленького лодочного якоря, который местные жители ухитрились стащить и где-то спрятать почти в тот самый момент, как он был брошен. Их дружественные взгляды и возгласы сопровождали нас до самого борта, где с множества каноэ предлагали те же самые товары, что мы уже приобрели на берегу.
На этих каноэ мы увидели прокаженных, причем болезнь зашла уже весьма далеко. Особенно выделялся один мужчина; по всей спине и плечам у него шла большая, напоминающая формой краба язва, посредине совсем синяя, а по краям золотисто-желтая. У одной несчастной женщины таким же плачевным образом оказалось изуродовано почти все лицо. Вместо носа видна была лишь дыра, скулы распухли и гноились, глаза покраснели, воспалились и, казалось, вот-вот вылезут из глазниц. Словом, никогда я не видел ничего более тягостного. Однако сами эти несчастные, казалось, ничуть не горевали о своей беде, они торговали столь же оживленно, как и другие, и, что самое ужасное, продавали провизию.
После обеда я остался на борту, где д-р Спаррман помог мне привести в порядок собранные утром природные достопримечательности, а мой отец опять сошел с капитанами на берег в поисках новых. Вернулись они на закате, и отец рассказал мне следующее.
У места высадки нас, как и утром, радостными криками встретили жители. Их было много; началась бойкая торговля. Однако провизии было мало, а пампельмусов ввиду раннего времени года почти вовсе не было. Господии Ходжс, я и мой слуга покинули место, где шла торговля, и вместе с двумя индейцами, которые вызвались показать нам дорогу, направились в горы, лежавшие в глубине острова. Дорога туда вела через несколько плантаций, или садов, огороженных иногда тростником, иногда живой изгородью из красивой эритрины (Erythrina соrallodendron). Миновав их, мы пошли по узкой тропе между двумя изгородями, внутри которых по обеим сторонам были посажены бананы и ямс, ровными рядами, как в наших садах. Эта узкая дорога привела нас к большому, поросшему прекрасной травой лугу. Мы пересекли его и увидели превосходную аллею из четырех рядов кокосовых пальм длиной примерно в 2 тысячи шагов. Она опять вывела к узкому проходу, который тоже шел через регулярно устроенный сад, обсаженный по краям пампельмусами и другими деревьями. По этому проходу мы через возделанную долину добрались до места, где сходилось много тропинок. Это был луг, поросший нежнейшей травой и обрамленный тенистыми деревьями. На его краю стоял дом. Он был пуст — очевидно, жители ушли на берег. Господину Ходжсу до того понравилась эта местность, что он уселся и тут же сделал зарисовку.
Действительно, пейзаж стоил того. Воздух был чистый и такой благоуханный, что оживил бы мертвого. Мягкий морской ветер шевелил наши волосы, даря нам прохладу; повсюду щебетали маленькие птахи, а дикие голуби нежно курлыкали в тенистых ветвях дерева, под коим мы расположились. Наше внимание привлекли корни этого дерева. Они отходили от ствола на высоте 8 футов от земли и затем по одному уходили в землю. На дереве были странного вида стручки длиной более 3 футов и шириной в 2—3 дюйма. Мы отдыхали в сей уединенной и от природы столь благословенной местности в обществе лишь двух наших индейцев, и на память нам поневоле приходили поэтические описания зачарованных островов, созданные необузданной фантазией, которая расцвечивала их всевозможными красотами. Здесь все и впрямь напоминало подобные романтические описания. Сам Гораций не нашел бы более счастливого места для поселения. Если бы только тут еще оказался хрустально чистый источник или маленький журчащий ручей! Но вода — единственное, чего не хватало на этом маленьком чарующем острове.
Слева мы нашли еще один тенистый проход и по нему добрались до другого луга, на краю которого, на холме, стояли два дома. Вокруг на расстоянии фута один от другого были воткнуты в землю тростниковые палки, а перед ними росли ветвистые казуариновые деревья. Наши провожатые-индейцы дошли только до ограды и дальше идти отказались, но мы поднялись на самый верх и заглянули, хоть и не без труда, в хижины, крыши которых свисали почти до самой земли. В одной из них мы увидели недавно сюда помещенные мертвые тела, другая была пуста. Очевидно, казуарина (тоа) здесь, как и на островах Общества, связывается с местом погребения. В самом деле, коричневато-зеленая, с длинными ниспадающими ветвями, с коих печально, свисают узкие волокнистые иглы, она столь же отвечает меланхоличности подобных мест, как и кипарис. По-видимому, в качестве дерева скорби казуарина в этой части света избрана в силу тех же ассоциаций, что и у нас кипарис. Холм, где находилась хижина, состоял из маленьких коралловых камней; они были насыпаны в кучу и никак не закреплены. Отсюда мы прошли немного дальше и кругом видели такие же прелестные сады с жилыми домами, расположенными обычно посредине. В одном из садов хозяева пригласили нас присесть и угостили большими кокосовыми орехами.
Когда мы вернулись на берег, шлюпки уже собирались возвращаться на корабль, так что нам сразу пришлось занять в них места. Людей во время этой прогулки мы видели совсем мало, а тот, кто встречался, шел своей дорогой, не обращая на нас внимания,— обычно к месту торга. Если бы мы не взяли в провожатые двух человек, нам, вероятно, вообще пришлось бы идти одним; никто не бежал за нами и никак нам не мешал. Ружейные выстрелы не произвели на них особого впечатления и не вызвали страха; держались они все время дружелюбно и услужливо. Женщины в общем были сдержанны, распущенность наших моряков им явно не нравилась. Но, конечно, и среди них находились менее стыдливые, готовые откликнуться на непристойные жесты матросов.
На другое утро мы с капитанами опять сошли на берег и подарили вождю садовые семена, объяснив, насколько это было возможно, знаками великую их пользу. Все беседы до сих пор сводились к этим знакам, хотя у нас был достаточный запас слов. Имея некоторые общие представления о строении языка и диалектных отклонениях, по этим словам можно было судить, что здешнее наречие очень родственно языку Таити и островов Общества. О-Маи и Махеине (или О-Хедиди), два индейца с Раиетеа и Бораборы, находившиеся у нас на борту, утверждали вначале, что совершенно не понимают здешнего языка. Но когда мы на примере различных слов показали его сходство с их родным языком, они очень легко усвоили особенности сего диалекта и понимали местных жителей лучше, чем это удавалось кому-либо, из нас после долгого обучения. Сама страна им очень понравилась, однако они скоро увидели, чего здесь не хватает. Так, они жаловались нам, что у них мало плодов хлебного дерева, мало свиней и кур и совсем нет собак, что вполне соответствовало истине. Зато им очень понравилось обилие сахарного тростника и опьяняющий перечный напиток[325], которым местные жители угощали капитана Кука.
Вручив свои подарки, капитаны вернулись на корабль. Вождь тоже взошел с нами на борт. Паруса уже были поставлены. Мы подняли якорь, и покинули сей счастливый остров, всю красоту которого вряд ли смогли бы оценить, если бы просто проплыли мимо. Пока мы готовились к отплытию, вождь продал нам еще несколько рыболовных крючков в обмен на гвозди и бусы, а затем подозвал к кораблю проплывавшее мимо каноэ, на котором и покинул нас, знаками и взглядами выражая на прощание самые дружеские и сердечные чувства.
Дальше мы поплыли вдоль западного побережья острова, который Тасман назвал Амстердамом; на языке местных жителей он называется Тонгатабу. Центр острова расположен примерно под 21°11' южной широты и под 175° западной долготы. По сравнению с предыдущим он ниже; самые высокие места на вид едва поднимаются до 18—20 футов над уровнем моря; однако по площади этот остров больше Эа-Уве. Через подзорную трубу мы разглядели и здесь правильные посадки. Берег был полон жителей; они рассматривали нас, должно быть, не менее внимательно, чем мы их. «Некоторые бегали по берегу и размахивали белыми флагами, что мы расценивали как знак миролюбия и нечто вроде приветствия издалека». Примерно посредине между обоими островами, то есть на расстоянии около 3 морских миль от каждого, нам навстречу вышло множество каноэ с людьми, которые хотели подойти к кораблю, однако мы шли по ветру так далеко от них, что нас догнать они не могли, но добрались до «Адвенчера» и поднялись на борт.
После полудня мы достигли северной оконечности острова. На востоке от него находилось несколько малых островов, соединенных рифом, а на северо-западе была подводная скала, о которую с неистовством разбивались волны. И маленькие острова, и скалы убеждали нас, что это то самое место, где в 1643 году останавливался Тасман, назвав его бухтой Ван-Димен. Мы тоже решили бросить здесь якорь, хотя грунт состоял из одних коралловых скал. Вскоре нас уже окружили местные жители. Некоторые добрались сюда на каноэ, некоторые — вплавь, хотя мы находились более чем в четверти мили от берега. Они во всем походили на жителей Эа-Уве, в том числе склонностью к торговле, и сразу стали предлагать нам множество материй, циновок, сетей, утвари, оружия и украшений, а взамен брали гвозди и бусы. Эта торговля, однако, продолжалась недолго; едва мы стали на якорь, как капитан запретил покупку подобных диковинок. Зато туземцам дали понять, чтобы они привезли вместо этого кокосовых орехов, плодов хлебного дерева, ямс, бананы, равно как свиней и кур. Все это мы уже могли назвать на их языке. Чтобы дать делу ход, мы хорошо оплатили те немногие съестные припасы, которые приобрели в тот день. Все же другие товары жителям пришлось увезти обратно.
Добрые результаты таких действий сказались уже на следующее утро, когда на рассвете прибыли каноэ, полные фруктов и кур. Многие туземцы поднимались на борт так смело и доверчиво, будто знали нас давно и о подозрительности вообще не имели понятия. Среди них выделялся статный мужчина с открытым, привлекательным лицом. Подобно нашему знакомцу с Эа-Уве, он, видно, пользовался уважением земляков. Он спустился в каюту и сказал, что его зовут Аттахха [Ата-онго]. Из подарков преподнесенных ему, он больше всего обрадовался изделиям из железа и красной фланели, а после завтрака поехал с нами в полубаркасе на берег.
Вдоль острова примерно на расстоянии ружейного выстрела от берега шел коралловый риф; в нем имелся лишь очень узкий проход. Дно между рифом и береговой полосой было такое каменистое, а вода такая мелкая, что мы не смогли добраться до берега на лодке, и нас туда перенесли. На берегу корабельному писарю тотчас же было приказано закупать продовольствие, а для охраны к нему приставили команду морских пехотинцев. Туземцы не выказали на сей счет ни удивления, ни неудовольствия; скорее всего, они не поняли смысла этих действий и потому не имели поводов для подозрений. Как и на Эа-Уве, нас встретили криками радости и пригласили сесть на прибрежных камнях. Это были коралловые скалы, покрытые ракушечным песком. Среди прочего местные жители принесли нам на продажу красивых, совсем ручных попугаев и голубей. Наш юный спутник с Бораборы, Махеине (или О-Хедиди), усердно принялся закупать украшения из красных перьев; по его словам, они необычайно высоко ценятся на Таити и на островах Общества[326]. Эти перья здесь обычно прикрепляются к передникам, сплетенным из волокон кокосового ореха, и служат женщинам украшением во время танцев. Часто их укрепляют также на листьях банана и привязывают в качестве украшения ко лбу. О-Хедиди был в восторге от этой покупки и уверял нас, что куска такого украшения из перьев шириной в два-три пальца на его острове достаточно, чтобы приобрести самую большую свинью. И ему, и О-Маи очень понравились жители этого острова [Тонгатапу]; оба довольно хорошо понимали их речь.
Немного познакомившись с нашими новыми друзьями, мы решили осмотреть страну поближе. Недалеко от берега, где земля поднималась на несколько футов, мы увидели узкую, зато длинную полосу леса, состоявшего частью из высоких деревьев, частью из низкого кустарника. В некоторых местах ширина его не превышала 300 футов, зато он тянулся вдоль всего побережья бухты Ван-Димен. Недалеко от леса находился участок шириной шагов в 500, кое-где засаженный ямсом, а частью заросший травой. Посреди него было маленькое болотце, где водилось много водяных курочек. Дальше земля была разделена и огорожена. Обработанные участки пересекал узкий, шириной около 6 футов, проход, с обеих сторон обнесенный тростниковой изгородью. Здесь мы встретили большую группу индейцев, которые несли к берегу съестные припасы. Проходя мимо нас, они весьма вежливо наклоняли головы, произнося при этом какое-либо односложное слово, по смыслу, видимо, соответствующее таитянскому «тайо». Изгороди, плантации и постройки были здесь совершенно такими же, как на Эа-Уве, дома всюду обсажены благоуханным кустарником. Шелковичное дерево, из коры которого выделывают материю, и хлебное дерево встречались здесь реже, чем на островах Общества, а тамошняя яблоня здесь была вовсе неизвестна; зато у них имелись пампельмусы.
Возможно, эта страна так понравилась нам из-за весенней поры, когда растения украсились цветами и все ожило. Но не меньшую роль сыграло трудолюбие и добросердечие жителей. Истинное удовольствие было видеть, какой порядок царил в устройстве их участков, как они были обработаны, как тщательно изготовлены были их изделия. Во всем чувствовалась та степень разума и вкуса, которая присуща народу, достигшему счастья и процветания.
Одна из дорог между огороженными участками привела нас к небольшой дикой рощице. Возможно, ей не хватало искусной планировки, по отнюдь не природной прелести и красоты. На громадной казуарине, возвышавшейся посредине нее, сидело множество черных зверьков. Издали мы приняли их за ворон, но, подойдя поближе, увидели, что это летучие мыши. Они крепко уцепились за ветки коготками, расположенными на кончиках крыльев и на лапках; многие висели вниз головой, но не все. Мы сразу сбили шесть-восемь штук и выяснили, что они относятся к семейству вампиров (Rougette de Buffon, Vampirus Linn. et Pennantii). Размах крыльев у них был 3—4 фута. Некоторые, спугнутые выстрелом, медленно и тяжело поднялись с дерева и летали вокруг, издавая пронзительный писк, некоторые улетели подальше; но большинство не тронулись с места. Они вылетают за пищей лишь ночью и, должно быть, причиняют садам здешних жителей много вреда, поскольку питаются в основном, фруктами. Мы поняли это еще и потому, что туземцы, бывшие свидетелями нашего выстрела, очень обрадовались, увидев, какой урон мы нанесли их врагу. Они умеют ловить этих зверьков и живьем, причем сажают их в плетеные клетки с умело устроенным воронкообразным входом, напоминающие вершу для ловли рыбы, так что животное легко туда проникает, но выбраться не может. Нам сказали, что эти твари очень кусачие, у них большие острые зубы [327].
По опыту Таити, островов Общества и Эа-Уве мы уже знали, что там, где растет казуарина, обычно недалеко бывает и место погребения. Поэтому, увидев сие печальное дерево, которому придавали еще более мрачный вид черные летучие мыши, мы поняли, что поблизости должен быть погребальный холм. Так оно и оказалось. Скоро мы добрались до красивой лужайки, вокруг которой росли казуарины, панданусы, дикие саговые пальмы[328] и другие деревья. Вдоль одной ее стороны росли в ряд баррингтонии толщиной с большой дуб, вокруг на земле лежали красивые цветы этого дерева. На верхнем краю площадки мы увидели возвышение в 2—3 фута, выложенное внизу обтесанными коралловыми плитами. Чтобы удобно было подниматься, из того же камня были сделаны две ступени. Сверху холм порос зеленой травой, на нем стояла хижина, видом напоминавшая хижину мертвых на Эа-Уве. Она имела в длину около 20 футов, в ширину 15 и в высоту 10 футов, кровля из листьев банана опускалась почти до земли. Пол был посыпан мелким белым коралловым щебнем, а в углу на нем лежал слой черной гальки длиной футов 8 и высотой 12 дюймов. По словам индейца, который вошел в хижину вместе с нами, тогда как другие остались в некотором отдалении, здесь был похоронен мужчина. Рассказывая, он показал место на руке, где у него не хватало мизинца, и недвусмысленно объяснил, что такое увечье обычно наносят в связи со смертью мадуа (то есть родителей или, возможно, других родственников по восходящей линии). Правда, наш астроном господин Уолс встречал как-то человека, у которого на обеих руках оставались мизинцы, хотя, судя по его преклонному возрасту, родители его вряд ли еще были живы. Однако такой единичный случай не опровергает правила; всегда находятся одиночки, не желающие и на Тонгатабу исполнять того или иного обычая и пользующиеся терпимостью, которая господствует на островах Южного моря.
На этом месте погребения мы нашли также две вырезанные из дерева фигуры, напоминающие, как и э-ти на Таити, человеческие. Но, как и там, мы не увидели здесь признаков какого-либо уважения к ним или почитания. Они лежали на земле, иногда ногой их перекатывали из одного угла в другой. На местном языке такие места погребения называются фаетука. Их всегда устраивают в живописном месте на зеленом лугу, под красивыми тенистыми деревьями[329]. Святилище, о котором идет здесь речь, господин Ходжс зарисовал, и достоверное изображение его помещено в описании этого плавания, сделанном капитаном Куком.
Исследовав это место, мы двинулись дальше по дороге, которая, как и прежде, шла среди плантаций. Жители попадались лишь изредка, по большей части они спускались к месту торга, а когда мы встречали кого-нибудь по пути, те либо невозмутимо продолжали заниматься своей работой, либо скромно проходили мимо. Им не мешало и не вызывало неудовольствия то, что мы бродим по их земле; они даже не останавливались из любопытства, но дружелюбно приветствовали нас. Возле нескольких хижин мы пробовали позвать хозяев, но жилища оказались пустыми, однако во всех были постланы циновки и кругом высажен благоуханный кустарник. Иногда они были отгорожены от сада или плантаций еще одним забором с особой дверцей, как на Эа-Уве, которая изнутри могла запираться на засов. В таких случаях пахучий кустарник всегда высаживался внутри меньшей ограды.
Пройдя 3 мили, мы наконец увидели восточное побережье острова, где берег образует глубокий залив, названный Тасманом заливом Марии. Местность постепенно становилась все более низменной и наконец перешла в песчаный пляж; зато на северной стороне берег представлял собой отвесную коралловую скалу, в некоторых местах снизу подмытую и нависающую. Эта порода камня образуется не иначе как под водой; ясно, что в местах, где она встречается над водой, произошли какие-то перемены. Было ли это постепенное отступление моря или некий катаклизм, сказать не берусь. Если предположить, что имело место первое, то этот остров сравнительно недавнего происхождения, как о том свидетельствуют некоторые наблюдения шведских ученых над постепенным обмелением моря, и тогда трудно понять, когда успели здесь появиться почва, растительность, леса, каким образом он оказался так густо населен и так хорошо возделан[330].
Основание крутой скалы, которая навела нас на эти размышления, было усыпано множеством морских улиток. Чтобы их собрать, нам пришлось идти к рифу по колено в воде, поскольку уже начался прилив.
Скоро вода поднялась, и мы стали искать, где бы выйти на сушу. Но скала всюду была такая крутая, что нам едва удалось найти место, где можно было на нее взобраться.
На плантациях, мимо которых мы теперь возвращались, нам встретилось несколько туземцев, шедших с места торга. Мы приобрели у них но дороге рыболовные крючки, украшения, а также сети для ловли рыбы, сделанные наподобие наших донных неводов из тонких, но крепких волокон, напоминающих крученую нить. Мы получили от них также несколько плетеных циновок и кусок материи. Но самым любопытным из того, что мы у них приобрели, был доходящий до колен передник со звездообразными фигурами из волокон кокосового ореха, вроде упомянутых выше; эти звезды, каждая от 3 до 4 дюймов в поперечнике, соприкасались остриями и были украшены маленькими красными перышками и бусинками из раковин. По пути мы видели еще одно доказательство усердия, с каким они возделывают землю, а именно кучи тщательно выполотых сорняков.
Некоторое время спустя выяснилось, что мы заблудились. Тогда мы взяли в провожатые одного индейца, и он привел нас по вышеописанным полевым дорогам между двумя рядами изгородей к тому же месту погребения (фаетука), мимо которого мы уже проходили. Здесь мы увидели капитанов Кука и Фюрно, сидевших на траве среди индейцев. Они беседовали со стариком, у которого гноились глаза и который, видимо, пользовался особым уважением у своих земляков, поскольку его всюду сопровождала большая толпа. Он показал нашим спутникам две фаетуки. Повернувшись к строению лицом, этот человек произносил торжественную речь или молитву. При этом, как нам рассказывали, он часто обращался к капитану Куку, будто спрашивал о чем-то, затем на время замолкал, словно ожидая ответа, и, если капитан кивал головой, продолжал свою речь. Иногда он, казалось, что-то забывал, и тогда кто-либо из окружающих приходил ему на помощь. Судя по церемонии и месту, где она происходила, этот человек был священнослужитель. Отсюда, однако, не следует, что у них существовала религия наподобие идолопоклонства; насколько мы могли судить, у них не было и следа какого-либо особого поклонения определенным птицам или другим существам, как у таитян; казалось, они признают лишь невидимое высшее существо и ему поклоняются. Но осталось неясно, что побуждало этих людей, как и жителей Таити, справлять свои богослужения возле могил, поскольку обо всем, что касается религии, путешественник узнает меньше всего и позже всего, особенно когда он так мало сведущ в местном языке, как мы в данном случае. К тому же язык церкви зачастую весьма отличается от обычного, а сама религия окружена тайной, особенно в странах, где есть священнослужители, которым выгодно злоупотреблять легковерием народа [331].
Оттуда мы поскорей спустились к берегу, где усердно шла торговля фруктами, скотом и свиньями. Из числа диковин мы купили большой плоский щит, сделанный из одной круглой кости, вероятно принадлежавшей киту. Он был дюймов 18 в поперечнике, белый, как слоновая кость, и красиво отполированный. Кроме того, нам принесли новый музыкальный инструмент, представлявший собой девять-десять тростниковых трубочек длиной около 9 дюймов, связанных волокнами кокосового ореха. Трубочки не особенно отличались размерами, длинные и короткие чередовались без всякого порядка. Сверху в них имелись отверстия, куда надо было дуть, одновременно передвигая инструмент возле рта и извлекая таким образом звуки разного тона и длительности. Обычно тонов было четыре-пять и никогда не выходило полной октавы. Судя по игре, божественное искусство музыки было здесь еще в детском состоянии, но гораздо важнее музыкальных достоинств этого инструмента было для нас его явное сходство с древнегреческой свирелью, или флейтой пана. Пели здесь так же, как на Эа-Уве, и голоса отнюдь не лишены были благозвучия. Здешние женщины тоже прищелкивали пальцами во время пения, очень точно отмечая такт, но, поскольку напев ограничивался четырьмя тонами, особенных модуляций тут не было. Среди музыкальных инструментов была также дудка из бамбукового ствола, толщиной примерно с нашу флейту, в которую дули на таитянский манер ноздрями. Их обычно украшали разными выжженными узорами, и они имели четыре-пять отверстий, тогда как таитянские флейты — всего три. Украшения в виде выжженных узоров встречались нам и на мисках, и на другой деревянной утвари.
Был уже почти вечер, когда мы возвратились на борт со всеми своими находками и приобретениями, но корабль еще окружало множество туземцев. Одни были в каноэ, другие плавали в воде; стоял шум и гам. Среди плававших было немало женщин. Они резвились в воде словно амфибии и охотно соглашались подняться на борт в том наряде, в каком их создала природа. О стыдливости они заботились так же мало, как простые девушки на Таити и островах Общества; наши моряки, надо полагать, воспользовались благосклонностью этих красоток. Мы могли наблюдать сцены, достойные храма Киферы[332]. Рубахи, куска ткани или нескольких гвоздей порой бывало достаточно, чтобы уговорить этих девиц отдаться без всякого стыда. Но здесь это было в порядке вещей, и я уверен, что ни одна замужняя женщина не нарушила супружеской верности. Если бы мы достаточно разбирались в разнице между сословиями, то, вероятно, здесь, как и на Таити, мы увидели бы, что распутные женщины принадлежат лишь к самому низшему плебсу. Причем для обитателей южных островов характерна одна особенность: незамужняя женщина здесь вправе иметь сколько угодно любовников! Считают ли они, что девушки, которые дают волю природным влечениям, становятся лучшими женами, чем невинные и скромные? Думается, напрасно искать разумные основания, когда речь идет о людских причудах и особенно о другом поле. В разные времена и в разных странах люди придерживаются на сей счет самых несхожих мнений. В некоторых областях Индии ни один уважающий себя мужчина не женится на девственнице, в Европе, напротив, потерявшая девственность почти не вправе рассчитывать на уважение. Турки, татары, арабы распространяют свою ревность даже на воображаемые признаки девственности, тогда как для малабарца они значат так мало, что он жертвует ее своим идолам[333].
Ни одна из этих женщин не осталась на корабле после захода солнца, все вернулись на берег, чтобы вместе с большинством своих земляков расположиться под деревьями неподалеку от моря. Там они разожгли множество костров, и почти всю ночь были слышны их разговоры. Видимо, они были так заинтересованы в торговле с нами, что не хотели даже возвращаться к своим далеким жилищам. Наши товары у них высоко ценились. Курицу обычно отдавали за большой гвоздь, за мелкие гвозди мы получали только бананы, кокосовые орехи и т. п. Жители использовали изделия из железа для украшения; так, гвозди носили обычно на шнурке через шею или втыкали в ухо. Куры здесь были редкостной величины и отменного вкуса, с блестящим, как правило, оперением, переливавшимся из красного в золотой. Матросы охотно покупали всюду петухов, чтобы доставить себе варварское удовольствие посмотреть на их бои. Со времени нашего отплытия от Хуахейне [Хуахине] они каждый день мучили бедных птиц, подрезали им крылья и натравливали друг на друга. Петухи на Хуахейне дрались особенно хорошо, азартом многие не уступали лучшим английским бойцовым петухам. Со здешними так не получалось, и, поскольку они драться не желали, матросы решили их съесть.
На другое утро на борт поднялся знакомец капитана Кука Аттаха (или Аттага); он позавтракал вместе с нами. Одежда его состояла из циновок, одну из которых он накинул на плечи, так как утро было холодное. Господин Ходжс воспользовался случаем, чтобы нарисовать его, но, поскольку индейцам, как и всем нецивилизованным народам, недостает в какой-то мере внимания и сосредоточенности, то лишь с большим трудом удалось заставить его некоторое время посидеть спокойно. Тем не менее рисунок очень удался. Ходжс выбрал позу, когда Аттаха в знак благодарности поднял над головой подаренный ему гвоздь. Господин Шервин мастерски выгравировал этот рисунок на меди, и по мягким чертам лица этого мужчины можно составить верное представление о характере народа вообще.
После завтрака капитан и мой отец решили вместе с ним сойти на берег. Когда они поднялись на палубу, Аттахе попалась на глаза таитянская собака. Вид ее привел его в крайнее восхищение. Он обеими руками ударил себя в грудь, повернулся к капитану и раз двадцать, а то и более, воскликнул: «Гури!»[334].
Нас удивило, что ему известно название этого животного, которое в его стране не водится. Возможно, оно сохранилось в легендах о предках, некогда прибывших сюда с других островов или с материка, где они водились; возможно, когда-то и у них на острове были собаки, но по какой-то причине пропали; возможно, наконец, что они и сейчас поддерживают отношения со странами, где есть эти животные. Чтобы радость достойного Аттахи была полной, мы подарили ему двух собак, суку и кобеля, которых он в полном восторге взял с собой на берег.
Я же весь день оставался на борту, приводя в порядок коллекцию растений и птиц, собранную во время нашей первой высадки. Находок, если иметь в виду небольшие размеры острова, было очень много. Возле корабля постоянно держалось множество каноэ с туземцами, другие же, видимо не настолько богатые, чтобы иметь собственное каноэ, плавали от берега к кораблю и обратно.
Их каноэ по устройству весьма различны. У обычных, маленьких, в которых они привозили товары на продажу, очень острый киль. С носа и кормы они одинаково сильно заострены и при этом такие узкие, что волны часто переплескивали через борт; чтобы в таких случаях каноэ не наполнялось водой, корма и нос сверху покрывались или заколачивались досками. Чтобы каноэ не переворачивалось, у него обычно имелся легкий выносной поплавок или балансир (противовес), укрепленный на перекладине. Само каноэ делалось из нескольких планок твердого коричневого дерева, так искусно подогнанных одна к другой и сшитых кокосовым волокном, что совершенно не пропускали воду. Таитяне довольствовались тем, что просверливали отверстия непосредственно в планках и пропускали сквозь них кокосовые шнуры; однако именно поэтому их каноэ почти всегда протекали. На Тонгатабу же на внутренних кромках планок, у места стыка, делался выступ (закраина), и веревка пропускалась через него, а не через всю планку.
Вдоль наружного края узкого перекрытия на носу и на корме каноэ имелось семь-восемь круглых выпуклостей, видимо в подражание маленьким плавникам (pinnulae spuriae) на брюхе бонит, альбакор или макрелей. Я вообще полагаю, что островитяне при постройке своих лодок взяли за образец этих быстрых рыб. Хотя каноэ обычно имеют длину от 15 до 18 футов, они от носа до кормы отполированы, как лучшие наши столярные изделия. Это поистине достойно удивления, поскольку все здешние инструменты представляют собой лишь жалкие кусочки кораллов, а рубанок — просто шкура ската. Весла отполированы не хуже самих лодок и сделаны из той же породы дерева; у них короткие, в форме листа, широкие лопасти, как и у таитянских.
Другой вид каноэ предназначен для плавания под парусом, и люди, сведущие в морском деле и кораблестроении, должны были признать, что они прекрасно для этого приспособлены. Одно такое каноэ мы видели в заливе Марии. Оно состояло из двух меньших, плотно прикрепленных друг к другу. Планки были сшиты вышеописанным образом, но оба каноэ целиком покрыты палубой и, подобно боевым лодкам таитян, снабжены приподнятым помостом пли платформой. Некоторые из этих парусных лодок могут везти сто пятьдесят человек. Паруса треугольные, сделаны из крепкой циновки, в которую иногда вплетаются довольно бесформенные изображения черепахи или петуха. Более подробный рассказ о здешнем судостроении был бы скучен большинству читателей; такие подробности интересны лишь морякам, и потому я не буду в них углубляться. Во всяком случае, даже из того немногого, что я рассказал о конструкции этих парусных лодок, видно, что жители здешних островов более опытны и сведущи в мореплавании, нежели обитатели Таити и островов Общества[335].
Среди этих людей я заметил нескольких, у которых кончики волос оказались опаленными и припудренными. При более близком рассмотрении выяснилось, что эта пудра делается из растолченных в порошок раковин или кораллов и благодаря своим разъедающим свойствам как бы опаляет волосы. Пристрастие к пудре зашло здесь так далеко, что ей уже научились придавать разные оттенки, так что некоторые мужчины употребляют голубую, а другие — как мужчины, так и женщипы — оранжевую пудру из куркумы. Святой Иероним, обличавший некогда тщеславие своей эпохи, уже тогда упрекал римских дам в сходном обычае: nе irrufet crines et anticipiet sibi ignes gehennae[336]. Человеческая глупость всюду столь одинакова, что давно забытая мода былых обитателей Европы возрождается ныне у антиподов! И наши пошлые щеголи, которые тешат себя лишь тем, что придумывают новые моды, не вправе приписывать себе одним жалкую честь подобных изобретений. Им следовало бы разделить свою славу с нецивилизованными обитателями одного из островов Южного моря!
Вечером из далекого похода к самой южной оконечности острова вернулся мой отец. В полдень его застиг сильный дождь, вынудив искать укрытия в хижине на одной из плантаций. К счастью, хозяин оказался дома. Он дружески встретил отца и пригласил его сесть на чистые циновки, постеленные на полу. Сам же тем временем вышел, чтобы приготовить угощение, но очень скоро вернулся и принес несколько кокосовых орехов. Затем от открыл устроенную под землей печь и достал несколько бананов и рыб, завернутых в листья, совсем готовых и превосходных на вкус. Таким образом, здешний способ приготовления пищи схож с таитянским, да и островитянин был не менее гостеприимен. Если мы не столь часто имели возможность испытать здешнее гостеприимство, то лишь потому, что редко заставали коголибо дома, поскольку люди обычно уходили днем к морю, где шла торговля. Мой отец вознаградил хозяина за сердечный прием гвоздями и бусами; тот с обычным «фагафетаи» поднял подарок над головой и с благодарностью его принял. Он также проводил своего гостя до берега и сам вызвался поднести копья и палицы, которые тот купил по пути.
При всей безобидности этих добрых людей все же не обошлось без несчастных случаев, которые нередки при открытии чужих земель. Наши товары для здешних жителей были не менее ценными и желанными, чем для таитян. Поэтому не приходится удивляться, что и они при случае не прочь что-либо украсть. Однажды, когда оба капитана были на берегу, некий островитянин ухитрился стащить из нашей шлюпки куртку. Желая сохранить свою добычу, он сразу нырнул под воду, а выбравшись на берег, скрылся в самой гуще толпы своих земляков. Хотя капитан не дал команды, матросы открыли по нему огонь. Прогремело семь выстрелов, которыми, конечно, было ранено несколько совершенно неповинных людей. Народ, однако, даже к этому отнесся столь добродушно, что никто не убежал с берега, где шел торг; сии поспешные действия не вызвали у них никакой неприязни. Они спокойно слушали, как пули свистели мимо их ушей.
А через несколько часов в воровстве оказался замечен еще один островитянин, уже на борту корабля. Он проник в каюту штурмана и утащил несколько математических книг, шпагу, линейку и другие мелочи, совершенно ему ненужные. Это обнаружилось, когда он собирался уже удирать на каноэ. За ним тотчас послали шлюпку, чтобы вернуть украденное. Увидев, к чему идет дело, он побросал все за борт. Пришлось с другой шлюпки вылавливать вещи, в то время как первая продолжала преследовать вора. Чтобы он остановился, наши люди выстрелили из ружья по корме каноэ. Тогда он, а с ним и остальные попрыгали в воду, однако погоня не прекратилась. Некоторое время его спасало лишь удивительное проворство. То он подныривал под нашу шлюпку, то однажды даже выдернул руль; схватить его было невозможно. Наконец одному из матросов надоела эта игра, и он бросил в индейца лодочный багор. На беду, крюк угодил ему под ребра, и матросу уже не составило труда втащить беднягу в шлюпку, а потом и поднять на борт. Однако тот, улучив мгновение, вдруг опять прыгнул в море и, хотя потерял много крови, добрался до каноэ, которое поспешило с берега ему на помощь. Можно лишь удивляться, что сие варварское преследование и истязание бедного пройдохи не лишило нас ни доверия, ни благосклонности местных жителей! Спокойствие и мир, казалось, ничуть не были нарушены. Капитаны пригласили на корабль Аттагу и еще одного вождя, а торг продолжался как ни в чем не бывало.
Вождь, прибывший с Аттагой, видимо, был выше его рангом. Обычно тот садился с нами за стол, на сей же раз уселся на пол в нескольких шагах позади своего спутника, и его никак не удалось уговорить поесть в присутствии вождя, старика с гноящимися глазами, которому индейцы оказывали такое почтение, что наши матросы, по своим понятиям, предположили за ним но меньшей мере адмиральский ранг. Между тем по его одежде нельзя было сказать, что он принадлежит к более высокому сословию, чем другие островитяне. Очевидно, им вообще несвойственны расточительство и роскошь в одежде, что отнюдь не уменьшает их почтения к предводителям своего народа. На островах Общества дело обстоит наоборот.
Как ни велико было почтение, которое Аттага оказывал этому вождю, оно не шло ни в какое сравнение с тем, что мы увидели после обеда на берегу. Там, окруженный кольцом туземцев, сидел на земле человек средних лет. Наши товарищи, ходившие на охоту, рассказывали, что уже встречали его в заливе Марии и что все проходившие мимо жители падали перед ним на землю, целовали ему ноги и ставили их себе на голову. Расспросив разных людей, они узнали, что это верховный вождь всего острова, такой же правитель, как Куки (капитан Кук) на нашем корабле, а зовут его Ко-Хаги-Ту-Фалланго[337]. Имя это или титул, я сказать не могу, поскольку сам больше не слышал этих слов ни от кого из местных жителей. Сколько мы их ни спрашивали, они все говорили, что это ариги[338], то есть король, и добавляли, что зовут его Лату-Нипуру [Латунипулу][339]. Вероятно, «лату» означает титул; согласно сообщениям Схоутена и Ле-Мера, это же слово имеется и в языках, на которых говорят обитатели островов Кокосовый [Ниуатобутапу], Измены [Тафахи] и Хорн [Футуна], находящихся недалеко отсюда, всего в нескольких градусах к северу, и кои упомянутые мореплаватели посетили в 1616 году[340]. Это предположение тем более вероятно, что согласно словарям, составленным этими мореплавателями, тамошний язык во многом совпадает со здешним, как поведение и обычаи тамошних жителей, судя по описаниям, очень сходны с тем, что мы увидели здесь.
Как бы там ни было, нам надо было ближе познакомиться с этим Лату. Поэтому мы подошли к нему, капитаны преподнесли ему различные подарки, которые он принял угрюмо и равнодушно, что можно было счесть за признак совершенной бесчувственности и тупости. Среди других подарков была рубаха; чтобы он понял, для чего она, ее накинули на него, хотя при его тупой неподвижности это оказалось не так просто. Вероятно, он бы нас даже не поблагодарил, если бы какая-то старая женщина, сидевшая позади него, каждый раз не напоминала ему об этом. Только тогда он поднимал над головой одну вещь за другой, однако говорил при этом не больше, чем последний из его подданных: лишь «фагафетаи».
Здесь же, в кольце туземцев, сидел и жрец, который в первый день водил обоих капитанов к месту погребения. Он храбро пробовал опьяняющий перечный напиток[341]. Его подносили в маленьких четырехугольных кубках из искусно сложенных и переплетенных банановых листьев[342], и жрец распорядился, чтобы нам тоже дали этого драгоценного напитка. Нам очень вежливо поднесли немного, и мы попробовали его тоже из чистой вежливости. Он был молочно-белого цвета, отвратительный на вкус и вызывал на языке неприятное жжение. Жрец каждый вечер принимал такую обильную порцию сего ужасного зелья, что всегда был совершенно пьян. Неудивительно, что он забывал молитвы, совсем иссох, кожа у него была вялая, лицо морщинистое, а глаза красные, гноящиеся. Он пользовался большим уважением, несколько слуг все время наполняли ему кубки. Преподнесенные нами подарки он взял себе, тогда как Аттага и другие передавали все полученное вождю. Дочь жреца тоже получила от наших людей много подарков, так как была очень хорошо сложена и цветом кожи светлее других здешних женщин, которые относились к ней с заметным почтением. Более светлый цвет кожи и более мягкие черты лица — последствия праздного образа жизни, при котором не надо подвергать себя палящим лучам солнца и в избытке получаешь все самое лучшее и ценное, чем богата страна. Видимо, и религия здесь давала возможность роскошествовать и жить беззаботной жизнью; этот народ, подобно многим другим, тоже вынужден был содержать ленивых, сладострастных жрецов. Пока дело не доходило до крайности; но достаточно толчка, и ход событий может стать бурным. Послушание и покорность народа властям уже показывают, что, хотя здешнее правление и не назовешь совершенно деспотичным, оно далеко и от демократического.
Сказанное мною об этих двух островах можно отнести и ко всем лежащим отсюда к западу, поскольку достоверные описания их, данные Схоутеном, Ле-Мером и Тасманом, вполне согласуются с нашими собственными наблюдениями. Жители всех этих островов склонны к торговле и с давних пор привыкли дружелюбно и приветливо встречать чужеземцев, которые когда-либо приставали к их берегам. Это и побудило нас назвать острова, открытые Схоутеном и Тасманом, островами Дружбы. Я, правда, знаю, что лодки, посланные Схоутеном на острова Кокосовый, Измены, Надежды [Ниуафооу] и Хорн, были враждебно встречены туземцами, но все равно они достойны такого имени. Ведь, хотя голландцы и сурово отомстили за случившееся, особых последствий это не имело, а когда переполох на острове Хорн утих, мореплаватели все остальное время общались с островитянами вполне дружелюбно. Тасман, открывший двадцать семь лет спустя острова Тонгатабу и Анамокка [Номука] (или Амстердам и Роттердам), что лежат на 6° южнее, был встречен туземцами чрезвычайно мирно и дружественно, хотя это был первый европеец, которого они видели. Возможно, правда, такое их дружелюбие объяснялось лишь тем, что они слышали от своих соседей, жителей островов Кокосовый, Надежды и Хорн, как дорого те расплатились за враждебность к чужеземцам; но, возможно, миролюбие было присуще им от природы, и это скорее похоже на истину, нежели предположение, что они уже наслышаны о превосходстве европейцев и потому боялись их смертоносных ружей.
После Тасмана два из этих островов видел также капитан Уоллис во время кругосветного плавания в 1767 году; он назвал их островами Боскавен и Кеппел, что соответствует островам Кокосовый и Измены у Схоутена. Его люди почти не имели дела с туземцами, однако сочли нужным нагнать на них страху огнем из своих ружей. Господин Бугенвиль тоже видел некоторые из северо-восточных островов этого архипелага, и, судя по его описаниям, нравы тамошних жителей таковы, как у их соседей. Французский путешественник назвал это скопление островов архипелагом Мореплавателей, что вполне справедливо, ибо здесь побывали многие[343]. На острове же Амстердам со времен Тасмана не высаживался ни один европеец, и, хотя с тех пор прошло сто тридцать лет, в большинстве случаев его описание еще соответствовало тому, что мы видели. То есть нравы жителей, их одежда, образ жизни и характер за это время почти не изменились. Недостаточная осведомленность в их языке не позволила нам узнать, помнят ли они еще что-либо о пребывании здесь Тасмана. Однако мы нашли у них несколько железных гвоздей, оставшихся с тех пор. Один из них мы купили, он был совсем маленький и уже почти изъеден ржавчиной, но его заботливо хранили и вставили в деревянную ручку, чтобы использовать вместо сверла. Сейчас он хранится в Британском музее. Мы купили также несколько маленьких глиняных горшков, снаружи черных от сажи. Мы полагали, что они тоже были завезены сюда Тасманом, однако потом у нас появились основания думать, что их изготовили на острове.
Полностью совпадали с нашими и сообщения Схоутена, Тасмана и Бугенвиля о том, что местные жители весьма склонны к мелкому воровству и не менее искусны в нем. Тасман и капитан Уоллис также отметили обычай островитян отрубать себе мизинец, а Схоутен и Ле-Мер уверяли, что жители острова Хорн так же раболепны и подобострастны перед своим королем, как и жители Тонгатабу. Осознав превосходство европейцев, они рабски унижались перед голландцами; так, король бросился в ноги голландскому писарю, а некоторые вожди зашли еще дальше и в знак верноподданничества даже поставили ногу голландца себе на затылок. Из этого можно сделать вывод об их низости и трусости, но мы, со своей стороны, не замечали за ними ничего подобного; с нами они вели себя свободно и смело, как подобает людям прямым и честным. Они были вежливы, но не раболепны. Впрочем, мне в тот же день самому пришлось убедиться, что, как и в любом другом человеческом обществе, здесь не обошлось без исключений.
Доктор Спаррман и я удалились от берега, дабы в ближнем леске заняться своей любимой ботаникой, покуда наши товарищи дивились на Лату. Когда я подстрелил первую птицу, к нам подошли трое, и мы, как могли, завели с ними разговор. Между тем доктор Спаррман потерял штык от своего ружья и вернулся его поискать. Один из индейцев решил воспользоваться моментом: он ухватился за мое ружье и попытался вырвать из рук. Двое его приятелей убежали, как бы не желая принимать даже малейшего участия в этом подлом нападении. Покуда я возился с этим малым и звал на помощь своего товарища, мы оба запутались в кустах и упали. То ли дикарь почувствовал, что у него ничего не выйдет, то ли он испугался, что сейчас подоспеет доктор Спаррман — словом, он вырвался от меня и побежал прочь. А когда мой товарищ подоспел, опасность уже миновала. Хотя индеец действовал подло и предательски, мы вынуждены были признаться, что сами поступили крайне неосторожно, поскольку, разойдясь, дали ему повод испытать свою силу и ловкость.
Побродив еще немного и не найдя ничего, мы наконец вернулись на берег к месту торга, где еще застали почти всех. Многие сидели группами, вероятно разделившись на семьи, и вели оживленный разговор, касавшийся, видимо, нас и нашего корабля. Некоторые женщины пели, другие играли в мяч. Более всех привлекла наше внимание одна молодая рослая девушка. У нее были красивые, правильные черты лица, глаза сияли. Но особенно нам понравилась ее прическа. Вопреки здешним обычаям, волосы у нее не были коротко острижены, а свободно свисали длинными красивыми локонами. Эта прелестная девушка, такая живая и непринужденная во всем, играла пятью маленькими тыквами. Она подбрасывала вверх одну за другой и, пока одна была в воздухе, ловила другую и так далее. Мы добрых четверть часа наблюдали за этой игрой, и девушка ни разу ни одной не уронила.
Песни, которые пели другие женщины, мелодией напоминали слышанные нами на Эа-Уве. Они и тут вторили друг другу весьма гармонично, и иногда звучал общий хор. Я не видел, чтобы кто-либо из туземцев танцевал, но, что и им не чуждо это увеселение, можно было понять по знакам, которыми они пытались объяснить нам употребление передников, украшенных звездами. Как я уже упоминал выше, эти купленные нами передники были сплетены из кокосовых волокон и украшены перьями и ракушками. Судя по их знакам и позам, здесь умели давать танцевальные представления, подобные хиве на островах Общества. Это предположение кажется тем более обоснованным, что такие же танцы Схоутен и Ле-Мер наблюдали на острове Хорн. Обычаи и язык этих островитян, видимо, вообще очень схожи с таитянскими; почему же не могли быть сходны и танцы? Оба народа, вероятно, вели происхождение от общих предков; если и есть между ними различия, они объясняются лишь разницей в почве и в климате их стран. Так, на островах Общества много древесины, поскольку горы там покрыты обширными лесами. Напротив, на островах Дружбы древесина — редкость, ибо деревья здесь почти сплошь только фруктовые. Естественно, что на островах Общества дома велики и просторны, а здесь меньше и неудобнее. Там множество лодок, иногда очень больших, здесь и число их, и размеры гораздо меньшие. На островах Общества горы высоки, и, значит, возле них задерживаются испарения атмосферы; поэтому там так много ручьев, которые сбегают с гор в море, на благо местных жителей, имеющих не только достаточное количество здоровой питьевой воды, но и возможность часто купаться, что оберегает их от всех кожных болезней, порождаемых нечистотой. Иное дело, когда народ лишен такого преимущества и, подобно жителям Тонгатабу, вынужден обходиться гнилой и вонючей дождевой водой или даже илистыми лужами, а то и соленой водой. Чтобы во избежание болезней хоть как-то поддерживать чистоту тела, им приходится обращаться к другим средствам; они стригут волосы, выщипывают бороду и т. п., благодаря чему теряют внешнее сходство с таитянами. Но при недостатке хорошей воды таких искусственных способов поддержания чистоты оказывается недостаточно, чтобы уберечься, например, от проказы, которой наверняка благоприятствует еще и употребление «перечной воды». Для предупреждения и лечения этой болезни используется, вероятно, средство, вызывающее появление на скулах пятен, подобных ранам; эту метку здесь можно видеть почти у всех.
На равнинах островов Общества почва так жирна и плодородна, а множество ручьев снабжают ее такой обильной влагой, что большинство культур здесь произрастает без возделывания. Отсюда богатство и сибаритство местной знати. На Тонгатабу нет ничего подобного. Коралловая скала тут покрыта тонким слоем почвы, которая дает деревьям лишь скудное питание; причем самое полезное из них — хлебное дерево на острове почти не растет, ибо не имеет другой влаги, кроме дождевой. Поэтому обработка земли здесь требует гораздо больших трудов, чем на Таити. Люди старательнее ухаживают за участками, заботятся о регулярном их устройстве, и каждый обносит свой участок изгородью. Этим же объясняется, почему они больше ценят съестные припасы, нежели свою утварь, одежду, украшения или оружие (хотя изготовление всех этих вещей и требует от них подчас невероятного труда). Они просто видят, что продовольствие — их величайшее богатство, утрату которого трудно возместить. Сами они стройнее и мускулистее таитян, что тоже, конечно, объясняется необходимостью больше работать и напрягать тело. Потребность трудиться, обусловленная свойствами почвы, в конце концов превратилась в привычку, так что они научились не только употреблять свободное от земледелия время на изготовление всяческих инструментов и утвари, которое требует много сил, терпения и искусства, но и соединять работу с увеселениями и отдыхом. Благодаря трудолюбию они всегда что-нибудь придумывают и достигли в своих искусствах гораздо большего, чем таитяне.
«При этом они весьма веселого нрава и всегда выглядят довольными, поскольку все их потребности, должно быть не особенно и большие, вполне удовлетворяются. Женщины очень понятливы и пользуются любой возможностью, чтобы поболтать». Их довольству и жизнерадостности можно отчасти удивляться, поскольку политическое устройство на острове как будто отнюдь не благоприятствует свободе, являющейся источником счастья, но не обязательно путешествовать к Южному морю, чтобы наблюдать подобный феномен; разве не живет по соседству с нами нация под гнетом величайшего рабства, оставаясь в то же время одной из самых веселых и остроумных на земле? К тому же я полагаю, что на Тонгатабу всеобщее раболепие не мешает людям радоваться; ведь кроме некоторых знаков почитания король, кажется, не требует от них ничего, что ограничивало бы их собственные потребности, разоряло их или делало несчастными. Как бы там ни было, здешняя система правления и религия, несомненно, сходны с таитянской; насколько можно судить, у них общий источник, как была у этих народов общая родина. Небольшая разница в их нынешних обычаях и представлениях, очевидно, возникла лишь постепенно, когда судьбы обоих народов по каким-то причинам, отчасти, возможно, случайным, разошлись.
«Здесь, как и на Таити, правит король (арики), ему подчинены другие принцы или вожди, которым, очевидно, принадлежит земля в определенных округах. Народ покорен ими еще больше, чем таитяне своей знатью. Можно, вероятно, выделить и третье сословие, соответствующее манахуне на островах Общества; к нему относится Аттаха. Несомненно, вся земля здесь находится в частной собственности, недаром она так тщательно ухожена, что не остается не использованным ни клочка; такая земля не может быть общей, иначе бездельники оказались бы счастливее трудолюбивых. Я нередко видел, как на берег приходили шесть, восемь и даже десять человек, груженных фруктами и другим продовольствием; их сопровождали мужчина или женщина, которые наблюдали за торговлей; без их разрешения другие ничего не могли обменять на наши товары. Очевидно, эти люди, носильщики, составляют здесь, как таутау на Таити, низший класс людей, они являются слугами и работают на других».
Решающее доказательство родства обоих народов — сходство их языков. Большинство съестных припасов, одинаковых для обоих островов, части тела, короче, самые важные и распространенные понятия обозначаются одними и теми же словами и на островах Общества, и на островах Дружбы. Диалект жителей Тонгатабу звучал не так мягко и благозвучно, как таитянский, поскольку эти островитяне пользовались звуками «ф», «к» и «с», то есть употребляли больше согласных, нежели те. Зато возникавшая благодаря этому жесткость смягчалась частым употреблением и певучим произношением мягких согласных «л», «м», «н» и мелодичных гласных «э» и «и».
Однако пора вернуться к рассказу. Мы распрощались с нашими друзьями лишь на закате солнца и обещали прийти опять завтра утром. На обоих кораблях снова образовался хороший запас бананов, ямса и кокосовых орехов, кроме того, несмотря на небольшие размеры острова и краткость нашего пребывания здесь, мы получили в общей сложности от шестидесяти до восьмидесяти свиней и множество кур. Зато свежей воды нигде нельзя было достать, хотя ее искали и в восточной части острова. Посланный туда штурман[344], воспользовавшись случаем, нанес на карту бухту Марии и расположенные в ней низкие острова; точное совпадение его чертежа со старыми картами Тасмана еще раз показало, до какой степени можно полагаться на достоверность и точность данных этого мореплавателя. На одном из этих низких островов штурман обнаружил множество пятнистых водяных змей с плоскими хвостами. Этот вид у Линнея называется Linnaus coluber lati caudatus; они совершенно безобидны. По этому поводу я вообще должен заметить, что мы, натуралисты, тоже имели немало причин быть довольными пребыванием на острове; как ни был он мал, мы нашли здесь несколько новых растений, в том числе новый вид хинной коры, которая, надо полагать, найдет не меньшее применение, чем перуанская. Мы подстрелили также много неизвестных птиц, а некоторых купили живьем; это были новые разновидности попугаев и голубей. Жители, видно, были умелыми птицеловами и любили этих тварей, они часто носили с собой голубя на палочке. Возможно, птица служила знаком различия между сословиями, как это заметил Схоутен на острове Хорн: но этого мы установить не могли. Накануне наша шлюпка в последний раз совершила рейс от берега к кораблю, доставив много фруктов и овощей, а также готовую к употреблению свинью. Все это прислал капитану в подарок король Лату. Чтобы не оставить сию вежливость без ответа, мы на другое утро взяли рубаху, пилу, топор, медный котел и разные мелочи и вручили ему эти подарки неподалеку от берега, где он сидел на траве. Король принял их с той мрачной степенностью, к которой мы уже привыкли и которой он поступился единственный раз в разговоре с Аттахой, когда мы увидели его улыбающимся.
Среди собравшихся мы заметили одного мужчину, отрастившего, вопреки здешним обычаям, волосы и завязавшего их толстыми узлами. Они беспорядочно свисали вокруг головы. Этот мужчина, а также девушка, упомянутая выше, были единственными, кто не стригся коротко.
Вскоре мы вернулись на борт и сразу после завтрака подняли паруса, взяв курс на юг.
На следующее утро, 8 октября, был штиль. Мы поймали акулу длиной 8 футов — самую большую из всех, когда-либо виденных нами. После полудня показался небольшой остров, который Тасман назвал Пилстарт [Ата]. Это название было дано ему по породе птиц, привлекших внимание капитана. Судя по всему, то были тропические птицы, так как «пилстарт» значит «хвост-стрела», что указывает на наличие у них двух длинных выдающихся хвостовых перьев, из-за которых французы прозвали их paille en queue. Этот остров расположен по 22°26' южной широты и 17°59' западной долготы. Земля здесь не плоская, выделяются две возвышенности, из которых южная наиболее заметная.
К вечеру подул встречный юго-западный ветер. Он продолжался до 10-го и вынуждал нас все это время лавировать вблизи сего маленького острова. Но затем опять установился пассат, который понес нас вперед так быстро, что в два часа пополудни остров уже пропал из виду. Мы опять покидали тропические области этого океана и второй раз направлялись к Новой Зеландии, откуда вышли четыре месяца назад, дабы исследовать в зимнее время средние широты Южного моря. Теперь эта цель была выполнена: мы исследовали между тропиками участок более чем в 40° по долготе и тридцать один день провели частью на островах Общества, частью на островах Дружбы, что пошло весьма на пользу всей нашей команде. Теперь приближалось лето — самая удобная пора для исследования южной части этого океана, и пустынные скалы Новой Зеландии должны были стать нашим прибежищем на время, какое понадобилось бы, чтобы снять более легкий летний такелаж и заменить его более крепким, способным лучше противостоять бурям и всяческой непогоде этих суровых широт.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Плавание от островов Дружбы к Новой Зеландии.— Разлука с «Адвенчером».— Вторая стоянка в проливе Королевы Шарлотты
Едва мы покинули жаркие тропические широты, как появились большие стаи морских птиц; они легко парили над волнами, которые поднимал попутный ветер. 12 [октября] среди множества птиц, встречающихся лишь в умеренных широтах, мы увидели альбатроса; эти птицы никогда не забираются между тропиками, но вне их встречаются до самого полюса. Столь заботливо указала природа место обитания каждому животному!
Погода до утра 16-го оставалась хорошей и благоприятной, затем начался дождь. В нижних помещениях корабля у насосного ящика нашли собаку, купленную на Хуахейне [Хуахине]. Подобно многим другим, она не смогла привыкнуть к нашей пище и уже тридцать девять или сорок дней провела без всякой еды в этой дыре. Она исхудала до того, что превратилась в скелет, ноги были парализованы, а зад кровоточил. Печально было видеть это бедное животное, но по крайней мере наши люди убедились, что надо покупать лишь молодых собак этой породы; старые действительно не могли приспособиться к пище, что бы им ни предлагали.
Ночью мимо корабля проплывали всевозможные медузы. Они были видны благодаря своему фосфорическому свечению, такому яркому, что море казалось покрыто блистающими звездами, как небо. По мере приближения к берегам Новой Зеландии мы с каждым днем видели все больше водорослей, буревестников и альбатросов. 19-го море светилось, 20-го целые стаи ныряющих буревестников возвестили нам близость земли, а на следующее утро в 5 часов мы увидели вершину горы. Весь день мы плыли к берегу и в 4 часа пополудни оказались против Тейбл-Кемп и острова Портленд, соединенных между собой грядой рифов. Берег состоял из белых крутых скал; уже видны были хижины и укрепления местных жителей, построенные, подобно орлиным гнездам, на вершинах утесов. Довольно много туземцев бежало вдоль склона, чтобы посмотреть на нас. Некоторые расположились на южной оконечности мыса, но никто не собирался спустить в море каноэ, чтобы поплыть к нам. Мы прошли между подводными рифами и берегом, миновали бухту Хокс и всю ночь шли вдоль побережья.
Утром мы обогнули мыс Киднапперс и направились к мысу Блек-Хед. После завтрака от берега, который здесь представляет собой небольшую равнину между горами и морем, отошли два каноэ. Поскольку мы были уже недалеко от земли, они довольно скоро добрались до нас. В одном из них находился вождь, который не раздумывая поднялся на палубу. Он был высокого роста, средних лет, в хорошей одежде из здешнего льна. Волосы были причесаны по самой изысканной местной моде, то есть завязаны в пучок на затылке, смазаны маслом и украшены перьями. В мочке каждого уха у него было по кусочку кожи альбатроса, на которой оставался еще пух, а все лицо украшала татуировка в виде кривых и спиральных линий. Господин Ходжс нарисовал его портрет, отменно выгравированный на меди. Капитан подарил ему кусок красной ткани, немного огородных семян, пару свиней и три пары кур. Махеине, наш юный спутник с Бораборы [Бора-Боры], в отличие от Тупайи не сразу научился понимать язык новозеландцев; но, услышав, что здесь нет ни кокосовых пальм, ни ямса, он достал эти орехи и коренья из собственного запаса, чтобы сделать подарок дикарям. Когда же ему сказали, что в здешнем климате не могут расти кокосовые пальмы, он отдал им только ямс и предоставил нам самим объяснить новозеландцам пользу этих чужеземных кореньев. Мы постарались по крайней мере объяснить, что свиней и кур они получают для разведения, а коренья надо сажать. Это удалось не сразу; наконец вождь, кажется, понял, что мы ему хотели сказать, и в знак благодарности пожертвовал нам свой новый махипе, боевой топорик, украшенный искусной резьбой, а также перьями попугая и белой собачьей шерстью. Затем он опять поднялся на палубу, где капитан Кук подарил ему еще несколько больших гвоздей, которым вождь обрадовался больше, чем всему другому. Он заметил, что капитан достает их из отверстия в брашпиле[345], куда их случайно положил корабельный писарь. Тогда он повернул брашпиль и исследовал каждое отверстие, не спрятано ли там еще. Очевидно, что новозеландцы теперь вполне успели оценить пользу изделий из железа, хотя, когда капитан Кук в 1769 году побывал здесь впервые, они иногда вовсе не хотели их брать. На прощанье гости исполнили нам хиву, воинственный танец, состоявший из топанья ногами, грозного потрясения дубинками и копьями, страшных гримас, высовывания языка и дикого, воющего крика; впрочем, при этом соблюдался определенный ритм. Увидев, как они обращаются с курами, мы весьма усомнились, что наши добрые пожелания сбудутся и остров вскоре заполнится домашними животными; похоже было, что они и до берега-то добрались едва живые. Нам оставалось утешать себя тем, что мы, во всяком случае, сделали все, что могли.
К вечеру ветер усилился, приходилось постоянно лавировать, чтобы нас не отнесло далеко от берега. При этом лил такой дождь, что нигде на корабле нельзя было остаться сухим. То и дело внезапно налетавший порыв раздирал в клочья наши прогнившие паруса. Дуло со стороны заснеженных гор, и постепенно воздух так охладился, что на другое утро термометр показывал 50° [10°С]. Не ожидали мы такой встречи под 40° южной широты! Вскоре, однако, наступило затишье, столь же глубокое, сколь бурное и шумное было начало. Правда, оно не продержалось и нескольких часов, затем шторм разразился снова. Он бушевал всю ночь с силой не меньшей, чем накануне. Утром ветер опять ослаб настолько, что мы вновь могли взять курс к берегу, но с наступлением ночи разбушевался пуще прежнего. У матросов ни минуты не было спокойной.
Вечером 24-го мы наконец увидели перед собой вход в пролив Кука у мыса Паллисер, но в темноте не рискнули войти в него, а утром не успели это сделать, так как опять поднялась буря. К 9 часам она так разбушевалась, что нам пришлось убрать все паруса, кроме одного, и лечь в дрейф. Несмотря на то что мы держались довольно близко к берегу и были, казалось бы, защищены высокими горами, волны вздымались громаднейшие; разбиваясь, они превращались ветром в водяную пыль. Эта пыль покрывала всю поверхность моря, и при безоблачном небе, в ярком, ясном свете солнца бурлящее море ослепительно сияло. Наконец ветер так рассвирепел, что разорвал единственный парус, который мы еще рискнули оставить. Теперь мы окончательно стали игрушкою волн, они швыряли нас во все стороны, часто с ужасающей силой разбивались о палубу и разносили вдребезги все на своем пути. От постоянной нагрузки и качки сильно пострадал такелаж; веревки, которыми были закреплены ящики и сундуки, ослабли и наконец порвались, все оказалось разбросано. Один раз, когда корабль наклонился особенно сильно, сорвался оружейный ящик, закрепленный в кормовой части палубы, он ударился о боковой бортик, у которого как раз находился один из наших юных спутников по имени Гуд[346]. У того даже не оставалось времени наклониться, да это его не спасло бы, не угоди ящик о бортик углом, так что осталось пространство, в котором господин Гуд счастливо сумел оказаться невредимым.
Но как ни бушевала стихия, птиц это не испугало. Черный буревестник продолжал летать над кипящей вспененной поверхностью моря, весьма искусно прячась от ветра за высокими волнами. Вид океана был одновременно величествен и ужасен. То с вершины громадной, тяжелой волны мы видели бескрайнюю морскую поверхность, изборожденную множеством глубоких складок, то низвергающаяся волна увлекала нас круто в страшную бездну, а ветер уже гнал на нас новую водяную гору с пенящимся гребнем, грозившую накрыть корабль. Приближение ночи умножило страхи, особенно у тех, кто с юных лет не привык к морской жизни. В каюте капитана были вынуты окна и вместо них вставлены дощатые задвижки, чтобы туда не могли ворваться волны. Это новшество заставило выбраться на белый свет скорпиона, скрывавшегося за оконной рамой. Должно быть, он попал к нам на борт во время стоянки на одном из последних островов вместе с плодами и овощами. Наш друг Махеине заверил нас, что это животное безобидное, но один его зловещий вид вызывал трепет. В других каютах совершенно промокли постели, но все равно жуткий рев волн, скрип деревянных частей судна, сама качка не дали бы нам сомкнуть глаз. В дополнение ко всем страхам нам приходилось выслушивать ужасную ругань и проклятия наших матросов, которые порой перекрывали шум ветра и волн. От младых ногтей привычные ко всяческим опасностям, они и теперь перед лицом угрозы не отказались от самого кощунственного богохульства. Без всякой причины и извиняющего повода они поминали проклятием каждую часть тела в таких разнообразных и заковыристых выражениях, что описать это нет никакой возможности. Сравнить ужасающую мощь этих проклятий я мог бы разве что с проклятиями Эрнульфа, опозорившего христианство[347]. Ветер бушевал по-прежнему, как вдруг в 2 часа утра сразу прекратился, и наступил полный штиль. Вот тут-то волны принялись за корабль по-настоящему! Они с такой силой качали его и швыряли, что не только средние переборки, но даже кормовая часть палубы иногда оказывалась в воде.
Через час подул наконец свежий попутный ветер, с помощью которого мы в течение всего дня продвигались к берегу, ибо шторм отнес нас далеко в море. Вокруг нас снова стаями кружились буревестники, и мы проплыли мимо альбатроса, который крепко спал в открытом море — так сильно утомил его отбушевавший шторм.
На другой день у входа в пролив Кука дело обернулось ничуть не лучше, чем накануне: опять ветер дул навстречу, и, прежде чем наступила ночь, он перешел в настоящий шторм, который продолжался, не ослабевая, оба следующих дня. Рано утром 29-го вахтенный офицер увидел несколько небольших смерчей, а вскоре после этого пошел дождь и подул попутный ветер. Вечером мы потеряли из виду «Адвенчер» и больше не видели его в течение всего плавания. Встречный ветер, который подул на следующее утро, окончательно разнес нас в разные стороны, так как «Адвенчер» находился гораздо дальше от берега, чем мы, и, следовательно, буря обрушилась на него с гораздо большей силой.
Нет надобности, да и скучно рассказывать, как еще долго встречный ветер сменялся попутным. Достаточно сказать, что нас швыряло в море девять долгих, тяжких ночей, не давая сомкнуть глаз, и мы почти потеряли всякую надежду когда-нибудь вообще приблизиться к этому побережью. Наконец 1 ноября мы вошли в пролив Кука. Ветер, правда, все время оставался неустойчивым; когда мы уже приближались к мысу Теравити на Северном острове, он опять стал дуть навстречу; однако 2-го нам удалось войти в бухту, которую мы обнаружили как раз восточнее этого мыса. Берег там состоял из одних лишь зловещих, бесплодных гор, очень высоких и безлесных; они выступали в море длинными, острыми скалами, напоминавшими колонны. Сама бухта тянулась далеко вглубь между горами; поэтому мы предположили, что мыс Теравити расположен на острове, отделенном от Эахеино-Мауве [Те-Ики-а-Мауи, или Северный остров].
Эта голая, пустынная местность, однако, была обитаемой; не прошло и получаса с тех пор, как мы бросили якорь, а к нам уже подплыло несколько каноэ. Индейцы были одеты весьма бедно, в старые, ободранные плащи, или так называемые боги-боги. Дым, который постоянно стоит в их низких маленьких хижинах, и грязь, что с юных лет собирается на их коже, придали ей ужасный желто-коричневый цвет, так что трудно было даже сказать, какая она на самом деле. Всю зиму, которая как раз была на исходе, они, должно быть, питались одной полупротухшей рыбой, и от этой отвратительной пищи, равно как от прогорклого масла, коим они смазывают себе волосы, так невыносимо воняло, что их можно было почуять издалека. Они принесли на продажу кое-какие рыболовные снасти и сушеные крабьи хвосты, а взамен очень жадно брали наши железные изделия и таитянские материи. Капитан Кук подарил им пару кур, объяснив, что их нужно держать для развода, однако трудно предположить, что эти жалкие дикари способны разводить животных. Как только у них не останется еды, они наверняка не раздумывая употребят наших бедных кур в пищу. Разве что в каком-нибудь из самых северных заливов домашние животные могут рассчитывать на уход, поскольку там жители более цивилизованы, во всяком случае они знакомы с сельским хозяйством и выращивают разные съедобные овощи.
В 3 часа пополудни наступил полный штиль, а вскоре затем поднялся южный ветер, и море стало неспокойным. Тогда мы подняли якорь и покинули бухту. Счастье, что мы там не задержались, ибо в течение нескольких минут разыгрался такой шторм, что корабль с невероятной быстротой понесло вперед. Нам удалось, однако, невредимо пройти мимо опасных скал, которые называются Братья, где бушевал страшный прибой. Наконец к вечеру мы стали на якорь у мыса Коа-Мару в проливе Королевы Шарлотты [пролив Кука].
На другой день пополудни мы благополучно вошли в бухту Шип-Коув [Меретото], откуда отплыли около пяти месяцев назад. Ввиду раннего времени года я не ожидал, что мы найдем , тут столько полезной для здоровья свежей растительности, как в первый раз; зато мы надеялись встретиться с «Адвенчером», поскольку капитан Кук собирался пробыть здесь некоторое время.
Едва мы стали на якорь, как к нам явились индейцы, возвращавшиеся с рыбной ловли, и предложили продать нам свой улов. Среди них было несколько наших прежних знакомых. Они явно обрадовались, когда мы назвали их по именам. То, что мы так хорошо их помнили, вероятно, заставляло их думать, что мы заботились о их благополучии. Погода была прекрасная, а для этого времени года ее даже можно было назвать теплой; тем не менее новозеландцы были в зимних одеждах. Мы расспросили их о других наших знакомых и получили разные известия. В частности, они рассказали нам, что Губая, один из их старых вождей, устроил охоту на двух коз, которых мы оставили в лесу близ бухты Грас-Коув, и, убив, съел их. Это известие было в высшей степени неприятным, ибо не оставляло никакой надежды когда-нибудь заселить эту страну четвероногими животными.
После полудня мы посетили посадки, которые оставили на берегу Шип-Коув, на скале Хиппа и на Моту-Аро. Репа и почти все коренья проросли, капуста и желтая морковь были вполне хороши, петрушка и чеснок не хуже, зато горох и бобы, видимо, пострадали от крыс, и от них не осталось следа. Картофель тоже почти весь исчез, похоже, его выкопали сами туземцы. Хорошее состояние огородных растений доказывало, что зима в этой части Новой Зеландии должна быть очень мягкой, ведь все упомянутые растения у нас зимы не выдерживают; значит, сильных морозов здесь не бывает. Местные растения еще задержались, лиственные деревья и кусты едва начали распускаться, их более светлая зелень очень красиво сочеталась с более темным цветом вечнозеленых деревьев.
Лен, из коего туземцы делают пряжу, уже стоял, однако, в цвету, как и множество других ранних растений. Мы собрали, что могли, запаслись большим количеством сельдерея и ложечницы, подстрелили несколько водяных курочек и вечером вернулись с этой добычей на корабль. Все новые для естествознания находки были тотчас зарисованы и описаны, прежде всего лен (Phormium tenax), ибо это растение может быть использовано в хозяйстве и потому заслуживает более внимательного изучения. А так как мы прежде всего заботились о пользе ближнего, то по желанию графа Сандвича охотно предоставили свои рисунки этого растения для гравировки.
На другое утро к нам явилось больше индейцев и в более многочисленных каноэ, чем накануне. Среди них был и вождь Теирату, которого мы уже знали; это он во время нашего прошлого приезда приветствовал нас длинной речью. Теперь он был одет довольно плохо и выглядел, если можно так выразиться, en deshabillé[348]. Вместо опушенной собачьей шкурой клетчатой циновки, которую он носил прежде, на нем была совсем обыденная одежда, а волосы, непричесанные и неумащенные, просто завязаны в косичку. Казалось, сей оратор и вождь опустился до уровня простого рыбака. Мы даже не сразу узнали его в этом наряде, но, узнав, оказали ему все подобающие почести. Его пригласили в каюту и преподнесли гвозди. Железные изделия и таитянская материя, которую мы везли с собой, показались ему такими ценными, что он и его спутники решили разбить поблизости лагерь, чтобы сподручнее было вести торг, а может, чтобы иметь возможность раздобыть кое-что другим путем.
Корабль стоял близко от берега, неподалеку от места, где мы собирались наполнять водой бочки. С этой целью там были установлены одна палатка для водоносов, другая для дровосеков, а также обсерватория для астрономов. До полудня и после полудня мы совершили небольшие прогулки. Приходилось все время пробираться через лабиринт лиан, переползавших с дерева на дерево. Обычно вместе с нами на берег выходил Махеине (О-Хедиди); он бродил по этим непроходимым лесам, дивясь разнообразию птиц, их чудесному пению и роскошному оперению. В одном из наших огородов, где цвели редиска и репа, было особенно много маленьких птиц, которые сосали нектар с цветов и часто отрывали их от стеблей. Мы убили нескольких, и Махеине, который за всю свою жизнь не держал в руках ружья, подстрелил одну птицу с первого выстрела. К числу преимуществ полуцивилизованных народов относится и то, что чувства их острее наших, притуплённых и испорченных множеством обстоятельств, прежде всего нашим так называемым утонченным образом жизни. Махеине служит тому примером. На Таити нам нередко показывали маленьких птиц в густолиственных деревьях, а уток или водяных курочек — в самом густом тростнике, где никто из нас ничего не мог увидеть.
Приятная теплая погода так благоприятствовала нашим зоологическим исследованиям, что с первой же вылазки мы принесли на борт массу птиц. На другое утро, прежде чем мы собрались опять на берег, от наших людей, устроивших там лагерь, поступила жалоба, что ночью индейцы украли из палаток водоносов плащ и мешок с бельем. Бухта, где остановились дикари, была отделена от места, где мы брали воду, лишь небольшим холмом. Поэтому капитан без промедления отправился к ним и сказал о краже их предводителю Теирату. Тот сразу послал за украденными вещами и без возражений вернул их, заверив, однако, что сам ничего об этом не знал и тем более не имел к этому никакого отношения. Наши люди удовольствовались таким объяснением; индейцы им были нужны, и они не хотели портить с ними отношений. Дело в том, что за небольшие куски таитянской материи туземцы ежедневно снабжали нас свежей рыбой, которую сами мы не могли бы наловить так легко и в таком количестве.
В тот раз удалось обнаружить также одну из свиней, оставленных капитаном Фюрно в бухте Каннибал-Коув. Когда Теирату спросили, где две другие, он показал на разные места, дав понять, что их растащили. Разделив между собой животных как добычу, эти грубые люди воспрепятствовали тем самым их дальнейшему размножению. Заботясь только о сегодняшнем дне, удовлетворяя лишь самые насущные потребности, они пренебрегали средством, которое могло бы дать им постоянное пропитание и сделать их более счастливыми!
6-го после полудня из разных мест залива прибыло много других индейцев с рыбой, одеждой, оружием и т. п. Все это они обменивали на таитянские материи. Вечером они расположились против корабля в бухте, вытащили на берег свои каноэ, соорудили хижины, развели костер и приготовили себе на ужин рыбу. На другое утро все они отбыли, даже те, кто был в Шип-Коув. Мы не могли понять, почему они так внезапно сорвались с места. Но вскоре выяснилось, что они утащили у водоносов шесть небольших бочек, вероятно ради железных обручей. Им, конечно, незачем было прибегать к воровству; ведь, если бы они снабжали нас рыбой еще один-единственный день, все получили бы раза в три-четыре больше полезных изделий из железа. Однако читатель уже не раз имел возможность заметить, что задумываться над чем-либо было не в обычае у этих новозеландцев; они всегда предпочитали то, что наверняка шло в руки. Бочки были не такой уж большой утратой; куда чувствительнее для нас был их уход, ибо теперь нам приходилось ловить рыбу самим, а мы не знали ее повадок так хорошо, как туземцы, да и людей для этого не хватало. Матросы по горло были заняты починкой, конопачением корабля, установкой нового такелажа; словом, они приводили судно в порядок, делая все, что требовалось для трудного плавания к Южному полюсу. Часть их оставалась на берегу, чтобы наполнять водой бочки, рубить дрова и перебирать корабельные сухари, которые были в весьма плачевном состоянии. Дело в том, что при отбытии из Англии их поместили в новые, как говорят, зеленые, бочки, в результате чего они отсырели и заплесневели, а частью совсем сгнили. Чтобы порча не зашла дальше, весь хлеб вынесли на берег; съедобное было тщательно отделено от несъедобного, заново просушено и прокалено в печи.
Погода все это время по большей части оставалась такой же бурной и неустойчивой, как и в пору, когда мы приближались к здешним берегам. Редко выдавался день без шквалистого ветра и ливней; с гор неслись разбушевавшиеся потоки, нередко мешая нашим людям работать; было холодно и хмуро. Растения поэтому развивались медленно, а птицы встречались лишь в долинах, где у них была защита от холодного южного ветра. Видимо, такая погода господствует здесь всю зиму и значительную часть лета, причем зимой тут ненамного холоднее, а летом ненамного теплее. Вообще мне представляется, что на островах, удаленных от больших материков, во всяком случае от холодных земель, постоянно держится довольно ровная температура воздуха. Причиной тому главным образом море. Из наблюдений за погодой, проводившихся в Порт-Этмонте на Фолклендских островах, известно, что самые крайние показатели жары и холода за целый год различаются там не более чем на 30° по Фаренгейту. Эта гавань расположена под 51°25' южной широты, а бухта Шип-Коув в проливе Королевы Шарлотты — всего лишь под 40°5' южной широты. Хотя при такой существенной разнице в широте климат в Новой Зеландии должен бы быть мягче, чем на Фолклендских островах, на самом деле это не так, и если моя гипотеза о температуре воздуха на островах верна, то это относится ко всем широтам. Разница между климатом Новой Зеландии и Фолклендских островов не должна быть особенно велика еще и потому, что в Новой Зеландии очень высокие горы и часть их круглый год покрыта снегом, что, как известно, охлаждает воздух. Так что меня не удивило бы, если бы здесь было столь же холодно, как на Фолклендских островах, которые, хотя и расположены на 10° ближе к полюсу, имеют гораздо более ровный и низменный рельеф.
Суровая погода не помешала, однако, туземцам плавать по этому обширному проливу. 9-го, через три дня после того, как они покинули нас, к нам опять приблизилась группа из трех каноэ. Корма одного из них была искусно украшена выпуклой и сквозной резьбой. Они продали нам кое-какие диковинки, а затем расположились на берегу, против корабля. На другой день к ним присоединились еще два каноэ; в них находился наш друг Товаханга со своей семьей. На правах старого знакомого он не преминул навестить нас и привел с собой на борт сына Коаа и дочь Копарри. Мы купили у него несколько зеленых нефритов, отшлифованных в виде топоров и долот, а затем провели в каюту к капитану Куку, где он получил в подарок разные вещи, а его сын — рубаху. Когда на мальчика надели новый наряд, он был просто вне себя от радости и не мог усидеть в каюте. Ему хотелось скорее показаться своим землякам на палубе. Мы решили не мучить его и отпустили делать, что хочет.
Увы, это небольшое тщеславие обошлось ему дорого. На палубе облюбовал себе место один старый козел — к большому неудовольствию новозеландцев, которые боялись его. Должно быть, козла разозлила потешная фигура бедняги Коаа; в своей длинной рубашке, тот все еще не мог опомниться и напоказ слонялся туда-сюда, чрезвычайно довольный собой. Разъярясь, козел загородил ему дорогу, встал на задние ноги, примерился и изо всей силы боднул бедного малого, повалив его наземь. Онемев от ужаса, а может, боясь повредить свой новый наряд, Коаа не решался даже вскочить на ноги, чтобы убежать; он только заорал благим матом. Это еще больше разозлило его бородатого неприятеля, и он еще раз так наподдал ему, что наш рыцарь печального образа замолк бы навеки, не подоспей на помощь наши матросы. Мальчику помогли подняться на ноги, однако его рубаха, лицо и руки были испачканы. В таком жалком виде он с плачем вернулся в каюту, наказанный за свое тщеславие, и пожаловался отцу на свою беду. Однако тот не только не проявил сочувствие к бедному проказнику, но напротив, рассердился и в наказание за глупость надавал ему еще несколько изрядных тумаков. Мы их разняли и восстановили мир. Рубашку очистили, а самого малого так умыли, как он, наверное, не бывал еще умыт за всю свою жизнь. Наконец, все было в порядке, однако отец во избежание новой беды тщательно свернул рубашку, снял свою собственную одежду, связал то и другое в узел и уложил в него все подарки, которые мы дали ему и сыну.
Этот и следующий дни были дождливыми. Туземцы продолжали продавать нам диковинки и рыбу. 12-го утром прояснело, и я вместе с доктором Спаррманом и своим отцом отправился в бухту Индиан-Коув. Не встретив ни одного туземца, мы пошли вверх по тропинке, и она через лес повела нас по довольно высокому и крутому склону горы, разделяющей бухты Индиан-Коув и Шэг-Коув. Видимо, эта тропинка была проложена сюда лишь ради папоротника, который в изобилии растет на вершине и корни которого употребляются новозеландцами в пищу. Внизу, где тропа поднималась особенно круто, были сделаны настоящие ступени, выложенные сланцем; дальше нам пришлось прокладывать себе путь через переплетение лиан. Южный склон от подножия до вершины порос лесом, другие склоны были покрыты лесом только до половины, а дальше до самой вершины росли кустарник и папоротник, хотя с корабля вся верхняя часть казалась голой и пустынной. На этой высоте здесь можно было встретить растения, которые в бухте Даски росли лишь в долинах и на побережье; отсюда можно заключить, насколько там более суровый климат. Вся гора до самой вершины была сложена из глинистой породы, которая здесь встречается повсюду; затвердевая, она превращается с помощью дождя и ветра в сланцевые пластины. Эта порода мягкая, сероватая, иногда окрашенная частицами железа в желто-красный цвет.
С вершины открывался широкий красивый вид. У наших ног лежала восточная бухта, похожая на маленький рыбный садок; виден был даже мыс Теравити по ту сторону пролива. К югу простиралась местность суровая и дикая; всюду, куда достигал взор, видны были только покрытые снегом горы. Чтобы оставить свидетельство своего здесь пребывания, мы развели костер и сожгли часть кустарника.
На другое утро мы отправились к острову Лонг-Айленд, где было много новых для нас растений и птиц. С востока доносились крики буревестников, устроивших гнезда в подземных пещерах; звук этот напоминал то ли кваканье лягушек, то ли куриное кудахтанье. Вероятно, это были так называемые ныряющие буревестники. Похоже, что все буревестники гнездятся под землей, во всяком случае в бухте Даски мы встречали в таких подземных пещерах голубых и серебристых буревестников.
С 13-го стояла мягкая, хорошая погода. Индейцы, устроившие свои хижины напротив корабля, в изобилии снабжали нас рыбой, а наши моряки продолжали любезничать со здешними женщинами, хотя лишь у единственной из них были сносные и мало-мальски приятные черты лица. Родители этой девушки по-настоящему отдали ее в жены одному из наших юных спутников, который снискал здесь всеобщую любовь. Дело в том, что он особенно много общался с местными жителями и при всякой возможности проявлял расположение к ним. Дикари не оставили это без внимания. Тогири, так звали девушку, была верна и предана своему мужу, словно он был новозеландцем. Она отвергала притязания других моряков, говоря, что замужем (тирра-тане). Но как ни нравилась она англичанину, на борт он ее с собой никогда не брал. И то сказать, для многочисленного общества, ползавшего по ее одежде и волосам, там было бы тесновато. Так что он навещал ее лишь днем, на берегу, а в подарок обычно приносил ей выброшенные гнилые сухари, которые она и ее земляки всегда съедали с превеликим удовольствием, словно лакомство.
Наш спутник индеец Махеине с Бораборы так привык у себя на родине слушаться зова природы, что не задумываясь подчинялся ему и в Новой Зеландии. Он, разумеется, видел, что здешние женщины ни красотой, ни воспитанием не могли равняться с женщинами его родины, однако сила инстинкта заставила умолкнуть его щепетильность. Стоит ли сему удивляться, если и цивилизованные европейцы поступали ничуть не лучше? Тем более безупречным можно назвать его поведение и отношение к новозеландцам. Махеине хорошо видел, что им приходится гораздо хуже, чем жителям тропических островов, и всегда от души об этом печалился. Серьезность своих чувств он при всякой возможности доказывал делом. Например, раздал туземцам, которые пришли к нам на мыс Блек-Кейп, свой запас ямса, а когда капитан отправлялся в путь, чтобы посеять или посадить что-нибудь, всегда вызывался помогать ему. Хотя он недостаточно понимал здешний язык, чтобы разговаривать с туземцами так же бегло, как, по рассказам, Тупайя, все же вскоре научился понимать их лучше, чем кто-либо другой на корабле. Конечно, тут ему помогло сходство с родным языком. Пробыв некоторое время на тропических островах, мы сами гораздо лучше стали понимать новозеландский диалект, имевший очень много общего с языком островов Дружбы [Тонга], откуда мы только что прибыли. Эти мелочи достойны упоминания потому, что могут прояснить вопрос, откуда пришло население Новой Зеландии, расположенной так далеко к югу.
До вечера 14-го погода оставалась хорошей, и капитан с моим отцом решили отправиться к обсерватории на берегу, чтобы, наблюдать выход из тени спутника Юпитера. По результатам многих измерений, произведенных в разное время нашим точным и неутомимым астрономом господином Уолсом, пролив Королевы Шарлотты расположен под 174°25' восточной долготы от Гринвича.
На другое утро мы сопровождали капитана в Ист-Бей, где в разных местах жило несколько индейских семей. Все они приняли нас весьма дружелюбно, подарили нам рыбу — лучшее, что могли предложить, и продали нам в обмен на железные изделия и таитянскую материю несколько больших рыболовных сетей, подобные которым уже были описаны нашими предшественниками. Затем мы поднялись на гору в глубине бухты, где капитан Кук побывал и во время своего первого плавания; с ее вершины мы хотели осмотреть море в надежде увидеть «Адвенчер». Но когда мы поднялись туда, над водой стоял такой туман, что видно было едва ли больше, чем на две-три мили.
Поставленный здесь когда-то капитаном Куком монумент в виде кучи набросанных камней, под которой были погребены монеты, пули и тому подобные вещи, лежал теперь совершенно разрушенный. Вероятно, дикари надеялись найти здесь клад европейских товаров. У подножия горы нам встретилось несколько индейцев. Мы приобрели у них оружие, домашнюю утварь и одежду. Примечательно, что именно на этом месте капитану когда-то уже встретились люди.
После полудня мы пытались рыбачить только что купленными сетями. Попытка оказалась довольно удачной. Эти сети были сделаны из листьев льна, о котором я уже не раз упоминал, расщепленных или разорванных, а затем засушенных и отбитых. Лен при этом получается необычайно крепкий, и, как ни малосведущи новозеландцы в его обработке, он глянцевит и очень мягок. Мы потом в Англии переработали и выделали должным образом некоторое количество такого льна, и он получился глянцевитым, как шелк. Растет он на любой почве, не требует, по существу, никакой обработки и ухода и, будучи растением многолетним, переносит зиму, так что каждый год его можно срезать до самых корней.
Почти все утро 17-го мы занимались тем, что рубили деревья, с которых хотели получить цветы. Но все труды оказались напрасными, ибо, когда мы срубали ствол, дерево отнюдь не падало, а продолжало держаться на весу, удерживаемое тысячью лиан, которые оплетали его сверху донизу; верхушкой же оно опиралось на другие деревья.
Три следующих дня шел такой сильный дождь, что мы вынуждены были оставаться на борту; за все это время мы не видели также ни одного дикаря.
Утром 21-го к судну подошли два каноэ с женщинами. Из их объяснений мы поняли, что мужчины выступили в поход против врагов. Они казались очень этим озабочены. Судя по их знакам, враги обитали где-то в бухте Адмиралти.
22-го было тепло и ясно. Мы отправились с капитаном в Уэст-Бей, чтобы там в самом глухом и удаленном уголке леса оставить двух свиней с кабаном, а также трех петухов и двух кур. Местность здесь болотистая, жители сюда, похоже, не заглядывали, поэтому мы надеялись, что животные смогут беспрепятственно размножаться, тем паче что мы все проделали незаметно. Лишь у входа в залив нам встретилось одно-единственное каноэ с индейцами, но они наверняка не догадались, зачем мы направляемся сюда. Так что, если удастся заселить Южный остров Новой Зеландии свиньями и курами, то лишь благодаря предусмотрительности, с какой сии немногочисленные домашние животные были так тщательно здесь спрятаны.
Когда мы вернулись на корабль, с севера пришли семь или восемь каноэ. Некоторые из них, не обращая никакого внимания на нас, направились прямо в бухту Индиан-Коув. Другие подошли к нашему борту. Они привезли на продажу много одежды и оружия. Эти индейцы были украшены наряднее тех, кого мы до сих пор видели в проливе Королевы Шарлотты. Они очень красиво подвязывали волосы, а щеки раскрашивали красной краской. Увы, все это лишь подтверждало известие, полученное нами накануне от женщин, о том, что дикари обычно наряжаются в лучшие свои одежды, когда выступают против врага. Боюсь, мы сами были повинны в новой вспышке пагубных раздоров. Нашим людям было мало каменных топоров, патту-патту[349], боевых палиц, одежды, зеленых камней, рыболовных снастей и т. п., которые они во множестве приобретали у знакомых индейцев; они требовали от них все больше и, показывая целые свертки таитянских материй, соблазняли бедняг приносить им еще оружие и домашнюю утварь. Вероятно, такие искушения подействовали на новозеландцев, и они попробовали раздобыть недостающее самым простым и быстрым путем, а именно ограбив соседей. Большой запас оружия, одежды и украшений, которые они привезли для обмена, заставлял думать, что сие им удалось и вряд ли дело обошлось без кровопролития.
Утром мы увидели, как дикари у источника завтракают только что приготовленными кореньями. Господин Уайтхауз, один из старших унтер-офицеров, принес немного этого блюда на корабль, и оно оказалось на вкус едва ли не лучше нашей репы. Тогда мой отец отправился на берег, купил у индейцев несколько таких кореньев и уговорил двух индейцев показать ему и господину Уайтхаузу растение с этим корнем в лесу. Вполне полагаясь на своих двух проводников, они пошли с ними совершенно без оружия. Вскоре индейцы показали им разновидность папоротника, которая здесь называется мамагу, и сказали, что съедобный корень берется от него. Они объяснили им также различие между мамагу и понга; совершенно другим деревом, очень на него похожим, но с несъедобным корнем. Оба относятся к семейству папоротниковых. У мамагу внутренняя часть, или сердцевина, ствола представляет собой мягкую, рыхлую массу, которая при надрезе выделяет красноватый клейкий сок, очень похожий на сок саго. В сущности, и настоящее саговое дерево есть не что иное, как разновидность папоротников. Не следует, однако, путать съедобный корень мамагу с корнем обычного папоротника (Acrostichum furcatum Linn.), который новозеландцы постоянно употребляют в пищу; тот не вкусен, не питателен и напоминает древесину. Туземцы некоторое время пекут его над огнем, затем отбивают или разминают между двумя камнями или кусками дерева, чтобы выдавить из размятой массы немного соку. Оставшиеся сухие волокна выбрасываются. Корни мамагу гораздо съедобнее; к сожалению, они не так часто встречаются, чтобы служить повседневной пищей.
На обратном пути из леса мой отец имел случай убедиться, сколь грубы нравы этих дикарей. Мальчик лет шести-семи потребовал у матери кусок жареного пингвиньего мяса, который она держала в руках. Когда она не сразу исполнила его желание, он схватил большой камень и бросил в нее. Она подбежала к нему, чтобы наказать за такую невоспитанность, но тут к ней подскочил мужчина, швырнул ее наземь и стал немилосердно избивать. Наши люди, жившие в лагере у источника, рассказывали моему отцу, что не раз бывали свидетелями подобной жестокости; они также видели, как даже дети поднимали руку на своих несчастных матерей и избивали их в присутствии отца, который следил будто только за тем, не станет ли она защищаться или сопротивляться. Впрочем, почти все дикие народы, признающие лишь право сильного, обычно относятся к женщинам как к рабыням, которые изготовляют для мужчин одежду, строят хижины, варят и подают еду, а в ответ за свою услужливость получают только побои. Но в Новой Зеландии эта тирания, кажется, зашла, особенно далеко. Мужчины с детства там приучаются самым настоящим образом презирать своих матерей, что противно всем принципам нравственности.
Не буду, однако, распространяться об этом варварстве, дабы довести до конца рассказ о событиях этого дня, давших нам немало пищи для размышления о новозеландских порядках. После полудня капитан вместе с господином Уолсом и моим отцом решили переправиться в Моту-Аро, чтобы осмотреть огород и набрать растений для корабля. Несколько лейтенантов тем временем отправились в бухту Индиан-Коув для торговли с туземцами. Первое, что бросилось им там в глаза, были человеческие внутренности, сваленные в кучу у самой воды. Едва они пришли в себя от этого зрелища, как индейцы показали им различные части самого тела и объяснили с помощью знаков и слов, что остальное они съели. Среди этих оставшихся частей была голова; насколько можно было судить по ней, убитый был юноша лет пятнадцати-шестнадцати. Нижней челюсти не было, а череп над глазом был проломлен, вероятно, с помощью патту-патту. Наши люди спросили новозеландцев, откуда взялось это тело. Те ответили, что они встретились с врагами и нескольких убили, однако сумели унести лишь труп этого юноши. Они также добавили, что и с их стороны погибло несколько человек, и показали при этом на сидевших в стороне вдов, которые громко стенали о погибших и царапали себе лицо острыми камнями.
Таким образом, наши предположения о распрях между индейцами теперь наглядно подтвердились; не было оснований усомниться и в том, что именно мы послужили тому причиной. У нас не осталось также никаких сомнений, что новозеландцев можно считать самыми настоящими людоедами. Господин Пикерсгилл пожелал купить голову, чтобы взять ее с собой в Англию в память об этом путешествии. Он предложил за нее гвоздь и за эту цену легко ее приобрел[350].
Вернувшись на корабль, он выставил ее для обозрения наверху, на перилах палубы. Пока мы стояли вокруг и разглядывали ее, несколько новозеландцев подошли к нам от источника. Увидев голову, они знаками дали понять, что хотели бы поесть мяса и что оно очень вкусно. Всю голову господин Пикерсгилл отдать не захотел, но предложил отделить кусок щеки. Они, казалось, были этому рады. Он в самом деле отрезал кусок и дал им, но они не стали есть мясо сырым, а сначала решили его тут же, при нас приготовить; немного поджарили над огнем, после чего с большим аппетитом съели.
Вскоре вернулся на борт капитан со своими спутниками. Они тоже пожелали посмотреть на такую необычную вещь, и новозеландцы повторили эксперимент в присутствии всей команды. Зрелище это имело на всех присутствовавших странное и очень разное воздействие. Некоторые при всем отвращении к людоедству, привитом воспитанием, казалось, сами были едва ли не прочь откусить кусочек; им казалось весьма удачной шуткой назвать новозеландские войны охотой за людьми. Другие, напротив, так негодовали на людоедов, что вопреки здравому смыслу готовы были перестрелять всех новозеландцев, словно они имели право распоряжаться жизнью народа, чьи действия не подлежали даже их суду. На некоторых же сие зрелище подействовало как рвотное. Остальные довольствовались тем, что объявили это варварство позором для человеческой природы и сетовали на то, что самое благородное из божьих созданий может так уподобиться зверю!
Наибольшую чувствительность проявил Махеине, юноша с островов Общества. У него, рожденного и воспитанного в стране, жители которой уже порвали с варварством и вступили в общественные отношения[351], эта сцена вызвала крайнее отвращение. Он не выдержал ужасного зрелища и убежал в каюту, дабы отвести душу. Мы нашли его в слезах, кои свидетельствовали о его неподдельном волнении. На наш вопрос он ответил, что плакал о несчастных родителях бедного юноши! Такой образ мыслей делал честь его сердцу, ибо доказывал способность живо и глубоко сочувствовать ближнему. Все это так болезненно ранило его, что прошел не один час, прежде чем он смог успокоиться; и долго еще не мог говорить о случившемся без содрогания.
Философы, изучавшие человечество из своего кабинета, самонадеянно утверждали, что, несмотря на сведения древних и новых авторов, людоедов никогда не существовало. Даже среди наших спутников было несколько человек, которые до сих пор сомневались в этом, не желая верить единодушным свидетельствам столь многих людей. Между тем капитан Кук еще во время своего прошлого плавания с достаточным основанием предположил, что новозеландцы — людоеды. Теперь, когда мы видели все своими глазами, в этом не было ни малейшего сомнения. Взгляды ученых на происхождение этого обычая расходятся, о чем можно судить по работе каноника Паува Ксантена (Pauw zu Xanten) «Recherches philosophiques sur les Americains». Сам он, видимо, полагает, что когда-то люди могли поедать друг друга из-за голода и крайней нужды. Однако против этого выдвигаются серьезные возражения, и самое существенное из них: на земле едва ли найдутся уголки, совершенно неспособные обеспечить пропитание своим обитателям; причем как раз те страны, где поныне существует людоедство, меньше всего можно считать самыми бедными. На северном острове Новой Зеландии, протяженность береговой линии которого около 400 морских миль, живут, судя по всему, не более 100 тысяч человек, что для столь обширной земли цифра ничтожная, даже если считать, что заселено лишь побережье, а не внутренние области[352]. Но будь их даже гораздо больше, они способны обеспечить себя пищей благодаря изобилию рыбы, а также развитию земледелия в бухте Пленти и других местах; об этом свидетельствуют и путешественники. Правда, до того как они овладели искусством плести сети и сажать картофель [батат], их съестные припасы были более скудными и доставались им с большим трудом[353]; но тогда и жителей было, конечно, гораздо меньше. При всем том я отнюдь не отрицаю, что в некоторых случаях человек действительно мог съесть другого от голода, однако примеры тому известны лишь единичные, а отдельные примеры никак не могут служить доказательством обычая людоедства вообще. Они доказывают только, что иногда голод и нужда могут довести человека до крайности. В 1772 году, когда в Германии был неурожай и многие провинции страдали от голода, в Бойненбургской области, на границе Тюрингии, был заключен в тюрьму и, если не ошибаюсь, казнен один пастух, который из-за голода убил молодого парня и съел; потом он в течение нескольких месяцев убил с той же целью еще нескольких человек уже просто потому, что еда пришлась ему но вкусу. При допросе он сказал, что особенно ему нравится мясо молодых людей, и то же можно было заключить по мимике и жестам новозеландцев. Одна старуха из провинции Мато Гроссо в Бразилии призналась тогдашнему португальскому губернатору Пинто, ныне послу Португалии в Лондоне, что она не раз ела человеческое мясо и оно ей очень нравится, особенно мясо маленьких мальчиков, и что она охотно ела бы его и дальше. Но разве не было бы глупостью заключить из этих примеров, что немцы, бразильцы и вообще любая другая нация имеют обычай убивать людей и наслаждаться их мясом? Нет, обычаем этого назвать нельзя. Так что следует искать другие объяснения. Известно, что самые важные события на Земле нередко порождаются ничтожнейшими причинами; так, незначительная свара иногда может перерасти в крайнее ожесточение. Известно также, насколько сильна бывает жажда мести у диких народов; эта сильная страсть зачастую вырождается в безумие, и тогда возможны самые неслыханные жестокости. Кто знает, не пожирали ли первые людоеды головы своих врагов из чистой ярости, чтобы ничего от них не осталось? Если же они вдобавок обнаруживали, что такое мясо здорово и вкусно, то постепенно могли возвести это в обычай и всякий раз съедать убитых. Ибо, хотя есть человеческое мясо и противно нашему воспитанию, само по себе это не является неестественным и наказуемым. Это преследуется лишь потому, что может привести к забвению столь необходимых для общества человеколюбия и сострадания. А поскольку без сих свойств не может существовать никакое человеческое общество, то для всех народов первым шагом к культуре является отказ от людоедства и стремление вызвать отвращение к нему[354]. Мы сами отнюдь не каннибалы, но тем не менее не видим ничего неестественного или ужасного в том, что затеваем сражения и сворачиваем шеи тысячам людей просто ради того, чтобы удовлетворить тщеславие князя или каприз его любовницы. И разве не предрассудок испытывать отвращение к мясу убитого, когда мы не стыдимся лишать его жизни? Конечно, можно сказать, что людоедство делает человека жестоким и бесчувственным. Увы, достаточно примеров свидетельствует о том, что представители цивилизованных наций, хотя бы некоторые из наших матросов, не вынося и мысли о поедании человеческого мяса, в то же время способны на варварство, неслыханное даже среди каннибалов! Что такое новозеландец, который, убив на войне своего врага, съедает его, в сравнении с европейцем, который просто для развлечения способен оторвать от материнской груди младенца и хладнокровно бросить своим собакам?[355]
Neque hic lipis mos пес fuit leonibus, Nunquam nisi in dispar feris. Horat.[356]Новозеландцы съедают своих врагов исключительно после того, как убыот их в ярости и пылу сражения. Они не берут пленных, чтобы откармливать их, а потом убивать, тем паче не забирают их родственников для того, чтобы съесть (как это, видимо, было принято у некоторых диких народов в Америке), и, уж конечно, не едят тех, кто умер естественной смертью. Так что не исключено, что со временем этот обычай у них совершенно исчезнет. Возможно, ввоз домашнего скота ускорит наступление этой счастливой поры, поскольку изобилие, даруемое скотоводством и земледелием, теснее сближает народы и способствует дружбе между ними.
Такой надежде не противоречат и религиозные соображения; насколько можно было заметить, новозеландцы не особенно суеверны, а обычай приносить человеческие жертвы встречается лишь среди очень суеверных народов. Тупайя единственный, кто мог свободно беседовать с новозеландцами, очень скоро выяснил, что они признают некое высшее существо, а это у всех народов Земли можно считать как бы искрой божественного откровения. Насколько он понял, новозеландцы почитают некоторые низшие божества, настолько схожие с таитянскими, что, видимо, систему этого многобожия следует считать очень древней и свидетельствующей о происхождении обоих народов от общих предков. Мы не наблюдали в Новой Зеландии никаких церемоний, имеющих отношение к религии, и мне известны лишь два обстоятельства, которые, возможно, свидетельствуют об отдаленном подобии суеверий. Первое — это то, что птицу Certhia cincinnata, разновидность пищухи, иногда называют этуи, то есть «птица-божество»[357], что, по-видимому, свидетельствует о ее почитании, подобном тому, какое таитяне и другие обитатели островов Общества оказывают цаплям и зимородкам. Но, кажется, это почитание не заходит так далеко, как у них; во всяком случае, мы не заметили, чтобы они заботились о сохранении жизни этих птиц больше, чем каких-либо других. Второе обстоятельство: амулет из зеленого камня [нефрита] величиной примерно с талер и немного напоминающий человеческую фигуру; его носят на груди, повесив на шнуре через шею. Они называют его этиги, что, несомненно, соответствует таитянскому эти[358]. На Таити и соседних островах эти означает деревянное изображение человека, предназначенное для поминовения мертвых, но отнюдь не для богослужебных целей. По-видимому, для этого носится и новозеландское тиги; ценится оно во всех отношениях не выше. Правда, за какую-нибудь мелочь местные жители его не отдавали, но за поларшина ткани уступали не задумываясь; из всех наших меновых товаров ткань была для них особенно ценной и привлекательной. Кроме этих фигурок они иногда носили на шее нанизанные на шнур человеческие зубы; но это украшение не связано было ни с каким суеверием, а являлось просто свидетельством храбрости, ибо это были зубы убитых в сражении врагов. Ни священнослужителей, ни колдунов у них, насколько мы могли заметить, не было, поэтому не приходится удивляться, что они так мало суеверны. Но если они когда-нибудь достигнут большего благосостояния, не исключено, что среди них найдется достаточно хитрецов, которые ради своей выгоды пожелают выйти за пределы природных религиозных представлений. История являет нам немало примеров, когда религия, самый святой и бесценный дар небес, используется для прикрытия обмана [359].
Наконец корабль был приведен в полную готовность и мог противостоять суровой погоде южных широт. Мы также в достатке обеспечили себя свежим запасом питьевой воды и топливом. Поэтому палатки были возвращены на борт, а утром 24-го сделаны последние приготовления к отплытию. Увидев, что мы покинули наш лагерь на берегу, индейцы тотчас появились там и с жадностью набросились на выкинутые корабельные сухари, которых не хотели есть уже даже наши свиньи. Что могло в них прельстить дикарей, не могу сказать. Во всяком случае, не голод, ведь у них было достаточно свежей рыбы, которой они все дни в изобилии могли обеспечивать не только себя, но и нас. Значит, дело было в особенностях их вкуса, либо в потребности разнообразия; эта испорченная еда нравилась им только потому, что была для них в новинку. Вообще они интересовались, видимо, не только сухарями, но и всякими мелочами, которые наши люди потеряли здесь или выбросили. Пока они усердно искали на берегу гвозди, старые тряпки и тому подобные драгоценности, пришли из отдаленных мест залива другие и принесли для продажи оружие и утварь.
После полудня были посланы в шлюпке люди, чтобы закопать под деревом письмо капитану Фюрно, ежели он еще прибудет сюда после нашего отплытия[360]. Мой отец с несколькими офицерами отправились на другой шлюпке в бухту Индиан-Коув, где на земле еще лежали человеческие внутренности. Там же было и каноэ, на котором дикари совершили свою военную экспедицию. В его передней части, украшенной резьбой и пучками коричневых перьев, торчали четырехзубые вилы, на которые было насажено сердце убитого юноши. На сей раз наши люди приобрели партию обработанного льна, или пряжи, и несколько рыболовных крючков с остриями, сделанными, по словам индейцев, из человеческих костей, а именно из трубчатой кости предплечья.
На другое утро в 4 часа была послана шлюпка на Моту-Аро, чтобы привезти из нашего огорода немного капусты. Мой отец отправился с ней, чтобы еще раз обследовать побережье. Его труды оказались не напрасными, и он нашел несколько новых растений. Тем временем мы уже подняли якорь и пошли под парусами, а шлюпку захватили по пути. Но поскольку ветер и течение были встречными, нам пришлось в 7 часов опять бросить якорь между Моту-Аро и Лонг-Айлендом. Там мы провели несколько часов, затем ветер стал более благоприятным и скоро вывел нас в пролив Кука.
Там мы остановились вблизи мыса Теравити и стали время от времени стрелять из пушек, чтобы дать о себе знать «Адвенчеру», если он находился поблизости. Между мысами Теравити и Паллисер мы обнаружили залив, который, видимо, вдавался глубоко в сушу. Его берега были всюду плоские, из чего мы заключили, что в окрестностях имеются обширные равнины, особенно в самой глубине, где почти не видно было горных вершин — так далеко они находились. Если этот залив достаточно глубок для больших кораблей, в чем не приходилось сомневаться, то сие место можно считать весьма удобным для основания колонии, ибо здесь был большой участок пригодной для возделывания земли, лес, а возможно, и судоходная река; кроме того, его расположение делало его удобным для обороны. Судя по всему, эта местность была не слишком обитаема, так что не предвиделось особых столкновений с туземцами. Редко в других местах Новой Зеландии столь счастливо сочетаются все достоинства. Лен, из которого туземцы делают свои одежды, циновки, веревки и сети, столь глянцевит, эластичен и прочен, что одним этим товаром новая колония могла бы вести значительную торговлю с Индией, где велик спрос на канаты и парусину. Возможно, европейцам, если они когда-нибудь потеряют свои американские колонии, следует подумать о новых поселениях в более отдаленных местах. Только бы не остыл в них дух былых первооткрывателей, только бы они видели в обитателях Южного моря своих собратьев и доказали бы современникам; что можно основать колонию, не запятнав ее кровью невинных народов!
Мы продолжали стрелять из пушек и на другой стороне залива, но все попытки найти нашего спутника оказались тщетными. Никто на сигналы не отозвался, хотя мы слушали внимательно и с надеждой. Нетрудно понять, как нам не хотелось в одиночестве идти навстречу бесчисленным опасностям второго похода на юг.
На другое утро мы достигли выхода из пролива, обогнули мыс Паллисер и пошли к северу от берега, все еще не оставляя надежды встретить где-нибудь «Адвенчер». Убедившись, что нам больше нечего ждать, мы в 6 часов вечера попрощались с Новой Зеландией и взяли курс на зюйд-зюйд-ост.
Во время нашего первого плавания на юг от мыса Доброй Надежды у наших людей проявлялись признаки цинги. В бухте Даски благодаря здоровому питанию, а также употреблению росткового пива мы от этой болезни благополучно избавились. Правда, затем, во время нелегкого зимнего плавания от Новой Зеландии к Таити, у некоторых опять появились ее симптомы, иногда опасные. Однако зелень, которой мы запаслись на Таити, и превосходная свинина, которую мы в таком изобилии имели на островах Общества и Дружбы [Тонга], очень скоро вылечили больных. Сейчас, в проливе Королевы Шарлотты, употребление сельдерея и ложечницы, несомненно, помогло нам избежать неприятных последствий употребления солонины, и, вторично покидая Новую Зеландию, мы чувствовали себя вполне здоровыми.
При всем том у нас — и теперь, возможно, больше, чем когда-либо прежде,— были причины опасаться возобновления цинги, ибо мы уже довольно долго терпели тяготы морской жизни, что, конечно, ослабило наши организмы и нашу способность сопротивляться грядущим трудностям. На сей раз, отправляясь к Южному полюсу, и офицеры, и пассажиры ясно представляли себе эти трудности, о коих прежде не знали. Наш запас живого скота был совершенно ничтожен по сравнению с тем, что мы когда-то увозили с мыса Доброй Надежды; следовательно, почти не оставалось разницы между нашим столом и едой обычных матросов. Матросам было даже лучше, они с юных лет не привыкли ни к какой другой пище, кроме как к корабельной, тогда как офицеры и пассажиры ее и не пробовали.
Добавим к этому, что мы уже не надеялись открыть новые земли, темы для дружеских разговоров были исчерпаны, плавание к югу не сулило уже ничего нового, кроме разнообразных опасностей и страхов, тем более угнетавших, что теперь приходилось плыть без спутников. Да, недолго довелось нам блаженствовать между тропиками, где мы могли питаться всем, что только производили тамошние острова, и наслаждаться разнообразием впечатлений. Теперь впереди надолго не предвиделось ничего, кроме тумана, холодов, поста и скучного однообразия!
Аббат Шани, или, вернее, издатель описания его плавания в Калифорнию Кассини, замечает, что вообще лишь разнообразие влечет путешественника и что ради него он устремляется из страны в страну. Вместе с тем сей возвышенный философ заявляет, что «морская жизнь скучна и однообразна лишь для тех, кто не привык смотреть вокруг себя, а взирает на природу равнодушно». Но если бы добрый господин аббат имел несчастье попасть за антарктический круг без сотни-другой живых каплунов при себе, коими он, должно быть, неплохо питался на пути из Кадиса в Вера-Крус, возможно, его философия оказалась бы менее высокопарной. Сие подозрение весьма подтверждается тем, что он не нашел даже в Мексике того разнообразия, какое якобы так часто даровало ему море. Между тем он пересек обширные необжитые пространства с дикими лесами и девственной природой. Он, правда, признает, что природа Мексики богата и красива, однако за несколько дней ее прелести ему приелись и стали безразличны. И нас еще уверяют, что этот человек был одновременно астрономом, ботаником, зоологом, минералогом, химиком и философом![361]
Мы, со своей стороны, были далеки от возвышенной философии французского аббата, когда покидали Новую Зеландию. Если что-то могло смягчить наш печальный взгляд на будущее, так это надежда, что плавание вокруг Южного полюса в высоких, еще неизведанных широтах по крайней мере продлится не дольше, чем предстоящее лето, и что месяцев через восемь мы возвратимся в Англию. Эта надежда поддерживала дух команды даже в самую плохую погоду. Разумеется, в конце концов оказалось, что она была не более чем сладкой мечтой, и мы могли утешаться лишь тем, что провели в дальнейшем еще несколько месяцев на счастливых теплых островах.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Второе плавание в южных широтах от Новой Зеландии к острову Пасхи
Наутро после нашего отбытия из Новой Зеландии подул норд-норд-вест, и температура поднялась до 64° [17,7°С]. Два следующих дня термометр показывал 48° [8,8°С], а когда мы находились примерно под 49° южной широты, он опустился до 44 1/2° [4,7°С]. 28 ноября мы видели много тюленей, или, вернее, морских львов; они плыли на некотором расстоянии от корабля и, по-видимому, держали путь к берегам той земли, которую мы только что покинули. Начиная с этого дня и до 6 декабря мы видели большие стаи голубых и прочих буревестников, разных альбатросов, серых чаек, множество пингвинов, а также много водорослей. 6-го в 7 часов вечера мы находились под 51°33' южной широты и под 180° долготы, то есть как раз в точке антиподов по отношению к Лондону. Кто еще способен был ощутить отеческую или детскую любовь при воспоминании о друзьях и родных, в сердце того не могло не пробудиться тоски по дому! Мы были первыми европейцами (и я вправе также добавить: первыми людьми вообще), достигшими этой точки, куда, возможно, после нас не заберется больше никто. Правда, в Англии любят рассказывать, будто бы сэр Фрэнсис Дрейк достиг в другом полушарии места, соответствующего в нашем полушарии точке, где «находится средний свод старого лондонского моста». Но это заблуждение, поскольку он плавал лишь у берегов Америки; легенда связана, должно быть, с тем, что он близ Калифорнии прошел под 180° долготы и под названным градусом северной широты.
Чем дальше мы продвигались к югу, тем ниже падала температура. Утром 10-го при встречном ветре она опустилась до 37° [2,8°С]. К полудню мы достигли 59° южной широты и еще не видели льдов, тогда как год назад (10 декабря) они показались уже между 50° и 51°. Причину такой разницы установить трудно. Возможно, прошлая зима была холоднее нынешней и поэтому в море было больше льдов; во всяком случае, на мысе Доброй Надежды нам говорили, что зима была более суровой, чем обычно. А возможно, сильная буря разломила лед вокруг Южного полюса и занесла отдельные льдины далеко к северу, где мы их и встретили. Похоже, подействовали обе эти причины.
Ночью 11-го холод усилился. Термометр показывал 34 градуса [1,1°С], а на другое утро в 4 часа появился большой остров плавучего льда, мимо которого мы прошли спустя несколько часов. Хотя он был пока единственный, вероятно, поблизости имелись еще, так как вдруг настолько похолодало, что спустя всего несколько часов, а именно в 8 утра, термометр упал уже до 31 1/2° [—0,3°С]. В полдень мы находились под 61°46' южной широты. На другое утро температура опять поднялась на полградуса, и мы при свежем ветре поплыли на восток, невзирая на густую метель, когда впереди подчас не видно было ничего на десять шагов.
Наш друг Махеине еще раньше весьма удивлялся снегу и граду, которые на его родине совершенно неизвестны. «Белые камешки», таявшие на его ладони, представлялись ему чудом, и, хотя мы сразу постарались объяснить ему, что они возникли благодаря холоду, мне все же кажется, что он это уразумел весьма смутно. Теперь густая метель изумила его еще сильнее. Понаблюдав за снежинками довольно долго, он наконец сказал, что, когда вернется на Таити, назовет, это «белым дождем». Первой льдины, мимо которой мы проплыли, Махеине не видел, поскольку дело было ранним утром, покуда он еще спал. Тем более он изумился, когда спустя два дня, примерно под 65° южной широты, увидел громадный ледяной остров. На другой день мы натолкнулись на крупное ледяное поле, которое положило конец нашему продвижению на юг, но ему доставило большую радость, так как он решил, что это земля. Мы объяснили ему, что это не земля, а затверделая пресная вода, но не могли его убедить, пока не подвели к открытой бочке, стоявшей на палубе, и не показали ему наглядно, как вода постепенно покрывается льдом. Как бы там ни было, он остался при мнении, что это все-таки можно назвать «белой землей» в отличие от земли обычной.
Еще в Новой Зеландии Махеине набрал несколько тонких палочек, тщательно связал их в пучок и использовал в качестве дневника. Каждая из этих палочек означала у него один из островов, которые мы посетили или по крайней мере видели со времени отплытия с Таити. Теперь у него было девять-десять таких палочек, и он мог перечислить их названия в том порядке, в каком эти острова следовали один за другим. Последнюю он назвал Веннуа теа-теа, что означало Белая земля. Он часто спрашивал, много ли еще земель встретится нам по пути в Англию. Для них он приготовил особый пучок и перебирал его каждый день с таким же усердием, как и первый. Ему явно хотелось, чтобы это однообразное плавание, кое соленая пища и холодная погода делали еще более неприятным, поскорей кончилось. Иногда он обрывал красные перья с танцевального передника, который купил на Тонга-табу. Восемь-десять перьев он связал в небольшой пучок с помощью кокосовых волокон. Остальное время он прогуливался по палубе, заходил к офицерам или грелся у огня в каюте капитана. В свободные часы мы использовали общество Махеине, чтобы расширить знание таитянского языка; в частности, мы прошли с ним весь словарь, который составили на островах Общества, получив таким образом некоторые новые сведения о Бораборе [Бора-Боре] и соседних островах, благодаря чему, оказавшись там снова, смогли более точно и правильно расспросить о разных обстоятельствах.
15-го утром повсюду вокруг мы увидели ледовые поля. Они так нас окружили, что продвинуться дальше на юг не было никакой возможности, и пришлось взять курс на норд-норд-ост. Туман, стоявший уже утром, к полудню еще более сгустился, и множество ледяных островов, плававших всюду кругом, стали особенно опасными. В час пополудни, когда команда как раз обедала, прямо по курсу внезапно появился большой ледяной остров, что нас весьма испугало. Развернуть корабль против ветра было невозможно; нам оставалось только править по ветру так, чтобы как-нибудь избежать опасности. Трудно вообразить, в какой ужасной неизвестности мы пребывали те несколько минут, пока решалась наша судьба. Поистине удивительно, что нам удалось выбраться из этой передряги благополучно, и мы прошли мимо ледяного массива на расстоянии не большем, чем длина судна.
Подобные опасности подстерегали нас каждый миг, покуда мы плыли по безлюдному океану; однако в дальнейшем это смущало меньше, чем можно было бы ожидать. Как всюду, смерть, когда с ней встречаешься лицом к лицу, кажется не такой ужасной. Так и здесь: мы не заботились о ней, проходя порой на волосок от гибели, словно ветер, волны и ледяные поля не могли причинить нам никакого вреда.
Льдины были опять такими же разнообразными по форме, как те, что мы видели во время своего прошлогоднего плавания на юг от мыса Доброй Надежды. Они напоминали то пирамиды, то обелиски, то башни церквей или развалины; некоторые по высоте и протяженности не уступали одной из первых гор, что мы видели в 1772 году; некоторые сверху были такие же плоские.
Обилие птиц, которых мы встречали, возможно, заставило бы других путешественников предположить, что неподалеку находится земля. Но мы уже слишком привыкли к виду птиц в открытом море, чтобы и впредь считать их за добрых предвестников. Все время нас сопровождали большие стаи голубых буревестников и пинтадо, множество альбатросов, в том числе отдельные поморники, а когда мы приближались к льдинам, к ним присоединялись также антарктические буревестники, в частности глупыши. Пингвинов, водорослей и тюленей с 10-го больше не было видно.
Погода держалась чрезвычайно сырая и притом весьма холодная. Голубям, которых мы купили на островах Общества и Дружбы [Тонга], это отнюдь не пошло на пользу, да и певчим птицам, с большим трудом пойманным на Новой Зеландии, такая погода не очень понравилась. У нас с отцом было пять голубей, но они умерли один за другим еще до 16 декабря, поскольку в наших каютах было крайне холодно; даже в матросском кубрике было теплее, чем у нас. Термометр в обеих наших каютах показывал едва ли на 5° больше, чем на открытом воздухе. На беду, они еще располагались перед главной мачтой, где корабль особенно подвергается натиску стихий, так что в них проникали и ветер, и дождь.
16-го после полудня, а также 17-го были спущены шлюпки, чтобы набрать кусков льда для пополнения наших запасов воды. Лед был старый, ноздреватый, пропитанный частицами соленой воды, поскольку он долго проплавал, подтаивая, в море. Однако, если кускам дать некоторое время вылежаться на палубе, чтобы вытекли капли соленой воды, воду, полученную из этого льда, можно пить. С 17-го по 20-е мы не видели вокруг ни одной птицы. Они вдруг словно исчезли без видимой причины. Однако в последний из названных дней показалось несколько альбатросов.
За это время мы обошли ледяное поле, преградившее нам путь, и смогли вновь взять курс на юг, поскольку в этом состояла главная задача нашего путешествия. 20-го после полудня мы второй раз прошли антарктический полярный круг. Погода была сырая, туманная, вокруг все время ледовые острова, ветер весьма свежий. Антарктические буревестники и кит, пустивший водяной фонтан недалеко от корабля, как бы сказали нам «добро пожаловать» при вступлении в холодные широты.
К ночи мы заметили двух тюленей, которых я не видел уже четырнадцать дней. Некоторые наши спутники сделали из этого вывод, что мы приближаемся к земле. Однако надежда скоро опять угасла, поскольку в течение нескольких дней, добравшись до 67°12' южной широты за антарктическим кругом мы не видели ничего, кроме льда.
23-го после полудня мы оказались в окружении ледяных островов, а море было почти сплошь покрыто битым льдом. Поэтому мы легли в дрейф, спустили на воду шлюпки и подняли на борт куски льда. Теперь вокруг нас было много птиц. Офицеры с шлюпок подстрелили несколько буревестников, предоставив нам возможность зарисовать их и описать.
К тому времени многие жаловались на ревматические недомогания, головную боль, опухшие железы и насморк. Причиной всему могла быть вода из растопленного льда. Мой отец уже несколько дней чувствовал себя плохо из-за простуды, теперь это недомогание перешло в сильный ревматизм и сопровождалось лихорадкой, которая заставила его лечь в постель. А все потому, что за неимением лучшего он принужден был обходиться такой плохой каютой, где от постоянной сырости все гнило и покрывалось плесенью. Особенно чувствителен холод был сегодня, когда разница между температурой в его каюте и на палубе составляла всего два с половиной градуса.
Подняв шлюпки, мы всю ночь и весь следующий день продвигались на север, насколько позволял встречный ветер. 25-го прояснело, ветер сменился штилем, в полдень мы насчитали вокруг себя более девяноста больших ледяных островов. В честь рождества капитан по обычаю пригласил всех офицеров к себе на обед, а один из лейтенантов угощал унтер-офицеров. Матросы получили двойную порцию пудинга и наслаждались водкой, которую прикапливали ради сегодняшнего дня уже целый месяц. Поистине это было единственным, что их заботило, о другом же они почти или вовсе не печалились. Ни большие ледовые поля, между которыми нас несло по воле одного лишь течения, ни постоянная опасность разбиться о них не могли их удержать от любимого занятия. Они заявили, что, покуда хватит водки, будут праздновать рождество как христиане, пусть хоть все стихии ополчатся против них. Привычка к морской жизни давно закалила их против всяких опасностей, тяжелой работы, суровой погоды и любых напастей, укрепила их мускулы, притупила нервы и лишила чувствительности. И если они так мало заботились о себе, нетрудно понять, что еще меньше они переживали за других. Вынужденные повиноваться суровой дисциплине, они тиранствовали над теми, кто имел несчастье оказаться в их власти. Вид врага пробуждает в них воинственность. Привычка уничтожать и убивать становится у них страстью, чему в этом плавании мы видели, увы, немало доказательств, когда они по малейшему поводу рвались тотчас стрелять в индейцев. Их образ жизни лишает их возможности наслаждаться тихими домашними радостями, и место лучших чувств заступают грубые животные страсти.
At last, extinct each social feeling, fell And joyless inhumanity pervades And petrifies the heart. Thompson[362]Хотя они принадлежат к цивилизованным нациям, это все же особый класс людей, бесчувственных, одержимых страстями, мстительных, но в то же время храбрых, прямодушных и верных в отношениях друг с другом.
В полдень измерили высоту солнца, и выяснилось, что мы находимся под 66°22' южной широты, то есть прошли обратно через антарктический (полярный) круг. Пока мы оставались внутри его, у нас почти не было ночи, и в дневнике моего отца я нахожу немало мест, написанных за несколько минут до полуночи при свете солнца. Сегодня ночью солнце тоже находилось за горизонтом так недолго, что все время держались светлые сумерки. Махеине был настолько изумлен сим явлением, что не желал верить своим глазам. Все попытки объяснить ему суть дела были тщетны; он говорил, что земляки не поверят ему, если он, вернувшись, станет рассказывать им про такие чудеса, как «окаменевший дождь» и «постоянный день». Первые венецианцы, проплывшие вокруг северной оконечности Европы, были точно так же удивлены, видя солнце все время над горизонтом. «Мы могли отличать день от ночи,— говорят они,— только по инстинкту морских птиц, которые обычно часа на четыре улетали к берегу отдыхать»[363]. В этих местах далеко вокруг, видимо, не было никакой земли, так что мы не имели возможности проверить справедливость сего наблюдения, но часто и в 11 часов ночи, да и в течение всей ночи видели птиц, летавших вокруг корабля.
В шесть утра мы насчитали вокруг 105 больших ледяных островов. Погода оставалась ясной, хорошей и безветренной. К полудню следующего дня ничего не изменилось, разве что матросы были вдребезги пьяны. С верхушки мачты мы насчитали 168 ледяных островов, причем некоторые были длиной в полмили и размерами ни один не уступал кораблю. Все это представляло собой величественное и грозное зрелище. Казалось, будто перед нами обломки какого-то разрушенного мира или, может, уголок ада, каким его описывают поэты,— такое сравнение приходило на ум, тем более что отовсюду доносились ругань и проклятия.
После полудня поднялся небольшой ветер, и с его помощью мы стали медленно продвигаться на север. Ледовые острова уменьшались по мере того, как мы удалялись от антарктического круга. На следующее утро к 4 часа была спущена шлюпка, чтобы взять свежего льда. Едва мы с этим справились, как ветер переменился и принес с северо-востока снег и град. Мой отец и еще двенадцать человек опять стали жаловаться на ревматические боли и вынуждены были оставаться в постелях. Правда, опасные признаки цинги отсутствовали, однако я, как и все, кто казался хоть в малой степени задет ею, дважды в день пили помногу светлого и теплого пивного сусла и по возможности воздерживались от солонины. Но, хотя формально никто из нас не считался больным, у всех был такой болезненный, изнуренный вид, что можно было опасаться неприятных последствий. Сам капитан Кук побледнел, похудел, потерял аппетит и страдал от постоянного запора. Мы теперь шли на север с той скоростью, какую нам позволял ветер, и 1 января 1774 года под 59°7' южной широты совсем потеряли из виду льды. 4-го сильный западный ветер поднял волну, и мы вынуждены были зарифить паруса или наполовину убрать их. Поднимались очень высокие волны, они с силой швыряли корабль из стороны в сторону. Такая погода держалась до полудня 6-го, когда мы достигли 51° южной широты и при попутном ветре пошли на норд-норд-ост.
Теперь мы находились всего в нескольких градусах от места, где были в прошлом году по пути из Новой Зеландии на Таити, и опять пошли туда, чтобы не оставлять не обследованной ни одну существенную область этого великого океана. Насколько нам до сих пор удалось продвинуться на юг, мы нигде не видели даже признака земли. Во время своего первого плавания мы пересекли Южное море в средних шпротах, то есть между 40° и 50°. На сей раз мы до рождества обследовали его большую часть между 60° и антарктическим (полярным) кругом, а от рождества и до сих пор, продвигаясь к северу, обследовали пространство между двумя предыдущими маршрутами. Так что, если мы и не заметили какую-либо землю, то это, может быть, лишь остров, который ввиду своей удаленности от Европы и сурового климата заведомо не представляет для Англии никакого существенного интереса. Разумеется, чтобы установить наличие или отсутствие какого-либо маленького острова в столь обширном море, как Южное, необходимо множество плаваний во многих местах; всякому ясно, что этого нельзя требовать от одного корабля и одной экспедиции. Для нас достаточно было удостовериться, что под умеренными широтами в Южном море нет большого материка и что, если таковой вообще существует, он должен находиться «внутри антарктического круга».
Долгое пребывание в холодных широтах уже начинало сказываться на людях, тем более что рухнула надежда в этом году оказаться дома, которая их до сих пор поддерживала. Поначалу на многих лицах я замечал выражение немого отчаяния; ведь приходилось опасаться, что на следующий год мы снова двинемся к югу. Однако затем все опять положились на судьбу, готовые с мрачным безразличием принять то, что будет. При всем том постоянная неуверенность в будущем действовала очень угнетающе, так как по непонятным причинам дальнейшие планы от всех нас держались в тайне. Несколько дней мы плыли прямо на северо-восток, однако 11-го, достигнув 47°52' южной широты, где температура поднялась до 52° [11,1°С], мы в полдень изменили курс и опять пошли на юго-восток. Сколь вредно такая частая и быстрая перемена климата действовала на здоровье, вряд ли нужно говорить. 15-го ветер усилился и скоро перешел в мощный шторм,
Which took the ruffian billows by the top Curling their monstruous heads and hanging them With deafning clamours in the slippery clouds. Shakespeare[364]Вечером в 9 часов громадная гора воды перекатилась через корабль, и всю палубу затопило. Вода хлынула на нас сверху через все отверстия, затушила огонь в каютах. Некоторое время мы пребывали в неизвестности, не затонули ли совсем и не идем ли ко дну? В каюте моего отца залило все, даже его постель совершенно промокла, что, конечно, должно было усилить его ревматизм, вот уже четырнадцать дней причинявший ему такие сильные боли, что он не мог шевельнуть ни одним членом. Туго приходилось даже тем немногим, кто еще оставался здоровым; для больных же, страдавших от постоянных болей в своих онемевших членах, положение было в подлинном смысле слова невыносимо. Океан кругом бушевал, словно негодуя на дерзость горстки людей, вздумавших с ним тягаться. Мрачная меланхолия обозначалась на лицах наших спутников. Всюду на корабле царила зловещая тишина. Солонина, повседневная наша пища, опротивела даже тем, кто с детства привык к плаваниям. Час еды стал для нас ненавистен, ибо один запах ее отбивал всякий аппетит.
Уже отсюда видно, что сие плавание нельзя сравнить ни с каким предыдущим. Нам приходилось бороться со многими трудностями и опасностями, которые были неизвестны нашим предшественникам, плававшим в Южном море; они в основном держались между тропиками или, во всяком случае, в более благоприятных областях умеренных широт. Там лучше погода, почти всегда поблизости была земля, и эта земля редко бывала столь бедной и бесплодной, чтобы время от времени не поставлять им свежую пищу. Нам такое плавание показалось бы увеселительной прогулкой. Постоянное разнообразие новых и по большей части приятных впечатлений позволило бы нам сохранять хорошее настроение, бодрость и здоровье — словом, быть счастливыми и веселыми.
Нет, у нас было как раз наоборот. Плавание к югу сулило лишь вечное однообразие и скуку. Лед, туман, бури, бушующее море — вот что мы видели перед собой, и редко мрачная сия картина озарялась случайным лучом солнца. Климат здесь холодный, а провизия у нас почти вся была испорчена и отвратительна на вкус. Словом, мы прозябали, безразличные ко всему, что обычно могло нас еще подбадривать. Здоровье, чувства, радости — всем этим мы пожертвовали ради сумасбродной чести проплыть по местам, где до нас не бывал еще никто. Поистине —
Propter vitam vivendi perdere causas.
Juvenal[365]Простым матросам приходилось не лучше, чем офицерам, но по другой причине. Их сухари, заново прокаленные в Новой Зеландии и опять уложенные в бочки, пришли почти в прежнее состояние. Перебрали их недостаточно строго; из чрезмерной бережливости среди съедобных было сохранено немало испорченных кусков. Отчасти же дело было в бочках, недостаточно окуренных и просушенных. Но даже этого подгнившего хлеба из экономии выдавалось лишь две трети обычной порции. И если целая вполне съедобная порция не насыщает как следует, то, разумеется, еще меньше хватало подгнившего хлеба. Наконец старший унтер-офицер (mate) пришел к капитану и горестно пожаловался, что ни он, ни его люди не могут утолить голод. При этом он показал кусок гнилого вонючего сухаря, после чего команда наконец, стала получать полную порцию. Покуда мы двигались к югу, капитан стал чувствовать себя лучше, но страдавшим ревматизмом было пo-прежнему плохо.
20-го, находясь под 62°30' южной широты, мы встретили первый в этих местах ледяной остров. Но по мере нашего продвижения на юг их не становилось больше. 26-го мы опять пересекли антарктический полярный круг, видя лишь отдельные льдины. В тот же день нам показалось, будто вдалеке виднеются горы, однако через несколько часов выяснилось, что это были облака, которые постепенно исчезли. На другой день мы в полдень находились под 67°52' южной широты, то есть ближе к полюсу, чем когда-либо прежде, и все еще не встречали льдов, которые бы помешали нам продвигаться дальше. Голубые и малые буревестники, а также пинтадо все время сопровождали нас; альбатросов же с некоторых пор не стало. Опять круглые сутки было светло, и среди полуночи сияло солнце.
28-го пополудни мы прошли мимо большого участка битого льда. Были спущены шлюпки и поднято много ледяных глыб, пополнивших наш запас питьевой воды. В полночь термометр не опускался ниже 34° [1,1°С], а на другое утро солнце светило так, как мы еще никогда не видели в этих холодных широтах. Мой отец впервые после четырехнедельной болезни отважился выйти на палубу.
Мы надеялись на сей раз продвинуться к югу настолько, насколько другим мореплавателям удавалось пройти к Северному полюсу. Однако 30-го в 7 часов утра мы увидели перед собой необозримое поле сплошного льда. Оно простиралось с востока на запад, возвышаясь над водой на несколько футов. На всей его поверхности, какую только мог охватить взор, беспорядочно громоздились ледяные холмы, а в море плавал битый лед. Мы находились в это время под 106°54' западной долготы и под 71°10' южной широты, то есть в неполных 19° от полюса. Поскольку продвинуться дальше не было никакой возможности, мы повернули назад, вполне удовлетворенные своей опасной экспедицией и убежденные, что дальше не стал бы идти ни один мореплаватель[366]. Термометр здесь показывал 32° [0°С], и были слышны квакающие голоса множества пингвинов, хотя из-за тумана их не было видно.
Где бы мы ни продвигались на юг, земля нам ни разу не встретилась, зато всегда раньше или позже на пути вставали сплошные необозримые ледяные поля. При этом ветер все время оставался умеренным и в более высоких широтах обычно восточным, точно так же как в высоких северных широтах. Из этого мой отец сделал вывод, что весь Южный полюс до 20° покрыт более или менее сплошным льдом и что каждый год бури отламывают от него лишь самые крайние оконечности, которые летом подтаивают на солнце, а зимой лед опять намерзает.
Stat glacies iners Menses per omnes. Horat.[367]Это представляется тем более вероятным, что, с одной стороны, для возникновения льда необязательно наличие суши, с другой же стороны, мало оснований предполагать существование в этих краях достаточно большой земли.
От этого ледового поля мы до 5 февраля при слабом ветре шли на север, однако в названный день после короткого затишья ветер стал свежий. 6-го он переменился на юго-восточный и ночью так усилился, что разорвал в клочья некоторые паруса. Но поскольку он помогал нам продвигаться на север, его сила нас не особенно беспокоила. Корабль несло вперед так быстро, что за последующие двадцать четыре часа мы оставили позади целых три градуса широты. Этот благоприятный ветер держался до 12-го и к тому времени донес нас до 50°15' южной широты. Термометр опять показывал 48° [8,8°С]. Теперь нам наконец сообщили, что следующую зиму, как и предыдущую, нам предстоит провести на тропических островах Тихого моря. Предвкушение новых открытий и хорошей пищи, на которые можно было надеяться, вновь вселило в нас мужество; мы не видели ничего плохого даже в необходимости и далее пребывать к западу от мыса Горн.
Несмотря на потепление, многие из наших людей все еще страдали от ревматических болей, а некоторые не могли даже шевельнуться. Хотя кислая капуста во время холодов предотвращала возникновение цинги, сама по себе эта, растительная нища недостаточно питательна; одной ею, без сухарей и солонины, жить было бы нельзя. Но сухари испортились, а солонина была почти проедена солью. При таком питании выздоровление больных шло весьма медленно. Мой отец, который большую часть этого плавания на юг был тяжело болен, подхватил еще и зубную боль. У него опухли щеки и шея, и до середины февраля все тело болело. Теперь он начал опять прохаживаться, словно тень, по палубе.
Если для него теплая погода оказалась целительной, то здоровье капитана ухудшилось. Правда, желчная болезнь во время последнего продвижения к югу у него прекратилась, но аппетит не восстановился. Теперь у него опять начался опасный запор, на который он, к сожалению, сперва не обратил внимания и не сказал об этом никому на корабле, а попытался помочь себе лишь воздержанием от пищи. Этим он, однако, лишь ухудшил дело, поскольку желудок его был довольно слаб. Скоро начались сильные боли, которые за несколько дней уложили его в постель и заставили обратиться к врачу. Ему дали слабительное, но, вместо того чтобы произвести обычное воздействие, оно вызвало у него сильную рвоту, которую врач усилил еще и рвотным. Однако все попытки дать содержимому желудка другой выход оказались тщетными; и еда, и лекарство продолжали выходить только со рвотой. А через несколько дней начался такой сильный рвотный приступ, продолжавшийся двадцать четыре часа, что возникло опасение за жизнь капитана. Наконец теплые ванны и желудочный пластырь из териака[368] сделали то, что не могли сделать опийные средства и клистиры. Они размягчили тело и постепенно ликвидировали запор, но до этого целую неделю его жизнь находилась в большой опасности. Одновременно с капитаном заболел наш слуга. У него была та же болезнь, и он так же от нее мучился, но оправиться еще долго не мог и все время, пока мы находились между тропиками, был не способен к службе.
Тем временем мы очень быстро продвигались на север и 22-го достигли 36° 10' южной широты. Здесь нас покинули альбатросы. Дойдя примерно до 94 1/2° западной долготы от Гринвича, мы взяли курс на юго-запад, чтобы отыскать остров, якобы открытый Хуаном Фернандесом[369]. Как сообщал Хуан Луис Ариас, он должен был находиться под 40° южной широты и обозначен на карте Дальримпля под 90° западной долготы от Лондона. До полудня 23-го мы шли на запад и достигли теперь 37°50' южной широты и примерно 101° западной долготы, однако, нигде не увидев земли, опять взяли немного на север. Не будь капитан в это время столь опасно болен, мы, возможно, прошли бы еще дальше на юго-запад и выяснили бы вопрос до конца, однако теперь надо было найти свежую пищу, которая спасла бы ему жизнь.
26-го благодаря прописанным лекарствам капитану Куку немного полегчало, а за последующие три дня он поправился настолько, что мог иногда сидя съесть немного супа. За свое выздоровление он должен был благодарить наряду с провидением прежде всего искусство нашего врача Паттена; это благодаря ему мы также смогли продолжить и закончить путешествие в неукоснительном соответствии с первоначальным планом. Ведь все надежды на дальнейшие открытия и длительное согласие на корабле были связаны только с капитаном. Забота, с какой сей достойный человек ухаживал за капитаном в течение всей его болезни, превыше всяких похвал. Это неутомимое усердие едва не стоило жизни самому доброму врачу. Он не спал несколько ночей подряд, да и днем редко позволял себе отдохнуть, и в результате оказался до того изнурен, что теперь мы беспокоились за его жизнь; а ведь от него зависела жизнь почти каждого человека на корабле. У него развилась болезнь желчного пузыря, опасная при его слабом желудке, и, если бы мы в скором времени не добрались до земли, где смогли получить свежую пищу, не исключено, что он сам мог бы стать жертвой мужественного и пунктуального исполнения своих обязанностей.
С 22 февраля дул восточный ветер, что, вероятно, было связано с положением солнца, как это обычно бывает в Южном полушарии. Теперь мы опять находились в области с более благоприятным климатом, термометр показывал уже 70° [21,1°C]. Время от времени появлялись серые морские ласточки, что, по словам нашего друга Махеине, должно было означать близость земли. 1 марта мы видели, как несколько бонит быстро проплыли мимо корабля, а на другой день, находясь под 30° южной широты, мы опять увидели тропических птиц.
В это время начала давать себя знать цинга. Ею страдали многие на корабле, а я особенно. Меня мучили боли, появились синие пятна, десны загнивали, ноги опухли. Эти опасные симптомы истощили меня за несколько дней, прежде чем до меня дошло, насколько серьезно я болен. Я старался воздерживаться от нездоровой и неприятной пищи, поэтому желудок мой был так ослаблен, что я не способен был в достаточном количестве принимать пивное сусло, которое могло бы мне помочь. У многих со здоровьем было не лучше, и они с трудом передвигались по палубе.
С 3 по 6 [марта] держался почти полный штиль, погода была ясная и теплая, но это приятное обстоятельство никак не возмещало нам отсутствия попутного ветра, ибо, покуда его не было, мы не могли двинуться с места и добраться до желанных берегов, где сумели бы подкрепить свои силы.
Вечером 5-го мы увидели над горизонтом несколько высоких облаков и дымку. Мы надеялись, что это сулит нам попутный ветер. Ночью прошел также изрядный ливень и в 8 утра с юго-востока появились первые предвестники ветра — маленькие пенистые волны. Мы поскорее подняли паруса, и попутный ветер понес нас вперед. Утром мы поймали четырех больших альбакор — самая маленькая весила 23 фунта — и с удовольствием ими полакомились; ведь более трех месяцев мы не пробовали свежей рыбы. Часто появлялись топорики, морские ласточки, олуши и фрегаты; они охотились за летучими рыбами, которые выпрыгивали из воды, спугнутые то нашим кораблем, то бонитами, альбакорами и дорадами [корифенами].
8-го в полдень мы достигли 27° южной широты и шли теперь прямо на запад к острову Пасхи, открытому в 1722 году голландцем Якобом Роггевеном. Этот остров совсем недавно, а именно в 1770 году, посетили также испанцы и назвали островом Св. Карла[370]. Утром 10-го вокруг летало множество серых морских ласточек. За час мы делали 7 миль, однако на ночь легли в дрейф, чтобы в темноте не наткнуться на землю, находившуюся, вероятно, поблизости.
На другое утро в 5 часов мы в самом деле увидели ее. Невозможно передать радость, выразившуюся на наших лицах. Сто три дня мы не видели земли; суровая погода южных областей моря, тяготы плавания, когда шторма и ледовые острова ни днем, ни ночью не давали покоя, частые перемены климата и скудное питание изнурили и истощили всех без исключения. Вид земли сулил каждому скорый конец бедствий. Мы заранее радовались обилию кур и фруктов, которые должны иметься на этом острове, по свидетельству открывшего его голландца. Все были рады и счастливы.
Е l'uno a l'altro il mostra e in tanto oblia La noia, e'l mal de la passata via. Tasso[371]Однако к берегу мы продвигались медленно — к превеликой досаде всей команды, которая тем нетерпеливее жаждала добраться до земли, чем больше возникало препятствий и оттяжек. Остров на вид был невелик и не особенно высок; несколько отдельных возвышенностей полого спускались к морю. Плодороден ли он и на какую еду здесь можно рассчитывать, издалека судить было трудно.
Следующим утром выдался штиль. Мы находились в это время в пяти морских милях от берега. Отсюда он казался черным и мрачным. Чтобы скоротать время, мы ловили акул, плававших вокруг корабля и весьма жадно хватавших насаженную на крючок солонину. После полудня поднялся ветер, и мы направились к берегу, надеясь до наступления ночи бросить якорь. Хотя мы находились теперь гораздо ближе к земле, чем утром, вид ее не стал более привлекательным: очень мало зелени, а кустарника почти никакого. Но после столь долгого, трудного и однообразного плавания даже самые голые скалы были для нас желанным зрелищем.
Возле некоторых холмов мы заметили группы черных колонн. Судя по местности, это были фигуры, которые люди Роггевена приняли за изображения идолов; но мы, еще даже не изучив их как следует, придерживались пока другого мнения. Мы предполагали, что это могли быть памятники мертвым вроде тех, что ставят в местах погребения таитяне и другие обитатели Южного моря, называющие их э-ти.
Ветер был слабый, встречный. К тому же приближалась ночь, а мы не нашли на восточной стороне острова места для якорной стоянки; поэтому еще одну ночь нам пришлось провести под парусами. Когда стемнело, мы увидели возле упомянутых колони много огней. Голландцы их тоже видели и связывали с жертвоприношениями; вероятнее однако, что это были просто костры, на которых местные жители готовили себе еду.
Всю ночь мы лавировали, чтобы удержаться вблизи острова, поскольку утром собирались возобновить поиск места для стоянки. Здесь еще раз следует воздать должное превосходным инструментам для определения долготы, коими мы были оснащены. Благодаря им мы, не блуждая, вышли прямо к этому острову, тогда как другие мореплаватели, такие, как Байрон, Картерет и Бугенвиль, не смогли его найти, хотя отправлялись в путь от места гораздо менее отдаленного — острова [островов] Хуан Фернандес. Похоже, что капитан Картерет не нашел его просто потому, что широта острова была неверно указана в его географических таблицах. Но двое других не могли сослаться на эту причину. Тем более мы были вправе восхищаться превосходным устройством имевшихся у нас обоих хронометров: одного — работы Кендалла по образцу Гаррисонова, другого — Арнольда, сделанного по его собственному замыслу. И тот и другой шли необычайно точно. Последний, к сожалению, остановился сразу после нашего отплытия из Новой Зеландии в июне 1773 года, но первый продолжал идти до нашего возвращения в Англию и заслужил всеобщие рукоплескания. Все же во время долгих путешествий гораздо надежнее полагаться на наблюдения Луны, чем на показания хронометра, так как его ход бывает непостоянен. Метод определения долготы по положению Солнца и Луны или по положению Луны и звезд — одно из важнейших для мореплавания открытий. Немец Тобиас Майер, профессор из Геттингена, первым произвел многотрудные расчеты необходимых для этого лунных таблиц, за что его наследники получили объявленное парламентом вознаграждение. Благодаря дополнительным расчетам метод этот настолько облегчился, что его можно считать лучшим способом определения долготы в море.
Широта острова Пасхи до одной-двух минут совпадала с той, что была указана в журнале адмирала Роггевена; долготу он определил с ошибкой всего на один градус. Согласно нашим измерениям этот остров расположен под 109°46' к западу от Гринвича. Испанские данные о широте также правильны, относительно же долготы они ошиблись на 30 морских миль.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Известие об острове Пасхи и нашем пребывании там
Рано утром 13-го мы приблизились к южной оконечности острова. Берег в этом месте поднимался над морем отвесно и состоял из разломанных скал, ноздреватых и черных, цвета железа, очевидно вулканическою происхождения. Примерно в четверти мили от берега отдельно в море стояли два утеса. Один из них — причудливой формы — напоминал большую, сходящуюся кверху колонну или обелиск. На обоих обитало громадное множество морских птиц, оглушивших нас своим отвратительным криком. Вскоре затем милях в 10 от первого мыса мы увидели другой. Здесь берег был несколько ниже и спускался к воде более полого. Там мы обнаружили и поля, засаженные растениями. Однако в целом почва острова казалась скудной и сухой. Растительности было так мало, что не приходилось рассчитывать на обилие свежей пищи; и все же наши взгляды были неотрывно устремлены к земле.
Тем временем мы увидели, как с гор к морю спускается группа почти совершенно нагих людей, насколько мы могли разглядеть, безоружных, что можно было расценить как знак мирных намерений. Несколько минут спустя два человека столкнули в воду каноэ и отправились к нам. Они гребли очень быстро, скоро подошли к кораблю и крикнули, чтобы мы бросили им веревку, название которой на их языке звучало точно так же, как на таитянском. Когда мы это сделали, они прикрепили к ней большую гроздь спелых бананов и дали нам знак тянуть. Трудно передать, какую общую и неожиданную радость вызвал у нас вид этих плодов; лишь те, кто побывал в столь бедственном положении, как мы тогда, смогут это понять. Более пятидесяти человек от избытка радостных чувств одновременно заговорили с людьми в каноэ, которые, естественно, не могли ни одному из них ответить. Капитан Кук взял несколько лент, прикрепил к ним медали и бусы и велел спустить им это в качестве ответного подарка. Восхищенные этими мелочами, туземцы незамедлительно вернулись на бepeг.
Огибая на обратном пути корму судна, они увидели спускающуюся с палубы рыболовную леску и привязали к ней в качестве прощального подарка небольшой кусочек материи. Подняв его, мы обнаружили, что она изготовлена из такой же древесной коры, как таитянская, и окрашена в желтый цвет. Судя по нескольким словам, которые мы от них слышали, их язык похож на диалект таитянского. Таким образом, в разных концах Южного моря [Тихою океана] говорят на одном и том же языке. Весь их вид давал нам возможность предположить, что они представляют собой ветвь того же самого племени. Они были среднего роста, но худощавы, тип лица напоминал таитянский, однако эти были не так красивы. У одного из сидевших в каноэ была борода, обстриженная до полудюйма. Другой — молодой человек лет семнадцати. По всему их телу шла такая же татуировка, как у новозеландцев, жителей островов Общества и Дружбы, но они ходили совершенно нагие. Самое странное у них — это размер ушей, мочки которых так растянуты, что почти доставали до плеч; кроме того, в них прорезаны такие большие отверстия, что туда свободно могли пройти четыре-пять пальцев. Это в точности соответствует описанию, которое дает в журнале своего плавания Роггевен.
Не менее странным в своем роде было их каноэ. Оно состояло сплошь из маленьких кусков дерева, шириной 4—5 дюймов и длиной 3—4 фута, весьма искусно соединенных. Общая длина составляла 10—12 футов. Нос и корма каноэ очень высокие, но в середине оно довольно низкое с выносным поплавком, или балансиром, сделанным из трех тонких палок. Каждый из находившихся в каноэ держал весло, лопасть которого также была составлена из разных кусков. Это тоже описано в голландских известиях о плавании Роггевена, напечатанных в Дордрехте[372] в 1728 году. По тому, как они берегут дерево, можно предположить, что на острове его мало, хотя в описании другого путешествия утверждается противоположное.
Хотя там, откуда отошло каноэ, мы нашли место, где можно было бы бросить якорь, мы все же двинулись дальше вдоль берега, надеясь найти еще более подходящий грунт, и добрались до северной оконечности острова, которую видели накануне, правда с другой стороны. Однако надежда найти там более удобную стоянку не оправдалась, и мы возвратились на прежнее место. На бepeгy было видно множество черных колонн или столбов, частью воздвигнутых на платформах из нескольких камней. Мы могли разглядеть, что в верхней части эти колонны имеют сходство с головой и плечами человека, нижняя же часть, казалось, представляла собой грубую необработанную глыбу. Обработанных участков земли на северной стороне острова мы увидели очень мало, поскольку местность здесь была более гористая, чем в средней части. Мы теперь ясно видели также, что на всем острове нет ни единого дерева высотой более 10 футов. После полудня мы спустили шлюпку, в которой к берегу должен был отправиться штурман, чтобы измерить глубину у места, откуда к нам отошло каноэ. Увидев, что шлюпка отплывает от корабля, жители собрались на берегу в том месте, куда, как им казалось, она направляется. Индейцы большей частью были голые, лишь немногие одеты в материю красивою светло-желтого или чаще оранжевого пвета; мы решили, что это здешние вожди. Теперь мы могли разглядеть и их жилища, на вид очень низкие, но длинные, в середине высокие, а с обеих сторон круто опускающиеся, они немного напоминали перевернутые каноэ. В середине имелось отверстие или дверь, такая низкая, что мужчине обычного роста нужно было наклониться, чтобы войти.
К вечеру мы стали на якорь у юго-западной стороны острова, где оказалось 40 саженей глубины и хорошее галечное дно. Вскоре вернулся из своей экспедиции штурман и привез с собою туземца. Этот малый без церемоний и приглашения смело прыгнул в шлюпку, едва она приблизилась к берегу, и пожелал плыть на корабль. Он был каштаново-коричневый, среднего телосложения, ростом примерно 5 футов 8 дюймов; грудь и все тело у него были довольно волосатые, волосы на голове и борода — одинаково густые, черного цвета, борода подстрижена. Огромные мочки доставали до плеч, а бедра татуированы в клеточку или в виде кубиков — узор, подобного которому мы еще нигде не встречали. Вся одежда его состояла из набедренной повязки, с которой спереди свисала сетка, ничего, однако, не прикрывавшая. На шее у него висел шнур, с него спускалась на грудь широкая, длиной дюймов в пять кость, изображавшая, видимо, язык. Он объяснил нам, что это кость морской свиньи, иви тохарра — сие название точно так же звучит и на таитянском языке. Чтобы быть лучше понятым, он назвал это нагрудное украшение еще иви-ика, что, как мы уже знали, означает «рыбья кость»[373]. Едва усевшись в лодку, он показал вполне понятными знаками, что ему холодно. Штурман Гильберт дал ему куртку и надел на голову шапку; в этом наряде он и появился перед нами на корабле. Капитан и пассажиры подарили ему гвозди, медали и снизку бус. Бусы он пожелал надеть на голову. Поначалу туземец бы несколько пуглив и недоверчив, даже спросил, не убьем ли мы его как врага (маттетоа). Но когда мы заверили, что обойдемся с ним хорошо, он успокоился, обрел уверенность и стал говорить только о танцах (хива).
Вначале нам было трудновато понимать ею речь, но, когда мы расспросили его о названиях главных частей тела, выяснилось, что это тот же самый диалект, на каком говорят жители островов Общества,— слова звучали совершенно так же. Если мы произносили непонятное для него слово, он его повторял и взглядом давал понять, что не знает, о чем мы говорим. С наступлением ночи он показал нам, что хочет спать и что ему холодно. Мой отец дал ему большой кусок самой грубой таитянской материи. Он завернулся в нее и сказал, что теперь ему совсем тепло. Его привели в каюту штурмана, там он улегся на стол и совершенно спокойно проспал всю ночь. Махеине, нетерпеливо дожидавшийся возможности сойти на берег, был очень рад, что люди говорят на языке, напоминавшем его собственный. Он уже не раз пытался завести разговор с нашим гостем, но другие его перебивали множеством вопросов.
Ночью у нас сорвало якорь, и корабль понесло течением, так что пришлось опять поднимать паруса и возвращаться к месту стоянки. Сразу после завтрака капитан вместе с дикарем, которого звали Марувахаи, а также Махеине, мой отец, доктор Спаррман и я отправились на берег. Hoги и бедра у меня так отекли, что я еле-еле двигался. Здесь оказалась хорошая бухта, достаточно глубокая для шлюпок; в том месте, где мы высадились, скалы закрывали ее от высоких, как горы, волн, которые в других местах мощно разбивались о берег.
На берегу собралось примерно 100—150 жителей. Почти все они были голые, в одних лишь набедренных повязках, с которых свисал кусок материи длиной 6-8 дюймов, а иногда еще и небольшая сетка. У немногих были плащи, доходившие до колен. Материя напоминала таитянскую, но ради долговечности она была простегана или прошита нитками и, как правило, окрашена в желтый цвет корнем куркумы. Люди спокойно дали нам выбраться на берег и вообще не делали никаких недружелюбных движений; они, похоже, боялись нашего огнестрельного оружия, с убийственным действием которого были, видимо, знакомы. В большинстве своем они были безоружны, но у некоторых имелись пики или копья — бесформенные сучковатые палки с треугольными остриями из черного обсидиана (Pumex vitreus Linn.) на конце. Один держал боевую палицу, сделанную из толстого куска дерева длиной 3 фута и на конце украшенную резьбой. Несколько других держали короткие деревянные дубинки, очень похожие на новозеландские патту-патту из рыбьих костей. На одном была европейская шляпа, на другом — такая же шапочка; на некоторых мы видели полосатый хлопчатобумажный носовой платок или старую, порванную куртку из голубой шерстяной ткани; все это бесспорные доказательства или остатки последнего пребывания здесь испанцев, посетивших остров в 1770 году.
Вообще вид туземцев во всех отношениях свидетельствовал о скудости этой земли. Сложением они были мельче, нежели новозеландцы и жители островов Общества и Дружбы. Мы даже не нашли среди них ни одного, кого можно было бы назвать высоким. При этом они были худы, с лицами более узкими, чем обычно у других обитателей Южного моря. Недостаток одежды и жадность к нашим товарам, в обмен на которые они не предлагали нам ничего,— все говорило об их бедности.
Все густо татуировали тела, а особенно лица. У женщин, очень маленького роста и слабого сложения, на лицах были точки, напоминавшие мушки наших дам. Правда, среди всей собравшейся толпы мы насчитали не больше десяти-двенадцати женщин. Обычно, не довольствуясь природным светло-коричневым цветом кожи, они раскрашивали себе все лицо красно-коричневым железняком, на который наносилась красивая оранжевая краска из корня куркумы. Иногда лицо украшалось также белыми полосами, нанесенными ракушечным известняком. Так что искусство раскрашивать себя не составляет привилегию дам, имеющих счастье подражать французским модам. На женщинах были одежды из материи, но гораздо более скудные по сравнению с поистине роскошными нарядами, какие мы видели на Таити.
У мужчин и у женщин были худые лица; мы не заметили в них ничего дикого. Зато палящий жар солнца, от которого на этой голой земле нигде нельзя укрыться, ибо здесь нет тени, у многих неестественно исказил черты: брови оказались сомкнуты, мускулы нижней части лица приподняты к глазам. Носы не широкие, но между глаз довольно приплюснутые. Губы крупные, но не такие толстые, как у негров. Волосы черные и курчавые, но у всех подстрижены и никогда не достигают даже 3 дюймов длины. Глаза черно-коричневые, маленькие, белки не такие светлые, как у других народов Южного моря; про длинные уши с необычайно большими отверстиями в мочках уже говорилось. Чтобы сделать такие большие отверстия, они используют лист сахарного тростника, который, свернув, вставляют туда, и благодаря присущей ему упругости разрез в ухе постоянно увеличивается.
Невыносимая жара заставляет их придумывать всевозможные средства, чтобы защитить голову. Некоторые мужчины с этой целью носят на голове кольцо толщиной 2 дюйма из крепко и искусно сплетенной травы, в которое втыкаются по кругу длинные черные перья фрегата. У других мы видели большие лохматые шапки из коричневых перьев чайки, почти такие же толстые, как большие докторские парики прошлого столетия. Иногда на голову надевают просто деревянный обруч с укрепленными на нем длинными белыми перьями олуши; при малейшем ветерке они колышутся, не только защищая таким образом голову от солнца, но и как бы обдувая ее ветерком. Женщины носят широкие шляпы из хорошо выделанной циновки. Спереди они заострены, углубление же для головы не круглое, как у наших шляп, а продолговатое и с обеих сторон круто сходящееся кверху, сзади поля раздельно спадают вниз, вероятно чтобы защитить плечи. Эти шляпы дают хорошую прохладу. Господин Ходжс зарисовал одну женщину в такой шляпе, а также мужчину в одном из описанных выше головных уборов. Оба рисунка на редкость характерны и очень хорошо выгравированы на меди. Единственными украшениями, которые мы увидели у этих людей, были упомянутые куски кости в форме языка, которые мужчины и женщины носят на груди, а также ожерелья и ушные кольца из раковин.
Пробыв некоторое время на берегу с туземцами, мы начали подниматься в глубь острова. Вся земля была покрыта скалами и камнями разной величины, черными, обгорелыми, ноздреватыми, явно подвергшимися воздействию сильного огня. Между этими камнями пробивались жалкие травы двух-трех видов. Хотя они и были полузасохшие, но все же в какой-то мере смягчали унылость голого пейзажа.
Шагах в пятидесяти от места высадки мы увидели стену из четырехугольных тесаных камней; каждый имел от 1,5 до 2 футов в длину и фут в ширину. В середине высота стены достигала примерно 7—8 футов, однако с обоих концов она была ниже, длиной же шагов в двадцать. Самое примечательное — это соединение камней. Они были так искусно сложены и так точно подогнаны друг к другу, что получалось на редкость долговечное архитектурное сооружение. Порода, из которой их вытесали, не особенно твердая — черно-коричневая, ноздреватая, ломкая лава. Земля от берега поднималась все время в гору, так что второй стене, параллельной этой и отстоявшей от нее на двенадцать шагов выше, достаточно было иметь всего 2—3 фута в высоту, чтобы в пространстве между ними образовалась своего рода плоская, поросшая травой земляная терраса.
В пятидесяти шагах дальше к югу мы обнаружили приподнятую плоскую площадку, вымощенную такими же четырехугольными камнями, как те, из которых сложена стена. В середине этой площадки стояла каменная колонна из цельного куска, изображавшая человеческую фигуру до бедер. Фигура была сделана плохо и доказывала, что скульптура здесь еще в младенческом состоянии. Глаза, нос и рот были едва обозначены на грубой, неоформленной голове. Уши в соответствии со здешним обычаем — невероятной длины и отделаны лучше, чем все остальное, хотя европейский скульптор и устыдился бы такой работы. Шея показалась нам бесформенной и короткой, плечи же и руки были слегка намечены. На голове водружен высокий круглый цилиндрический камень более 5 футов в высоту и в поперечнике. Эта насадка, похожая на головной убор египетских божеств, сделана из другой породы камня красноватого цвета; кроме того, на обоих основаниях цилиндра мы заметили отверстия, как будто круглую форму ему придавали с помощью токарного или шлифовального устройства. Голова вместе с верхней насадкой составляла половину всей высоты колонны от земли. Мы, впрочем, не видели, чтобы островитяне оказывали какие-либо почести этим столбам, колоннам или статуям, но все же они, видимо, уважали их; так, похоже, что им было неприятно, когда мы ходили по мощеным площадкам, постаменту или исследовали породу камня, из которого они были сделаны[374].
Несколько островитян сопровождали нас дальше в глубь острова до маленькой рощи, где мы надеялись найти что-нибудь новое из царства растений. Дорога была плохая, едва намеченная, она вела по сплошным вулканическим камням, которые перекатывались под ногами и на которые мы то и дело натыкались. Привычные же туземцы легко скакали с камня на камень. В пути мы видели несколько черных крыс, которые встречаются на всех островах Южного моря. Кустарник, ради коего мы предприняли этот путь, представлял собой низкорослую бумажную шелковину, из коры которой здесь, как и на Таити, изготовляют материю для одежды. Ствол у нее был от 2 до 4 футов высотой; между большими скалами, где дожди нанесли немного земли, они были посажены правильными рядами. Недалеко отсюда стояло также несколько кустов Hibiscus populneus Linn., которые встречаются на всех островах Южного моря и используются местными жителями для выработки желтой краски. Наконец, в одном месте росла мимоза, единственное растение, дававшее туземцам древесину для их дубинок, патту-патту и убого сшитых лодок[375]. Чем дальше мы шли в глубь острова, тем более голой и бесплодной казалась нам земля. Маленькие группы туземцев, которые вышли нам навстречу к месту высадки, составляли, казалось, основную часть всего здешнего населения; ибо нигде по пути мы не встретили ни одного человека, и на всем пространстве, какое мы только могли обозреть, видно было не более десяти-двенадцати хижин.
Одна из самых заметных стояла на холме примерно в полумиле от моря. Любопытство заставило нас пойти туда. Это оказалось убогое жилище. Все здесь говорило о бедности хозяев. Фундамент состоял из камней, расположенных на земле двумя сходившимися кривыми линиями длиной 12 футов. В середине, где был самый большой изгиб, ряды камней отстояли один от другого примерно на 6 футов, у краев же между ними было не более 1 фута. В каждом из этих камней было сделано по одному-два отверстия, в кои воткнуты жерди. Средние стойки имели в высоту 6 футов, другие, идущие в обе стороны, все укорачивались, так что крайние были всего 2 фута высотой. Сверху эти стойки были наклонены друг к другу и привязаны к перекладинам, которые скрепляли их. Крыша была сплетена в виде решетки из тонких прутьев и сверху устлана добротной циновкой из листьев сахарного тростника. Она держалась на упомянутых стойках, которые образовывали каркас хижины, внизу доходила до самой земли и, круто поднимаясь с двух сторон, сходилась под острым углом. Сбоку имелось отверстие высотой от 18 дюймов до 2 футов, защищенное от дождя выступающей частью крыши. Оно служило дверью. Желавший войти или выйти через нее должен был ползти на четвереньках. Мы не преминули испробовать этот способ, однако старались зря, поскольку внутри хижина оказалась совершенно голой и пустой. В ней не было даже пучка соломы, чтобы лечь. Стоять прямо можно было лишь в середине, и вдобавок ко всем неудобствам здесь было совсем темно. Наши провожатые-индейны рассказали нам, что они в этих хижинах ночуют. Можно представить себе, какие это жалкие ночевки, тем паче что хижин было мало, так что там пришлось бы в буквальном смысле лежать друг на друге. Поэтому простые люди спят здесь под открытым небом, предоставляя сии убогие жилища знати или же укрываясь в них лишь в плохую погоду.
Кроме этих хижин мы видели также некие нагромождения камней. С одного бока они были совершенно отвесны, и там имелось отверстие, которое вело под землю. Судя по всему, внутреннее помещение могло быть здесь очень маленьким, но все же не исключено, что даже эти дыры по ночам служили им кровом. Возможно, правда, что они соединялись с естественными подземными пещерами, которых бывает много в вулканических странах, где есть старая лава[376]. Такие пещеры часто находят в Исландии; они до сих пор знамениты тем, что в них жили прежние обитатели страны. Господин Фербер[377], автор первого минералогического описания Везувия, сообщает среди прочего, что он встречал подобные пещеры и среди новейших лав. Мы бы охотно исследовали эти сооружения поближе, но туземцы не пожелали нас туда допустить.
Посадки сахарного тростника и бананов, расположенные возле упомянутого дома, были обработаны, насколько это позволяла каменистая почва. Вокруг каждого бананового растения было сделано углубление в 12 дюймов, вероятно для того, чтобы сюда собиралась дождевая вода и растения таким образом могли получать больше влаги. Сахарный тростник был такой же иссохший, как сама здешняя земля, и достигал высоты 9-10 футов. У него был необычайно вкусный сок, который туземцы нам весьма часто предлагали, особенно когда мы просили пить. Последнее обстоятельство заставило нас предположить, что на острове совсем нет пресной воды, но, когда мы возвращались к месту высадки, мы встретили капитана Кука возле источника, который показали ему местные жители. Он находился недалеко от берега и был вырублен глубоко в скале, но полон грязи. Когда наши люди очистили его, вода показалась им непригодной для питья, однако жители пили ее с большим удовольствием.
Торговля капитана со здешними обитателями шла не особенно удачно. Казалось, у них не было никакого продовольствия. Несколько плетеных корзин со сладким картофелем [бататом], немного сахарного тростника, несколько гроздей бананов да две-три маленькие, уже приготовленные курицы — вот все, что он смог купить за кое-какие железные изделия и таитянскую материю. Он подарил индейцам бусы, но те с презрением отбросили их прочь. Зато они желали получить другие вещи, которые видели у нас и на нас, хотя взамен уже ничего не могли дать. Пока нас не было, они ушли с места нашей высадки, видимо, в свои жилища, чтобы поесть.
Женщин по сравнению с мужчинами все время было намного меньше. При высадке мы насчитали их не более двенадцати или пятнадцати, теперь подошли еще шесть или семь. Они не выказывали ни сдержанности, ни стыдливости; за небольшой кусок таитянской материи наши матросы получали от них, что хотели. Черты их лиц показались нам довольно мягкими, а большие заостренные шляпы придавали им вид легкомысленный и непристойный.
Еще до наступления полудня мы возвратились на корабль, разделили все приобретенные плоды и овощи между членами команды, весьма подкрепив силы наших больных, истосковавшихся по свежей пище. Мы попробовали также кур, которые были завернуты в зеленые листья и приготовлены в земле на горячих камнях. Этот способ приготовления пищи распространен на всех островах Южного моря, где мы до сих пор бывали. Картофель был золотисто-желтого цвета и сладок, как желтая репа; он не всем нравился, но был питателен и помогал против цинги. Сок всех здешних растений был, видимо, необычайно концентрированным из-за жары и сухости почвы. Бананы в своем роде превосходны, а сахарный тростник слаще, чем на Таити.
После полудня мы опять вышли на берег. В другой шлюпке отправился на берег офицер с командой, чтобы наполнить у источника водой наши бочки. У места высадки нас встретили несколько жителей. Среди них обращал на себя внимание один, видимо пользовавшийся определенным уважением. Он очень усердно старался показать капитану дорогу всюду, куда бы тот ни ходил, и был не так робок, как его земляки. Если другие настораживались и пугались при каждом нашем необычном движении, то он все время смело шел рядом. Впрочем, при всей своей пугливости они то и дело залезали в наши карманы и воровали все, что могли. Мы не пробыли на берегу и получаса, как один из них тихонько подкрался сзади к Махеине, сорвал у него с головы черную шапку и побежал с ней по неровной каменистой местности, где никто из нас не мог его догнать. Махеине был так этим перепутан, что лишь спустя некоторое время сумел найти слова, чтобы пожаловаться капитану; однако вора уже поминай как звали. Точно таким же образом лишился своей шляпы и господин Ходжс, который в это время сидел на небольшой возвышенности, рисуя открывавшийся отсюда вид. Возле него находился господин Уолс с ружьем, но он решил, и справедливо, что столь незначительное преступление не стоит пули.
Прогуливаясь берегом моря, мы нашли несколько кустов такого же сельдерея, что часто встречается на побережье Новой Зеландии. Мы нашли здесь и другие маленькие растения, которые видели и там. Не берусь судить, здешнего ли они происхождения, либо их семена занесены сюда морем или птицами. Мы нашли также участок, засаженный ямсом (Dioscorea alata Linn.), и это существенно дополнило в наших глазах скудную флору острова Пасхи.
Сходство в чертах лица, обычаях и языке между этим народом и обитателями других островов Южного моря позволяло надеяться, что мы обнаружим здесь и домашних животных, которых встречали на Таити и в Новой Зеландии. Однако, несмотря на тщательные поиски, мы не смогли найти ничего, кроме обычных кур, очень мелких и со скромным оперением. Мы, правда, видели двух-трех морских ласточек (Sterna stolida), настолько ручных, что они садились туземцам на плечи; однако из этого нельзя было заключить, что их тут по-настоящему разводят.
На закате солнца мы покинули место, где набирали воду, и отправились в бухту, в коей стояла на якоре наша шлюпка. По дороге мы прошли упомянутые уже колонны. Жители, сопровождавшие нас, знаками дали понять, что надо идти не по каменной кладке, а по траве у подножия постаментов; но когда мы не поворотили, они нам никак не препятствовали. Мы справились у тех из них, которые показались нам наиболее смышлеными, что сии камни означают. Насколько можно было понять из их ответов, это были памятники их эрики, то есть королям[378]. В таком случае сложенный из камней пьедестал, возможно, является местом захоронения. И действительно, при более тщательных поисках мы обнаружили неподалеку много человеческих костей, что подтверждало наши предположения. Судя по длине костей, тела были среднего роста; так, бедренные кости, которые мы измерили, принадлежали человеку ростом примерно 5 футов 9 дюймов.
У западной стороны бухты находились три колонны, поставленные в один ряд на очень широком и приподнятом постаменте. Местные жители называли этот ряд Ханга-Роа, тогда как вышеупомянутые одиночные колонны назывались Обина. Близ этих столбов десять или двенадцать туземцев пекли на небольшом костре картофель. Это был их ужин, и, когда мы проходили мимо, они предложили нам угоститься. Такое гостеприимство в стране столь бедной было неожиданным. Сравните его с обычаями цивилизованных народов, склонных едва ли не все свои чувства обращать против ближнего! Нам было, кстати, весьма приятно убедиться в связи с этим, что предположения голландцев относительно таких костров были необоснованны; мы не видели ни малейших оснований считать их принадлежностью религиозной церемонии.
С небольшим запасом купленного картофеля и шестью-семью собранными известными растениями мы возвратились на корабль. Больным цингой наша прогулка принесла особую пользу. Лично я, еще утром едва державшийся на отечных ногах, уже к вечеру чувствовал себя гораздо лучше. Отек стал меньше, а боли совсем исчезли. Столь быстрым улучшением я был обязан прежде всего движению, но, вероятно, подействовали и здешние антицинготные растения; как уже говорилось, вполне достаточно их одних, чтобы вылечить людей, страдавших цингой из-за долгого пребывания в море.
На другое утро капитан Кук послал лейтенантов Пикерсгилла и Эджкомба с группой морских пехотинцев и матросов обследовать внутренние районы острова и по возможности выяснить, нет ли здесь более возделанной и гуще заселенной местности. Господа Уолс, Ходжс, доктор Спаррман и мой отец отправились в путь с ними, так что вся экспедиция составляла двадцать семь человек.
Я же после завтрака сошел на берег с капитаном Куком и несколькими другими офицерами. Там мы увидели сотни две жителей, в том числе четырнадцать-пятнадцать женщин и несколько детей. Было невозможно понять причину такого неравенства в численности полов, но, поскольку все женщины, коих мы до сих пор видели, весьма охотно дарили свою благосклонность, я предположил тогда, что женщины замужние и скромные, а их, вероятно, было большинство, не имели никакой охоты вступать с нами в знакомство, а может, ревнивые мужья вынудили их остаться в отдаленных частях острова. Те немногие, которых мы видели, были самыми распутными созданиями, каких я когда-либо встречал. Казалось, им чужд был всякий стыд и срам. Да и наши матросы вели себя так, словно никогда о таких вещах не слышали, и тени колоссальных статуй казались им как раз подходящим кровом для распутства. Господин Паттен, лейтенант Клерк и я пошли от берега, где народу собралось больше всего, в глубь острова. Солнце палило невыносимо, лучи его отражались от голой каменистой земли, и нигде не было даже деревца, которое бы дало тень. Мои спутники захватили дробовики, надеясь подстрелить по дороге птиц. Однако их надежды оказались напрасными. Судя но всему, на острове вообще нет никаких сухопутных птиц, кроме обычных кур, притом весьма редких. Мы шли по тропе, протоптанной жителями, пока не достигли поля, засаженного картофелем, ямсом, корнем Arum[379]и пасленом. Последний употребляется на Таити и на соседних островах как средство для лечения ран (Solarium nigrum) и мог бы с той же целью возделываться и у нас. Трава, которая обычно разрастается на возделанной почве, здесь была самым тщательным образом выполота и разбросана по всему полю вместо удобрений, а может быть, для того, чтобы защитить корни и растения от палящих лучей солнца. Все это показывало, что туземцы кое-что смыслят в земледелии и возделывают почву весьма усердно.
Неподалеку от этих полей мы увидели две небольшие хижины, еще меньше, чем описанная выше. Вход был закрыт от взгляда густым кустарником. Когда мы приблизились, нам показалось, что оттуда слышны женские голоса; мы прислушались, но уже ничего не смогли услышать. Затем мы направились к холму, поросшему кустарником. Это оказалась мимоза, однако высотой она едва достигала 8 футов, а значит, давала немного тени и не могла защитить от солнца. Мы недолго здесь отдохнули и пошли дальше, к другим полям, возделанным так же, как упомянутые. У них, однако, не было оград, как сообщается в описании путешествия Роггевена. Вероятно, авторы этого описания взяли их из своей фантазии.
Усилившаяся жара совершенно нас вымотала, а ведь еще предстоял долгий путь обратно к морю. К счастью, мы проходили мимо человека, который выкапывал на своем участке картофель. Мы пожаловались ему на жажду. Добрый старик тотчас побежал к посадкам сахарного тростника и принес нам несколько самых лучших и сочных растений освежиться. Мы дали ему за это небольшой подарок, взяли тростник, обрезали его так, чтобы он мог служить дорожной тростью, а в пути очистили и высосали. Сок был на редкость освежающий.
Вернувшись к месту высадки, мы застали капитана Кука, занятого торгом с туземцами. Они принесли ему уже приготовленных кур и несколько плетеных корзин сладкого картофеля. Иногда они обманывали его: подкладывали в низ корзины камни, а сверху прикрывали несколькими картофелинами. Из наших меновых товаров они больше всего ценили пустые кокосовые скорлупы, которые мы везли с островов Общества и Дружбы. Причем цену они имели лишь в том случае, если в них было только маленькое отверстие или имелась крышка. Хорошо шла также таитянская и европейская материя; ценилась она в зависимости от размера. Изделия из железа интересовали их меньше всего. Закончив торговлю, многие из них обычно сразу же убегали с полученной материей, ореховыми скорлупами или гвоздями. Возможно, они боялись, как бы мы не передумали, даже если они, со своей стороны, вели себя честно. У некоторых хватало дерзости убегать с полученной платой еще до того, как они отдавали свои товары. Это тоже свидетельствует, в сколь бедственном состоянии живут сии достойные сожаления люди. Им очень не хватает одежды. Поневоле приходится по большей части ходить голыми. Тем не менее они выменяли немного своей материи на таитянскую. Из желания иметь ее они продавали даже такое имущество, с которым иначе никак бы не расстались. Сюда относились различные их шляпы и другие головные уборы, ожерелья, ушные украшения и маленькие человеческие фигурки, вырезанные из узких восьмидюймовых или двухфутовых кусков дерева, однако более тонко и соразмерно, чем можно было бы ожидать при грубости их больших каменных статуй.
Фигурки эти изображали лиц обоего, пола. Их черты лица были, разумеется, не особенно приятны, и тела обычно слишком вытянуты, однако при всем том было в них что-то характерное, позволявшее говорить об известном художественном вкусе. Дерево, из коего они изготовлялись, было красиво отполировано, плотное, темно-коричневого цвета, как казуарина. Казуарин мы здесь не встречали; тем больше ждали возвращения нашей экспедиции, надеясь, что она принесет нам открытия, которые позволят объяснить и это обстоятельство. Резные человеческие фигурки очень понравились Махеине; они были выработаны гораздо лучше, чем э-ти, которых делали у него на родине. Он приобрел несколько штук, уверяя, что на Таити за них дадут очень большую цену.
Усердно разыскивая сии диковины, он однажды нашел женскую руку примерно натуральной величины, вырезанную из желтого дерева. Пальцы ее были отогнуты вверх, как это обычно делают таитянские танцовщицы, а ногти были очень длинные, они выдавались над кончиками пальцев больше чем на три четверти дюйма. Сделаны они были из редкого благоуханного таитянского дерева, которым там обычно придают хороший запах маслу. Этого дерева мы тоже не встречали на острове Пасхи, не замечали мы здесь и обычая отпускать длинные ногти. Так что трудно понять, как попала сюда эта красиво выделанная вещица. Махеине потом подарил ее моему отцу, который передал ее в Британский музей. Кроме того, Махеине старался набрать как можно больше головных уборов из перьев; особенно нравились ему украшения из перьев фрегата, поскольку на Таити это редкая птица и там ее очень высоко ценят за блестящие черные перья.
Покуда капитан Кук находился в бухте, у источника шла торговля картофелем. Жадность до наших товаров побуждала жителей обманывать даже собственных земляков. Как раз неподалеку от источника находилось поле сладкого картофеля. Несколько человек, старых и молодых, усердно принялись выкапывать его и продавать. Торговля продолжалась уже несколько часов, когда появился еще один индеец. Он очень сердито прогнал их и продолжал выкапывать картофель сам. Это был настоящий хозяин поля, а прочие воровали у него, пользуясь случаем. Такое воровство встречается, конечно, и на островах Общества, но там, нам рассказывали, оно карается смертью, хотя мы ни разу не видели примера такого наказания. На острове же Пасхи, как мы убедились, подобное воровство проходит совсем безнаказанно. Дело, видимо, в разном уровне культуры обоих народов, как ни близки они в других отношениях.
В полдень мы поднялись на борт и пообедали курами с картофелем; после нашей трудной прогулки блюдо это показалось нам превосходным. На корабле мы встретили несколько островитян, которые отважились приплыть сюда с берега, хоть до него и было три четверти мили. Все их здесь удивляло. Каждый измерил с помощью расставленных рук длину корабля от носа до кормы. Для народа, который сшивает свои каноэ из маленьких кусочков, такое обилие дерева, да еще таких размеров, конечно же, должно было показаться чем-то непостижимым.
Надежда чем-нибудь поживиться побудила и одну женщину пуститься вплавь к нашему судну. Сперва она посетила унтер-офицеров, затем перешла к матросам. В своих вожделениях она была ненасытнее Мессалины[380], но за услуги получила лишь несколько английских тряпок да кусок таитянской материи. Ее увезли на сшитом из кусочков каноэ, которое, похоже, было единственным на острове. За день до того другая женщина тоже вплавь посетила корабль и вела себя так же распутно. Поистине неизвестно, чему нам стоило больше удивляться: успеху ли ее у наших больных, изголодавшихся моряков или неутомимость ее в распутстве?
После полудня мы снова сошли на берег, и я отправился к южным горам. Идти вверх не представляло труда, так как подъем был чрезвычайно пологий. Я увидел там большой банан, а дальше — развалины каменной кладки, на которой когда-то, видимо, стояло изваяние. Оттуда я пошел полями, где встретил семейство, занятое выкапыванием картофеля. Я направился к хижине, такой же маленькой, как и другие. Когда я к ней приблизился, вокруг меня собрались жители. Я сел среди них. Их было шесть или семь, в том числе женщина и два маленьких мальчика. Они дали мне немного сахарного тростника, а я в ответ — кусок таитянской материи, которой они тотчас обмотали головы. В дальнейшем они оказались не так любопытны, как жители островов Общества, и скоро опять вернулись к работе. У некоторых имелись головные уборы из перьев, они мне их предложили в обмен на кусок материи размером с носовой платок. Возле хижины я увидел нескольких кур, единственных живых кур, которых я до сих пор встретил на острове.
Со мной жители вели себя вполне дружелюбно, как это вообще свойственно народам Южного моря. По некоторым местам в описании плавания Роггевена можно предположить, что голландцы просто для развлечения открыли огонь по этим бедным людям, не причинившим им никакого зла, и многих убили, а на других нагнали страху. Возможно, что наше прибытие вновь пробудило в них этот страх перед смертоносным европейским оружием, который, вероятно, еще подкрепили испанцы, и потому они держались с нами так робко и пугливо. Но нельзя отрицать, что и в самом их характере есть что-то мягкое, какая-то сострадательность и добросердечность, делающие их столь услужливыми по отношению к чужеземцам и, насколько позволяет их скудная земля, гостеприимными.
Затем я пустился в обратный путь и вместе с капитаном Куком вернулся на корабль. В 8 часов мы услышали с берега выстрел. Это был сигнал, вызывающий шлюпку. Мы тотчас послали туда лодку и она доставила на борт нашу экспедицию. Мой отец из-за давних ревматических болей утомился больше других и сразу отправился в постель; остальные же поужинали с нами купленными на берегу и уже приготовленными курами. Они рассказали о своих приключениях, и, так как лучше, чтобы этот рассказ был связным, хочу привести отрывок из отцовского дневника:
«Выйдя на берег, мы сразу двинулись в глубь острова вдоль подножия самой высокой горы, расположенной на юге, пока не достигли другой стороны острова. Около сотни туземцев, в том числе четыре-пять женщин, сопровождали нас в этом походе. Они продали нам много картофеля и нескольких кур, что существенно пополнило наш продовольственный запас. Впереди шел человек средних лет с татуировкой по всему телу и с белыми полосами на лице, он держал на небольшой палке белый платок, призывая своих земляков давать нам дорогу. Земля всюду была покрыта ноздреватыми камнями разной величины, черного, бурого или красноватого цвета с явными следами вулканического огня. Тропа была сравнительно свободна от камней, но так узка, что нам пришлось идти по одной линии. Для местных жителей это не составляет труда, они и так обычно ставят одну ногу перед другой. Для нас же такой способ ходьбы был несколько непривычным и потому очень утомительным. Мы часто спотыкались и нередко теряли равновесие. По обеим сторонам тропы земля поросла тонкой многолетней травой (Paspalum). Она росла здесь маленькими кустиками и была такой скользкой, что по ней почти невозможно было идти.
На восточном берегу мы увидели ряд изваяний, числом семь, четыре из них стояли прямо, одно уже потеряло свою шапку. Все они находились на постаменте, как и те, что мы видели на другом берегу острова; камни его были также обтесаны и хорошо подогнаны друг к другу. Хотя камень, из которого сделаны эти изваяния, кажется довольно мягким и представляет собой красный туф, которым покрыт весь остров, все-таки трудно понять, как народ, не имеющий ни инструментов, ни вспомогательных механизмов, мог обработать и поставить такие большие глыбы. Общее название этого восточного ряда было Ханга-Тебау; слово ханга предшествует названиям всех рядов этих изваяний. Отдельные изваяния называются Ко-Томо-ири[381], Ко-Ху-у, Морахина, Умарива, Винабу, Винапе.
Оттуда мы пошли на север к морю, миновали глубокую пропасть, которая осталась справа от нас. Почва на обширном пространстве состояла из того же самого вулканического туфа, из коего сделаны изваяния, и была покрыта мелкими камнями.
Вскоре мы вышли к месту, состоявшему из цельной, крепкой, сплошной скалы или черной расплавленной лавы, содержавшей, видимо, в своем составе железо. Ни почвы, ни травы, никаких растений здесь не было. Затем мы пересекли поля, засаженные бананами, картофелем, ямсом и корнем Arum. Трава, пробивавшаяся меж камней, была выполота и разбросана по земле, то ли для того, чтобы прикрыть ее от солнца и тем самым увлажнить, то ли для удобрения.
Всюду, куда мы приходили, нам предлагали купить уже приготовленный картофель, а возле одной хижины мы купили немного рыбы. Некоторые туземцы были вооружены. Оружие представляло собой просто упомянутые выше палки с осколком черной стеклообразной лавы; они были тщательно обернуты в небольшой кусок материи. Лишь один держал боевой топорик, короче новозеландского, но в остальном очень на него похожий. На каждой стороне его вырезана голова, в которую вместо глаз вставлены несколько кусочков упомянутого черного стекла. У них было также несколько бесформенных человеческих фигурок из дерева, о значении или употреблении которых мы не смогли ничего узнать; думается, однако, что наше неведение не дает нам права считать их изображениями идолов, за которые часто выдают скульптуры неизвестных народов...
Покинув эту хижину, мы прошли немного дальше на север, но не встретили ничего нового. Со стороны близлежащих домов нам навстречу вышли мужчина и женщина, каждый нес по большому мешку из тонко выделанных циновок; в мешках был горячий картофель. Они сели возле тропы, по которой мы должны были пройти. Когда мы приблизились, мужчина дал каждому из нас по несколько картофелин из мешка. Разделив большую часть, он быстро догнал тех, кто шел впереди, и раздал все до конца. За свою долю я отплатил ему большим куском материи, и это был единственный ответный подарок, полученный им за щедрость, подобной которой я не встречал даже на Таити.
Вскоре эти люди сказали, что навстречу нам идет их эри, или арики, то есть король. Впереди шли несколько человек; в знак дружбы они дали каждому из нас сахарный тростник, произнося при этом „Хио!", что на их языке означает примерно „друг"[382]. Потом мы увидели короля, стоявшего на возвышенности, и поднялись к нему. Господин Пикерсгилл и я преподнесли ему подарки. Мы справились о его имени. Он сказал, что его зовут Ко-Тохитаи, но тотчас добавил, что он эри. Мы спросили затем, является ли он правителем какого-то округа или повелевает всем островом. На этот вопрос он распростер обе руки, словно хотел обнять остров, и сказал: „Ваиху"[383]. Чтобы показать, что мы его поняли, мы положили руки себе на грудь, назвали его но имени и добавили титул: ,,король Ваиху". Он, судя по всему, был доволен и завел долгий разговор со своими подданными. Он был средних лет, довольно высок. Лицо и тело покрывала татуировка. Одежда его состояла из куска материи, сделанной из коры шелковицы, прошитой нитками и выкрашенной в желтый цвет куркумой. На голове у него был убор из длинных блестящих черных перьев, который вполне можно назвать диадемой. Мы, однако, не заметили, чтобы народ оказывал ему какие-либо особые почести; да и в самом деле, в столь бедной стране он не мог претендовать на большие преимущества. Когда мы захотели продолжить путь, он проявил неудовольствие, попросил нас вернуться и вызвался сопровождать. Поскольку наш офицер решил идти дальше, он пошел с нами.
Мы поднялись на возвышенность и там остановились, чтобы подкрепиться, а кроме того, дать господину Ходжсу время зарисовать некоторые монументы. Возле одного из них мы нашли полный человеческий скелет. Более подробные сведения о некоторых из этих монументов содержатся в сообщении об этом плавании капитана Кука. Матросы уселись на землю и разложили перед собой свою провизию, офицеры же и другие наши люди завязали разговор с индейцами. Матрос, который должен был нести мой мешок с растениями, а также с небольшим количеством гвоздей, оставил его без присмотра. Один из дикарей воспользовался сим, схватил мешок и убежал. Никто этого не заметил, кроме лейтенанта Эджкомоа. Он тотчас выстрелил по вору дробью, чем вызвал у всех нас некоторое беспокойство. Дикарь, почувствовав, что ранен, тотчас бросил мешок, и наши люди принесли его обратно. Вскоре бедный шельма сам упал на землю. Земляки подняли его, но держались поодаль, пока мы не показали им знаками, чтобы они возвращались. Почти все так и сделали. Хотя за время нашего пребывания здесь это и был единственный случай, когда по жителю острова стреляли, все же достойно немалого сожаления, что европейцы столь часто считают возможным наказывать людей, вовсе не знакомых с их законами.
Отсюда мы пошли еще дальше в глубь острова и дошли до глубокого колодца, устроенного, по-видимому, искусственно. Вода в нем была хорошая, пресная, хотя и немного мутная. Сильно измученные жаждой, мы попили и пошли дальше мимо больших поваленных статуй. Перед нами оказались те два холма, на которых двенадцатого с корабля мы заметили изваяния. Поблизости находилась возвышенность, откуда открывался просторный вид на море по обе стороны острова, а также на равнину, которую мы видели и с корабля. Мы смогли обозреть все восточное побережье со множеством изваяний и убедились, что на той стороне острова нет ни заливов, ни гаваней. Выяснив все это, мы вернулись обратно и подошли к большой статуе, которую туземцы называли Манготото. В ее тени мы пообедали. Поблизости была видна другая, еще большая, но поваленная статуя. Она имела 27 футов в длину и 9 футов в поперечнике и превосходила размером все виденные нами до сих пор.
На обратном пути мы еще раз остановились у источника, чтобы утолить жажду. Солнце палило немилосердно, и его лучи отражались от голых скал. Оттуда мы поднялись к горам, пересекавшим остров поперек. Туда вела особенно неудобная тропа, земля повсюду была покрыта вулканическими шлаками и совершенно пустынна, хотя время от времени встречались признаки того, что когда-то она обрабатывалась. Здесь я наконец почувствовал, до чего ослабил меня долгий ревматизм. Все мои члены были, если можно так сказать, увечными. Я не мог поспевать за другими, хотя обычно не уставал так быстро.
Увидев, в какой трудный путь мы собрались, островитяне дальше не пошли. С нами остались лишь один мужчина и мальчик. Поскольку наши офицеры и сопровождающие их не пожелали идти к кораблю ближним путем, я отделился от них и вместе с доктором Спаррманом, одним матросом и обоими индейцами пошел короткой дорогой, которую последние нам показали. Старик увидел, что я был очень слаб. Тогда он предложил мне руку и ловко пошел рядом со мной сбоку от тропы, прямо по камням. Так он вел меня довольно долго, весьма облегчив мне ходьбу. Мальчик бежал впереди и очищал тропу от камней. Делая частые привалы, мы поднялись наконец на гору, откуда увидели наш корабль, стоявший на якоре. Гора поросла мимозой, которая здесь достигала 9—10 футов в высоту. Некоторые стволы у самого корня были толщиной с бедро человека.
По пути мы натолкнулись еще на один источник. Но вода в нем имела гниловатый привкус и пахла тухлым яйцом. Все-таки мы немного попили из него. Солнце уже близилось к закату, нам пришлось еще почти два часа спускаться с горы в темноте, так что помощь индейца оказалась кстати вдвойне. Я подождал господина Пикерсгилла и его команду, потому что обогнал их почти на три мили. Мы проделали не менее 25 миль трудного пути, не встретив ни единого деревца, которое могло бы нас защитить от палящего солнца. Я отдал в награду моему доброму проводнику всю таитянскую материю и весь запас гвоздей, который имел при себе, и наконец со всем отрядом благополучно возвратился на борт».
Из этого сообщения можно видеть, что даже самые тщательные исследования еще не проливают вполне света на достойные удивления предметы, замеченные нами на этом острове. Что касается громадных изваяний, которые здесь встречаются так часто и сооружение которых явно не по силам нынешним обитателям острова, то вполне можно считать их остатками былых, лучших времен. Ибо число жителей на всем острове, по самым точным нашим подсчетам, не могло превышать 700 человек[384], и эти люди способны были добывать только самое необходимое для поддержания своего жалкого существования. У них нет никаких инструментов, нет даже крова и самой необходимой одежды. Голод и нужда слишком преследуют их, чтобы они могли хотя бы помыслить о сооружении таких изваяний, для создания которых понадобилась бы вся их жизнь, а для установки — объединенные усилия всего народа. Сколько мы ни ходили по острову, мы не увидели ни одного инструмента, который мог быть как-то использован для ваяния или строительства; не встречали мы и свежих каменных осколков или незаконченных статуй, кои можно было бы счесть за работу теперешних обитателей острова. Представляется вероятным, что когда-то здесь жило население гораздо более многочисленное, более зажиточное и счастливое; во всяком случае, оно имело достаточно времени, чтобы удовлетворять тщеславие своих принцев, увековечивая их памятниками. Это предположение в известной мере подтверждалось следами посадок, которые встречались местами на вершинах гор. Впрочем, трудно сказать, по каким причинам народ мог сделать такой шаг назад в отношении как численности, так и благосостояния. Возможно несколько предположений. Так, вполне достаточно извержения вулкана, чтобы произвести опустошения, особенно губительные для народа, живущего на столь небольшом пространстве. Кто знает, не был ли когда-то сам остров создан деятельностью вулкана — ведь все здешние породы вулканического происхождения. Значит, новые извержения могли бы его и погубить. Такая ужасная катастрофа способна уничтожить все деревья и растения, всех домашних животных, даже большую часть людей, а избежавших огня, увы, преследовали бы слишком могущественные враги — голод и нужда[385].
Не могли мы пока объяснить и происхождения упомянутых выше маленьких резных фигурок и руки танцовщицы, найденной Махеине. Они были сделаны из породы дерева, которая сейчас на острове не встречается. Вот что могло нам по этому поводу прийти на ум: они сделаны в прежние времена и в ходе всеобщей катастрофы, постигшей остров, сохранились до сих пор, должно быть, либо чисто случайно, либо благодаря чьей-то особой заботе[386].
Всех женщин, которых мы видели в разных частях острова, насчитывалось не более тридцати. Наши люди, обошли весь остров чуть ли не из конца в конец, но не обнаружили нигде ничего, позволявшего предположить, что остальные спрятались в какой-то его отдаленной части. Если их действительно было не больше тридцати-сорока на шестьсот или семьсот мужчин, то весь народ обречен был в скором временя на вымирание; или же все известное до сих пор о численном превосходстве мужчин (полиандрии)[387] надо считать неверным. Большинство женщин, которых мы видели, правда, не давали нам основания предполагать, что они живут с единственным мужчиной; скорее они были родственны по духу Мессалине или Клеопатре[388]. И все же такое неравенство в соотношении полов — феномен столь странный, что мы не видим ему пока удовлетворительного объяснения и считаем, что надо обсудить любой возможный аргумент. Ни один из наших отрядов не обнаружил, правда, какой-нибудь отдаленной или обособленной долины, где во время нашего пребывания могли бы скрываться остальные женщины; однако мы должны напомнить читателям об упоминавшихся выше пещерах, куда туземцы никогда не позволяли нам войти. Исландские пещеры настолько просторны, что там могут разместиться несколько тысяч человек; вполне вероятно, что на таком вулканическом острове подобные пещеры тоже могут быть достаточно просторными, чтобы вместить несколько сот человек. Мы, правда, не видели причин, почему жители острова Пасхи должны были более ревниво относиться к своим женщинам, чем таитяне; но мы знаем, как бывают распутны и несдержанны моряки, особенно если они имеют над индейцами такое превосходство, какое имели голландцы и испанцы над жителями острова Пасхи. Самое серьезное возражение против такой гипотезы заключается в том, что детей, которых мы могли видеть и которых прятать не было надобности, во всяком случае по причинам, по коим они могли прятать женщин, здесь тоже мало. Приходится оставить этот вопрос нерешенным. Если же число женщин действительно так мало, как мы предположили, то уменьшиться оно могло в силу совершенно чрезвычайного события, и как раз об этом туземцы могли бы нам рассказать. Но из-за недостаточного знания языка все наши попытки что-либо узнать остались безрезультатными.
На другое утро на берег была послана шлюпка за водой, а так как погода оставалась безветренная, то за ней последовала и вторая, чтобы приобрести у местных жителей еще картофеля. Один из туземцев тоже плавал на своей лоскутной пироге, доставляя на корабль картофель и бананы. Сильный ливень позволил команде с помощью парусов и чехлов собрать изрядный запас пресной воды. После полудня на берег отправилась еще одна шлюпка, но, так как к вечеру поднялся ветер, был дан сигнал из пушки, после чего она сразу вернулась на борт и мы поплыли на северо-запад, затем на запад.
Мы полагали, что сможем найти здесь хорошее место для отдыха и торга, однако наши надежды не оправдались. Единственное, чего тут оказалось в достатке, так это сладкого картофеля, однако, после того как мы поровну распределили весь запас, на каждого простого матроса пришлось лишь по нескольку небольших порций. Бананов, ямса и сахарного тростника было так мало, что почти не стоило и торговать. Кур, к тому же весьма мелких, не было куплено и полусотни; даже воды мы здесь набрали немного, к тому же она оказалась и плохой на вкус. Но сколь ни скудна была добытая провизия, она пришлась ко времени и, во всяком случае, помогла нам избежать более сильных приступов цинги и желчной болезни до тех пор, пока мы не получили возможности добраться до места, более богатого продовольствием. Еще удивительно, что при своей бедности туземцы вообще доставляли нам столько съестных припасов, возделывание которых дается им с таким тяжким трудом.
Бесплодная каменистая почва, малочисленность домашних животных, которых становится еще меньше, недостаток вершей и других приспособлений для ловли рыбы делают их пропитание скудным и ненадежным. Тем не менее в погоне за незнакомыми безделушками и диковинами они уступали нам часть его, забыв о своей нужде.
В этом отношении, да и во множестве других они очень похожи на жителей Новой Зеландии, Таити и островов Дружбы, с которыми имеют общее происхождение. Лица их но строению так похожи, что сразу видна принадлежность к одному народу. Светло-коричневым цветом кожи они напоминают новозеландцев; татуировка, одежда из коры шелковицы, особое пристрастие к красной краске и одежде красного цвета, форма и выделка палиц, способ приготовления еды — все это роднит их с названными выше народами. Следует упомянуть также сходство языков. Диалект острова Пасхи во многом напоминает новозеландский, прежде всего твердым произношением и наличием гортанных звуков. В других отношениях у него много общего и с таитянским диалектом[389]. Монархическая форма правления — также сходная черта между жителями острова Пасхи и обитателями других островов Южного моря, расположенных между тропиками. Все различие между ними заключается в большей или меньшей плодородности острова и в большей или меньшей степени богатства и любви жителей к удовольствиям. Остров Пасхи, или Ваиху, как он называется на местном языке, неплодороден, на нем произрастает не более двадцати видов растений, к тому же они большей частью могут расти только на обрабатываемых полях, которых в общем ничтожно мало среди пустынной земли. Почва всюду каменистая и опалена солнцем. Пресная вода так редка, что жителям приходится довольствоваться лишь немногими источниками, к тому же довольно гниловатыми. Некоторые из наших людей видели, как они, чтобы утолить жажду, иногда пили даже морскую воду[390].
Все это, естественно, не могло не сказаться на их телосложении. Они худы, мускулы у них твердые. Живут крайне плохо и бедно, почти все ходят нагими и покрывают только голову, поскольку она больше всего страдает от жары; так что весь их наряд иногда составляет шапочка из перьев. Незакрытая часть лица покрыта татуировкой либо раскрашена. Естественно, их понятия о достоинстве отличаются от представлений одетых народов. Для чистоты они подстригают бороду и волосы, как это делается на Тонгатабу, но похоже, что проказе они подвержены меньше тех. Можно себе представить, что король такого народа не имеет особенно существенных преимуществ перед своими подданными. По крайней мере, мы не заметили ничего, что можно было бы счесть за таковые.
Религия туземцев осталась нам совершенно неизвестна, поскольку такого рода абстрактные идеи трудно исследовать за столь короткое время, каким мы здесь располагали. Статуи, воздвигнутые в память их королей, очень похожи на деревянные фигурки, называемые ти, что выставляются на марай или на погребениях знати у таитян. Мы, однако, не можем считать их изображениями идолов, как предполагали спутники Роггевена. Костры, которые они сочли жертвенными огнями, служили туземцам для приготовления пищи, и, хотя испанцы предположили, что с ними может быть связано какое-то суеверие, видимо, они тоже ошиблись. Ибо недостаток в топливе заставляет туземцев обходиться с ним очень бережливо и следить, чтобы еда, закопанная в землю вместе с разогретыми камнями, доставалась вовремя.
О развлечениях островитян мы сказать ничего не можем, так как при нас ничего подобного не происходило. Не видели мы у них и музыкальных инструментов. Однако похоже, что они у них все-таки имеются, потому что Марувахаи, ночевавший у нас на борту, довольно много говорил о танцах, перестав опасаться за свою жизнь.
Воинственности мы у них не заметили; они слишком немногочисленны, и все слишком бедно живут, чтобы между ними могли возникнуть какие-либо внутренние распри. Также невероятно, чтобы они могли быть вовлечены в какую-либо войну с чужеземцами, ибо до сих пор неизвестен даже маленький остров, расположенный к ним достаточно близко, с которым они могли бы иметь связь. Во всяком случае, на эту тему мы ничего не слышали от туземцев. Довольно странно, что, несмотря на это, они обладают разнообразным оружием, напоминающим новозеландское. Мы, однако, так же мало способны объяснить это, как и многое другое[391].
Если считать, что остров Пасхи, как уже говорилось, действительно был когда-то, на свою беду, разрушен вулканическим огнем, то жители его заслуживают большего сожаления, чем любой другой, менее цивилизованный народ. Ибо тогда они могли иметь представление о многих преимуществах и благах жизни, которыми владели когда-то, и память об этом при нынешней бедности должна быть для них очень горька. Махеине часто сокрушался об их бедности и, казалось, сочувствовал им больше, чем новозеландцам, так как они действительно беднее и гораздо сильнее страдают от недостатка многих вещей. Поэтому он добавил к своему пучку-дневнику вторую палочку и всегда вспоминал остров Пасхи со словами: «Тата маитаи веннуа ино», что значило: «Народ хороший, но остров очень беден». В Новой Зеландии жители ему понравились меньше, чем сама земля. Его чувства всегда оставались чувствами человека с горячим сердцем, которое благодаря воспитанию исполнилось подлинного человеколюбия; вообще он был справедлив, неиспорчен и умен, а ум его, хоть и необразован, зато свободен от многих предрассудков.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Плавание от острова Пасхи к Маркизским островам.— Стоянка в бухте Мадре-де-Дьос на острове Вайтаху.— Путь оттуда через низменные острова к Таити
От острова Пасхи мы плыли при таком слабом ветре, что на другой день находились еще в виду острова, едва в 15 милях от берега. Было душно, и у капитана Кука случился рецидив желчной лихорадки. Его, видимо, очень напекло, когда он был на берегу в часы самой сильной полуденной жары. У всех, кто сопровождал его в долгом, тяжелом марше по острову, обожгло до пузырей лицо, и эти ожоги становились чувствительнее с каждым днем по мере того, как облезала кожа.
Сколь ни кратковременно было наше пребывание на острове и как ни мало вкусили мы там свежих растений, все же больные оправились от цинги и жаловались еще разве что на слабость. Свежая пища, которой мы получили так немного на острове Пасхи, лишь сильнее раздразнила наш аппетит; тем нетерпеливее ожидали мы появления островов маркиза Мендосы [Маркизские острова], к коим держали теперь курс. К счастью, на другой день подул более свежий, устойчивый ветер, подбодривший нас и укрепивший наши надежды.
Тем сильнее мы обеспокоились, когда несколько дней спустя кое-кто из команды вновь стал жаловаться на болезни, особенно на запоры и желчную лихорадку — эти смертельные недуги жарких широт. В числе больных оказался и сам врач. Это обстоятельство вызывало особую озабоченность. Но самым неприятным было то, что больные не могли есть имевшийся у нас сладкий картофель; для их слабых желудков это была слишком тяжелая пища.
Штиль, застигший нас 24 [марта] под 17° южной широты, видимо, оказал на наших больных самое неприятное воздействие. Самочувствие многих ухудшалось прямо на глазах. Самого капитана Кука опаснейшие приступы вынудили опять слечь. К счастью, уже после полудня снова установился хороший ветер. День ото дня он свежел, и воздух приятно похолодал; для больных желчной лихорадкой это была самая благотворная погода. Немного ожив, они появились на палубе и, насколько им позволяла слабость, пытались прогуливаться, вернее, кое-как ползать.
Мой отец велел убить свою таитянскую собаку, единственную, что еще оставалась живой на борту, и капитан Кук несколько дней питался ее мясом. Он был не в состоянии есть обычную корабельную пищу, и мы сочли счастливой случайностью, что могли дать хоть что-то, что поддержало бы жизнь человека, от которого зависел успех всего путешествия.
После отплытия с острова Пасхи мы каждый день видели фаэтонов и буревестников (Schearwates or Puffins of the Isle of Man)[Procellaria Paffinus], а также летучих рыб, которых особенно много было 27-го. Рыбы, однако, были маленькие, самая крупная не больше пальца, а самые мелкие едва достигали одного-полутора дюймов. В полдень этого дня мы находились под 13° 13' южной широты.
С 24-го, когда море было спокойно, дул постоянный и сильный восточный ветер, очень благоприятствовавший плаванию. При этом погода была такая ясная, что море, цветом всегда соответствовавшее небу, сияло прекрасной чистой синевой. Время от времени мы видели корифен, бонит и акул; разнообразные птицы, охотившиеся на летучих рыб, оживляли пейзаж.
Особенно хорошо было то, что ветер смягчал жару, так что можно было с удовольствием прогуливаться по палубе. Это в какой-то мере прибавило нам бодрости и освежило наших больных, которые теперь в буквальном смысле слова жили ветром и надеждой, поскольку больше не оставалось ничего, чем они могли бы подкрепиться. Запас плодов и овощей, взятый с острова Пасхи, был съеден, и приходилось опять либо довольствоваться жалкой солониной, потерявшей за три года плавания сок и питательность, либо решиться голодать и перебиваться скудными порциями сухарей. Поистине мы едва могли дождаться времени, когда все это будет позади, и температура наших ожиданий подскакивала и падала в зависимости от усиливавшегося или ослабевавшего ветра.
Были тщательно изучены все наличные сведения о путешествии Менданьи. Расстояние от перуанского побережья до Маркизских островов указывалось в них неопределенно, поэтому каждый был волен в своих надеждах, желаниях и предположениях. Мы, во всяком случае, каждый день заново уточняли свои расчеты. Пять дней подряд мы проходили по разным местам, которые наши географы указывали в качестве координат этих островов. Некоторые из участников нашего плавания, то ли недостаточно хитрые, чтобы скрывать свои настроения, то ли слишком простодушные, прямо говорили, что на таких неопределенных сведениях нельзя строить каких-либо гипотез, и как будто забавлялись, когда наши ожидания одно за другим рассыпались в прах.
Во время этого плавания выдалось несколько прекрасных вечеров, особенно 3 апреля, когда при заходящем солнце небо и облака переливались разными оттенками зеленого цвета. Подобное явление уже наблюдал Фрезье[392]; оно возникает, когда воздух насыщен испарениями, что часто случается между тропиками. В тот же день мы поймали небольшую прилипалу (Echeneis Remora), присосавшуюся к летучей рыбе, которая была наживлена на крючок в качестве приманки. Таким образом, ошибочно предположение, будто эти маленькие животные присасываются только к акулам. Примерно в это же время мы заметили большую рыбу из рода скатовых, которую некоторые авторы называют «морской черт». Она во всем похожа на ту, что мы видели 1 сентября 1772 года в Атлантическом море. Морские ласточки, фрегаты и фаэтоны попадались с каждым днем все чаще, по мере того как мы продвигались на запад и приближались к желанным островам.
Наконец 6 апреля пополудни мы увидели маленький крутой остров. Часть его была покрыта туманом, который усиливался по мере нашего приближения. Так что нельзя пока было ни разглядеть землю как следует, ни понять по ее виду, можно ли там будет найти провизию. Кирос, видимо, описавший плавание, совершенное в 1595 году испанским аделантадо, или генерал-капитаном, доном Альваро Менданьей де Нейра, замечательно рассказал об открытой в тот раз группе островов. Тогда же они и получили название островов маркиза Мендосы, в честь вицекороля Перу дона Гарсиа Хуртадо де Мендосы, маркиза Каньете, который снарядил эту экспедицию[393]. Мы самым внимательным образом проштудировали это описание, дабы составить по возможности ясное представление о земле, что теперь лежала перед нами и привлекала к себе все наше внимание.
На следующее утро мы поспешили к берегу. Хотя воздух был полон испарений, мы вскоре смогли различить отдельные острова, названные испанцами Доминика [Хива-Оа], Сан-Педро [Мотане] и Санта-Кристина [Тахуата]. Мы также установили, что крутой остров, который встретился нам первым, не был замечен Менданьей. Поэтому капитан Кук назвал его островом Гуд [Фату-Хуку], в честь молодого моряка с нашего корабля, который первым его увидел.
Ближе всего к нам находился Доминика, высокий гористый остров, на северо-востоке очень крутой и бесплодный. На северной его стороне видны были лесистые долины с редкими хижинами. Едва рассеялся туман, как мы увидели множество башнеобразных острых скал, а посреди острова несколько полых горных вершин, свидетельствовавших, что облик и свойства этой земли определяют огнедышащие горы и землетрясения. Вся восточная часть представляла собой высокую крутую стену; здесь взгляду открывались то отвесные вершины, то разверзшиеся пропасти.
Сан-Педро — небольшой остров меньшей высоты; он, однако, не показался нам ни особенно плодородным, ни сильно населенным. Наиболее многообещающим представлялся самый западный остров, Санта-Кристина. Он был, правда, высок и крут, но там все-таки были отдельные долины, расширявшиеся к морю, а леса доходили до самых вершин.
В 3 часа мы прошли между южной оконечностью Доминики и северо-восточной частью Санта-Кристины по проливу, ширина которого составляла здесь около 2 миль. На обоих островах между гор видны были приятные долины, хотя, конечно, и несравнимые с теми, что украшали острова Общества. При всем том берег Санта-Кристины выглядел так чарующе, что пробуждал в столь изможденных мореплавателях, какими были мы, новые надежды. Мы проплыли мимо нескольких маленьких бухт, где у берега бушевал сильный прибой. Между двумя выступавшими мысами находилась долина, которая очень нам понравилась своими красивыми лесами и плантациями, благодаря которым земля была одета в зеленый наряд.
На берегу мы увидели несколько туземцев, они бегали туда-сюда и с любопытством глазели на корабль. Некоторые спустили на веду каноэ и попытались доплыть до нас, однако сильный ветер быстро гнал корабль, и они далеко отстали. На западной стороне острова мы нашли прелестную бухту и очень захотели бросить там якорь. Но когда мы развернулись, чтобы войти в нее, с высоких гор налетел шквал, такой сильный, что корабль совершенно лег на бок, потеряв среднюю брам-стеньгу[394], и едва-едва проскочил мимо камней у южного края бухты. Тем временем около пятнадцати каноэ отошли от разных мест берега и поплыли к кораблю. Некоторые из них — двойные, с пятнадцатью гребцами, в других — поменьше — находилось от трех до семи человек.
Едва бросив якорь, мы с помощью всякого рода дружелюбных знаков и таитянских слов пригласили местных жителей приблизиться к борту. Они, однако, решились на это не сразу, а подойдя, протянули в знак мира перечное растение, как это принято и на островах Общества, и на островах Дружбы[395]. Как только мы прикрепили эти дары на снастях, они продали нам в обмен на гвозди несколько свежих рыб и больших, совершенно зрелых плодов хлебного дерева, вид которых вызвал радость у всех на корабле.
Туземцы были красивые, хорошо сложенные люди с желтоватой или светло-коричневой кожей, которая, однако, казалась черноватой из-за густой татуировки, украшавшей их тела. Они ходили совершенно нагие, лишь на бедрах был повязан кусок материи, похожей на таитянскую. Борода и волосы были блестящие и черные, а язык больше походил на таитянский, чем на другие диалекты Южного моря, с той только разницей, что здесь не выговаривали «р». Свои очень узкие лодки они делали из сшитых друг с другом планок. Лопасти весел напоминали таитянские и снабжены были сверху круглой головкой.
Мы справились прежде всего о свиньях и попросили привезти их. К вечеру мы имели удовольствие видеть одну возле корабля; ее сразу отдали нам. С наступлением темноты все лодки пропали, как это обычно бывает у народов Южного моря, которых даже столь необычное зрелище, как европейский корабль, не заставит провести ночь без сна. В долинах вокруг нашей гавани было много деревьев, и все подтверждало, кажется, предположение, почерпнутое нами из испанского описания, что мы бросили якорь в гавани Мадре-де-Дьос [бухта Вайтаху].
Согласно астрономическим наблюдениям, она расположена под 9°55' южной широты и 139°8' западной долготы. Сквозь деревья, насколько мы могли видеть, всюду светились огни, из чего справедливо было заключить, что остров густонаселен.
На следующее утро мы могли насладиться прекрасным видом этой земли лучше, нежели накануне, когда облака скрывали ее от наших глаз. В южной части виден был круто поднимавшийся недоступный пик. Вся северная часть представляла собой черную обожженную гору, покрытую до самой вершины зарослями казуарины; отроги ее изгибались вдоль берега и были размыты.
В глубине гавани видна была высокая гора, напоминавшая своей плоской вершиной Столовую гору на мысе Доброй Надежды. С двух сторон от берега к ней вели лесистые долины. На вершине этой, по-видимому, крутой горы мы заметили изгородь или укрепление из жердей, и через подзорную трубу различили внутри ее нечто, показавшееся нам жилыми хижинами туземцев. Испанцы назвали ее крепостью; подобно новозеландским хиппа, это укрепление тоже располагалось на высокой скале и было обнесено изгородью.
Вскоре после восхода солнца показались каноэ, привлеченные вчерашним торгом. В обмен на гвозди нам продали много плодов хлебного дерева. Жители привезли на продажу также бананы и вначале торговали вполне честно, хотя ни у кого не хватило смелости подняться на борт. Вскоре, однако, мы увидели, что нравом они совершенно напоминают таитян. Некоторые начали откровенно нас обманывать, брали в оплату за плоды хлебного дерева гвозди, но самих плодов не давали. Тогда капитан счел необходимым поддержать наш авторитет среди этого народа и навести страх на обманщиков. Он приказал выстрелить поверх голов из мушкета. Сей грохот произвел желаемое действие, они ошеломленно отдали нам плоды, на которых только что хотели нас обмануть.
Некоторые, сбыв свои товары, поднялись на борт поглазеть вокруг и себя показать. Когда капитан собирался сесть с моим отцом в шлюпку, один из них обратил внимание на большую железную стойку, с помощью которой закрепляются снасти при высадке и посадке. Он внезапно схватил ее, прыгнул со своей добычей за борт и, невзирая на тяжесть ноши, очень легко поплыл к каноэ своего товарища, надеясь там оказаться в безопасности. Увидев такое воровство, капитан Кук, еще не успевший сесть в шлюпку, приказал выстрелить из мушкета поверх головы похитителя, а сам в шлюпке поплыл за ним вдогонку. Выстрел, однако, не произвел на дикаря особого впечатления, он уже плыл в каноэ. Капитан Кук приказал выстрелить еще раз. Один офицер, в этот момент вышедший на палубу, был так возмущен дерзостью индейца, что схватил мушкет и убил несчастного на месте. Едва тот упал, его испуганный спутник незамедлительно выбросил стойку, из-за которой произошло несчастье, в море, и капитан, как раз нагнавший их, подоспел во всех отношениях слишком поздно. Он с горечью увидел, как другой дикарь вычерпывал из лодки в море кровь убитого товарища, за его каноэ поспешили к берегу другие.
Теперь все дикари оставили нас. Они торопились провести свои каноэ через прибой и унести в лес мертвое тело. Сразу затем мы услышали бой барабанов и увидели множество дикарей, вооруженных копьями и палицами. Вид их предвещал скорее опасность, нежели надежду на продовольствие. Было в высшей степени достойно сожаления, что злосчастная вспышка ярости одного из наших спутников, толком не разобравшегося, в чем дело, зря погубила индейца. Первооткрыватели и покорители Америки заслужили много справедливых упреков в жестокости, ибо они обращались с несчастными народами этой части света не как со своими братьями, а как с лишенными разума животными и считали себя вправе убивать их чуть ли не ради удовольствия. Но кто бы мог в наши просвещенные времена ожидать, что предубеждения и опрометчивость нанесут едва ли не такой же ущерб обитателям Южного моря? Махеине не мог удержаться от слез, видя, как один человек лишил жизни другого из-за такой малости. Его чувствительность поистине должна бы устыдить цивилизованных европейцев, у коих так много человеколюбия на устах и так мало в сердце.
Плохое состояние здоровья команды не позволяло капитану Куку отказываться от надежды получить здесь продовольствие. Он приказал кораблю войти поглубже в гавань и сам с отборной командой морских пехотинцев и матросов высадился в северной части острова у изогнутых скал. С ним были доктор Спаррман, Махеине, мой отец и я. На скалах нас встретила толпа дикарей более чем в сто человек. Они были вооружены копьями и палицами, однако в ход против нас их не пускали. Мы, всяческими знаками показывая дружелюбие своих намерений, пошли им навстречу; они по-своему ответили тем же. Мы предложили им сесть, что они и сделали. После этого мы попытались объяснить им происшедшее в самом благоприятном духе, дав понять, что стреляли в их земляка только потому, что он похитил нашу собственность, но что были бы рады жить с ними в дружбе и прибыли сюда главным образом для того, чтобы запастись водой, дровами и продовольствием; за это мы готовы предложить им в обмен гвозди, топоры и другие хорошие товары. Наши доводы были очевидны, и туземцы немного успокоились. Казалось, они поверили, что их земляк заслужил свою участь. Убедившись в этом, они дружелюбно проводили нас вдоль берега к ручью, где мы оставили своих водоносов.
Мы воспользовались случаем, чтобы приобрести немного фруктов. Ради большей безопасности морские пехотинцы должны были образовать шеренгу и оставаться при оружии, чтобы обеспечить нам возвращение к морю. Но можно было обойтись и без всех этих предосторожностей. Люди, с которыми мы имели дело, были слишком честны, чтобы нарушить заключенный мир, и слишком снисходительны, чтобы мстить за смерть человека, которого сами не могли назвать совсем уж невиновным. Скоро меновой торг развернулся вовсю; жители спускались с гор с целыми кладями бананов, плодов хлебного дерева и всевозможных других фруктов, которые они продавали за самые пустяковые наши железные изделия.
Женщины до сих пор еще не показывались; вероятно, заслышав шум, они сразу же убежали в горы. Некоторые из, мужчин — очевидно, вожди — были наряжены и вооружены лучше других. Все они ходили нагие, лишь с небольшим куском материи вокруг бедер, все высокого роста, хорошо сложены. Не было ни одного беспомощного или толстого, как знатные таитяне, не было и таких худых или изможденных, как жители острова Пасхи. Татуировка, у людей средних лет покрывавшая почти все тело, скрадывала их красоту. Но среди молодых людей, у которых не было татуировки, мы встречали на редкость красивых, правильно сложенных; они вызывали у нас восхищение. Иных можно было бы поставить рядом с лучшими творениями древних, и они не проиграла бы от такого сравнения.
Qualis aut Nireus fuit, aut aquosa Raptus ab Ida. Horat[396]Естественный цвет кожи у этих молодых людей был не такой темный, как у простонародья на островах Общества, но взрослые из-за татуировки, покрывавшей их с ног до головы, казались гораздо чернее. Эта татуировка наносилась столь правильно, что фигуры на ногах, руках и щеках полностью соответствовали друг другу. Они, однако, изображали не животных или растения. Это были всевозможные пятна, кривые линии, квадраты и углы; все это вместе имело очень пестрый и странный вид. Лица у всех были приятные, открытые и живые, чему немало способствовали их большие черные глаза. Волосы тоже черные, курчавые и густые, лишь у отдельных людей более светлые. Борода обычно редкая из-за множества шрамов и татуировок, которых больше всего на подбородке. Эта татуировка и другие украшения как будто в известной мере заменяли одежду.
У некоторых на голове было нечто вроде диадемы. Она имела вид плоской повязки, сплетенной из кокосовых волокон. С наружной стороны этой головной повязки были прикреплены два круглых довольно больших куска перламутра, инкрустированных в середине пластинкой из резного панциря черепахи. Из-за этих украшений имевших форму щита, поднимались два пучка черных блестящих петушиных перьев, которые придавали всему головному убору действительно красивый и благородный вид. Некоторые носили круглые короны из маленьких перьев фрегата, другие — обруч, на котором укреплялось вокруг головы несколько плетеных волокон кокоса высотой около 2 дюймов и частью окрашенных в черный цвет. В уши они иногда вставляли по два плоских овальных куска легкого дерева длиной 3 дюйма; эти украшения покрывали все ухо и чаще всего были окрашены в белый цвет известью. Предводители носили нагрудное украшение, сделанное из маленьких кусков легкого пробкообразного дерева; они были склеены смолой и образовывали полукруг. Смолой же на них было укреплено в несколько рядов длиной от 2 до 13 дюймов множество красных горошин (Abrus precatorius Linn.). Те, у кого не было таких роскошных украшений, носили вокруг шеи хотя бы шнур с куском раковины на нем, вырезанным в форме зуба и отполированным. Они также высоко ценили пучки человеческих волос, которые привязывали шнурами вокруг тела, рук, колен и бедер. Все прочие украшения они меняли на мелочи, только не это из волос; его ценили необычайно высоко, хотя оно и кишело насекомыми. Видимо, они носили эти волосы в память о покойных родственниках и потому так почитали. Но, возможно, это были знаки победы над врагами. Тем не менее большой гвоздь или другая вещь, возбудившая их любопытство, заставляли их забыть про все эти соображения.
Понаблюдав таким образом за людьми, окружившими нас на берегу, мы пошли в лес к месту, которое, капитан Кук облюбовал для стоянки.
"Мы нашли здесь много растений, большей частью уже встречавшихся нам на островах Общества. Уходить сразу далеко в глубь острова, видимо, не стоило, поэтому мы остались на совершенно незаселенной низменности близ берега. Здесь среди деревьев мы увидели несколько четырехугольников, выложенных из ровных камней, как нам потом сказали,— основания домов. Очевидно, это место было покинуто потому, что чем-либо не устроило жителей, или потому, что здесь живут лишь в определенное время года. Мы не увидели здесь никаких плантаций, все поросло деревьями, причем частью хорошим строевым лесом.
Жители всюду позволяли нам свободно идти, куда мы хотим. Холм, поросший травой в половину человеческого роста и опускавшийся к морю отвесной скалистой стеной, отделял бухту от другой, находившейся южнее. На северной стороне этой возвышенности мы нашли красивый чистый ключ — судя по описанию, тот же, что видели и испанцы. Он стекает со скалы в маленький бассейн, а оттуда в море. Близ него с более высоких гор течет к бухте ручей покрупнее. Эта бухта показалась нам самой удобной для того, чтобы наполнить здесь бочки водой. Третий источник мы обнаружили в северной части острова. Таким образом, здесь довольно много пресной воды, что весьма благоприятно как для растений, так и для обитателей этих жарких краев.
Вскоре мы вернулись со своей ботанической добычей к месту торга и завязали с жителями беседу, которая окончательно рассеяла остатки недоверия, так что они даже стали обменивать на железные изделия свое оружие. Все оно было сделано из дерева казуарины[397] и представляло собой либо деревянные дротики длиной 8—10 футов, либо палицы с толстой головкой. Капитану Куку в наше отсутствие посчастливилось купить несколько свиней и множество фруктов; все это мы к полудню доставили на корабль. Воздух на берегу показался нам горячим, на борту же он был прохладнее, поскольку с гор то и дело налетал сильный ветер, иногда приносивший дождь.
После полудня я остался на корабле, а мой отец с капитаном опять сошли на берег, где увидели убогую хижину. Жители, видно, из нее убежали, так как оба уже несколько раз успели выстрелить по птицам. Отец положил на плоды хлебного дерева, лежавшие у хижины, несколько гвоздей, а затем вернулся на корабль с новыми растениями.
На другое утро мы увидели возле корабля семь каноэ с острова Доминика; еще несколько каноэ с острова Санта-Кристина шли вверх по проливу. Люди с Доминики по виду принадлежали к тому народу, с которым мы уже были знакомы. Они привезли на продажу те же плоды, что мы покупали и раньше.
После завтрака мы сошли на берег. Там уже находились наши добрые друзья-туземцы. Среди них мы увидели вождя. На нем был плащ из материи, напоминавшей таитянскую и сделанной из коры шелковицы, а также диадема, нагрудное украшение, деревянные ушные подвески и повязки из волос. Нам сказали, что это король всего острова; однако, насколько мы могли видеть, никаких особых почестей ему не оказывалось. Он подарил капитану Куку фрукты, свиней и весь день оставался близ места нашего торга. Король сказал, что его зовут Хону[398], а сам он хека-аи, что, без сомнений, значило то же, что эри на Таити и эрики на островах Дружбы[399]. Он производил впечатление добросердечного и рассудительного человека. Характер его так проявлялся в чертах лица, что господину Ходжсу, который нарисовал его портрет, легко было добиться полного сходства; гравюра на меди с этого портрета приложена к сообщению капитана Кука о данном путешествии. Мы спросили, как называются этот и другие соседние острова, и узнали, что Санта-Кристина называется Вайтаху, Доминика — Хивароа, а Сан-Педро — Онатейо.
Махеине местные жители очень нравились из-за сходства в обычаях, языке и характере с его земляками. Он легко объяснялся с ними и купил многие их уборы и украшения, а также показал им некоторые обычаи своей страны, о коих они не знали, например как на Таити добывают огонь с помощью трения двух сухих кусков дерева Hibiscus tiliaceus и тому подобное. Они смотрели очень внимательно, когда он учил их таким вещам.
На месте, где шел торг, капитан Кук приобрел много зелени, нескольких кур и свиней, отдав взамен мелкие гвозди, ножи и куски материи. Здесь также высоко ценились красные перья с Тонгатабу, или Амстердама; на них меняли много головных уборов и украшений.
В этот день мы наконец увидели женщину. Она сидела в кружке своих земляков, одетая, как и женщины на островах Общества, в материю, сделанную из коры. Женщина эта была в летах и почти не отличалась от таитянок.
Мы прошли по южному берегу ручья около полутора миль. Миновав открытую площадку, с которой обозревалась вся гавань, мы пришли к густому лесу, состоявшему главным образом из дерева ратта, или таитянского ореха (Inocarpus), а также нескольких хлебных деревьев. Ореховые деревья здесь достигали внушительной толщины и высоты. На Таити оба вида деревьев сажают на равнинных полянах, поскольку там жара меньше, чем на этих островах.
Наконец мы увидели чье-то жилище. В сравнении с высокими домами на островах Общества это была жалкая хижина. Она стояла на приподнятой платформе из камней, которые образовывали внутри пол, однако не были достаточно гладкими и ровно выложенными, чтобы служить удобным ложем, хотя для удобства и были покрыты циновками. Стена вокруг была сделана из бамбука, который поднимался от вышеописанного основания вверх. На недостаток бамбука жаловаться здесь не приходилось, однако высота хижины достигала лишь 5—6 футов. Крыша состояла из таких же палок, покрытых листьями хлебного дерева и дерева ратта; их положили так, чтобы образовался вытянутый четырехугольник, поскольку длина хижины была примерно 15 футов, а ширина — всего 8—10 футов. То, что основание делалось из камней и было приподнято, заставляло предполагать, что иногда здесь бывают сильные дожди и наводнения. Утварь, которую мы видели, состояла из больших деревянных корыт; в них лежали куски плодов хлебного дерева, замоченные водой. Недалеко от хижины показались трое жителей. Мы попросили их принести нам из ближнего ручья свежей воды попить и, вознаградив их за эту услугу, вернулись на корабль. Когда мы садились в шлюпку, ее едва не опрокинуло, такой был сильный прибой у скал. Обошлось, однако, тем, что мы лишь слегка вымокли. Махеине, немного задержавшийся на берегу, бросился в воду и поплыл к шлюпке, чтобы мы не подвергали себя ради него подобной опасности еще раз.
Доктор Спаррман всю вторую половину дня оставался на борту, чтобы помочь мне зарисовать и описать растения, собранные нами утром. А мой отец вместе с капитаном отправились на южное побережье, где недалеко от берега нашли несколько хижин, а в них мужчин; женщин же не видно было ни одной. Сюда индейцы принесли тело своего убитого земляка. Они провели наших людей в хижину, которая ему принадлежала. Там они увидели нескольких свиней, теперь перешедших к его пятнадцатилетнему сыну, и подарили юноше всякой всячины, чтобы хоть немного смягчить утрату. На вопрос, где находятся женщины, он объяснил, что они еще в горах, оплакивают мертвого и скорбят. Это навело нас на мысль, что изгороди, которые мы видели на вершинах скал, у туземцев, возможно, место погребения. Капитан приобрел здесь фруктов и несколько свиней. Хотя он и находился среди родственников человека, которого мы убили, никто из них не проявил к нему ни малейшего нерасположения, не говоря уже о желании отомстить.
На другое утро доктор Спаррман и я пошли к месту у источника, где шла торговля продовольствием. Но с той поры, как мы бросили здесь якорь, наши изделия из железа упали в цене по меньшей мере на 200 процентов. На мелкие гвозди, которые они поначалу брали так охотно, казалось, больше не находилось любителей. Даже большие уже не пользовались особенным спросом, а стеклянные бусы вообще никто не хотел брать. Зато тем большим спросом пользовались ленты, ткани и прочие мелочи, а за кусок материи из шелковичной коры с красными перьями из Тонгатабу можно было получить несколько больших свиней.
Жара в тот день была необычайная, поэтому многие жители держали веера, чтобы обмахиваться. Они их охотно нам продавали. Эти веера были довольно большие и сделаны из гибкой коры или особой травы, которая очень прочно и искусно переплеталась. Часть их была окрашена ракушечной известью в белый цвет. У некоторых жителей вместо зонтиков от солнца имелись большие листья, утыканные перьями. При более близком знакомстве выяснилось, что это листья известного вида пальмы Corypha umbraculifera Linn.
Невзирая на невыносимую жару, мы все же решили подняться на высокую гору в надежде на какие-нибудь находки и были богато вознаграждены за свои усилия. Нас особенно интересовали палисады на вершине. С нами шли господин Паттен и еще два человека. Мы быстро переправились через ручей, где наши люди брали воду, и пошли по тропе, поднимавшейся к северо-востоку, ибо видели, что по ней проходило большинство туземцев.
Поначалу подъем был не очень трудный, поскольку предгорье состояло из нескольких маленьких холмов, вверху совсем плоских и занятых хорошо ухоженными посадками банана. Подобные площадки порой возникали у нас перед глазами совершенно неожиданно, ибо дорога шла густым лесом из плодовых и прочих деревьев, чья тень была нам весьма приятна. Иногда мы видели отдельно стоявшие кокосовые пальмы, но они не возвышались, как обычно, над другими деревьями, а были здесь гораздо ниже их. Вообще в горах они растут недостаточно хорошо. Низменные места для них более благоприятны. Их часто можно встретить даже на коралловых скалах, где, кажется, нет достаточно почвы, куда они могли бы пустить корни. Несколько жителей сопровождали нас, другие вышли навстречу с плодами, которые несли к месту торга.
Чем выше мы поднимались, тем больше встречалось хижин. Все они стояли на приподнятых каменных основаниях и устройством напоминали вышеописанную. Некоторые казались построенными совсем недавно и внутри имели вид необычайно чистый. Мы, однако, не увидели там множества лежанок, о которых говорили испанцы, и предположили, что те имели в виду просто циновки на полу.
Дорога постепенно становилась все круче и неудобнее; берега ручья, вдоль которого она поднималась, были в иных местах такими высокими и отвесными, что мы не раз шли почти по краю опаснейших обрывов. Несколько раз нам пришлось перейти ручей. Хижин становилось все больше, и, когда мы останавливались, а это случалось не однажды, жители приносили нам плодов и воды. Они настолько были во всем схожи с таитянами, что странно, если бы они не равнялись с ними в гостеприимстве. Мы не встретили среди них ни одного увечного или плохо сложенного человека, все они были крепкие, высокие, стройные и необычайно ловкие. Эти свойства отчасти связаны с характером их страны, весьма гористой и к тому же трудно поддающейся обработке; так что им приходится, во-первых, часто карабкаться по кручам, во-вторых, напрягать все члены, возделывая поля. Первое, конечно, делает их ловкими, а второе — стройными и хорошо сложенными.
Удалившись от моря в глубь острова мили примерно на три, мы увидели, как шагах в тридцати от нас из дома вышла молодая женщина. Насколько можно было судить с такого расстояния, чертами лица она напоминала таитянок, хотя была немного меньше ростом, одета же в кусок материи из шелковицы, который доходил ей до колен. Подойти к ней поближе мы не могли, поскольку она убежала от нас в гору, и ее земляки всевозможными знаками дали нам понять, чтобы мы повернули назад. Когда мы этого не сделали, они, казалось, очень забеспокоились и стали выражать недовольство. Правда, доктор Спаррман и я с собранными нами растениями действительно пошли обратно, но господин Паттен и остальные прошли еще мили две. Однако они не нашли ничего нового и не добрались даже до горной вершины; от места, с которого мы повернули обратно, до нее оставалось еще мили три, и дорога к ней на вид была еще круче, чем внизу.
Там, куда мы пришли, земля казалась тучной и плодородной; это подтверждали и часто встречавшиеся плантации, и множество плодовых деревьев, которые превосходно здесь росли. Однако на высоком берегу ручья стало видно, что эта хорошая почва образует лишь верхний слой земли; под ним проступали голые скалы, состоявшие частью из лавовых пород, частью же насыщенные белыми и зеленоватыми зернами шерла[400]. Так что с точки зрения породы эти острова походили на острова Общества и, видимо, тоже возникли благодаря вулканической деятельности.
Возле хижин мы часто видели свиней, больших кур и крыс; на деревьях обитали всевозможные мелкие птицы, подобные тем, что мы встречали на Таити и на островах Общества, хотя и не в таком количестве и не такие разнообразные. В общем и целом Маркизские острова напоминали острова Общества, здесь не хватало разве что живописных равнин да коралловых рифов, которые на островах Общества образуют столь надежные гавани.
Здешние жители внешним видом, обычаями, языком также сходны с обитателями островов Общества более, чем какой-либо другой народ в Южном море. Самое существенное различие, которое мы смогли найти между ними, состояло в том, что здесь туземцы были не такие чистоплотные. Таитяне и их соседи по островам Общества, наверное, самый чистоплотный народ на земле. Они купаются по два-три раза в день, моют руки и лицо как до, так и после еды. Жители Маркизских островов мылись и купались не так часто, да и в приготовлении нищи были гораздо более небрежны. Зато они чистоплотнее жителей островов Общества в другом: если на Таити все тропинки отмечены свидетельствами хорошего пищеварения, то здесь нечистоты оставляют неглубоко, но тщательно засыпают, как это делают кошки. Правда, на Таити в этом смысле полагаются на крыс, которые охотно поедают нечистоты; там вообще не видят в этом ничего плохого и не считают нечистоплотностью, если повсюду лежат испражнения. Более того, даже Тупайя (наверное, один из самых рассудительных людей на Таити), увидев в Батавии [Джакарта] при каждом доме особый покой для отправления нужды, сказал, что «вам, европейцам, не следовало бы быть такими брезгливыми!».
На Маркизских островах встречаются те же плоды и овощи, что и на Таити, за исключением таитянского яблока (Spondias), зато плоды хлебного дерева здесь крупнее и вкуснее, чем где бы то ни было. Достигнув полной зрелости, они становятся мягкими, как яичный сыр, и такими же приторными, так что мы с трудом могли их есть. Этот плод составляет главный предмет питания у местных жителей. Они обычно поджаривают его над огнем и реже запекают в земле. Когда плоды готовы, их высыпают в деревянное корыто, обычно служащее для корма свиней, и там оставляют в воде размокать, а затем эту кашу, или гущу, черпают руками. Они также делают из этих плодов сбродившее тесто и приготовляют из него то же кислое блюдо, которым столь любит лакомиться таитянская знать. Кроме растительной пищи они не едят почти ничего, хотя у них есть свиньи и куры. Иногда они ловят рыбу. Пьют воду, поскольку кокосовые орехи здесь редкость, по крайней мере в тех местах, где мы побывали. Но поскольку у них есть и перечный корень (который в числе прочего служит тут знаком миролюбия), можно предположить, что они умеют изготовлять из него тот же опьяняющий напиток, что и на других островах.
Вернувшись на корабль, мы увидели, что он окружен множеством каноэ, в которых привезли из разных мест на продажу свиней и большое количество бананов. Страх, вызванный причиненным нами насилием, был уже забыт, и многие поднялись на борт. Они с удовольствием вступали в беседу и были необычайно довольны всем, что видели на корабле. Недавнее происшествие было настолько забыто, что некоторые даже опять начали воровать при всякой возможности, но, будучи застигнуты, возвращали украденное без малейшего промедления. Часто они танцевали на палубе, к удовольствию матросов, и их танцы совершенно напоминали таитянские. Оказалось, что и музыка у них примерно такая же, особенно когда они били в барабаны, похожие на те, что мы видели и приобрели на Таити. Каноэ у них были маленькие и напоминали таитянские. На носовой части обычно вертикально возвышалось грубо вырезанное из дерева изображение человеческого лица. Паруса из циновок были, треугольные, кверху широкие, лопасти весел из твердого дерева, короткие, внизу заостренные, а сверху снабженные головкой.
После полудня я остался на борту, чтобы привести в порядок собранные коллекции. Вечером вернулись и другие. Всю вторую половину дня они занимались обследованием двух бухт к югу от нашей гавани, однако нашли, что оба места не подходят для якорной стоянки, ибо во время бури здесь нет достаточной защиты от воли, а высадка и погрузка весьма опасны из-за высокого прибоя. Все же их труды были вознаграждены закупкой продовольствия, в том числе нескольких свиней. Жители там вели себя не так сдержанно, как в нашей гавани. Среди них нашлись и женщины, с которыми матросы скоро завели знакомство, так как многие из них оказались не менее услужливы, чем на других островах Южного моря. Они были ростом меньше мужчин, но очень пропорционально сложены. Некоторые фигурой и чертами лица напоминали красивых знатных таитянок. Цветом кожи они в общем не отличались от простонародья островов Общества, но у них не было татуировок, распространенных здесь лишь среди мужчин и совершенно их обезображивающих. Одна из самых милых девушек позволила господину Ходжсу себя зарисовать, и очень похожая гравюра на меди с этого рисунка помещена в сообщении капитана Кука об этом плавании[401].Все они были в одеждах из шелковичной коры. Материя, однако, была не так разнообразна, как на Таити, и ее было не так много. Здесь не обертывали вокруг тела несколько кусков, как это обычно делали любители роскоши из числа таитянской знати, а надевали лишь единственный ахау, то есть плащ, спускавшийся с плеч до колен. На шее они иногда носили несколько простых шнурков, не представлявших собой особого украшения. Других украшений мы здесь не видели.
Когда наши люди собирались возвращаться на корабль, один из матросов за нерасторопность получил от капитана несколько тумаков. Эту мелочь не стоило бы здесь упоминать, если бы она не привлекла внимание туземцев. Они закричали: «Тапе-а-хаи те теина!», что значило: «Он бьет своего брата!» Мы имели уже возможность убедиться, что им известна разница между капитаном и его подчиненными; однако из этих слов можно было заключить, что они всех нас считают братьями. Очевидно, сами себя они тоже считают братьями, весь народ — одной семьей, а короля — как бы лишь старшим в ней. Поскольку они еще не достигли такой степени цивилизации, как жители Таити, им пока неизвестны сословные различия и иерархия. Их политическое устройство еще не приобрело определенной монархической формы. Возделывание земли здесь требует больше труда, чем на Таити, отсюда, видимо, и различие между гражданским устройством этих двух народов. Дело в том, что, поскольку получить здесь средства пропитания труднее, чем там, роскошь оказывается не так доступна, и между людьми сохраняется больше равенства. Это подтверждается хотя бы тем, что, насколько мы видели, королю Хону не оказывается ни особых почестей, ни предпочтения. Он пришел к нам на другой день после нашего прибытия. Все его преимущество состояло, казалось, в том, что он был более одет, нежели большинство других, которые, то ли по склонности, то ли из лени, ходили нагишом в этом счастливом тропическом климате, по существу позволявшем обходиться вообще без одежды.
На следующее утро капитан опять отправился в уже упомянутую бухту, однако торг на сей раз оказался неудачным. Местные жители еще недостаточно оценили достоинства и долговечность наших железных изделий и больше не хотели их брать, а требовали разных вещей, которых мы отдать не могли. Поэтому мы после полудня подняли якорь и покинули бухту Мадре-де-Дьос, где провели почти четыре дня. За это время мы набрали большой запас превосходной свежей воды, а у этого дружелюбного и доброго народа закупили также целительный для здоровья запас провизии. Что касается естествознания, мы не открыли здесь ничего особенно нового, так как пробыли тут очень недолго; к тому же эти острова были слишком похожи на Таити и на весь архипелаг Общества. Из-за недостатка времени мы не смогли также как следует познакомиться с туземцами, хотя они вполне заслуживают самого пристального внимания философски мыслящего путешественника. Более всего жаль, что мы не смогли осмотреть изгороди в горах; я до сих пор придерживаюсь мнения, что они имеют какую-то связь с религиозными обычаями. Испанцы упоминают некоего оракула, насколько можно понять по описанию, это, возможно, такое же место погребения, как на островах Общества[402].
Судя по небольшим размерам острова, этот добрый народ, вероятно, не очень многочислен. Остров Вайтаху, или Санта-Кристина, имеет в окружности около 8 морских миль, Охивароа[403], или Доминика,— 15, Онатейо, или Сан-Педро,— 3, а остров Магдалена [Фату-Хива], который мы видели лишь с большого отдаления, согласно сообщениям испанцев,— 5. Как жители Таити и других островов Общества представляются людьми одного происхождения, так и все обитатели Маркизских островов, по моему мнению, происходят от одних прародителей. Во всяком случае, мы можем утверждать это о жителях Санта-Кристины и Доминики, с которыми разговаривали и общались. Там, где почва хоть как-то возделана, население весьма значительно, однако на этих островах так много бесплодных и недоступных скал, что в целом число жителей едва ли достигает 50 тысяч. Особенно много пустующих гористых мест на Доминике, по площади самом крупном острове среди всех, поэтому он населен слабее, чем менее крупный остров Санта-Кристина.
Испанцы, первыми открывшие эти острова, описывают их население как добросердечное, приветливое и миролюбивое, если не считать небольшой стычки на Магдалене, возникшей, видимо, из-за недоразумения или обычной горячности матросов. Наши отношения с ними тоже были дружественны. В качестве знака миролюбия они вручили нам перечный корень и ветки тамману (Callophyllum inophyllum Linn.); мы покупали у них продовольствие, и даже после убийства одного из них наши дружественные отношения не прекратились, так что они позволяли нам ходить всюду, где мы хотели.
Такое поведение, равно как их обычаи, красота телосложения, одежда, пища, мореходство и язык — все подтверждает их общее с таитянами происхождение. Некоторые различия связаны лишь с разными условиями жизни на этих островах. Жители Маркизских островов лишены преимуществ, какие на Таити и других островах Общества дает наличие обширных равнин. Земли здесь не больше, чем нужно для производства самого необходимого продовольствия, а значит, нет у них и таких обширных шелковичных плантаций, как на Таити. Но даже если бы у них нашлось достаточно земли, им все равно было бы некогда ухаживать за подобными плантациями, ибо земледелие здесь — дело гораздо более трудное и требующее значительно больше времени, чем там. Конечно, на Маркизских островах не встретишь такого изобилия съестных припасов и одежды, как на Таити, где знают не только благосостояние, но и роскошь. В то же время здешние жители не испытывают недостатка в самом необходимом, а поскольку никто не имеет преимуществ перед другими, среди них господствует естественное равенство. Людям тут не приходится бороться ни с чем, что мешало бы им быть счастливыми или следовать зову природы. Они здоровы, бодры, красиво сложены. Так что, с одной стороны, у таитян больше житейских благ, они, пожалуй, сильнее в искусствах, и в этом смысле жизнь их приятнее; но, с другой стороны, у них в гораздо большей степени утрачено первоначальное равенство сословий, знатные живут за счет простонародья, однако и те и другие уже расплачиваются за свои излишества болезнями и другими явными слабостями.
Scilicet improbae Crescunt divitiae, tamen Curtae nescio quid semper abest rei. Horat.[404]После пяти с половиной месяцев плавания, в ходе которого мы проникли в холодные широты до 71° и в жаркие широты до 9 1/2° южной широты, Маркизские острова были первым местом, где мы смогли в какой-то мере подкрепиться свежим мясом и плодами. Благодаря небольшому запасу сладкого картофеля, полученному на острове Пасхи, удалось, с божьей помощью, на время задержать дальнейшее развитие многих болезней, угрожавших нам в ту пору. Но едва мы попали опять в жаркий климат, как нашу кровь, охлажденную и потому стойкую, охватило нездоровое брожение. У всей команды был такой бледный, изможденный вид, что, если бы мы вовремя не добрались до Маркизских островов, цинга и другие болезни, несомненно, нанесли бы нам страшный удар. В связи с этим надо воздать всяческую хвалу господину Паттену, нашему достойнейшему корабельному врачу. Чтобы поддержать наше здоровье, он применял наилучшие средства, какие только могли подсказать человеческая доброта, искусство и благодетельное, сострадательное сердце. С неустанным усердием он пекся не только о капитане, но и обо всех нас. Я не погрешу против истины, если скажу, что многие из нас жизнью были обязаны божьей помощи, а затем ему и что Англия должна быть благодарна ему за сохранение ценных и полезных людей, посланных в эту опасную экспедицию. Заслуживает похвалы и капитан Кук, не оставлявший не испробованным ни одного предложения, которое сулило хотя бы мало-мальский успех. Судьба плавания зависит от состояния здоровья команды, и заслуга капитана, который учитывал эту важную сторону дела, тем более велика, что, как известно, многие другие командиры в море нередко пренебрегают ею, а то и вовсе упускают ее из виду.
Краткость нашего пребывания на Маркизских островах не позволила нашим больным полностью оправиться. У многих здесь даже усилились желчные колики, ибо они употребляли пучащие фрукты, очень вредные для слабого желудка. Сам капитан Кук выздоровел еще не совсем. Хотя он, увы, имел печальную возможность убедиться, сколь вредно для него оказалось на острове Пасхи действие палящих лучей солнца, он и здесь не щадил себя, неутомимо занимался закупкой продовольствия и заботился о команде. Должен сказать, что и мне при моей слабости постоянное лазанье по горам не пошло на пользу. Я получил сильную желчную болезнь, тем более неприятную, что как раз в это время мне предстояло много дел.
От Санта-Кристины мы взяли курс на юго-юго-запад, затем на юго-запад и запад с небольшим отклонением к югу, а ночью легли в дрейф, поскольку находились теперь вблизи архипелага плоских островов. Это место издавна считается одним из самых опасных в Южном море. Неблагоприятные сведения о нем исходят в основном от голландцев; так, Схоутен назвал эту часть Южного океана Злым морем, а Роггевен — Лабиринтом. Последний потерял возле одного из этих островов свой корабль, «Африкансхе Галей», в честь чего назвал этот остров Опасным. Поскольку сие происходило не в отдаленные времена, а на человеческой памяти, разговоры об этом дошли и до жителей островов Общества; отсюда можно было предположить, что упомянутый Опасный остров находится недалеко от них.
17-го мы увидели первый из этих плоских островов, к полудню достигли его, и четкое описание Байрона убедило нас, что это самый восточный из островов Короля Георга [Такароа]. К вечеру мы получили еще одно доказательство того, увидев второй остров с тем же названием [Такапото][405].
Первый из островов был очень низкий и песчаный. Он представлял собой эллиптический риф, между самыми отдаленными точками которого на севере и на юге было более 6 морских миль, и находился под 14° 28' южной широты и 144° 56' западной долготы. На нем росло много кокосовых пальм, которые придавали острову живописный вид. Стволы этих пальм иногда были высоко закрыты другими деревьями и кустарником, но все равно их красивые кроны возвышались над прочими. Там, где совсем не было деревьев, земля или, вернее, скалы были такими низкими, что волны перекатывались через них, образуя внутреннее озеро. Спокойная вода этого озера, в мелких местах молочного цвета, красиво контрастировала с пенившимся и бурлившим вокруг берилловым океаном.
После полудня мы прошли близ западной стороны острова и заметили, что скала во многих местах была ярко-красного цвета, как это описывал и Байрон. По внутреннему озеру плавало несколько каноэ с парусами, среди деревьев кое-где поднимался дым, а по берегу бегали вооруженные темнокожие люди. Все это делало вид еще более живописным. Мы также заметили, что несколько женщин с узлами на спине убегали подальше в скалы. Очевидно, они не ждали от нас ничего хорошего, и этому не следовало удивляться. Когда-то они, на свою беду, оказали сопротивление людям Байрона и потеряли несколько человек; потом английские матросы весь день гоняли их и бесплатно питались кокосовыми орехами.
На юго-западной стороне острова мы обнаружили проход во внутреннее озеро, о котором упоминал и Байрон. Мы спустили шлюпку промерить там глубину, не зная, что он уже делал это, но без особого успеха. Наши люди выяснили, что дно состоит из крепких кораллов и стать здесь на якорь невозможно.
Тем временем на северной стороне пролива собрались вооруженные туземцы; несмотря на свой воинственный вид, держались они вполне дружелюбно и принесли несколько кокосовых орехов, которые обменяли на гвозди. Узнав об этом, мы послали к берегу вторую шлюпку, чтобы начать с местными жителями торг и заодно опровергнуть неверное, дурное представление, которое они, по всей видимости, имели о нас. В этой группе были мой отец, доктор Спаррман и я, хоть я еще и не совсем оправился от желудочной болезни.
Мы без помех вышли на берег и тотчас смешались с туземцами, которых собралось здесь человек пятьдесят-шестьдесят. Все это были сильные, рослые люди с темно-коричневой кожей. На груди, животе и руках у них была татуировка, изображавшая главным образом рыб, которые, видимо, составляли основную их пищу. Черты лиц нам показались не лишенными приятности, только более дикими, чем у обитателей соседних высоких островов. Они ходили совершенно нагие, лишь с небольшим куском материи вокруг бедер. Женщины не решались к нам приблизиться; те, которых мы видели издалека, имели такой же цвет кожи, что и мужчины, но одежда у них была несколько длиннее и в форме передников, достававших до колен. Волосы и борода были курчавые, частью подстриженные и обычно черные, хотя я видел одного человека, у которого кончики волос желтоватые.
Когда мы высадились на берег, они приветствовали нас, как новозеландцы, потершись своими носами о наши, и тотчас понесли на продажу к шлюпкам кокосовые орехи и собак. Махеине купил несколько собак за мелкие гвозди и спелые бананы, которые он взял на Маркизских островах. Этот плод был им немного знаком, очень нравился и высоко ценился. Отсюда можно было заключить, что они, очевидно, имели связи с жителями высоких островов, поскольку на их неплодородных коралловых рифах бананы не растут. Собаки напоминали тех, что мы видели на островах Общества, однако у этих была особенно тонкая, белая и длинная шерсть. Махеине постарался купить их, потому что на его родине такая шерсть служит для украшения нагрудных щитов.
Мы попробовали подойти к их хижинам, которые виднелись под деревьями, но, поскольку они нам этого не позволили, удовольствовались тем, что собрали на мысе немного растений, главным образом разновидность клоповника (Lepidium), которого здесь было много и который считается хорошим средством, очищающим кровь. Жители показали нам, что эти растения они разминают, смешивают с мясом моллюсков и бросают в море, туда, где был замечен косяк рыбы. Рыбы в результате оказываются на некоторое время оглушенными, всплывают на поверхность, и тогда их можно без всякого труда просто брать руками. Они называют это полезное растение э-нау. Мы нашли также много портулака, напоминавшего обычный вид; местные жители называют его э-тури. Это растение встречается и на островах Общества; там его тушат в земле и употребляют в пищу. Здесь есть также другие деревья и растения, встречающиеся на островах Общества, однако мы нашли и несколько совсем неизвестных трав.
Земля всюду состоит из коралловых скал, которые лишь слегка возвышаются над поверхностью воды. На них лежит вначале слой грубого белого песка, смешанного с кораллами и раковинами, а поверх него тонкий слой плодородной почвы.
Занимаясь этими ботаническими исследованиями, мы обошли вокруг мыса и оказались по другую сторону хижин. Тут мы увидели еще один мыс, вдававшийся в море, которое здесь образовывало залив. Между обоими мысами было, должно быть, очень мелко: мы видели, как большая группа дикарей переходила залив вброд, волоча за собой свои копья. Увидев их, мы поспешили сквозь заросли обратно. По пути мы прошли мимо хижин. Они здесь маленькие и низкие с кровлей, сплетенной из кокосовых ветвей. Все они были пусты, ибо жители собрались на берегу; оставалось только несколько собак. Из того же материала и сходным образом сделанные, только несколько больше, были также и навесы над их каноэ. Сами же каноэ короткие, но крепкие, с обеих концов заостренные, с острым килем.
На берегу мы опять смешались с дикарями. Некоторые из них выразили удивление тем, что мы пришли со стороны деревни. Мы сообщили лейтенанту, командовавшему нашей шлюпкой, о замеченных нами враждебных приготовлениях, после чего решено было сразу вернуться на борт. Тем временем Махеине помогал нам объясняться с островитянами. Они сообщили, что у них есть вождь, или эрики, а их остров называется Те-Аукеа [Такароа]. Язык очень напоминает таитянский, хотя выговор более твердый и гортанный.
Тут в кустах показались другие дикари, которых мы видели переходящими вброд залив. Одни были вооружены длинными палицами, другие — круглыми короткими дубинками и копьями, длиной нередко 14 футов и с хвостовым шипом морского кота наверху. Мы уже сели в шлюпки. Толпа туземцев побежала к нам. Было непонятно, намерены ли они задержать нас или дадут отплыть. В конце концов они выбрали последнее, возможно потому, что мы успели позаботиться о своей безопасности раньше, чем они ожидали. Некоторые даже помогли оттолкнуть шлюпки от берега. Другие, напротив, бросали в воду около нас камни, будто воображали, что прогоняют пас. Когда мы отплыли, они громко заговорили друг с другом, а потом уселись в тени деревьев.
Как только мы оказались на борту, капитан приказал выстрелить из четырех или пяти пушек, отчасти над их головами, отчасти в воду перед ними, дабы они увидели, на что мы способны. Ядра, особенно те, что упали в воду, нагнали на них такого страху, что они всей толпой поспешно удрали с берега. Мы приобрели у них не более тридцати кокосовых орехов и пять собак.
Байрон нашел здесь источники; правда, воды в них было немного, но все же достаточно, чтобы обеспечить небольшое число жителей сим необходимым элементом. Он также видел в зарослях каменную гробницу, очень похожую на таитянские марай. На деревьях вокруг висели жертвы в виде кусков мяса и плодов. Это, как и весь облик, обычаи и язык островитян, позволяет заключить, что они находятся в близком родстве со счастливыми обитателями соседних гористых островов.
Большие внутренние озера на этих островах, имеющих форму окружности, судя по всему, обильны рыбой, которая, видимо, составляет повседневную пищу туземцев. В местах, покрытых песком, черепахи откладывают яйца, и куски черепашьих панцирей, которые находили тут люди с «Долфина», ясно показывают, что здесь жители умеют ловить этих больших животных, чье питательное мясо, очевидно, является у ниx лакомством. Немногие встречающиеся растения очень полезны и используются для ловли рыбы. Некоторые деревья достигают такой толщины, что стволы их используются для постройки каноэ, ветки же — для изготовления оружия и других предметов. Кокосовая пальма, дающая питание столь многим народам земли, и здесь служит верную службу. В ней может быть использовано почти все. Орехи, покуда они зеленые, содержат обычную целую пинту, а то и кварту жидкости, очень сладкой и необычайно приятной на вкус, чьи прохладительные и прочие свойства делают ее превосходным и живительным напитком, который в сих жарких широтах утоляет жажду, без сомнения, лучше, чем какой-либо другой. Когда же орех поспевает, в нем образуется ядро, первоначально напоминающее жирные сливки; затем оно становится крепким и маслянистым, как миндаль. Оно очень питательно. Масло иногда выжимается и используется для смазывания волос и тела. Из твердой скорлупы делают посуду для питья и всякие другие предметы, из волокнистой коры — хорошие, крепкие, эластичные и долговечные веревки, а также различные украшения. Верхними длинными листьями или побегами покрывают хижины или плетут из них корзины. Из внутренней оболочки скорлупы делают нечто вроде материи; в этих жарких странах ее надо немного, чтобы одеться. Сам же ствол дерева, когда оно становится слишком старым, чтобы плодоносить, годится и для постройки хижины, и для мачты каноэ. Кроме рыбы и плодов, их пищу составляют также собаки, которых они кормят рыбой и которых жители островов Общества считают вкуснейшим мясным блюдом. Так провидение в мудрости своей даже сей крохотный и узкий коралловый риф снабдило всем достаточным для пропитания целого племени!
Сам способ возникновения этих коралловых скал являет нам не менее достойный изумления пример всесилия творца, столь часто умеющего достигать великих и важных целей при помощи ничтожнейших средств. Коралл, как известно, создается маленьким червем, который увеличивает свое жилье по мере того, как разрастается сам. В этом маленьком животном едва можно заметить ощущения, позволяющие отличить его от растений,— и вот оно из неизмеримых морских глубин возводит ввысь скалу до самой поверхности моря, дабы дать множеству людей крепкую почву для житья! Число возникших таким образом плоских островов весьма велико, и нам они известны еще не все. В Южном море их больше всего между тропиками, особенно к востоку от островов Общества между 10° и 15°. Кирос, Схоутен, Роггевен, Байрон, Уоллис, Картерет, Бугенвиль и Кук — каждый из них открыл по нескольку таких островов. И что самое примечательное: в 250 морских милях к востоку от Таити они были обитаемы! Представляется вероятным, что подобные острова будут открыты еще во многих местах между 16° и 17° южной широты. Однако до сих пор никто из мореплавателей не шел к островам Общества по этим параллелям.
Между прочим, стоило бы выяснить, почему их так много именно к востоку от островов Общества и почему особенно там они образуют такие большие архипелаги, тогда как по другую сторону, то есть к западу от островов Общества, встречаются лишь отдельные подобные острова. Правда, дальше к западу есть один архипелаг коралловых рифов, а именно так называемые острова Дружбы [Тонга]; но они по ряду признаков отличаются от описанных выше. Они не только гораздо старше, но и обычно крупнее, там больше земли, и поэтому встречаются растения, свойственные, как правило, лишь гористым островам[406].
Отойдя от Те-Аукеа, мы всю ночь лавировали возле расположенного поблизости острова, который Байрон отнес к группе островов Короля Георга [Такапото]. По виду он очень похож на Те-Аукеа, но крупнее. С севера на юг он тянется примерно на 8 морских миль, ширина внутреннего озера — 5—6 миль. Он тоже густо порос кустарником, кокосовыми пальмами и другими деревьями.
На следующее утро в 8 часов мы увидели еще один подобный остров. Судя по всему, его не видел никто из мореплавателей; во всяком случае, мы не могли вспомнить или найти каких-либо сведений о нем. В полдень на западе показался другой, мимо которого мы прошли после полудня. Он простирался примерно на 8 морских миль. По берегу бегало множество туземцев, вооруженных длинными копьями, а во внутреннем озере, очень большом по размеру, мы увидели плавающие под парусами каноэ.
Насколько я мог заметить, такие коралловые рифы обычно выше и плодороднее с той стороны, куда преимущественно дует ветер. Для мореплавателей это счастливое обстоятельство, иначе им во многих случаях грозила бы опасность разбиться о скалы прежде, чем они их увидят. Во внутреннем озере редко бывают сильные бури, которые могли бы представлять опасность или неудобство для жизни на этих островах. В хорошую же погоду очень приятно плавать по их гладким, словно зеркало, водам, в то время как океан вокруг может бурлить и волноваться.
В тот же вечер мы увидели третий новый остров, однако, когда на другое утро поплыли дальше, он уже пропал из виду. Капитан Кук назвал эту группу островов островами Паллисера[407]. Они расположены под 15°36' южной широты и под 14°30' западной долготы. Самый северный из них, вероятно, тот, который Роггевен назвал Опасным и у берегов которого он потерял «Африкансхе Галей». Это предположение подтверждается, помимо всего прочего, тем, что Байрон недалеко отсюда, а именно в Те-Аукеа, нашел весло от шлюпки.
Теперь мы плыли на юго-запад. По обе стороны от нас находились плоские острова, а путь, к великой радости всех, лежал прямо на Таити. Поскольку там мы твердо могли рассчитывать на добрую встречу и хорошее отношение жителей, этот остров казался нам как бы второй родиной. Наши больные воспрянули духом, зная, что по меньшей мере смогут там отлежаться, а то и походить в прохладе, к тому же получат гораздо более здоровую пищу. Да и другие не меньше радовались возможности подкрепить силы, дабы с новым мужеством встретить все опасности и трудности, какие нам еще предстояли. Капитан надеялся получить богатый запас свежей провизии, что укрепило бы надежду на счастливое окончание всего плавания. Наш астроном мечтал поставить обсерваторию и определить, как шли наши хронометры, которые со времени отплытия из Новой Зеландии ни разу не проверялись. Мы же, натуралисты, надеялись обогатить на этом острове свою коллекцию растений, которая, разумеется, была весьма неполной, ибо наше прошлое пребывание там пришлось на зимние месяцы.
И разумеется, не меньше нас мечтал попасть на Таити наш друг Махеине: ведь на острове жили многие его родственники, но сам он ни разу там не бывал. К тому же он слышал о Таити — не только от жителей других островов Общества, считавших этот остров самым богатым и могучим из всех, но и от нас, кто каждый день рассказывал так много прекрасного об этой стране, и он горел нетерпением увидеть ее своими глазами. Он знал, что множество иноземных диковин, которые он собрал во время путешествия, обеспечат ему уважение в глазах тамошних островитян, а редкие знания, приобретенные благодаря общению с нами и другими далекими народами, привлекут на Таити всеобщее внимание.
Так что он заранее рассчитывал на почет и дружественную встречу. Особое восхищение должны были вызвать знакомство с нами и перенятые у нас познания, а главное — ружье, которым мы разрешили ему пользоваться. Зная его доброе сердце, я также был убежден, что он радовался и предстоящей возможности оказаться так или иначе полезным нам, европейцам, ибо он ко всем вам относился очень сердечно и с нашей стороны встречал искреннюю любовь.
На другое утро в 10 часов мы увидели землю, а спустя несколько часов узнали Таити. Нам очень хотелось подойти к берегу в тот же день, однако наступившая темнота заставила нас все же провести ночь в море. Покуда еще оставалось светло, взгляд каждого был прикован к этому королю тропических островов. Я, как ни был слаб, тоже выполз на палубу, чтобы хоть насладиться видом местности, сулившей наконец надежду на восстановление моих сил и здоровья.
Утром я проснулся рано, и как же восхитил меня сей прекрасный вид! Казалось, я впервые видел чарующую местность, лежавшую передо мной. И в самом деле, она была теперь прекраснее, нежели восемь месяцев назад, ведь тогда я видел ее совсем в другое время года. Леса на горах были одеты свежей зеленью, переливавшейся разнообразными оттенками. Зеленели новым весенним нарядом невысокие холмы вокруг, делая весь вид еще более прелестным. Особенно же красовались равнины великолепным убранством молодых лугов. Словом, все напоминало мне описание зачарованного острова Калипсо[408].
Легко понять, что мы не спускали глаз с лежавшего перед нами острова. Пока мы проплывали мимо, нам доставляло сверх того особое удовольствие узнавать места, где мы уже бывали в прошлый раз. Наконец во всем своем великолепии открылась бухта Матаваи, и мы едва могли дождаться, пока сможем вновь, после восьмимесячного отсутствия, сойти на этот берег.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Рассказ о втором посещении острова Таити
Ille terrarum mihi praeter omnes
Angulus ridet.
Horat[409]Едва славные люди увидели с берега корабль, тотчас к нам отошли несколько каноэ. Они везли плоды в качестве приветственного подарка. Среди первых, кто поднялся к нам на борт, были два молодых человека, видимо выше других рангом. Мы попросили их войти в каюту, и там они познакомились с Махеине. По местному обычаю, они подарили ему одежду; сняли свое верхнее платье, изготовленное из тончайшей здешней материи, и дали надеть ему. Он, со своей стороны, показал им свои диковины и подарил несколько красных перьев, которые те приняли как большую и очень ценную редкость.
Около 8 часов утра мы бросили якорь в бухте Матаваи, и тотчас вокруг корабля появилась целая флотилия каноэ. Это наши старые знакомые привезли рыбу, плоды хлебного дерева, яблоки, кокосовые орехи и бананы и отдавали их нам очень дешево. Рыбы по большей части были так называемые толстоголовки (Mullets или Mugiles) и бониты. Их привезли живыми в корзине, которая была укреплена в середине двойного каноэ под водой, а чтобы последняя туда свободно проникала, сзади и спереди корзину прикрывала плетенка из веток[410].
Как и в прошлый раз, мы решили поставить палатки на мысе Венус [Венюс] как для проведения астрономических наблюдений, так и для удобства торговли, заготовки дров и воды. Капитан, доктор Спаррман и мой отец сошли на берег. Мне же пришлось остаться на борту, ибо я был так слаб и болен, что едва держался на ногах. Чтобы развлечься, я стал торговать из окна каюты и таким образом добыл несколько новых разновидностей рыб, тогда как другие, возвратясь, не смогли ничем особенным похвастаться. Впечатления же их о стране были самые прекрасные и многообещающие. Все на этот раз находилось в лучшем состоянии, чем во время первого нашего посещения. Кругом зеленело, многие деревья еще были полны плодов, ручьи полноводны; они увидели также много вновь построенных домов.
Махеине, отправившийся с ними, к ночи не вернулся на борт. Он сразу встретил кое-кого из родственников, прежде всего свою родную сестру по имени Те-и-оа, одну из самых красивых женщин на острове. Она была замужем за знатным человеком с Раиетеа [Раиатеа], которого звали Нуна. Его дом, выделявшийся своей необычной величиной, стоял совсем рядом с нашими палатками, шагах в двухстах от них, на другом берегу реки. Едва Махеине ступил на берег, как снял европейское платье и надел вместо него красивую новую одежду, подаренную земляками. Радость, которую он проявил при церемонии наряда, доказывает, что родные обычаи все-таки нравились ему больше любых других. Удивляться этому не приходится, тем более что у большинства еще недостаточно цивилизованных народов, особенно же у совсем диких, очень сильна власть привычки. В самом деле, разве не естественно, что житель островов Общества (такой, как Махеине, познакомившийся и с тем, и с другим образом жизни) предпочел постоянному беспокойству, отвратительной пище, грубым и тесным одеждам европейских моряков счастливую жизнь, здоровое питание и простой наряд своих земляков? Мы ведь видели, как даже эскимосы, повидавшие и испробовавшие европейскую кухню, европейские роскошные одежды и все великолепие Лондона, с величайшей радостью возвращались в пустынное свое отечество, к своим грязным собачьим шкурам и прогорклой ворвани!
Махеине же нашел на Таити все удовольствия и радости, какие только мог ожидать. К нему относились здесь с чрезвычайным почтением, смотрели на него как на морское чудо, угощали изысканными блюдами. Он получил в подарок всяческую одежду и, пребывая в обществе местных нимф, мог то и дело вкушать те удовольствия, коих в море был, увы, лишен. Падкий до чувственных наслаждений, как все дети природы, притом долго лишенный возможности видеть милых своих соотечественниц, а благодаря общению с нашими матросами ставший, наверное, еще более чувственным, чем обычно, он, разумеется, был им весьма рад. Так что у него были самые разнообразные причины восхищаться сим чарующим островом, а общение с прекрасными землячками совсем привязало его к нему, тем более что в теплом климате корабль был; конечно, не самым приятным местом ночлега. Зачем ему было забираться в тесную и наверняка дурно пахнущую каюту, когда на берегу он мог вдыхать чистейший воздух, благоухание цветов и наслаждаться приятной прохладой, которую дарил мягкий вечерний ветер?
Так что в этом смысле судьбу Махеине на берегу можно было считать вполне счастливой. Но и на корабле многие считали, что им можно не меньше позавидовать! Дело в том, что в первый же вечер на корабль явилось несколько женщин, и всю ночь напролет здесь шел разгул. Я уже имел случай заметить, что здешние распутные женщины принадлежат к простонародью или низшему классу. Теперь это подтвердилось еще нагляднее, ибо женщины эти оказались те же самые, что занимались развратом с моряками и во время первого пребывания на Таити. Думаю, это доказывает, что проститутки здесь образуют особый класс. Он, однако, не столь многочислен, а испорченность нравов здесь не столь всеобщая, как полагали некоторые наши предшественники. Мне кажется, они просто недостаточно учитывали место и обстоятельства. Как бы мы отнеслись, начни О-Маи рассказывать своим землякам, что в Англии почти или совсем не знают ни стыда, ни чести — и все потому, что он не нашел этих свойств у услужливых нимф в Ковент-Гардене, Друрилейне и Стренде? [411]
Следующий день выдался на редкость погожий. На корабль явилось много туземцев. Я же отправился на берег и попытался дойти до палаток, но не прошел и пятидесяти шагов, как вынужден был сесть, дабы не упасть в обморок. Мне предложили яблоки, которые принесли сюда среди прочего на продажу. Они выглядели так аппетитно, что я пренебрег строгим запретом врача и взял одно. Затем я вернулся на борт. Тем временем наши люди обменяли на гвозди, ножи и прочие мелочи пятьдесят штук больших бонит, а также много плодов, так что вся команда получила довольно большие порции.
Между тем одному из наших таитянских гостей захотелось украсть несколько гвоздей. Вернувшись, я застал его в цепях. Но некоторые знатные люди стали просить за него, обещая за освобождение много бонит, поэтому скоро его отпустили, предупредив, однако, чтоб впредь он подобным воровством не занимался.
Распутная компания, которая провела на борту прошлую ночь, к вечеру опять была тут как тут, да еще привела с собой новеньких, так что у каждого матроса была теперь своя девка. Это оказалось весьма кстати, ведь был как раз день св. Георга, который у нас праздновали по старому обычаю, то есть пировали вовсю в честь покровителя страны. Началась вакханалия, и всю прекрасную лунную ночь матросы посвятили служению Кифере[412]!
Доктор Спаррман и мой отец вернулись с берега на корабль лишь после захода солнца. Они прошли через холм Уан-Три-Хилл к Парре [Паре], там встретили мать Тутахи, а также Хаппаи, отца короля, и приветствовали обоих подарками. Один из туземцев, который сопровождал их обратно, оказал им, среди прочего, такую услугу: он далеко заплывал в пруд за дикими утками, которых они там подстрелили. Затем он пригласил их в свою хижину, находившуюся в 10 милях к западу от мыса Венус. Там он угостил их плодами и превосходным пудингом, который приготовляется из тертых ядер кокосового ореха и кореньев Arum esculentum [таро], а кроме того, дал много кокосовых орехов с собой. Он снимал орехи с пальм вокруг своей хижины, а росли они изобильно. Накормив, он вдобавок подарил им умащенное благовониями платье из тончайшей материи, а на обратном пути нес для них плоды, которые они не съели.
По пути они увидели двух коз, подаренных королю капитаном Фюрно; козы паслись недалеко от дома их высокого владельца. Со времени нашего отъезда у них появилась тонкая, мягкая, шелковистая шерсть, а коза уже принесла двух козлят; они успели вырасти и были такими же упитанными и бодрыми, как и их родители. Если здешние жители еще некоторое время станут ухаживать за этими животными столь же заботливо, то скоро их можно будет отпустить на волю, и, так как козы размножаются быстро, туземцы получат новый источник питания, который, без сомнения, им очень понравится.
Гостеприимный провожатый моего отца прибыл вместе с ним на корабль, переночевал у нас, а на другое утро, в высшей степени довольный ножами, гвоздями и бусами, которые получил в подарок, вернулся домой.
Наутро 24-го благодаря съеденному накануне яблоку я почувствовал себя гораздо лучше. Капитан Кук, все еще ощущавший признаки желчной болезни, тоже испытал благотворное воздействие сего замечательного фрукта. Так что мы и в дальнейшем время от времени лакомились им и рекомендовали его всем, кто чувствовал недомогание. Это ускорило наше выздоровление сверх всяких ожиданий. Прошло всего несколько дней, и от болезни осталась лишь незначительная слабость, какая в подобных случаях обычно еще держится некоторое время.
Около полудня, хотя дождь еще не совсем прекратился, нас посетил король Ту со своей сестрой Таураи и с братом. Они привезли в подарок капитану Куку свинью. Король теперь выглядел не таким недоверчивым и робким, как прежде. Его щедрость была вознаграждена несколькими топорами, однако больше всего он и его спутники интересовались, кажется, красными перьями попугая, которые они называли ура и о которых все время спрашивали. Несомненно, сыграли свою роль рассказы Махеине и подарки, кои он многим сделал. Мы перебрали весь запас диковин, что привезли с островов Дружбы [Тонга], и нашли несколько таких перьев, однако сочли за лучшее не показывать их все сразу. Но даже части этих драгоценностей оказалось достаточно, чтобы вызвать у короля и его сестры радостное изумление.
Выше, описывая покупку этих перьев, я уже упоминал, что некоторые из них были прикреплены к материи из шелковицы, другие же — к звездам из кокосовых волокон. Наши высокие гости получили по небольшому, не шире двух пальцев, куску отделанной таким образом материи и по одной или две звезды. Как это ни было мало, они, казалось, не ожидали такой щедрости и ушли очень довольные. Такие перья употребляют главным образом для украшения воинских нарядов, и, может, еще для каких-нибудь торжественных случаев. То, что их так высоко ценили, уже само по себе показывает, сколь распространена среди этого народа роскошь.
На другой день к нам явилось несколько здешних вождей. Среди них был и наш давний друг Потатау с обеими своими женами, Ваиниау и Полатехерой. Они тоже были наслышаны о нашем великом богатстве — красных перьях, привезли много свиней и с большой охотой меняли их на крошечные кусочки знаменитой материи с перьями. Бросалось в глаза, насколько улучшились дела у туземцев за время нашего восьмимесячного отсутствия. В первый раз мы с большим трудом смогли получить у них всего несколько свиней и должны были считать великой любезностью, когда король или кто-либо еще из здешней знати давал нам этих животных. Теперь вся палуба была заполнена ими, так что пришлось построить для них на берегу хлев. Очевидно, в августе 1773 года здесь еще ощущались тяжелые последствия неудачной войны с другой половиной острова; теперь страна явно от них оправилась.
Вся первая половина этого дня оказалась дождливой, непогожей. Молнии сверкали так ярко, что мы ради безопасности укрепили на верхушке средней мачты медную цепь так, чтобы она спускалась за борт. Но нижний конец цепи запутался в снастях, и едва матрос высвободил его, как сверкнула ужасающая молния. Было видно, как она пробежала по всей цепи, сопровождаемая жутким раскатом грома. Все судно задрожало так, что не только находившиеся на борту таитяне, но и сами мы немало испугались. Однако молния не причинила кораблю ни малейшего вреда, и это убедило нас на будущее в великой пользе электрической цепи[413]. Капитан Кук уже пережил подобный случай, когда стоял с кораблем «Индевр» на якоре у Батавии [Джакарта].
Лишь к вечеру дождь стал немного ослабевать, хотя время от времени еще налетали ливни. На другое же утро он прекратился. От наших людей, оставшихся в лагере на берегу, мы сразу узнали, что из палаток были украдены несколько камзолов и шерстяных одеял, принадлежавших капитану и отданных в стирку. Поэтому капитан в 10 часов сошел на берег, чтобы нанести визит королю и попросить у него помощи в розыске похищенного. С ним отправились доктор Спаррман, мой отец и еще несколько человек; да и я уже настолько оправился, что мог составить им компанию.
Добравшись до берега О-Парре, мы были поражены зрелищем, какого никто из нас не ждал увидеть в Южном море. Вдоль берега на якоре стояла многочисленная флотилия больших боевых каноэ с гребцами и воинами в полном вооружении, со щитами и в высоких головных уборах. Весь берег кишел людьми, однако в толпе царило торжественное молчание. Едва мы достигли берега, как навстречу нам вышел дядя короля по имени Ти, чтобы помочь капитану выйти на берег. В тот же самый миг на берег вышел главнокомандующий флотом и тоже самым вежливым образом приветствовал нас. При его приближении весь народ воскликнул «Тоха!» и с почтением, удивившим нас, расступился перед ним. Он подошел прямо к капитану Куку, протянул ему руку, назвал своим другом и пригласил в свое каноэ. Ти, казалось, был не очень доволен таким поворотом дела, ему явно не хотелось, чтобы капитан Кук покинул его и шел с Тохой. Мы подошли к адмиральскому каноэ, и капитан уже собирался было сесть в него, как вдруг передумал и отклонил приглашение. Тоха, видимо, почувствовал себя оскорбленным, он покинул нас с явной холодностью и вошел в лодку один, мы же, более не заботясь о нем, рассмотрели поближе корабли, выстроившиеся в прямую линию, носами к берегу.
Вид этой флотилии не зря привел нас в изумление. Поистине он далеко превосходил все, что мы до сих пор могли себе представить о могуществе и богатстве сего острова. Здесь собралось не менее 159 больших двойных каноэ длиной от 50 до 90 футов. Если вспомнить, какими несовершенными инструментами пользуются местные жители, то нельзя не удивляться терпению, потребному для постройки стольких кораблей. Ведь нужно было сперва свалить для них деревья, нарезать из них планки сделать эти планки гладкими и плоскими, подогнать их одну к другой и, наконец, составить в форме большого грузоподъемного судна; и для всех этих работ они не имели других инструментов, кроме каменного топора и зубила, кусочков коралла и жесткой шкуры ската, служившей для обстругивания и полировки поверхностей.
Все их каноэ были двойные, то есть соединенные попарно крепкими поперечинами числом от 15 до 18. Поперечины обычно располагались в 4,5 футах одна от другой и были от 12 до 24 футов длиной. В последнем случае они выдавались далеко за оба борта и образовывали нечто вроде палубы над всем судном, имевшей часто в длину 50—70 футов. А чтобы такое множество поперечин держалось крепко, на них укладывали по два-три стропила вдоль судна по краям и посередине, между двумя соединенными лодками. Корма и нос на несколько футов возвышались над водой, корма иногда футов на 20. Она имела вид криво изогнутого птичьего клюва и обычно была украшена резьбой.
Между двумя высокими кормовыми частями двойного каноэ обычно натягивался вместо вымпела кусок белой материи, который часто раздувался ветром, точно парус. На некоторых имелись полосатые вымпелы с красными полями; как мы узнали потом, они служили знаками различия для отдельных отрядов, на которые делился флот. Над клювообразной кормой поднимался высокий резной столб, наружный конец которого изображал уродливую человеческую фигуру; лицо ее было обычно прикрыто краем доски, как нахлобученной шапкой, и иногда раскрашено красной охрой. Столбы, или сваи, были обычно украшены черными пучками перьев, и длинная снизка таких же перьев спускалась с них. Посредине борта каноэ были ниже всего, они возвышались над водой на 2—3 фута, но не все были устроены одинаково. У некоторых было плоское дно и борта поднимались отвесно, другие, напротив, были выпуклые, с острым килем, как можно видеть на иллюстрации к описанию первого путешествия капитана Кука. В передней части каноэ для воинов были устроены помосты высотой 4—6 футов, обычно на резных столбах. Эти помосты длиной от 20 до 24 футов и примерно 8—10 футов шириной выдавались далеко за края каноэ. Ниже помоста находилась плоская палуба, образованная поперечными балками и продольными стропилами, и так как они укладывались поперек друг друга, то возникало несколько четырехугольных отделений, где сидели гребцы. Таким образом, в каноэ с восемнадцатью поперечинами и тремя продольными стропилами (двумя по бокам и одним посредине) помещалось не менее 144 гребцов, не считая 8 рулевых, по 4 на каждой корме. Но так были устроены лишь немногие из собравшихся здесь каноэ. Большинство же не имело выдававшихся платформ, и там гребцы сидели просто в углубленной части судового корпуса. Воины стояли на помосте или платформе; на каждой лодке их могло поместиться человек 15 — 20.
Одежда туземцев была странная и являла собой красочное зрелище. На них были надеты три больших полотнища материи с вырезанным посредине отверстием, через которое продевалась голова. Нижнее, самое длинное полотнище — белое, второе — красное, верхнее, самое короткое — коричневое. Их нагрудные плетеные щиты украшали перья птиц, а также зубы акулы. Почти у всех воинов были такие щиты, шлемы же — лишь у немногих. Шлемы были огромных размеров. В высоту они имели футов 5 и представляли собой длинную цилиндрическую корзину, передняя часть которой была укреплена еще более плотным плетением. Этот щит (или передняя пластина), расширявшийся к середине шлема и несколько выгнутый вперед, был густо усажен блестящими голубовато-зелеными голубиными перьями, которые окаймлялись перьями белыми. От шлема лучами расходилось множество хвостовых перьев фаэтона, так что издалека казалось, будто вокруг головы воина светится нимб, вроде того, каким наши живописцы окружают обычно головы ангелов или святых. Чтобы эти высокие, неудобные сооружения не давили на голову и притом сидели крепко, под них надевался большой матерчатый тюрбан. Но так как этот головной убор служит не для защиты, а для украшения, то в бою воины его обычно снимают и кладут возле себя на палубу.
Самые знатные вожди носят еще один знак отличия, напоминающий бунчук турецкого паши. Он представляет собой нечто вроде круглого хвоста из зеленых и желтых перьев, свисающего с одежды сзади. У адмирала Тохи было на спине пять таких хвостов из перьев, к концам которых вдобавок были прикреплены шнуры из кокосовых волокон с пучками красных перьев. Вместо шлема он носил красивый тюрбан, который очень шел ему. На вид Тохе было лет шестьдесят, однако он был большого роста и выглядел весьма бодро; во всей его повадке было что-то очень приятное и благородное.
До сих пор мы наблюдали этот флот лишь с берега. Чтобы поглядеть на него со стороны моря, мы сели в свою шлюпку и поплыли на веслах вдоль всего ряда каноэ, стоявших к нам кормой. В каждом каноэ мы увидели кучу копий и большие палицы или боевые топоры, которые были прислонены к платформе; кроме того, каждый воин держал по копью или палице в руке. В каждом каноэ лежала также куча больших камней — единственный вид оружия, коим они способны поражать врага на расстоянии. Мы насчитали 159 двойных боевых каноэ, а также вне линии еще 70 более мелких, тоже большей частью двойных, с перекрытием на корме. На таком каноэ мог переночевать вождь, кроме того, оно могло служить провиантским судном. Другие были полны листьев банана; по словам островитян, они предназначались для мертвых. Эти лодки они называли э-ва-но т'эатуа, то есть «каноэ божества»[414].
Но куда больше роскошных нарядов удивляло обилие собравшихся людей. По самым скромным подсчетам, Команда флотилии составляла около 1,5 тысячи воинов и 4 тысячи гребцов, не считая находившихся в провиантских каноэ и на берегу.
Нас интересовало, для чего собралось такое громадное воинство, но узнать об этом мы пока ничего не могли. Поскольку король покинул округ О-Парре и отправился в бухту Матаваи, мы, так и не поговорив с ним, к полудню вернулись на борт. Здесь мы встретили многих вождей, в том числе Потатау, который поел с нами. За обедом он рассказал, что войско собралось в поход на Эймео [Муреа], вождь которого, бывший вассалом О-Ту, теперь взбунтовался. Мы были особенно удивлены, узнав, что весь флот, виденный нами, снаряжен одним лишь округом Атахуру; все другие округа в зависимости от своей величины должны были еще вывести в море соответствующее число кораблей. Это заставило нас заново оценить население острова; без сомнения, оно гораздо значительнее, чем мы полагали до сих пор. По самым скромным предположениям, на обеих половинах острова Таити должно было жить 120 тысяч человек.
Но и этот подсчет еще слишком скромный. Ведь мы потом видели, что флот самого маленького округа составлял не менее 44 боевых каноэ, да еще 20—25 маленьких, так что контингент округа Атахуру, который мы брали за основу, мог быть еще больше.
Обе половины острова разделены на 43 округа. Будем считать, что в среднем каждый округ может снарядить 20 боевых каноэ и что на каждом находится всего по 35 человек. Тогда численность всего флота, не считая более мелких каноэ, составит не менее 30 тысяч человек. Будем считать, что это четвертая часть всего народонаселения. Подобный расчет во всех отношениях занижен, так как я исхожу из предположения, что кроме этих 30 тысяч на острове больше нет способных носить оружие людей; с другой стороны, я принимаю отношение способных носить оружие к остальным за один к четырем, тогда как во всех европейских странах доля этих остальных гораздо значительнее[415].
После полудня капитан Кук опять отправился с нами в О-Парре. Но флот уже отошел, видны были только отдельные каноэ. Зато мы встретили короля О-Ту, который принял нас очень хорошо и повел к одному из своих домов. Дорога туда вела через местность, напоминавшую сад. Перед нашим взором чередовались тенистые плодовые деревья, благоуханный цветущий кустарник, ручьи, каждый из которых казался хрустальным зеркалом. Все дома выглядели превосходно. У некоторых имелись стены из тростника, другие, подобно жилищам простонародья, были кругом открыты.
Мы провели несколько часов в обществе короля, и его родственники, равно как и знать, всячески старались выказать нам свое дружеское расположение. Беседа, правда, была не связной, зато весьма оживленной. Больше всего смеялись и болтали дамы. Они были в прекрасном настроении и все время поддразнивали друг друга, играли словами; иногда шутки их были действительно забавны.
За весельем время прошло так незаметно, что на корабль мы вернулись уже к заходу солнца. Зато мы хоть отчасти насладились счастливой безмятежностью, что так присуща здешним жителям и стала как бы свойством их натуры. Спокойствие и довольство, простой образ жизни этих славных людей, красота природы, превосходный климат, обилие вкусных, полезных для здоровья плодов — все это было волшебно и наполняло нас радостью за них. Ведь разве не сладостно удовольствие, кое человек с неиспорченным сердцем испытывает, видя ближнего своего счастливым! Без сомнения, это одно из прекраснейших чувств, возвышающее нас над другими тварями.
На следующее утро капитан и мой отец нанесли еще один визит в Парре королю О-Ту. Они застали у него Тоху, командующего флотом, и король сам познакомил их. Капитан пригласил обоих к себе на корабль, и они прибыли еще до полудня. Они осмотрели каждый уголок на палубе и внизу. Особенно был доволен адмирал Тоха, который прежде не бывал ни на одном европейском судне. Он с большим вниманием, чем кто-либо из таитян до него, осмотрел множество новых предметов; особенно его интересовали крепость и величина внутренних балок, а также мачты и снасти. Снасти наши до того понравились ему, что он попросил себе канаты и якорь. Одет он был теперь не лучше, чем другие жители этого счастливого острова, и ввиду присутствия короля был обнажен до бедер. Я даже с трудом его узнал, настолько он не походил на вчерашнего. На сей раз он показался мне толстоватым, что накануне под широким и длинным воинским одеянием было незаметно. Волосы у него были серебристо-седые, а такого приятного, добродушного лица я вообще еще не встречал на этом острове. Король со своим адмиралом оставались у нас до полудня и с большим удовольствием съели все, чем их угощали.
О-Ту был уже не тот робкий, недоверчивый человек, каким был когда-то. Он чувствовал себя у нас как дома и с удовольствием объяснял Тохе наши обычаи. Он показывал ему, как брать соль на мясо и пить вино, сам не задумываясь опустошил для примера стакан и весело шутил со своим адмиралом, уверяя его, что красное вино — это кровь. Тоха отведал нашего грога (смесь водки с водой), но скоро потребовал чистой водки, которую он называл э-ваи но Бретанни, то есть «британская вода», и выпил, не скривившись, полный стакан.
И он, и его таитянское величество были необычайно веселы; казалось, им очень нравится и наш образ жизни, и наша кухня. Они рассказали, что их флот направляется на Эймео, или остров Йорка, против бунтовщиков и их вождя Те-Эри-Табонуи; первая атака будет направлена на округ Мореа. Капитан Кук в шутку предложил сопровождать их со своим кораблем и поддержать высадку огнем пушек. Вначале они посмеялись над этим, как будто очень довольные. Но тут же, поговорив между собой, они переменили тон и сказали, что не желают пользоваться нашей помощью, поскольку намерены выступить против Эймео лишь через пять дней после нашего отплытия. Видимо, не это было истинной причиной, по которой они отклонили наше приглашение, но в любом случае это было весьма умно. Даже наших союзников здесь не могло не смутить наше чрезмерное превосходство. Что говорить, четырехфунтовые орудия «Резолюшн» способны были внушить трепет жителям Эймео, но побежденные приписали бы свое поражение только нашему вмешательству, а победители после нашего отплытия потеряли бы уважение, которое заслужили прежде. Результатом было бы презрение, а этого они не желали.
Назавтра после полудня мой отец и доктор Спаррман в сопровождении одного матроса и одного морского пехотинца сошли на берег, чтобы подняться в горы. За последние дни подвоз продовольствия и других товаров был весьма значительный. Корабль постоянно окружали каноэ, в которых вожди ближних округов сами привозили на продажу своих свиней и другие вещи, чтобы обменять их на красные перья, которые так высоко у них ценились.
Эти перья сильно повлияли на отношения женщин с нашими матросами. Счастлив был тот, кто запасся сим драгоценным товаром на островах Дружбы. Его сразу окружали девушки, и он один мог выбирать самых красивых. В тот день мы имели особенно наглядную возможность убедиться, сколь всеобщей и неодолимой является у этого народа страсть к красным перьям. Во время первого нашего пребывания здесь я уже заметил, что жены знатных людей никогда не посещают европейцев. При всей вольности, какую позволяют себе незамужние девушки, замужние на Таити весьма заботятся о своей чистоте и незапятнанности. Однако охота до красных перьев заставила пренебречь и этим различием. Один из вождей решил предложить капитану Куку свою жену, и дама, повинуясь мужу, сделала все, чтобы соблазнить капитана. Она так незаметно, но искусно сумела показать и подать свои прелести, что не всякая знатная европейская дама смогла бы ее тут перещеголять. Подобное предложение, исходившее от человека, который во всем показал себя столь безупречно, навело меня на размышления, нелестные для человечества.
Это был Потатау. Мы удивились, как мог так низко пасть человек, о коем мы были столь высокого мнения, и дали понять ему свое неудовольствие.
Пожалуй, счастье еще, что матросы уже успели выменять на Маркизских островах много красных перьев на другие диковины, прежде чем узнали, как высоко они ценятся на Таити. Если бы они довезли сюда все это богатство, продовольствие, несомненно, так поднялось бы в цене, что нам пришлось бы куда труднее, нежели в первый раз. Самое маленькое перышко уже ценилось гораздо больше, чем бусы или гвоздь, а кусочек материи, покрытый такими перьями, приводил счастливца, приобретшего его, в такой восторг, какой вряд ли мог испытать даже европеец, вдруг заполучивший алмаз «Великий Могол».
Потатау принес на корабль и продал за красные перья свой большой, высотой 5 футов, воинский шлем. Другие последовали его примеру и стали предлагать матросам множество щитов. Еще более удивительно, что туземцы приносили на продажу даже странные погребальные наряды, которые упомянуты в описании первого путешествия капитана Кука и которые тогда они не отдавали ни за какую цену. Наряды были сделаны из самых ценных материалов, какие здесь поставляют земля и море, выделаны с большим усердием и искусством и, естественно, ценились очень высоко. Однако не менее десятка таких погребальных нарядов было куплено разными людьми на борту и привезено в Европу. Один из них капитан Кук подарил Британскому музею, а мой отец имел честь передать такой же наряд Оксфордскому университету, где тот был выставлен в Эшмолеанском музее.
Верхняя часть этого странного одеяния состоит из плоской тонкой дощечки, имеющей форму полумесяца длиной 2 фута и шириной 4—5 дюймов. На ней с помощью кокосовых волокон прочно укреплены 4—5 отборных перламутровых раковин, в краях которых, как и в самой дощечке, проделаны для этого отверстия. Еще более крупные раковины такого же рода, обрамленные голубовато-зелеными голубиными перьями, находятся на каждом конце дощечки, которые, как уже было сказано, загнуты вверх подобно рогам полумесяца. Над серединой дощечки укреплены две большие раковины, образующие круг примерно 6 дюймов в поперечнике, а над ними выступает большой кусок перламутровой раковины, на которой обычно сохранена наружная пурпурная оболочка. Он продолговатой формы, высотой 9—10 дюймов, кверху шире, чем внизу, и, как лучами, окружен веером белых перьев из хвоста фаэтона.
С нижнего конца этой полукруглой дощечки свисает нечто вроде передника. Он состоит из 10—12 параллельно расположенных шнуров, на которые нанизаны маленькие кусочки перламутра, каждый длиной 1,5 дюйма; эти кусочки с двух концов просверлены и соединены друг с другом при помощи кокосовых волокон. Все шнуры имеют одинаковую длину, но из-за полукруглой формы дощечки крайние оказываются выше средних, а раз они не достают так низко, то передник внизу оказывается уже, чем наверху. К концу каждого такого шнура привязана еще нитка с нанизанными на нее раковинами улитки, а иногда и с европейскими бусами; с двух верхних концов дощечки по каждой стороне передника опускается также длинный круглый хвост из зеленых и желтых перьев, что делает все одеяние особенно нарядным. Вся эта странная декорация укрепляется на голове скорбящего с помощью двух крепких шнуров, которые приделываются к двум раковинам посредине дощечки, так что просто свисает вниз. Передник покрывает грудь и нижнюю часть тела, дощечка находится на уровне шеи и плеч, а первая пара раковин приходится как раз напротив лица. В одной из них проделано небольшое отверстие, чтобы скорбящий мог смотреть. Самые крайние раковины вместе с окружающими их длинными перьями поднимаются над головой человека, который носит этот наряд, по меньшей мере на 2 фута.
Не менее странно выглядят и остальные части этого одеяния. Скорбящий носит циновку или кусок материи, в середине которых, по местному обычаю, делается дыра, куда просовывают голову. Поверх нее он надевает еще одну такую же, но передняя ее часть свисает почти до ступней, и на ней рядами укреплены кусочки кокосовой скорлупы. Эта одежда подвязывается вокруг бедер с помощью круглого пояса из перекрученной коричневой и белой ткани. На спину ниспадает плащ, сплетенный в виде сетки, к нему прочно прикреплены большие голубые перья. На голову надевается коричнево-желтый тюрбан, скрепленный множеством шнуров, сплетенных из коричневой и желтой ткани. С тюрбана на шею и плечи свисает сзади широкая полоса из параллельных полос попеременно коричневой, желтой и белой материи, чтобы фигура человека была как можно меньше видна.
Обычно сей удивительный наряд должен носить ближайший родственник умершего, причем в одной руке он держит несколько больших перламутровых скорлуп, которыми то и дело щелкает, в другой же руке — палку, усеянную акульими зубами. Этой палкой он наносит удары каждому, кто случайно ему повстречается.
Как возник столь странный обычай, сказать не берусь. Мне представляется, все назначение его в том, чтобы нагнать страху. Во всяком случае, сей фантастический наряд так напоминает зловещий облик, какой приписывают наши любители небылиц призракам и ночным привидениям, что, по-моему, за этим всем кроется, скорее всего, дурацкое суеверие. Возможно, закутанный таким манером скорбящий изображает дух умершего, который требует от своих оставшихся родственников стенаний и слез и потому ранит их акульими зубами. У такого непросвещенного народа, как таитяне, вполне возможны подобные представления, сколь ни вздорны они сами по себе. Но, конечно, наверняка трудно сказать, насколько истинно такое предположение; от туземцев же, сколько мы их ни расспрашивали, не удалось узнать ничего достоверного о смысле сего обычая. Правда, они описали нам всю траурную церемонию и сказали, как называются отдельные части одеяния, но п о ч е м у все делается так, а не иначе, об этом мы просто не смогли спросить достаточно ясно.
Самое странное мы узнали от Махеине, а именно: когда умирает мужчина, его жена устраивает траурную церемонию, если же умирает женщина, муж должен изобразить подобное пугало. Когда мы вернулись в Англию, любители заморских диковин проявили такой интерес к этим траурным нарядам, что за один из них некий матрос получил 25 гиней!
Разумеется, таитяне любопытством не уступали цивилизованным народам. Едва Махеине успел раструбить повсюду о своих приключениях и показал привезенные заморские сокровища, как знатные люди стали приставать к нам, выпрашивали диковины с Тонгатабу, Ваиху [о-в Пасхи] и Вайтаху [Тахуата][416]. Они меняли на эти мелочи продовольствие и другие свои вещи охотнее, чем на самые полезные европейские товары. Желаннее всего были для них украшенные перьями головные уборы с двух последних островов, а также корзины и раскрашенные материи с первого; они высоко ценили даже циновки с Тонгатабу, которые, в сущности, ничем не отличались от их собственных. Наши матросы пользовались этим и частенько их обманывали, продавая под другим названием циновки, изготовленные либо здесь, либо, в лучшем случае, на других островах Общества. Как видно, между народами, особенно теми, что не назовешь совсем нецивилизованными, можно найти немало сходства.
Это сходство еще более явственно проявлялось в жадности, с какой они слушали рассказы своего молодого земляка о его путешествиях. Где бы ни появлялся Махеине, вокруг него сразу собиралась толпа. Особенно его ценили люди постарше и более знатные; даже члены королевской семьи добивались его общества. Помимо удовольствия послушать его они надеялись получить от Махеине и кое-какие ценные подарки, которые к тому же обходились им обычно не дороже чем в несколько добрых слов. Короче говоря, он проводил время на берегу в полное свое удовольствие, так что мы почти не видели его на борту, за исключением тех случаев, когда он приходил что-нибудь попросить или показать корабль своим знакомым, а также представить их капитану или кому-либо из нас.
Рассказы его казались слушателям до того удивительными, что нередко они считали нужным обратиться за подтверждением к нам. Окаменелый дождь, твердые белые скалы, горы, которые превращаются в пресную воду, бесконечный день в краях, близких к полюсу,— даже мы не могли до конца убедить их, что все это не выдумки. Они скорее готовы были поверить, что в Новой Зеландии есть людоеды, хоть и не могли слушать об этом без ужаса и содрогания.
Однажды Махеине привел на корабль целую группу людей; они пришли с единственной целью: посмотреть на голову новозеландского юноши, которую господин Пикерсгилл хранил в спирте. Ее показали им при мне, и меня удивило, что для этой головы у них нашлось готовое название. Они назвали ее те-тае-аи, что, видимо, значило нечто вроде «пожиратель людей». Расспросив наиболее знатных и толковых людей, я узнал о существовании у них древней легенды, будто в незапамятные времена на острове водились людоеды; это были очень сильные люди, губившие множество здешних жителей, но они все давно вымерли. О-Маи, с которым я говорил на эту тему после нашего возвращения в Англию, в самых решительных выражениях подтвердил эти рассказы своих земляков. Мне кажется, все это связано с древней историей Таити. Дело, думается, не в том, что когда-то в древние времена несколько каннибалов просто случайно высадились на остров и наводили бесчинствами страх на жителей. Я скорее полагаю, что к этой традиции восходит первоначальное состояние всего народа, то есть что все таитяне были некогда людоедами, прежде чем благодатные свойства этой земли, особенно изобилие хороших съестных припасов, не сделали их более цивилизованными. Как это ни покажется странным, но несомненно, что почти все народы в древнейшие времена были каннибалами. На Таити до сих пор заметны следы этого. Во время своего первого путешествия капитан Кук увидел здесь в одном доме пятнадцать свежевыставленных челюстей[417]. Не был ли это знак победы над врагами?
Утром на месте преступления поймали таитянина, собиравшегося украсть бочку возле палаток. О-Ту и Тоха, которые довольно рано явились к нам на борт и услышали о происшедшем, отправились вместе с капитаном Куком на берег, чтобы посмотреть, как будет наказан вор. Он был привязан к столбу и с их одобрения получил двадцать четыре крепких удара. Это наказание нагнало такого страху на множество собравшихся здесь индейцев, что они стали разбегаться. Но Тоха велел им вернуться и в речи, продолжавшейся 4—5 минут, объяснил, что наше наказание справедливо и необходимо. Он напомнил, что, несмотря на все свое могущество, мы не пробовали ни грабить, ни брать чего-либо насильно; вообще мы во всем показали себя как их лучшие друзья, а воровать у друзей позорно, и сие заслуживает наказания. Здравомыслие и чувство справедливости, которые проявил в данном случае прекрасный старик, усилили наше уважение к нему; и слушателей, похоже, убедила логичность его речи.
После полудня тот же Тоха явился на корабль вместе с женой. Она была уже в летах и, насколько можно было судить по внешнему виду, показалась нам такой же добродушной, как и он. Они прибыли на двойном каноэ с палубой на корме и восемью гребцами. Оба старика пригласили господина Ходжса и меня к себе в гости. Мы сели в их каноэ и отправились в Парре. По пути Тоха подробно расспрашивал о природе и об устройстве страны, из которой мы приехали. Так как Банкс и капитан Кук были самыми знатными из европейцев, которых он видел, Тоха считал, что один из них не менее чем брат короля, а другой по крайней мере гросс-адмирал Англии. Наши ответы он выслушивал внимательно и удивленно. Когда же мы ему сказали, что у нас нет ни кокосовых орехов, ни хлебного дерева, Англия при всех своих других преимуществах показалась ему плохой страной.
Как только мы добрались до его жилища, он велел принести рыбу и фрукты и пригласил нас поесть. Хотя мы только что отобедали, отклонять его приглашение не хотелось. Поэтому мы уселись, и угощение показалось нам превосходным. Поистине сию прекрасную страну можно сравнить с раем Магомета, где аппетит остается ненасытным даже после еды! Блюда стояли перед нами, и мы собирались уже приняться за них, когда Тоха попросил нас подождать немного. Намерение его разъяснилось вскоре, когда один из его слуг появился с большим европейским кухонным ножом и вместо вилок несколькими бамбуковыми палочками. Тогда Тоха сам стал нарезать порции и дал каждому из нас по бамбуковой палочке, сказав, что желает есть на английский манер. И вот, вместо того чтобы, как другие индейцы, разом отправить в рот пригоршню плода хлебного дерева, он весьма изысканно разрезал его на маленькие кусочки и попеременно то съедал кусочек рыбы, то откусывал немного этого плода, чтобы мы видели, как точно он усвоил нашу манеру еды. Добрая дама, согласно неизменному обычаю этой страны, поела потом, в некотором отдалении.
После еды мы пошли с ними гулять и беседовали до самого захода солнца, пока они оба на своем каноэ не отбыли в округ Атахуру, частью которого правил Тоха. Они весьма дружески попрощались с нами и обещали через несколько дней опять появиться на корабле. Мы же за гвоздь наняли двойное каноэ и до наступления ночи были уже на корабле.
Доктор Спаррман и мой отец только что вернулись с ботанической прогулки в горы. Их сопровождал Нуна, веселый парень, уже упоминавшийся в рассказе о первом нашем здесь пребывании. Они выступили в путь 28-го, причем лишь во второй половине дня, и так как им сразу пришлось пройти две глубокие долины и две крутые горы, где дорога от дождя стала весьма скользкой, то в этот день они смогли добраться лишь до второго ряда гор. В сей одинокой местности им встретилась единственная хижина, где жили мужчина с женой и с тремя детьми. У этой семьи они переночевали. Чтобы устроить их, мужчина удлинил крышу дома с помощью нескольких веток, угостил их ужином, а затем развел огонь, у которого они всю ночь по очереди дежурили. Мы могли видеть этот огонь с корабля, а они, со своей стороны, очень ясно слышали в полночь корабельные склянки, хотя находились от нас более чем в половине немецкой мили. Ночь была хорошая, приятно прохладная, так что они довольно хорошо выспались бы, если бы им не мешал то и дело своим кашлем их хозяин, которого звали Тахеа.
На рассвете они отправились дальше в горы. Тахеа пошел впереди них с большой кладью кокосовых орехов. Чем дальше они шли, тем труднее становился путь. Часто им приходилось взбираться на крутые холмы по узкой тропинке, с обеих сторон которой были отвесные пропасти; к тому же прошедший накануне дождь делал дорогу скользкой и потому вдвойне опасной и трудной. Горы на довольно значительной высоте, даже в самых крутых местах, были покрыты густыми зарослями и высоким лесом. Но в погоне за новыми растениями они не оставляли необследованными даже самые труднодоступные места, покуда внезапный вид близкой расщелины не вынуждал их отпрянуть назад. Еще выше по всей горе простирался лес, и там им встретились растения, подобных которым в низких местах не было.
Поднявшись на ближайшую вершину, они увидели впереди очень опасное место. К тому же тут начался сильный дождь, поэтому Тахеа дал им понять, что продвигаться дальше не стоит. Они решили все же попытаться, только оставили свои тяжелые мешки с растениями и продуктами, не взяли с собой даже мушкетов и за полчаса действительно достигли самой высокой вершины горы. Тем временем дождь утих, тучи поредели, и перед ними открылся далекий вид на море, до островов Хуахеине [Хуахине], Тетуроа [Тетиароа] и Таббуаману [Тубуаи-Ману]. Внизу простирались плодородные равнины и долина Матаваи, по которой текла, извиваясь, река; все это было очень красиво. Южная же сторона острова была сплошь закрыта облаками.
Вдруг в считанные мгновения заволокло и весь остальной горизонт, упал густой туман, от которого они промокли до костей. При спуске моего отца угораздило упасть на каменистом месте, и он так больно ушиб себе ногу, что едва не лишился чувств. Однако он оправился и попытался идти дальше. Увы, оказалось, что боль в ноге была еще не худшим злом; обнаружилось и другое повреждение, из-за которого он и по сей день вынужден носить бандаж. При спуске он опирался на своего верного проводника Тахеа, и в 4 часа пополудни они вернулись на корабль.
По их словам, горы наверху сложены из очень крепкого глинозема, в котором прекрасно развиваются все растения, а в лесах встречается много неизвестных видов трав и деревьев. Они пытались, в частности, разыскать пахучую породу, с помощью которой таитяне придают запах своему маслу. Тахеа показал им разные другие растения, коими они пользуются для этой же цели, однако самого ценного не смог или не захотел найти. О-Маи говорил мне, что на Таити можно употреблять для парфюмерии более четырнадцати различных растений; нетрудно понять, как много значат для таитян благовония и бальзамические запахи.
С тех нор как начался торг красными перьями, число гулящих женщин на борту изрядно возросло. В тот день их пришло столько, что многие, не находя себе пары, просто слонялись по верхней палубе. Кроме красных перьев они были охочи еще и до свинины. Люди низкого звания пробуют ее здесь редко, так что эти девицы особенно набивались в гости к матросам, имевшим много мяса. Нередко, правда, они так объедались, что способность переваривать не поспевала за аппетитом, за что им приходилось расплачиваться беспокойными ночами. При этом они мешали спать и своим партнерам, требуя, чтоб кавалеры сопровождали их по известной нужде. Но поскольку те были не настолько галантны, по утрам палуба имела вид примерно такой же, как здешние тропинки. Вечером сии дамы обычно разделялись на группы и танцевали на носу, на корме и на средней палубе. Их веселость нередко переходила в распутство, причем они очень шумели. В то же время они были способны на действительно оригинальные шутки и выдумки. У нас имелся, например, один цинготный больной; когда мы сюда приплыли, он был очень слаб, но благодаря свежей растительной пище быстро поправился и потому не задумываясь решил последовать примеру своих товарищей. С таковым намерением он обратился к одной из этих девиц и, когда стемнело, повел ее к своей постели, где зажег свет. Тут лишь она увидела своего любовника в лицо; а надо сказать, у него был всего один глаз. Увидев это, она молча взяла его за руку, вывела опять на палубу, подвела к девушке, у которой тоже не хватало одного глаза, и сказала, что вот эта ему действительно подойдет, а она не желает иметь дела со слепыми или одноглазыми.
Через два дня мой отец, немного отдохнув от своего последнего похода в горы и от полученного там ушиба, отправился на берег и встретил там О-Ретти, военачальника с О-Хиддеа [Хитиаа], того самого округа и гавани, где когда-то бросил якорь Бугенвиль. Этот человек спросил капитана Кука, не увидит ли тот по возвращении в Англию господина Бугенвиля, которого он называл Потавири. Когда же капитан Кук ответил отрицательно, он обратился с тем же вопросом к моему отцу. Тот ответил ему, что сие не исключено, хотя названный господин живет совсем в другой стране. «Хорошо,— сказал О-Ретти,— если ты увидишь моего друга, то расскажи, что я, его друг, сердечно желаю увидеть его снова. А чтобы ты этого не забыл, я хочу прислать тебе свинью из моего округа, куда как раз собираюсь идти»[418]. Затем он рассказал, что у его друга Бугенвиля было два корабля и на борту одного была женщина, совсем, однако, некрасивая на вид. Он без конца говорил об этом, потому что ему казалось слишком странным, как это единственная женщина отважилась отправиться в столь дальнее путешествие с таким множеством мужчин[419]. Он тоже подтвердил сведения, которые мы слышали уже в прошлый раз, что тут побывал испанский корабль, но сказал, что он и его земляки мало общались с испанцами.
О-Ретти был по-настоящему живой, веселый, благородный старик; несмотря на седину, он был здоров и бодр, как многие в его возрасте на Таити. Он рассказывал, что участвовал во многих битвах, и показал несколько ран. Особенно большой была одна, нанесенная камнем, который попал ему в висок, оставив глубокий шрам. Он сражался, в частности, на стороне Тутахи, когда тот погиб.
На другой день мы с доктором Спаррманом отправились в долину Матаваи, которую туземцы называют Туа-уру. До сих пор я но причине своей слабости еще ни разу не решался заходить так далеко. Теперь растительный мир впервые предстал передо мной во всем своем великолепии, тем более что весна омолодила природу, одев луга и леса в новые наряды. Меня поразили огромные улучшения, которые заметны были на каждом шагу: повсюду заложены новые, просторные плантации, находившиеся в превосходнейшем состоянии; было много новых, только что сделанных каноэ. Очевидно, война между обеими половинами острова, когда-то бушевавшая здесь, особенно сильно коснулась этой части страны. Но если в прошлый раз местность выглядела опустошенной, то теперь трудно было заметить следы войны. Страну можно было сравнить с полными закромами. Возле каждой хижины паслись на траве свиньи, которых никто даже не пытался прятать от нас, как это было когда-то. Я с удовольствием отметил также, что нынешнее благосостояние жителей благотворно сказалось на их поведении. Теперь никто не докучал нам, выклянчивая бусы и гвозди, и люди уже не скупились на продовольствие, а старались перещеголять друг друга гостеприимством и щедростью. Нельзя было пройти мимо хижины, чтобы с вами не заговорили и не предложили вам подкрепиться, а радостная готовность, с какой они в самом деле приносили то, что предлагали, поистине могла растрогать.
Часов в десять мы добрались до жилища гостеприимного островитянина, который так хорошо принял нас, когда мы однажды, усталые, спустились с гор. Он и на сей раз встретил нас несколькими кокосовыми орехами и пригласил на обратном пути отобедать у него. Как только мы приняли это приглашение, он тотчас распорядился начать приготовления к обеду, а сам тем временем поднялся вместе с нами в долину.
За его домом не было никакого жилья, так как горы в этих местах весьма крутые и тесно сдвинуты. Примерно в миле дальше к востоку мы увидели отвесную стену скал высотой футов в 40. Дальше над нею склон опять становился покатым и весь порос кустарником. Со скал в реку падал красивый каскад, оживляя этот довольно зловещий, мрачный и романтически дикий вид. Даже издалека можно было различить вдоль всей этой отвесной стены острые выступы. Когда мы подошли к ним вброд по воде поближе, оказалось, что вся скала состоит из черных плотных базальтовых колонн; из такой породы местные жители обычно делают свои орудия. Эти колонны имели в поперечнике от 15 до 18 дюймов; они стояли отвесно, параллельно и тесно друг к другу, и у каждой был один-два острых выступа. Поскольку теперь базальт считается всюду породой вулканической, здесь перед нами новое доказательство того, что Таити претерпел, видимо, большие перемены, вызванные подземным огнем.
Дальше горы сходились все ближе, долина сужалась и через 2—3 мили заканчивалась. Дорога становилась очень трудной, мы, наверное, полсотни раз переходили вброд реку, которая здесь то и дело виляла из стороны в сторону, и оказались в том самом месте, которое господин Банкс упоминает как самую крайнюю достигнутую им точку. Убедившись, что дальше действительно двигаться невозможно, мы повернули назад, совершенно усталые и изможденные.
На обратном пути нам то и дело попадались новые растения. Через два часа мы добрались до дома нашего дружелюбного спутника. Там мы вволю поели поданных нам плодов и овощей, подарили нашему хозяину предмет его мечтаний — красное перо, но заодно не преминули дать ему и разных железных изделий. Пусть, когда эти перья потеряются или истреплются, у него хотя бы останутся полезные воспоминания о нашем посещении. Его дочь, которую мы видели в прошлый раз, успела тем временем выйти замуж за знатного человека, так как наши тогдашние подарки сделали ее одной из самых богатых партий в стране; жила она, однако, довольно далеко отсюда.
Капитан Кук, мой отец и несколько офицеров побывали в О-Парре, где встретились с О-Ту. Их привели к месту, где как раз строилось боевое каноэ, которое король собирался назвать «О-Таити». Однако капитану Куку захотелось, чтоб судно назвали «Британия», ради чего он подарил королю маленький английский флаг, маленький якорь и необходимые для него канаты. Его величество тотчас согласился переменить название корабля, флаг был водружен, и народ выразил свое одобрение троекратным радостным восклицанием, как это принято у наших матросов.
Я посоветовал господину Ходжсу посетить живописный каскад, который мы видели в долине. На другой день он с несколькими спутниками отправился туда и зарисовал как водопад, так и базальтовые колонны под ним. В его отсутствие мы отведали большую альбакору (Scomber thynnus Linn.), которая, увы, не пошла на пользу никому из евших ее. Она вызвала жар и сильные головные боли, а кое у кого понос; один слуга, который только ее и ел, особенно страдал рвотой и поносом. Должно быть, эту рыбу поймали с помощью ядовитого растения, вредные свойства которого мясо частично усвоило.
Тем временем мы узнали, что Махеине женился на дочери одного вождя по имени Топерри, жившего в долине Матаваи. Один наш молодой офицер, который принес это известие, похвастался, что сам присутствовал на свадьбе и видел происходившие при этом церемонии. Но когда мы попросили описать нам их, он сумел лишь ответить, «что они были очень странные, однако ничего особенного он вспомнить не может и не знает, как про это рассказать». Таким образом, мы упустили возможность сделать важное открытие, касающееся обычаев этого народа.
Жаль, что на свадьбе не случилось понимающего наблюдателя, способного хотя бы рассказать о том, что он видел.
Между тем Махеине явился на корабль с новобрачной. Это была еще совсем юная девушка маленького роста и не особенно красивая на вид. Однако выпрашивать она умела прекрасно. Она прошла по всему кораблю, клянча себе подарки, и так как ее мужа все любили, то она получила много бус, гвоздей, рубах и красных перьев. Новоиспеченный супруг рассказал нам, что собирается остаться на Таити, где друзья предлагают ему землю, дом и все необходимое имущество. Он принят в семейство эри, которого уважает король, и сам пользуется немалым почтением. Один из его друзей даже дал ему уже таутау, то есть крепостного; это был мальчик, обязанный прислуживать ему, всюду его сопровождать и выполнять все его распоряжения.
Хотя Махеине отказался от намерения следовать за нами в Англию, бравый Нуна, которого я уже однажды упоминал и который тоже выразил однажды желание ехать, передумывать не собирался. Напротив, он все настойчивее просил моего отца и других взять его с собой. Отец, которому он давно нравился, выразил готовность содержать его за свой счет, и на этом условии капитан сразу дал согласие. Правда, мальчика предупредили, что вряд ли он когда-нибудь сможет вернуться на родину, поскольку сомнительно, что на Таити будет отправлен еще один корабль. Но он слишком рвался в это путешествие, чтобы что-то могло его разубедить, и готов был добровольно отказаться от надежды увидеть вновь свою родину ради удовольствия познакомиться с нашей. Однако радовался он недолго, ибо к вечеру капитан передумал и взял свое слово обратно. К глубокому огорчению бедного Нуны, ему пришлось остаться тут. Мой отец намеревался обучить его плотницкому и кузнечному ремеслу; мне кажется, что, вернувшись, он мог бы с этими знаниями принести гораздо больше пользы своей стране, чем его земляк О-Маи, который после двухгодичного пребывания в Англии мог облагодетельствовать своих сограждан разве что умением покрутить кое-что на органе или показать кукольный театр!
Несколько дней мы занимались тем, что продолжали ботанические исследования в окрестностях Матаваи и в большой долине Ахоину, самой плодородной и в то же время самой красивой на острове. Таким образом, мы исчерпали, как нам казалось, всю равнинную флору. 6-го пополудни мой отец, д-р Спаррман и я снова отправились в горы, чтобы и там пособирать растения. Гостеприимство, которое оказал моему отцу Тахеа в прошлый раз, побудило нас опять заглянуть к нему. На сей раз мы не сочли нужным всю ночь поддерживать огонь и по очереди дежурить. Тахеа был веселый, шутливый малый; он, между прочим, пожелал, чтобы мы называли его медуа, «отец», а его жену о-паттеа[420], «мать».
Хотя мы не собирались карабкаться на самые высокие вершины, все же отправились в путь уже на рассвете. Птицы еще спокойно спали в зарослях, так что наши спутники, Тахеа и его брат, сумели поймать руками несколько морских ласточек. Они сказали нам, что в этих горах ночует много водоплавающих птиц; здесь же обычно устраивают гнезда и фаэтоны. Поэтому в этих горах особенно часто можно найти их хвостовые перья, которые они меняют каждый год; местные жители ходят сюда специально за этим. Мы подстрелили одну ласточку и нашли несколько новых растений но поскольку горизонт стал заволакиваться облаками, мы, чтобы сохранить растения сухими, поспешили обратно на корабль и в 4 часа пополудни были уже на борту.
Там собралось все королевское семейство, в том числе и Нихуараи, старшая сестра О-Ту, которая была замужем за Т'Ери Дерре, сыном Аммо. Другому брату короля, Т'Эри Ватау, так понравилось у нас, что он остался здесь на всю ночь, хотя все остальные ушли с корабля. Чтобы развлечь его, мы пустили с мачты ракеты и зажгли небольшой фейерверк, что доставило ему необычайно много удовольствия. За ужином он предпочел нас всем своим родственникам и рассказал нам кое-что из недавней истории Таити; когда мы вернулись в Англию, сведения его оказались в точности подтверждены рассказами О-Маи.
Так, от него мы узнали, что было три брата, Аммо, Хаипаи и Тутаха, и старший из них, Аммо, был королем всего Таити. Он женился на О-Пуреа (Обереа), принцессе королевской крови, и родил с нею Т'Эри-Дерре, который сразу получил титул эри-рахаи, то есть короля Таити.
К тому времени, когда остров посетил капитан Уоллис, правил еще Аммо вместе с королевой О-Пуреа (или Обереа). Однако спустя год (а именно в 1768 году) между Аммо и его вассалом Ахеатуа, правителем меньшего полуострова Таити, возникла война. Ахеатуа высадился в Папарре [Папара], где находилась обычно резиденция Аммо, нанес его войску крупное поражение, сжег дома и плантации и увез с собой столько свиней и кур, сколько мог захватить. Аммо и Пуреа со своими приближенными, к числу которых, по его собственным словам, принадлежал и О-Маи, убежали тогда (в декабре названного года) в горы. Наконец победитель предложил мир при условии, что Аммо откажется от власти, а его сын добровольно уступит право наследования О-Ту, старшему сыну его брата Хаппаи. Побежденные с этим согласились, и на время малолетства О-Ту править страной стал Тутаха, младший брат бывшего правителя[421].
Этот переворот очень напоминал те, что столь часто происходят в деспотических государствах Азии. Там редко победитель отваживается сам править завоеванной страной. Обычно он довольствуется тем, что просто грабит ее, а затем назначает правителем кого-либо из королевской семьи.
Вскоре после упомянутых событий О-Пуреа не поладила со своим супругом. От слов перешло к делу, и они решили разойтись. Он утешился тем, что взял себе в наложницы некую весьма прелестную юную особу, она же делила свою благосклонность между известным Обади и другими любовниками. Видимо, больше в этих раздорах был повинен Аммо, склонный к супружеской неверности; правда, подобное случается здесь не так часто, как в Англии, но все же бывает, особенно когда дама, у коей года прибывают, а красота убывает, все еще оказывается достаточно тщеславной и требует от мужа такой же нежности и внимания, как от жениха.
Один такой случай разыгрался на борту нашего собственного корабля. Полатехера, когда-то бывшая замужем за Потатау, с некоторых пор развелась с ним. Когда ее муж нашел себе другое утешение, она тоже подобрала себе мужа или любовника помоложе. Тот, однако, находился в нежных отношениях с некоей молодой особой и избрал наше судно местом свиданий с нею. Сии тайные отношения не могли долго оставаться незамеченными. Дюжая Полатехера однажды утром застигла их и выместила весь свой гнев на сопернице. Смущенный же любовник отделался лишь тем, что должен был выслушать горчайшие упреки за свою неверность.
Когда капитан Кук прибыл сюда на «Индевре», управление островом находилось в руках Тутахи. Вскоре после его отбытия Тутаха, который все еще не мог забыть обиду, нанесенную его семье Ахеатуа, попытался уговорить вождей на О-Таити-нуэ [Таити-нуи], то есть большего полуострова, чтобы они объединились с ним для новой войны против Ахеатуа. Возможно, он опирался при этом на богатства, полученные в подарок от европейцев, и часть их использовал, чтобы привлечь на свою сторону виднейших людей острова. Короче, он снарядил флот и отплыл с ним в Теиаррабу [Таити-ити]. Хотя Ахеатуа был вполне в состоянии отразить нападение врага, но, будучи уже в летах и предпочитая провести свои дни в мире, нежели начинать новую войну, он отправил навстречу Тутахе посла и велел передать, что считает себя его другом и готов таковым оставаться всегда, а потому просит его мирно вернуться в свою страну и не предпринимать враждебных действий против народа, который не питает к нему вражды. Однако Тутаха не отказался от своих замыслов и дал приказ к наступлению.
Потери с обеих сторон были примерно одинаковые, но все-таки Тутаха отступил, однако решил атаковать врага на суше. Хаппаи не одобрил этого шага и со своей семьей остался в О-Парре. По Тутаха не стал поворачивать обратно. Вместе с О-Ту он дошел до перемычки, соединявшей обе половины острова. Там между ним и Ахеатуа произошла битва, в которой все войско Тутахи было разбито, а сам он погиб. Некоторые говорят, что он попал в плен и уже там был убит по приказанию победителя, но другие, в том числе О-Маи, утверждали, что он действительно остался на поле брани.
О-Ту с несколькими близкими друзьями убежал в горы, Ахеатуа же повел свое победоносное войско в Матаваи и О-Парре. Узнав о приближении победителя, Хаппаи тоже убежал в горы. Однако Ахеатуа через посланца пообещал ему безопасность и велел передать, что не имеет ничего ни против него самого, ни против его семейства, а, как и прежде, склонен к миру. От этого же посланца беглецы узнали, что Тутаха остался на поле боя, О-Ту же исчез, хотя, куда он ушел, не было сказано.
Итак, положившись на слово Ахеатуа, Хаппаи решил выйти из своего убежища, а вскоре затем по нехоженым и очень трудным дорогам добрался до своего отца и О-Ту с немногими оставшимися спутниками. Сразу после этого был заключен общий мир, и О-Ту с этого часа сам перенял правление. Судя по заметным улучшениям в состоянии страны, которых он добился после своего прихода к власти за время нашего восьмимесячного отсутствия, О-Ту был человек толковый и сумел сделать немало для блага своих подданных. Ахеатуа умер вскоре после заключения мира, и его сын, носивший то же имя, которого мы встретили в 1773 году в Аитепиехе, унаследовал его власть в Теиаррабу.
Те-Эри-Ватау, коему мы обязаны этим сообщением, дал нам также следующие сведения по генеалогии королевской семьи. У его отца, сказал он, было восемь детей. 1) Тедуа, то есть принцесса, Нихаураи, старшая из всех, примерно 30 лет, была замужем за сыном Аммо поимени Т'Эри-Дерре; 2) вторую тедуа (принцессу) звали Таураи, она была не замужем, ей было около 27 лет; у здешних женщин она пользовалась, судя по всему, почти таким же уважением, как король у всех островитян; 3) О-Ту, эри-рахаи, или король Таити, был примерно 26 лет. Я уже упоминал выше, что в знак почтения каждый в его присутствии должен был обнажать плечи; наш таитянский историограф сказал мне в тот раз, что и Ахеатуа, хоть он и был правителем меньшего полуострова, все равно, как вассал короля, должен был оказывать ему ту же почесть; 4) тедуа Техамаи, то есть принцесса Техамаи, по возрасту следующая за О-Ту, умерла в детстве; 5) сам Т'Эри-Ватау (от которого записаны все эти сведения) был следующим по порядку. На вид ему было лет 16. Он сказал, что у него есть еще другое имя, которое выпало у меня из памяти; думаю, однако, что это всего лишь почетный титул; 6) его следующий брат, Тубуаитераи, звавшийся также Майорро, мальчик лет 10 или 11; 7) Эрреретуа, маленькая девочка 7 лет, и 8) Тепаау, мальчик 4—5 лет,— самые младшие.
Все семейство отличалось здоровым, хотя и отнюдь не тучным, телосложением, у всех были густые волосы. Черты лица большей частью приятные, но цвет кожи довольно темный у всех, за исключением Нихаураи и О-Ту. Видимо, это семейство пользовалось большой любовью в народе. Вообще любовь к своим вождям представляет собой черту таитянского национального характера. Но королевское семейство действительно по праву снискало всеобщую любовь неизменно приветливым и доброжелательным обращением.
Тедуа Таураи сопровождала короля почти всякий раз, когда он отправлялся к нам на корабль. Она отнюдь не считала неподобающим для своего ранга приобретать у самых простых матросов красные перья в обмен на ткани и разные диковины. Однажды она вместе с О-Ту, капитаном и моим отцом рассматривала в каюте наш запас железных изделий и других товаров. Случилось так, что капитана позвали, и едва он повернулся спиной, как она что-то зашептала на ухо своему брату. Тот постарался всяческими вопросами отвлечь внимание моего отца. Отец сообразил, чего он добивается. Решив, что никто за ней не следит, принцесса мимоходом стащила несколько крупных гвоздей и спрятала их в складках своей одежды. Когда капитан Кук вернулся, мой отец рассказал ему об этой проделке ее светлости. Но оба сочли за лучшее сделать вид, будто ничего не заметили.
Она и в других случаях не могла удержаться, чтобы не стащить что-нибудь. А между тем ей ни в чем никогда не отказывали, напротив, дарили почти всегда больше, нежели она просила. Поэтому довольно странно, что ее тянуло воровать вещи, которые она могла бы получить куда более достойным путем. Но, возможно, для нее была какая-то особенная привлекательность именно в вещах украденных, ибо она думала, будто добыла их только благодаря своей ловкости. Если таитянские девушки не слишком на нее наговаривали, она вообще была весьма падка до ворованных радостей; по их словам, она ночами водила шашни с обыкновеннейшими таутау, о чем ее брат ничего не знал. Возможно, она действительно так поступала; однако довольно странно, что здесь, в стране, где каждый не задумываясь следует зову своей природы, именно от принцесс и знати склонны ждать какого-то исключения, тогда как именно они обычно более всех других привыкли следовать необузданным своим желаниям. Сие известно: человеческие страсти всюду одинаковы,
У рабов и князей те же инстинкты, а стало быть, и воздействие их в любой стране одинаково.
Утром рано О-Ту пришел на мыс Венус и сообщил сержанту морских пехотинцев, которые стояли там лагерем, что кто-то из его подданных украл у наших часовых мушкет и убежал с ним. Одновременно он снарядил посланца к своему брату Т'Эри-Ватау, который с вечера все еще находился у нас на борту, и велел его позвать, после чего тот сразу нас покинул. Король уже ожидал его на берегу, и, как только он явился, оба со всеми членами семьи убежали на запад от страха, что украденный мушкет потребуют с них.
Чтобы вернуть украденное, капитан Кук применил репрессии, которые уже не раз помогали в подобных случаях. Он задержал несколько двойных каноэ, которые принадлежали различным представителям знати, в том числе некоему Маратате. Подозревали, что это он приказал одному из своих людей похитить мушкет. Маратата как раз находился в своем каноэ; он попытался избежать задержания и увести каноэ. Но когда капитан Кук дал по нему несколько выстрелов, он вместе со своими гребцами прыгнул в море и поплыл к берегу; каноэ же мы взяли себе.
Вечером на корабль явился Ти и сказал, что вор бежал на малую половину острова, в Теиаррабу. Тогда капитан приказал освободить все задержанные каноэ, за исключением каноэ, которое принадлежало Маратате. Тем не менее сие происшествие спугнуло островитян. На борту остались только немногие, а женщин вовсе не осталось ни одной. Когда наконец вечером капитан Кук отправился на берег, навстречу ему вышли несколько островитян. Едва переводя дыхание и обливаясь потом, они принесли ему не только мушкет, но и тюк одежды и двойные песочные часы, похищенные тогда же. По их словам, они настигли вора, как следует его поколотили и заставили показать место, где он зарыл в песке украденные вещи. Держались они искренне, но кое-что в их рассказе оставалось все же не совсем ясно. Во всяком случае, один из них еще недавно находился возле палаток, так что он просто не мог успеть сбегать так далеко, как они уверяли. Но мы сделали вид, что поверили им, и наградили кое-какими подарками, дабы они видели, что мы всегда ценим добрые услуги.
На другой день торг полностью прекратился, никто ничего не принес на продажу. Единственный, кто явился на борт, был Ти. Он попросил нас, чтобы мы посетили короля в Парре и опять его успокоили, так как он матау; этот двусмысленный оборот придворного языка примерно означал, что король недоволен и озабочен, поэтому хорошо бы подарками вернуть ему доброе настроение. Капитан с моим отцом отправился к нему, а мы с д-ром Спаррманом пошли к палаткам. Мы увидели, что таитяне немало смущены вчерашним случаем, тем более что справедливость была на нашей стороне. Король настрого запретил им продавать нам какое-либо продовольствие, однако для них с их прирожденным гостеприимством было невозможно не угостить нас кокосовыми орехами или чем-либо другим.
К полудню мы вернулись на корабль и там увидели капитана, который за это время успел все уладить с королем. Однако ночь матросам пришлось провести без обычного общества, ибо король пока настрого запретил женщинам приезжать к нам, дабы они своим воровством не натворили новых бед.
Зато на другой день, им, видимо, опять было разрешено явиться на борт, а вслед за ними к кораблю снова потянулось множество каноэ о продовольствием и свежей рыбой.
Капитан Кук послал Махеине в округ Атахуру, чтобы передать ответные подарки жившему там адмиралу Тохе. Тем временем на борт явилась О-Пуреа (Обереа) и тоже принесла капитану двух свиней. Слух о наших красных перьях достиг и равнины Папарры, где жила Опуреа, и она не делала никакого секрета из того, что пришла лишь в надежде выпросить несколько штук. На вид ей было лет 40—50, она была рослая и крепкая, а в чертах ее лица, когда-то, наверное, более приятных, появилось теперь что-то мужское. В облике ее еще сохранились следы былого величия; взгляд казался по-прежнему властным, и что-то свободное, благородное было в повадке. Она пробыла у нас недолго, возможно потому, что ей было неприятно предстать перед нами не такой значительной, как когда-то. Она лишь справилась кое о ком из старых друзей, которые побывали здесь несколько лет назад на корабле «Индевр», а затем каноэ увезло ее на берег.
В это же время нас посетил и ее бывший супруг О-Аммо, однако ему оказали еще меньше почета, чем О-Пуреа. Матросы его не знали и, сочтя за лицо совершенно незначительное, не дали пройти к капитану. С большим трудом он упросил хотя бы взять его свиней: этих животных у нас на борту было теперь едва ли не больше, нежели могло поместиться. Так низко пали Аммо и О-Пуреа, еще совсем недавно пребывавшие на самой вершине власти, а ныне столь жалкие! Вот живой пример непостоянства всякого людского величия!
12-го мы постарались немного развлечь короля. Мы выстрелили из своих пушек так, чтобы ядра и картечь перелетели через риф и там упали в море. Для него и тысяч других зрителей это оказалось приятным и восхитительным зрелищем. А вечером мы велели устроить фейерверк, вызвав у всех еще больше удовольствия и удивления. Они считали нас совершенно необыкновенными людьми, способными по желанию создавать молнии и звезды. Наши фейерверки получили у них высокопарное название хива бретанни— «британский праздник».
На следующее утро к кораблю явилось особенно много народу. Они заметили, что мы собираемся отплыть, и потому вместо продовольствия принесли материи и разные редкости, которые стоили особенно дорого. После полудня мы с капитаном Куком отправились в О-Парре и там нашли нашего достойного друга Тоху, а также Махеине. Тоха сильно страдал от подагры и жаловался на боли и отеки в ногах. Несмотря на это, он захотел попрощаться с нами и обещал завтра прибыть на корабль. Там жебыл и О-Ту. Он тоже объявил, что приготовил для нас запас хлебных плодов, которые должны нам понравиться больше, чем свиньи.
На другое утро (14-го) к нам явились с визитом многие представители знати со всего острова. Среди них был Хаппаи со всеми детьми, кроме О-Ту. В 8 часов появился и Тоха со своей женой; он привез целое каноэ всяких подарков. Добрый старый адмирал был так плох, что едва стоял на ногах. Однако ему очень хотелось подняться на палубу, и, так как он был слишком слаб, мы велели его поднять на носилках, прикрепленных к веревкам, что не столько доставило ему удовольствия, сколько удивило его земляков. Мы спросили его о предстоящей экспедиции на остров Эймео [Mypea], и он заверил нас, что она начнется вскоре после нашего отплытия и что его самочувствие не помешает ему самолично командовать флотом. Для него, добавил он, не так много значит, если столь старому человеку, как он, придется расстаться с жизнью, ибо от него уже не так много пользы. Несмотря на болезнь, он показался нам необычайно бодрым и веселым. Вообще его образ мыслей можно было назвать благородным, самоотверженным и поистине героическим.. Он так душевно и с таким явным волнением прощался с нами, что не мог не растрогать любого человека с чувствительной душой и даже мизантропа способен был примирить с сим миром.
Махеине, сопровождавший его на борт, решил отправиться с нами на Раиетеа [Раиатеа]; оттуда он хотел по очереди посетить своих родных и друзей на разных островах Общества, а там, если предоставится возможность, опять вернуться на Таити. Эта мысль была не такой уж неразумной. На некоторых из этих островов у него оставались земельные владения, которые он хотел с прибылью продать, а затем собрать все свое имущество на Таити[422]. Подобный план стоил путешествия. Он привел с собой несколько человек родом с Бораборы [Бора-Бора], представил их капитану и пояснил, что один из них — его родной брат. Они попросили разрешения добраться на нашем корабле до островов Общества, и капитан Кук без колебаний разрешил им это.
Махеине проболтался нам, впрочем доверительно, что прошлой ночью он нанес визит О-Пуреа; ему это казалось большой честью и особой привилегией. Он даже показал нам несколько кусков очень тонкой материи, подаренной ему в благодарность за хорошую службу. Очевидно, О-Пуреа все еще была не слишком стара для чувственных радостей, хотя в этом теплом климате женщины созревают раньше, чем у нас, а значит, раньше должны бы постареть и успокоиться.
Поскольку О-Ту не явился на борт, мы нанесли ему еще один визит. Это позволило нам увидеть много боевых каноэ, стоявших на якоре у берега О-Парре. Их было 44, все они принадлежали Титтахе, самому маленькому округу на северо-западе Таити. О-Ту в нашем присутствии велел продемонстрировать несколько боевых маневров, которые были произведены, к нашему восхищению, с величайшей сноровкой. Все вожди были в полном боевом снаряжении, со щитами, но без шлемов. Мы увидели здесь и совсем маленьких мальчиков, тоже одетых как воины и умевших обращаться с копьем не менее искусно, чем взрослые. У них был особый способ парировать удары вражеских копий. Они опускали перед собой на землю острием вниз копье или длинный боевой топорик, а другой конец поднимали рукой так высоко, что наклон копья к их телу составлял угол градусов 25—30. В таком положении они двигали верхней частью копья, острие которого оставалось неподвижным, вправо или влево перед собой, в зависимости от направления удара противника. Таким простым движением им всегда удавалось парировать вражеское копье.
Несколько каноэ продемонстрировали маневры на веслах. Одно за другим они миновали узкий проход у рифов, а приблизившись к берегу, тотчас образовывали сомкнутый строй. На среднем каноэ позади боевого помоста стоял человек с зеленой веткой, который знаками указывал гребцам, куда поворачивать. Повинуясь его указаниям, они гребли словно в такт, причем столь согласованно, что казалось, эти сотни весел приводятся в движение одним механическим двигателем. Человека, командовавшего гребцами, в каком-то смысле можно было сравнить с «киле-натес» древних греков. Вообще вид таитянского флота заставлял нас вспомнить морскую державу этих древних республиканцев; многое позволяло сравнить их друг с другом. Если не считать той единственной разницы, что греки использовали металл, их оружие в основном было столь же простым, а их способ вести рукопашный бой столь же беспорядочным, что и у таитян, хотя старик Гомер, будучи поэтом, многое тут приукрасил. Объединенные силы всей Греции, которые когда-то отплыли в поход против Трои, вряд ли намного превосходили флот, с которым О-Ту собирался атаковать остров Эймео, и вряд ли mille carinae[423] была намного страшнее, чем это множество таитянских боевых каноэ, каждое из которых обслуживают от 50 до 120 гребцов. Морские походы древних греков были немногим более дальними, чем у нынешних таитян. От одного острова добирались до другого — вот и все. Тогдашние мореплаватели в архипелаге ночью направляли свой путь по звездам — в Южном море и сейчас поступают так же. Греки были храбры — но и таитяне храбры не меньше, о чем свидетельствуют многочисленные шрамы у их полководцев. Насколько я могу судить, перед битвой здешние воины стараются возбудить себя до состояния, напоминающего бешенство, так что отвага таитян — это нечто вроде искусственно возбужденной ярости. Но если посмотреть, как Гомер описывает битвы греков, можно убедиться, что героизм, порождавший все воспетые им чувства, в сущности, был того же свойства.
Можно и дальше проследить подобные параллели. Герои Гомера описаны как сверхъестественные, большие и могучие люди; вожди таитян настолько превосходят обыкновенного человека ростом и красотой сложения, что могут показаться совершенно особой породой людей[424]. Разумеется, требуется пищи больше обычного, чтобы наполнить желудок, превосходящий обычные размеры. Греческий поэт не жалел красок, воспевая обильные трапезы своих троянских героев; таитянские военачальники в этом им не уступят. Кроме того, оба эти народа роднит любовь к свинине. Они сходны и простотой нравов; гостеприимство, человеколюбие и добросердечие, присущие им почти в одинаковой степени, также выделяют их среди других народов. Есть сходство даже в политическом устройстве. Хозяева таитянских округов — могучие властители, оказывавшие О-Ту не больше почтения, чем греческие герои своему Агамемнону; о простолюдинах же в «Илиаде» говорится так мало, что, видимо, и для греков они значили не больше, чем таутау в Южном море.
Можно еще на многих примерах наглядно продемонстрировать это сходство, но лучше просто указать на него, не испытывая терпения читателя слишком пространными сравнениями. Сказанного уже, пожалуй, достаточно, чтобы увидеть, как много общего при одинаковой степени культуры может быть даже между народами, живущими в противоположных концах света[425]. Однако мне бы не хотелось, чтобы сии беглые замечания навели на неверный след какого-нибудь ученого прожектера. Глупая страсть сочинять родословные народов причинила за последнее время немалый ущерб истории. Даже египтяне и китайцы удивительным образом объявлялись родственными между собой. Хорошо, если бы эта глупость не оказалась заразительной и не получила распространения.
О-Ту пришел на борт, чтобы напоследок отобедать с нами. Он предложил моему отцу и господину Ходжсу остаться на Таити, вполне серьезно обещая сделать их эри богатых округов О-Парре и Матаваи. Не знаю, была ли у него при этом на уме какая-нибудь корысть, или он предлагал это чистосердечно; в любом случае, как можно понять, ничего из этого не получилось.
Сразу после обеда мы подняли якорь и поставили паруса. О-Ту попросил капитана выстрелить из пушек. Он оставался у нас до последнего момента. Когда все его подданные ушли, попрощался и он, сердечно обняв нас всех по очереди. Грохот пушек отчасти отвлекал от обычной в таких случаях печали, хотя легкая грусть не могла не сопутствовать прощанию с сим невинным, добронравным и кротким народом.
Один из наших матросов попытался воспользоваться этой суетой, чтобы незаметно удрать на остров. Он уже плыл к берегу, когда с корабля увидели и его, и несколько каноэ, которые подплывали, вероятно, чтобы его взять. Тогда капитан послал за ним вдогонку шлюпку и в наказание за эту попытку велел на 14 дней заковать его в цепи. Судя по всему, между ним и островитянами уже существовала на сей счет договоренность; можно понять, что им так же хотелось иметь у себя европейца, как ему остаться среди них. Если поразмыслить над разницей между условиями жизни простого матроса на борту нашего корабля и положением любого островитянина, пожалуй, не станешь слишком упрекать его за попытку избежать бесчисленных тягот и бедствий кругосветного плавания, за желание без тревог и забот пожить в прекраснейшем на земле климате. Все, чего он только мог достичь в Англии, нельзя было и сравнить с удовольствиями, какие он имел бы здесь, даже если бы жил совсем скромно, как самый простой таитянин. Он знал, что, вернувшись в Англию, не сможет даже мирно отдохнуть от тягот кругосветного путешествия; скорее всего, ему предстояло сразу же наниматься на другой корабль, а значит, опять его ожидала та же нездоровая, скудная пища, те же тяготы, те же ночные вахты и опасности, какие он только что перенес. Но если бы ему вдруг и повезло, если бы он каким-то образом получил возможность спокойно наслаждаться жизнью, все равно приходилось бы постоянно опасаться, что его оторвут от этих радостей, насильно призовут на службу и против воли заставят воевать за отечество, а там он либо простится с жизнью в расцвете лет, либо будет влачить печальную судьбу убогого калеки. Но предположим, он даже избежал бы такой участи; в любом случае ему пришлось бы в Англии зарабатывать повседневный хлеб в поте лица своего. На Таити этого нашего проклятия еще, видимо, не знают или, во всяком случае, почти не ощущают. Наш народ обречен на неустанный труд. Чтобы прокормить себя, наш земледелец должен не только пахать, жать, молотить и молоть, он должен получить избыток урожая, во-первых, чтобы содержать скот, без помощи которого нельзя обрабатывать землю, во-вторых, чтобы обеспечить себя земледельческими орудиями и другими предметами, которые каждый крестьянин мог бы изготовить сам, если бы земледелие оставляло ему для этого время и досуг. Купец, ремесленник, художник — всем им тоже приходится трудиться, чтобы отработать хлеб, получаемый земледельцем.
Насколько же все иначе у таитян! Как счастливо и спокойно они живут! Два-три хлебных дерева почти не требуют ухода и плодоносят почти столько же, сколько может прожить человек, их посадивший; этого достаточно, чтобы три четверти года снабжать его едой! То, чего он не может съесть в свежем виде, заквашивается, и эта здоровая вкусная пища хранится сколько нужно. Даже те культуры, что на Таити требуют большего ухода, а именно шелковица и корни Arum[таро], стоят таитянину не больше труда, чем нам наша капуста или другие овощи. Все искусство и весь труд по выращиванию хлебного дерева состоят в том, чтобы отрезать здоровую ветку и воткнуть ее в землю! А банан, каждый год заново вырастающий из корней; а королевская [кокосовая] пальма, сия краса долин и самый ценный дар, коим наделила добрая природа своих любимцев, здешних жителей; золотое яблоко, в чьих целительных свойствах мы имели столь счастливую возможность убедиться; а множество других растений, растущих из земли сами по себе и требующих так мало ухода, что их можно считать почти дикорастущими! Изготовление материи для одежды, чем занимаются лишь женщины, можно рассматривать скорее как времяпрепровождение, чем как настоящую работу; постройка же домов или кораблей, равно как изготовление орудий, хотя и требует немало труда, все же не так тягостна, ибо каждый занимается этим добровольно и лишь ради своих непосредственных надобностей.
Так, в круговороте радостей и наслаждений, протекает вся жизнь таитян. Природа страны, где они живут, богата красивыми местами, воздух неизменно тепл, но в то же время свежие морские ветры умеряют жару, а небеса здесь почти всегда ясны. Благодаря такому климату и обилию здоровых плодов здешние жители сильны, а тела их красивы. Все они хорошо сложены и такого высокого роста, что иные могли бы служить моделями мужской красоты Фидию и Праксителю[426]. Черты лица у них приятные, ясные и не искажены чрезмерными страстями. Большие глаза, изогнутые брови и выпуклый лоб придают им благородство, а густые волосы и борода делают их вид еще возвышеннее[427]. Все это, как и красота их зубов,— красноречивые свидетельства их здоровья и силы.
Другой пол отличается не менее хорошим сложением. Правда, красоту здешних женщин не назовешь правильной, однако они умеют покорять сердца мужчин и своей непринужденностью, врожденной приветливостью, постоянным стремлением нравиться завоевывают расположение и любовь нашего пола.
Образ жизни таитян всегда счастливо однообразен. С восходом солнца они встают и сразу спешат к ручьям и источникам, дабы умыться и освежиться. Затем они работают или, пока их к тому принуждает жара, бездельничают в своих хижинах, или отдыхают в тени деревьев. В эти часы отдыха они либо приводят в порядок свои прически, то есть гладко расчесывают волосы и натирают их благовонным маслом, либо играют на флейте и поют под нее, либо, растянувшись на траве, наслаждаются пением птиц. В полдень или чуть позже наступает время их трапезы, а после еды они опять либо занимаются домашними делами, либо развлекаются. Во всем, что они делают, чувствуется взаимная доброжелательность. Похоже, что и молодежь воспитывается в духе любви друг к другу и нежности к ближним. За бодрой, незлобливой шуткой, безыскусным рассказом, веселым танцем и умеренным ужином незаметно наступает ночь. А заканчивается день новым купанием в реке. Довольные своим простым образом жизни, обитатели этого блаженного острова не знают забот и печалей, и, хотя их можно назвать невежественными во всем остальном, они достойны называться счастливыми.
Их жизнь незаметно течет. Как ясный ручей по цветущему лугу. Клейст[428]Тех, кто склонен думать лишь о чувственных удовольствиях, это, конечно, не может не привлекать. Поэтому стоит ли удивляться, если матрос, наверное, не такой рассудительный, как другие, не устоял перед соблазном мгновенных радостей? Конечно, обдумай он все это получше, он бы увидел, что человек, рожденный, подобно ему, для деятельной жизни, знакомый с тысячами предметов, о коих таитяне не имели понятия, привыкший думать о прошлом и о будущем,— такой человек наверняка скоро пресытился бы бесконечным покоем и постоянным однообразием, ибо это может удовлетворить лишь народ, чьи понятия столь просты и ограниченны, как у таитян.
Между тем представления о счастье у разных народов столь же различны, как их характеры, культура и нравы. И поскольку природа распределяет свои богатства между частями света с разной мерой щедрости и скупости, такое различие в представлениях о счастье лишний раз убедительно свидетельствует о возвышенной мудрости и отеческой любви творца, который, замышляя целое, позаботился, чтобы и отдельным созданиям было хорошо как в жарких, так и в холодных широтах.
Fix'd to no spot is happiness sincere 'Tis no where to be found or ev'ry where. Pope[429]ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Вторая стоянка на островах Общества
Свежий ветер быстро уносил нас от Таити. Мы еще находились в виду сего прекрасного острова, когда неожиданное зрелище на палубе привлекло общее внимание. Это была прекраснейшая девушка, решившая с нами вернуться к себе на родину, на остров Раиетеа [Paиaтea]. Еще были живы ее родители, от которых несколько лет назад ее увез счастливый любовник, и желание увидеть их опять оказалось так велико, что она не могла больше противиться ему. Значит, она не боялась их гнева, наоборот, надеялась встретить хороший прием. И в самом деле, в стране, где своекорыстие и тщеславие значат так мало, как здесь, юношеская ошибка сердца, должно быть, легко прощается. Во время последнего визита О-Ту она спряталась на корабле, ибо он строго-настрого запретил какой бы то ни было женщине покидать с нами остров, и вышла из своего укрытия не прежде, чем мы оказались в открытом море. Кроме нее с нами плыли Махеине и его слуги, а также еще два человека с Бораборы [Бора-Бора], твердо уверенные, что мы с ними обойдемся так же хорошо, как и с их земляком (Махеине) во время прошлого плавания.
Их общество помогло нам скоротать время на пути от Таити до Хуахейне [Хуахине]. Девушка надела офицерское платье и так понравилась себе в этом наряде, что не хотела его больше снимать. Она спокойно пообедала в компании офицеров и лишь посмеивалась над предрассудком, который запрещал ее соотечественницам совместные трапезы с мужчинами. Вообще она проявила немало здравого смысла; если бы ей только дать подобающее воспитание, она выделялась бы своими достоинствами даже среди европейских девиц; ведь и без всякого образования она своей природной живостью и приветливостью сумела снискать общее расположение.
Мы шли вперед всю ночь и на другое утро увидели остров Хуахейне, а после полудня уже встали на якорь в северном рукаве бухты Варре [Фаре], шагах в пятидесяти от берега. Поскольку мы находились так близко, сразу появились визитеры. Островитяне привезли на продажу свиней, но требовали за них топоры, коих у нас оставалось так мало, что пришлось их беречь для более важных случаев. Перед заходом солнца к нам приплыл в маленьком каноэ также Ори, вождь острова; он привез капитану свинью и боевой щит, за что был вознагражден достойным ответным подарком. Он вручил нам также несколько перечных корней, однако без тех церемоний, какие имели место в прошлый раз.
Вечером установилось полное безветрие, и, так как корабль находился совсем недалеко от берега, мы могли наблюдать с борта за обычными вечерними занятиями туземцев. Мы с удовольствием смотрели на то, как они уселись в ближней хижине вокруг светильников, представлявших собой маслянистые орехи, насаженные на тонкую палочку, и доверительно беседовали друг с другом.
Одним из первых, кто пришел к нам на следующий день, был Пореа, молодой парень с Таити, который несколько месяцев назад отправился с нами и неожиданно остался на Раиетеа. Он признался, что это произошло совсем случайно и против его намерений. В тот раз, когда он так поспешно принес пороховой рог капитана Кука, миловидная девушка, с которой он находился в любовной связи, велела ему прийти в условленное место. Но когда он туда явился, там вместо возлюбленной его поджидал отец красавицы с несколькими дюжими парнями. Они крепко избили его, отняли европейскую одежду и до самого отплытия держали в плену. Едва получив свободу, он при первой же возможности подался сюда, на Хуахейне. Гостеприимство здешних его друзей пошло ему явно на пользу, ибо выглядел он растолстевшим. Из сей печальной истории бедняги Пореа можно, я думаю, заключить, что девушки здесь в своих любовных делах не всегда могут поступать, как им хочется. Впрочем, не знаю, по этой ли причине отец красотки счел себя вправе обобрать достойного Пореа до нитки.
Утром мы довольно рано отправились на берег к соленым озерам, что находились к северу недалеко от гавани. От моря они отделены лишь узким скальным рифом, который всюду порос кокосовыми пальмами, хотя лишь совсем немного возвышается над поверхностью моря и едва покрыт песком. Сразу за этой скалистой дамбой земля вокруг всего озера топкая, она круто спускается к берегу, состоящему из сплошного ила, который, судя как по внешнему виду, так и по скверному запаху, содержит сероводород. В окрестных болотах встречаются разные ост-индские растения, а на озере плавают целые стаи диких уток, к которым, однако, трудно подобраться, ибо можно утонуть в болоте. Если не считать этого неприятного обстоятельства, местность здесь поистине живописная, однако малообитаемая, вероятно потому, что туземцы считают испарения илистых берегов нездоровыми. Один из островитян угостил нас во время этой экскурсии кокосовыми орехами, по нынешнему времени года довольно редким плодом.
Когда мы возвращались, на нашего слугу, который позади, в нескольких шагах, нес мешок с растениями и еще один с мелкими железными изделиями, напали несколько индейцев. Они повалили его на землю и собирались отнять его ношу, но мы вовремя заметили, и грабители поспешили убраться. Это был второй случай, когда наши люди на этом острове подверглись столь смелому и дерзкому нападению; вообще в правление старого Ори, который не держал своих подданных в строгости, местные жители, видимо, распустились больше, чем их соседи-таитяне и другие народы островов Общества.
Этот вождь показался нам на сей раз еще более вялым и одряхлевшим, чем во время нашего первого посещения. Его умственные и душевные силы заметно ослабли. Глаза стали совсем красными, воспаленными, тело тощим и жалким. Причина скоро открылась. Мы заметили, что он теперь был весьма привержен к выпивке и любил то и дело принимать изрядную порцию крепчайшего здешнего опьяняющего напитка из перечного растения. Махеине имел честь пировать с ним несколько ночей подряд и каждый раз так набирался, что утром обычно просыпался с сильной головной болью.
На другое утро мы опять пошли к озерам и принесли оттуда много кораллов, раковин и морских ежей (Echinos), которых для нас собрали на берегу туземцы. От нескольких вождей мы получили в подарок свиней и щиты. Они приходили с единственным намерением навестить своих старых знакомых и принесенное не хотели ни продавать, ни отдавать до тех пор, пока их не пропустят и они не смогут сами увидеть друзей, коим предназначался подарок.
Спустя день мы поднялись на гору, всю заросшую хлебными деревьями, перечными растениями и шелковицами, а также ямсом и корнем Arum[таро]. Шелковицы были ухожены с особенной тщательностью, земля между ними была заботливо прополота и удобрена частью раздавленными раковинами, частью кораллами. Кроме того, всю плантацию окружал глубокий ров, или канава, куда могла стекать вода. В некоторых местах папоротники и кустарники были выжжены, дабы расчистить новое место.
Довольно высоко в горах мы увидели дом, обитатели которого, старая женщина и ее дочь, с необычайным гостеприимством приняли нас и угостили. Мы дали им стеклянные бусы, гвозди и красные перья, причем последние они приняли не как нужную вещь, а просто как диковину. Вообще к этому товару тут относятся гораздо правильнее, чем на Таити. Перья здесь считают просто пестрым украшением, совершенно не имеющим самостоятельной цены, а потому и не дают за них чего-либо действительно стоящего; за свиней же и другое продовольствие требуют топоры и более мелкие железные изделия. Это требование можно считать справедливым, мы в прошлый раз шли ему навстречу, но теперь вели себя иначе, поскольку не испытывали недостатка в свежем мясе, запас же изделий из железа, напротив, заметно поубавился. Столь различное отношение жителей Хуахейне и Таити к красным перьям связано, очевидно, с разницей в природе обоих островов и доказывает, что там народ живет более зажиточно, нежели здесь. Причину нетрудно понять; ведь на Хуахейне очень мало равнин, стало быть, жителям, дабы получить необходимое пропитание, приходится использовать под поля горы. Но так как это пропитание им дается гораздо тяжелее, чем таитянам, они и ценят его больше и не так привержены к роскоши, как те[430].
В течение последующих дней некоторые из нас, каждый по-своему, оказались жертвами воровства, иногда очень дерзкого, причем потери были таковы, что мы были не в состоянии ничем их восполнить. Но тех, кого сумели поймать, примерно наказали. Группа унтер-офицеров отправилась в горы пострелять птиц; с ними пошел морской пехотинец, который нес мешок с топорами и разными мелкими железными изделиями. По пути их мушкеты несколько раз дали осечку. Это, вероятно, придало смелости одному индейцу, который крался за ними. Когда солдат снял мешок, островитянин схватил его и убежал. На другой день те же господа присутствовали на хиве, то есть танцевальном представлении. К счастью, среди зрителей они увидели вора. Он признался во всем и обещал, если его простят, в возмещение похищенного принести несколько щитов, которые ценились почти так же, как топоры. Такое предложение их устроило, и на другой день этот человек действительно явился, как обещал. Очевидно, он не принадлежал к числу закоренелых злодеев, в коих умерло всякое чувство, но способен был с благодарностью оценить оказанное ему великодушие. Другой, пытавшийся украсть рог с порохом, был схвачен и получил полную меру ударов.
Островитяне не оставили в покое даже собственную соотечественницу, таитянку, прибывшую с нами. Стоило ей как-то раз немного зазеваться в одном доме, как на нее набросились и хотели уже сорвать европейскую одежду, которую она теперь все время носила. К счастью, подоспели наши люди и прогнали грабителей. Все же это происшествие нагнало на бедную девушку такого страху, что она с той поры никогда не сходила на берег одна.
Однако сия неприятность оказалась не последней, которую пришлось пережить здесь нашей красавице. Однажды вечером она испытала оскорбление куда более тяжкое. В компании нескольких наших офицеров она присутствовала на хиве. На беду, в качестве сюжета пьесы была выбрана ее собственная история; ее давнее романтическое бегство с острова было представлено в смешном виде. Расплакавшись от стыда, она хотела уйти, и ее спутникам-офицерам не без труда удалось уговорить ее остаться до конца спектакля. Последняя сцена, представлявшая встречу, которая ее ожидала у родителей, оказалась совсем уж нелестной для безутешной девушки. Здесь легко умеют импровизировать такие небольшие пьесы; весьма вероятно, что это была сатира, направленная против девушки и предостерегавшая на ее примере других.
19 [мая] мы совершили прогулку к длинной морской протоке, где во время нашего прошлого пребывания на острове около восьми месяцев тому назад подвергся нападению и ограблению доктор Спаррман. Начался дождь, да такой сильный, что мы спрятались в небольшой хижине, дабы не промокнуть до костей. Семейство, жившее в хижине, приняло нас очень гостеприимно. Нам сразу предложили рыбу и свежие плоды хлебного дерева, ибо еда и питье у народов Южного моря — первый знак гостеприимства. Кроме нас здесь нашла укрытие пожилая знатная женщина со слугой, который нес к ней домой свинью. Когда дождь закончился, добрая женщина не только предложила нам свинью в подарок, но и одновременно пригласила к себе в дом, находившийся отсюда довольно далеко. Поскольку в этой прогулке мы не придерживались определенного плана, нам было в общем все равно, куда идти, и мы пошли с ней. От дождя дорога стала такой скользкой, что двигаться надо было очень осторожно, однако обилие новых растений, попадавшихся по пути, заставило нас не жалеть об этих трудностях.
Наша провожатая повела нас через гору на другую сторону острова, к морю. Прежде чем мы спустились на равнину, небо опять совершенно прояснилось. Морской берег в этих местах образует приятный залив, прикрытый далеко уходящим в море коралловым рифом, а внутри его находится маленький остров, где водятся целые косяки диких уток, кроншнепов и куликов. Мы немного здесь поохотились, а наша радушная хозяйка тем временем послала оказавшихся тут индейцев приготовить для нас угощение. Настреляв вволю дичи, мы последовали за ней дальше, через еще одну гору, и наконец по прекрасной возделанной долине пришли к ее жилищу, стоявшему на берегу моря.
Здесь мы встретили старика, который был ее мужем, и многочисленных, отчасти уже взрослых детей. Они прекрасно угостили нас запеченными курами, плодами хлебного дерева и кокосовыми орехами, а после обеда отвезли в своем каноэ на корабль, до которого морем было 5 миль, а по суше, наверное, раза в два больше. Такой заботливости, как у этой доброй старой женщины, я не встречал даже у самых радушных людей на острове, а таких я повидал немало. И я от души был рад еще одному доказательству изначальной доброты человеческого сердца; само по себе, в состоянии невинности, оно оказывается не злым, не испорченным ни тщеславием, ни сладострастием, ни другими страстями.
Всю первую половину следующего дня (20-го) мы провели на борту, а после обеда сошли с капитаном Куком на берег и направились к большому дому, где, словно в караван-сарае, жило несколько семейств, которые старались быть поближе к нам. Среди них находились вожди сравнительно низкого ранга; Ори же отправился в другое место на острове.
Мы были заняты беседой с ними, когда несколько индейцев принесли известие, что первый и второй лейтенанты, а также наш штурман ограблены группой разбойников. Это известие вызвало общее смятение среди индейцев. Большинство их, боясь нашего возмездия, сразу постарались спастись бегством. Мы сами были немало обеспокоены судьбой наших спутников, ибо таитянское слово матте означает как «избить», так и «убить до смерти», а несмотря на все расспросы, никак не удавалось выяснить, в каком смысле оно здесь было употреблено. Однако тревожились мы недолго, так как вскоре увидели господ, которых считали пропавшими. Они были невредимы, при всей одежде и охотничьем снаряжении.
Из рассказа выяснилось, что, когда они охотились у озер, на них неожиданно напали и силой выхватили ружья, а так как они оказали сопротивление, их при этом избили. Наконец подоспел один из вождей; благодаря его вмешательству разбойники отдали ружья и другие отобранные вещи. Весьма довольные тем, что история кончилась благополучнее, чем мы опасались, все вернулись на борт, но заметили, что большинство туземцев убежало из этих мест.
На следующее утро Ори велел через Махеине, который ночевал на берегу, сообщить капитану, что вчерашнее нападение совершили тринадцать человек, но что без помощи капитана Кука он не может наказать злодеев; пусть он пошлет к нему двадцать два вооруженных человека (это число он обозначил соответствующим количеством палочек), тогда он захватит еще нескольких своих воинов и выступит против бунтовщиков.
Капитан Кук сомневался, правильно ли он понял послание Ори, и потому вместе с Махеине отправился на берег, чтобы лично переговорить с вождем, но из-за недостаточного знания языка не смог получить более точных разъяснений. Поэтому, вернувшись, он собрал офицеров и обсудил вопрос с ними. Тогда второй лейтенант чистосердечно признался, что первыми напали они сами и что сами навлекли на себя беду. Дело было так: один из них подстрелил на озере нескольких диких уток и попросил какого-то индейца достать их из воды. Тот уже делал это несколько раз, но теперь не захотел исполнять службу пуделя. Офицер несправедливо на это рассердился, стал избивать беднягу и бил до тех пор, пока тот не согласился. Индеец очень ловко, наполовину вплавь, наполовину вброд, по густому илу добрался до диких уток, которые упали далеко от берега, но, схватив их, поплыл к противоположному берегу, вероятно полагая, что в возмещение за перенесенные побои и за приложенный труд вправе присвоить себе эту дичь. Однако наш моряк придерживался совсем другого мнения; он зарядил ружье пулей, выстрелил в индейца, но, к счастью, не попал. Он хотел перезарядить ружье, но тут другие индейцы, увидев, что из-за такого пустяка их земляку грозит смерть, выхватили его у стрелка. Тот позвал на помощь, но других тоже окружили туземцы. Тем не менее один из офицеров сумел выстрелить, и целый заряд дроби попал в ногу одному индейцу. Это еще больше рассердило остальных, и они отомстили за новое насилие, немилосердно отколотив наших людей. При этом оказался слуга Махеине, крепкий коренастый парень. Он отчаянно вступился за наших людей, но толпа его одолела.
После такого признания дело выглядело совсем иначе; тем не менее капитан решил еще раз посоветоваться с вождем и попросил пойти с ним моего отца, знавшего здешний язык лучше, чем кто-либо другой на борту. Ори признался ему, что хотел напасть на дома людей, которые сами вздумали вершить суд, а возможно, собирались восстать против него самого; затем он хотел забрать у них свиней и прочее имущество и отдать нам в возмещение убытков.
Получив такое разъяснение, капитан Кук вернулся на корабль и приказал группе отобранных людей, среди которых были офицеры, доктор Снаррман, мой отец и я (всего сорок семь человек), сопровождать его. Разумеется, капитан Кук не собирался помогать старому Ори расправляться с его бунтующими подданными, тем более что у них было достаточно причин жаловаться на жестокое поведение наших людей; но он, видимо, хотел просто показать островитянам, что их самоуправство ему не нравится. Как бы там ни было, мы высадились на берег и вместе с Ори и несколькими индейцами отправились к месту, где все произошло.
Чем дальше мы продвигались вперед, тем больше собиралось индейцев. Скоро число сопровождавших нас достигло нескольких сот человек, и некоторые уже начали забирать оружие из ближних домов. Сам Ори волочил копье длиной 10 футов, острие которого было сделано из зазубренного шипа ската. Пройдя 2 мили, мы остановились и узнали от Махеине, что индейцы задумали нас окружить и отрезать от корабля. Но капитана Кука это не испугало, он лишь приказал толпе, следовавшей за нами, дальше не идти, чтобы в случае нападения нам легче было отличать друзей от врагов. Ори же, который, как и несколько других вождей, хотел остаться со своими людьми, должен был и далее нас сопровождать.
Пройдя еще 3 мили, мы оказались на распутье. Одна дорога вела через крутые скалы, другая вилась у подножия горы. Капитан выбрал первую. Подъем был очень трудный, зато на другой стороне мы нашли вырубленные в скале ступеньки, с помощью которых гораздо удобнее смогли спуститься на равнину. Этот проход был настолько важен для обеспечения нашего возвращения, что капитан хотел оставить здесь часть своих людей, но, когда увидел, что вопреки строгому приказу Ори большая толпа индейцев, которая должна была оставаться сзади, все же медленно следовала за нами, счел более разумным отказаться вообще от всей операции и прямым путем двинуться назад. Индейцы были убеждены, что мы просто не стали преследовать врага, убежавшего слишком далеко.
Пройдя половину обратного пути, мы увидели просторный дом, и Ори предложил нам подкрепиться там кокосовыми орехами. Пока мы ели, несколько индейцев принесли молодых банановых побегов, а также двух собак и одного поросенка. Все это они передали капитану после долгой речи, из которой мы поняли немного, но которая, судя по всему, касалась обстоятельств нашего похода. Кроме того, нам показали большую свинью, но ее затем увели опять. По окончании сей церемонии мы поспешили к берегу и в полдень были уже у места высадки. Капитан приказал отряду, став против корабля, дать несколько залпов из ружей в сторону моря, и мы удовольствовались изумлением индейцев, не предполагавших, что пули достают так далеко и что мы можем поддерживать постоянный огонь.
Таким образом, сия экспедиция обошлась без кровопролития, как и желали те из нас, кто не считает ничтожной мелочью жизнь своих собратьев. Другие, напротив, были весьма недовольны тем, что дело не дошло до смертоубийства. Для них, привычных к страшным картинам войны и кровопролития, казалось, было все равно, стрелять в людей или по мишеням.
Возможно, из-за этого, военного похода островитяне теперь боялись появляться на борту; во всяком случае, после полудня на продажу привезли совсем немного фруктов. Но на другое утро мы получили от наших знакомых много подарков в знак того, что с этим покончено. Среди прочих нас посетил вождь по имени Моруруа, проявивший особенное расположение к моему отцу; его сопровождали жена и приближенные. Никто не явился с пустыми руками, а стало быть, не ушел с пустыми руками от нас. Но Моруруа счел, что получил от нас гораздо больше, нежели заслужил, и выразил красноречивым взглядом свою радость и благодарность. На другое утро, когда мы уже собирались отплыть от острова, он появился на борту еще раз, опять принес подарки и попрощался со слезами на глазах.
Трое друзей Махеине остались на этом острове. Зато мы взяли на борт другого индейца, которого Ори отправил с посланием к О-Пупи, королю Бораборы. Посланец был на вид простаком, однако, в чем состояло его поручение, рассказывать нам не стал, да нас это и не особенно интересовало. Его имя необычайно подходило к его нынешнему занятию: звали его Харри-Харри, что по по-английски означает не что иное, как «спеши-спеши».
В полдень 24-го мы стали на якорь у острова Раиетеа, в бухте Хаманено [Охаманено], но лишь к вечеру смогли отбуксировать корабль в середину гавани. Вождь Ореа поднялся на борт; он, видимо, был весьма доволен нашим возвращением. Несомненно, лучшей рекомендацией нашим людям всюду служило доверие к нам Махеине и Харри-Харри.
На следующее утро мы сопровождали капитана в дом Ореа, где нас встретили его жена и дочь. Когда мы вошли в хижину, обе женщины ударились в плач, мать даже поранила лицо зубом акулы и прижала кровь куском материи. Это, однако, продолжалось недолго; вскоре обе они развеселились, точно ничего не произошло. Из-за сильного дождя мы лишь к полудню смогли вернуться на корабль, который тем временем был переведен в узкую бухту поближе к берегу, где удобнее брать воду.
После полудня мы, насколько позволила дождливая погода, собрались прогуляться к этой бухте. Вдоль берега были вытащены на сушу множество каноэ, все дома и хижины были битком набиты людьми. Эти хижины, в числе прочего, предназначены были для совместных трапез, и недостатка в еде, судя по всему, не было. Повсюду лежали груды отборных, уже совсем приготовленных съестных припасов.
Мы знали, что на этих островах существует особое сообщество, или класс, людей обоего пола, которых называют эрриои и которые время от времени собираются из разных мест и посещают по очереди один остров за другим, всюду предаваясь необузданному чревоугодию и наслаждениям. Когда мы стояли на якоре в Хуахейне, там как раз остановился подобный «караван» из более чем семи сотен эрриоев. Именно их мы встретили теперь здесь. Однажды утром они на семидесяти каноэ перебрались с Хуахейне на Раиетеа и, проведя несколько дней на восточном побережье этого острова, обосновались теперь на западном берегу.
Все это люди почтенные, явно принадлежавшие к высшему сословию. У некоторых на коже вытатуированы большие пятна; по словам Махеине, это самые знатные участники компании, и, чем крупнее и гуще татуировка, тем выше степень их знатности. Почти все они крепкие, хорошо сложены и называют себя воинами. Махеине высказал большое почтение к сему обществу и заверил нас, что он тоже состоит его членом. Все эти люди связаны теснейшими дружескими узами, и законы гостеприимства между ними трактуются в самом широком смысле. Когда один эрриой посещает другого, он может рассчитывать на то, что будет в достатке обеспечен всем необходимым и более того. Не играет никакой роли, знакомы они лично или незнакомы. Его тотчас представляют другим членам ордена, и каждый старается перещеголять другого любезностью, знаками дружбы и подарками. Махеине утверждал, что все привилегии, которые он получил на Таити, были предоставлены ему просто как «члену общества». Два молодых человека, которые первыми увидели его там на корабле, были, по его словам, эрриои, и потому они подарили ему свои одежды, ибо у него самого тогда было лишь европейское платье.
Видимо, один или несколько представителей каждой знатной семьи вступают в это общество, основной непреложный закон которого гласит, что его члены не имеют права иметь детей. Насколько мы могли понять из рассказов наиболее сведущих индейцев, эрриои поначалу должны оставаться неженатыми. Но так как в сей жаркой стране половой инстинкт слишком силен, от этого правила постепенно отступили, и женитьба стала допускаться. Но, дабы сохранить принципы холостяцкого сословия, несчастных детей стали убивать сразу после их рождения.
Эрриои пользуются многими привилегиями и большим почетом на всех островах Общества. Но вот что более всего странно: сами они видят высочайшее свое достоинство в том, что не имеют детей. Когда Тупайя услышал, что у английского короля многочисленное семейство, он вообразил себя гораздо более знатным, чем король, только потому, что сам он, будучи эрриоем, детей не имел. Почти во всех странах почетно называться отцом, но на Таити слово «отец» в устах эрриои звучит как упрек и даже бранная кличка.
В определенное время они собираются большими компаниями и путешествуют от острова к острову. Там они лакомятся лучшими плодами и поедают множество свиней, собак, рыб и кур, которых этим чревоугодникам обязаны поставлять таутау, то есть низший класс. По сему случаю не обходится и без доброй порции опьяняющего перечного напитка. Вообще эти господа любят попировать и совмещают чревоугодие со всевозможными чувственными удовольствиями, с музыкой и танцами. Ночью танцы становятся, видимо, до крайности распутными, но никому, кроме самих членов общества, не разрешен туда доступ.
В стране, столь далеко ушедшей от варварства, как Таити, это общество, судя по всему, столь убыточное для всего парода, наверняка не сохранилось бы до наших дней, если бы, с другой стороны, народ не получал от него существенной пользы. Самая важная причина, почему сие общество сохранилось, состоит, вероятно, в том, что оно постоянно дает определенное число воинов для защиты страны (поскольку все эрриои — воины). Возможно, именно из опасения, что любовь и семейные узы сделают их трусливыми и малодушными, им и было предписано оставаться холостыми, впоследствии они, однако, сочли это для себя, видимо, слишком обременительным. Возможно, учреждение общества эрриоев имело также целью ограничивать слишком быстрое возрастание числа вождей и знати. Наверное, какой-то древний здравомыслящий законодатель на Таити сообразил, что, ежели класс сих маленьких тиранов станет чересчур многочисленным, простые люди скоро начнут изнемогать под их гнетом. Дабы избежать этого, конечно, нет более действенного средства, чем предписать этим людям оставаться холостыми; но чтобы подсластить такое вынужденное условие, были предусмотрены и некоторые приятные преимущества. К ним я отношу почет, какой оказывает эрриоям простой народ, средства, которые им предоставляются, чтобы они могли жить в свое удовольствие, храбро чревоугодничать и наслаждаться жизнью, что всегда было привилегией воинов, покуда они не вырождались в нищенствующих наемников и ненасытных тиранов.
Наверное, когда-то они больше, нежели сейчас, заслуживали оказываемого им уважения безупречным поведением, но если они однажды переступили законы своего ордена в том, что касается брака, то легко понять, что и в других отношениях это общество постепенно все больше теряло свой первоначальный дух, а излишества и чревоугодие сменили былую целомудренность и воздержание. Теперь эрриои, несомненно, величайшие сладострастники среди земляков; впрочем, я не заметил, чтобы для удовлетворения своей чувственности они пускались на какие-нибудь новые выдумки. Правда, им приписывали самые ужасные виды сладострастного распутства и утверждали, будто их жены принадлежат совместно всем членам ордена. Однако, хоть и нельзя сказать, чтобы последнее само по себе противоречило характеру сего народа, когда мы расспрашивали об этом, нас заверили как раз в обратном. Так что этот рассказ можно считать простым вымыслом каких-нибудь веселых и близоруких путешественников или же авторов, любящих поразвлечь любезную публику разными увлекательными сказками.
Эрриои частью женаты, как был женат Махеине на дочери Топерри, у других есть наложницы. Некоторые, конечно, имеют дело и с обычными гулящими женщинами, которых предостаточно на всех этих островах. Однако подобный вид распутства не представляет собой ничего необыкновенного, среди цивилизованных европейцев он гораздо более распространен. Если же обвинять эрриоев только в том, что они уступают друг другу своих жен, то примерно то же самое можно сказать и о развратных нравах некоторых европейцев. Ведь и в Европе есть разряд людей обоего пола, кои проводят свои дни в постоянном удовлетворении чувственных желаний.
Зато от упрека в детоубийстве таитян избавить нельзя, каким бы необъяснимым на первый взгляд ни представлялось, что народ столь мягкого, сострадательного, дружелюбного нрава одновременно может быть способен на столь крайнюю жестокость. Если бесчеловечность отцов уже вызывает содрогание, то что же сказать о матерях, чье сердце от природы и благодаря инстинкту всегда столь нежно, заботливо и склонно к милосердию? Конечно, легко сбиться с пути и изменить голосу добродетели, но все равно непонятно, как народ, в других отношениях столь верный природе, как раз в том, что касается первой заповеди, способен действовать вопреки ей, жестоко отринув столь глубоко укоренившееся чувство? Увы, прискорбна власть обычая:
That monster custom, who all sense doth eat Of habits devil. Shakespeare[431]Она постепенно ослабляет все наши чувства и наконец заглушает даже укоры совести.
Поскольку у нас не оставалось никаких сомнений, что сие противоестественное варварство действительно существует среди эрриоев, мы спросили нашего друга Махеине, как он может почитать за честь принадлежать к столь гнусному обществу. Мы попытались ему объяснить жестокость подобных дел, перебрали все доводы против сего обычая, какие нам только пришли на ум или, вернее, какие мы только способны были выразить на его языке. Нам удалось внушить ему, что это несправедливо, и он обещал не убивать своих детей и даже вообще отойти от общества, как только станет отцом.
В какой-то мере утешением для нас было услышать, что у эрриоев редко бывают дети. Ведь они берут себе жен и наложниц из класса самых простых развратных девиц и как по этой причине, так и из-за распущенного их сладострастия редко получают случай пожертвовать несчастным ребенком.
По возвращении в Апглию я имел возможность поговорить об эрриоях с О-Маи. Я изобразил ему, сколь постыдно для всего народа терпеть общество детоубийц. Однако он заверил меня, что большая часть народа не принимает в этом зверстве никакого участия. Правда, существует закон, требующий убивать детей и в возмещение сей горькой необходимости предоставляющий членам этого общества особые почести и привилегии. Несмотря на это, матери никогда не дают согласия на убийство своих детей. Мужчины и другие эрриои уговаривают их отдать детей, когда же уговоры не помогают, применяется сила. Но, главное, добавил он, такие убийства совершаются настолько тайно, что даже таутау, слуги, ничего об этом не знают. Если же дело получает огласку, убийца должен расплатиться за это жизнью[432].
Как видим, нельзя поставить всем таитянам и их соседям в вину то, что, увы, можно сказать о любом другом народе, а именно что среди них есть отдельные злодеи, у коих хватает жестокости убивать своих собственных детей. А значит, те, кто ищет любого повода, лишь бы опорочить человеческую природу, не вправе злорадно ликовать, утверждая, будто есть на земле целый народ, совершающий убийства и не видящий в этом ничего плохого[433].
При всем своем сибаритстве собравшиеся здесь эрриои не забывали и о гостеприимстве; они усердно приглашали нас принять участие в их трапезе. Но поскольку мы сами только что встали из-за стола, то предпочли прогуляться и лишь на закате возвратились на корабль, который тем временем покинули Махеине, девушка и другие пассажиры-индейцы. Наутро к нам приплыло на своих каноэ множество островитян, а женщины не только поднялись на борт, но и часть их решила остаться на ночь с нашими матросами. На Хуахейне таких женщин было несравненно меньше, причем они и на самом острове казались чужими. С тем большей охотой матросы после недолгого перерыва возобновили свой таитянский образ жизни. Мы в этот день предприняли прогулку к северной оконечности острова и подстрелили там несколько диких уток. Всюду нас встречали очень радушно.
Назавтра погода выдалась весьма приятная, сильный восточный ветер смягчал обычную жару. На корабль пожаловали высокие гости: Ореа со своей семьей, Боба, вице-король этого острова, О-Таха и Теина-Маи, прекрасные танцовщицы, о которых я уже упоминал. Боба был высокий, хорошо сложенный молодой человек, родом с Бораборы, родственник Пуниэ, тамошнего короля и завоевателя островов Раиетеа и Таха [Taxoa]. Махеине часто нам рассказывал, что Пуниэ наметил этого молодого человека себе в преемники и предназначил ему в жены свою единственную дочь Маиверуа, на редкость красивую девочку, которой пока было всего лишь двенадцать лет. Боба был тогда эрриоем и сожительствовал с красивой танцовщицей Теиной. Нам показалось, что она беременна, и потому мы завели с ней разговор про обычай убивать детей эрриоев. Но разговор получился очень краткий и довольно бессвязный, отчасти потому, что вообще очень трудно заставить островитян, а тем более женщин, говорить долгое время про что-то одно, отчасти потому, что мы еще недостаточно владели здешним языком, чтобы выражать на нем моральные и философские понятия. Так что от нашего красноречия не было особого толку; все, что мы смогли выжать из Теина-Маи, были слова: «Возможно, вашему английскому эатуа (богу) не нравятся обычаи эрриоев, но наш не выказывает никакого неудовольствия». Однако она нам обещала, что, если мы приедем из Англии и захотим забрать ее ребенка, она попытается сохранить ему жизнь, только мы должны будем дать ей за это топор, рубаху и красных перьев. Но все это она произнесла таким смеющимся тоном, что вряд ли стоило принимать ее слова всерьез. А толковать с ней об этом дальше было напрасно, потому что она все время перескакивала с одного предмета на другой; хорошо еще, что вообще так долго согласилась слушать нас.
После полудня мы вышли на берег посмотреть танцевальное представление, в котором должна была участвовать Пойадуа, дочь Ореа. Зрителей собралось очень много, ибо здесь любят это зрелище. Танцовщица получила возможность еще раз подтвердить свое искусство, и все европейцы наградили ее громкими рукоплесканиями. В перерывах выступали мужчины, они показывали что-то совсем для нас новое. Хотя мы не все понимали дословно, однако все же могли разобрать, что в песнях упоминаются имена капитана Кука и других наших людей. Все действие, видимо, представляло одну из тех историй о разбойниках, какие часто можно услышать на этих островах.
Другая интермедия изображала нападение воинов с Бораборы, она сопровождалась громким щелканьем кнута. Но самой странной была третья интермедия. Она представляла женщину во время родов и вызвала у собравшихся громкий смех. Парень, игравший эту роль, изображал все позы, которыми греки восхищались в рощах Венеры Ариадны близ Амата и которые представлялись на празднике в месяце кориэе в память об умершей в детстве Ариадне[434]. Другой рослый и крепкий малый, одетый в таитянскую материю, изображал новорожденного ребенка, причем с такими ужимками, что мы сами хохотали от души. «Костюм» его настолько соответствовал роли, что даже акушер или любой другой специалист не могли бы упрекнуть этого здоровенного парня, что у него недостает какого-либо существенного признака новорожденного ребенка[435]; местным же зрителям больше всего понравилось, как он, едва явившись на свет, побежал, да так резво, что танцоры не могли его поймать. Капитан Кук заметил при этом, что, как только другие мужчины догнали его, они прижали ему нос сверху, между глаз. Отсюда он совершенно справедливо заключает, что такой обычай действительно существует, когда появляется новорожденный, отчего у них всегда приплюснутые носы.
Больше всего удовольствия это представление, кажется, доставило дамам. Они спокойно им наслаждались, ибо по здешним понятиям в таких зрелищах не было ничего, способного их смутить, как это бывает с нашими европейскими красотками, которые могут смотреть на иные спектакли только лишь сквозь веера.
На другой день мы прошлись на юг и увидели там очень плодородные места и весьма радушных жителей. Дорога привела нас к большому каменному строению, которое называлось марай но Паруа, то есть место погребения Паруа. Я уже упоминал, что такое же имя носил Тупайя, плававший с капитаном Куком на «Индевре». Но был ли этот памятник сооружен в его честь, сказать не могу. Обычно подобные марай получают название в честь здравствующих вождей, так что, возможно, здесь был теперь еще некто по имени Паруа. Во всяком случае, жившие поблизости индейцы сказали нам, что Паруа, которому принадлежит могильник,— эри, а Тупайя этим титулом, похоже, не обладал. Сооружение в длину достигало 60 футов и в ширину 5. Стены были сложены из крупных камней и имели в высоту примерно 6—8 футов. Мы забрались внутрь и увидели двор, заваленный лишь кучей мелких коралловых камней.
Пройдя еще несколько миль, мы вышли к просторной бухте, где между рифами и берегом находились три маленьких островка. Бухту опоясывало болото, в нем обосновалось множество диких уток. Мы не упустили возможности поохотиться, а затем на двух маленьких каноэ отправились к одному из островов посмотреть, не выбросило ли там море на берег каких-нибудь моллюсков. Но сия надежда оказалась тщетной; кроме единственной хижины, служившей (как можно было понять по хранившимся в ней сетям и другим рыболовным снастям) лишь для нужд рыбной ловли, мы нашли здесь только несколько кокосовых пальм да мелкий кустарник, так что вернулись ни с чем; перекусили у индейца, который нас пригласил, и лишь к закату добрались до корабля.
Во время нашего отсутствия в гости к капитану Куку прибыл Ореа. Он выпил целую бутылку вина, ничуть, казалось, не опьянев, однако, как всегда, был весьма разговорчив и расспрашивал главным образом о достопримечательностях земель, на которых мы побывали за время нашего плавания и о которых ему кое-что рассказал его земляк Махеине. Послушав некоторое время капитана, он заметил, что, конечно, мы повидали немало, но все-таки он может рассказать нам про один остров, о котором мы ничего не знаем. Расположен этот остров, сказал он, лишь в нескольких днях пути отсюда, но живут на нем великаны, громадные, как самая высокая мачта, и толстые, как верхняя часть корабельной лебедки. Люди они добрые, но, если их разозлить, дело плохо. Они могут схватить человека и зашвырнуть его далеко в море, как камешек. Если вы вздумаете поплыть туда, сказал он, то смотрите, они могут выйти к вам по морю вброд навстречу, взять корабль на плечи и вынести на берег. Дабы сделать свой рассказ более убедительным, он добавил еще несколько забавных подробностей и не забыл упомянуть название этого чудесного острова. Называется он, по его словам, Мирро-Мирро. По тому, как Ореа рассказывал эту сказку, чувствовалось, что сам он с иронией отнесся к тем местам нашего повествования, кои показались ему либо вымышленными, либо непонятными, и шутливость, с какой он все это сумел выразить, достойна была восхищения. Во всяком случае, Бугенвиль прав, замечая, что смышленость здешних островитян связана с плодородием их земли, поскольку обилие беззаботных дней всюду порождает жизнерадостные и бодрые характеры.
Ночью из шлюпок, стоявших на буе, были похищены несколько весел, крюков и маленьких якорей. Едва утром обнаружилась пропажа, капитан сообщил об этом вождю Ореа. Тот незамедлительно явился к нам и взял с собой в каноэ капитана, чтобы пуститься на поиски вора. Проплыв на веслах около часа, он вышел на берег в южной части острова и вскоре вернулся, доставив все украденное.
Я в это время тоже был на берегу неподалеку от бухты и смотрел, как две маленькие девочки исполняют хиву. Но, конечно, они и нарядом, и искусством уступали Пойадуа. Их тамау, головное украшение из плетеных волос, не имело формы тюрбана, а состояло из множества локонов, весьма красивых и немного напоминающих высокие прически наших модниц.
После полудня опять танцевала Пойадуа. Казалось, она на сей раз хочет затмить всех партнеров. Во всяком случае, на ней было больше, чем обычно, украшений, в том числе множество европейских стеклянных бус. Ее изумительная гибкость, прелестные движения рук, быстрая дрожащая игра пальцев — все это восхищало индейцев, как нас восхищает искусство наших балерин. Однако и мы рукоплескали Пойадуа хотя бы за то, что она своим искусством была обязана не учителю, а лишь собственному природному таланту. Не согласны мы были с местным вкусом лишь в том, что не могли считать красивыми ужасные гримасы рта. На наш взгляд, они были безобразны и даже отвратительны.
Поводом для этого представления послужило присутствие эрриоев. Оно, казалось, взбудоражило весь остров. Все были в приподнятом настроении, и сами эрриои подавали добрый пример. Они наряжались как можно лучше и почти каждый день появлялись в новом платье. Целые дни они проводили в беззаботной праздности: умащали себе волосы благовонным маслом, пели или играли на флейте — словом, перебирали все известные здесь удовольствия, стараясь не оставить ничего не испробованным. Это напоминало мне о счастливом, спокойном и богатом народе, что встретился Улиссу в Феакии. По словам самого повелителя этого народа:
Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску, Свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе.Одиссея. VIII, 248
Возможно, наш друг Махеине оказался единственным из эрриоев, кто был доволен меньше других, поскольку ему здесь оказывалось не столь много дамской благосклонности, как на Таити. Должно быть, в Южном море, как и у нас, справедливы слова, что пророк нигде не ценится меньше, чем в своем отечестве. Здесь у него были многочисленные родственники, однако проку ему от этого не оказалось никакого, разве что все они ждали от него подарков, причем отнюдь не по его доброте, а чуть ли не по обязанности. На Таити, напротив, любой, даже самый малый, подарок принимался как знак щедрости, этим он приобретал себе друзей и получал разные другие преимущества. Покуда у доброго юноши еще оставалось хоть немного из тех диковин, что с риском для своей жизни он собрал за время нашего трудного, а порой действительно опасного путешествия, его мучениям не было конца, и, хотя он не скупясь то и дело раздавал свои сокровища, иные из его родственников все же громко сетовали на его скупость. Он, еще недавно имевший возможность одаривать других, теперь принужден был просить без конца у своих европейских друзей, так как из-за жадности здешних родичей у него не осталось даже нескольких красных перьев и других мелочей для подарка своему высокому родственнику О-Пуни, королю Бораборы.
Стоит ли удивляться, как страстно он мечтал вернуться на Таити? Нам он сказал, что, как только навестит О-Пуни и других родственников на Бораборе, постарается как можно скорее возвратиться на Таити и никогда уже его не покинет. При всем том он был бы не прочь отправиться с нами в Англию, если бы мы только оставили ему малейшую надежду, что когда-нибудь вернемся в Южное море. Но поскольку капитан Кук твердо уверил его в обратном, он предпочел лучше отказаться от удовольствия увидеть нашу часть света, чем навсегда расстаться с любимой отчизной. Если подумать, чему научился у нас его земляк О-Маи, приходишь к выводу, что для сердца и нравов нашего неиспорченного друга это действительно оказалось лучше. Конечно, он не увидел великолепия Лондона, зато не узнал и всех мерзостей, всей безнравственности, что присущи всем почти без исключения крупнейшим европейским столицам.
Когда танец окончился, Махеине уговорил нас навестить его в его собственных владениях. Он уже не раз нам рассказывал, что у него на этом острове есть собственная земля, и тем более хотел воспользоваться случаем подтвердить свои слова, что некоторые из нашей команды все еще в этом сомневались. Так что на другой день мы по его приглашению в двух шлюпках под парусами отправились к северо-восточной оконечности острова, где находился его округ Вараитева. Нас сопровождал Ореа со своим семейством.
Через два часа мы благополучно добрались до места. Махеине с двумя старшими братьями встретил нас и повел в просторный дом. Там он сразу велел приготовить угощение. Покуда шли приготовления, мой отец, доктор Спаррман и я отправились в близлежащие горы собирать растения, но ничего нового не нашли. Спустя два часа мы вернулись. Тем временем принесли еду, и капитан Кук подробно рассказал нам, как готовилось угощение. Он наблюдал за всем этим сам, и, поскольку сия тема никогда еще как следует не освещалась, я хочу слово в слово привести для читателей его описание.
Сперва трое туземцев схватили свинью весом фунтов в пятьдесят, опрокинули на спину и удушили; двое придавили ей горло толстой палкой и навалились на ее концы всей тяжестью тела, а третий держал свинью за задние йоги. Чтобы из нее не вышел воздух, задний проход ей заткнули пучком травы. Минут через десять со свиньей было покончено. Тем временем двое других развели огонь, чтобы раскалить так называемую печь, представлявшую собой яму в земле, в которую было брошено множество камней. На этом огне мертвую свинью опалили, как мы ошпариваем кипятком. Чтобы она стала совсем чистой, ее понесли на берег моря, там оттерли песком и галькой, а затем еще раз промыли, после чего опять перенесли на прежнее место. Здесь ее положили на свежие листья и очистили изнутри, для чего вспороли брюхо, отделили подкожный жир и положили на чистые листья; затем вынули внутренности. Их тотчас унесли в корзине, куда — неизвестно, однако, я думаю, что их не выбросили. Наконец они извлекли кровь и нутряное сало, кровь спустили на большой зеленый лист, а сало добавили к жиру, который уже был отделен. После этого свинью еще раз промыли пресной водой снаружи и изнутри, сунули ей каленые камни в брюхо и в грудную клетку, а сверху положили зеленые листья.
К тому времени печь, то есть яма или углубление в земле, наполненное камнями, достаточно прокалилась. Тогда оттуда выбрали золу и часть камней, кроме самого нижнего слоя, которыми было выложено дно. На них положили тушу брюхом вниз, а возле нее в длинном корыте, сделанном специально для этой цели из молодого бананового ствола, поместили тщательно промытое сало и жир. В кровь бросили раскаленный камень, чтобы она загустела или свернулась, затем ее завернули небольшими порциями в листья и тоже положили в печь, рядом с плодами хлебного дерева и бананами. Потом все это покрыли зелеными листьями, а сверху — остальными раскаленными камнями. Их прикрыли еще одним слоем листьев и наконец забросали все разными камнями и землей.
Пока это блюдо находилось в земле, был накрыт стол, то есть возле дома постелили зеленые листья. Через два часа десять минут печь открыли и извлекли из нее еду. Гости уселись кругом на листьях: туземцы — с одной стороны, мы — с другой. На ту сторону, где сидели мы, принесли свинью, туда же, где находились индейцы, подали сало и кровь, которые ели только они и очень хвалили. Зато нам ничуть не меньше нравилось мясо; оно в самом деле получилось необычайно вкусным, причем люди, готовившие еду, во всем соблюдали похвальнейшую чистоплотность.
Едва свинья была разделана, как самые знатные вожди и эрриои набросились на еду, глотая целыми пригоршнями кровь и жир. Вообще все наши сотрапезники ели с необычайной жадностью, тогда как толпившиеся вокруг бедные таутау должны были довольствоваться простым созерцанием, ибо им не оставалось ни кусочка. Единственные из числа зрителей, кто получил немного, были жена и дочь Ореа; обе тщательно завернули свои порции в листья, чтобы съесть их в уединении. В данном случае могло показаться, что женщины имеют право есть то, что приготовили и разделили мужчины; однако в других случаях создавалось впечатление, что определенные лица не вправе есть то, к чему прикасался тот или иной член семьи. Мы не могли определить, какими правилами они на сей раз руководствовались. Правда, таитяне не единственный народ, у которого мужчины едят отдельно от женщин; этот обычай существует и у многих негритянских племен, и у жителей Лабрадора. Однако и эти негры, и эскимосы вообще с необычайным презрением относятся к другому полу и, возможно, не хотят есть вместе со своими женщинами по этой причине. У таитян же, где к женщинам, напротив, относятся во многих отношениях хорошо и учтиво, причина подобного отчуждения, видимо, другая, но, чтобы выяснить ее, понадобятся специальные исследования[436].
Капитан не забыл захватить с собой несколько бутылок водки, разбавленной водой,— так называемый грог, любимый напиток моряков. Эрриоям и другим знатным индейцам эта смесь показалась крепкой и пришлась по вкусу не меньше здешнего опьяняющего напитка. Они храбро выпили грог, добавили еще несколько бокалов водки, после чего их стало клонить ко сну.
В 5 часов пополудни мы вернулись на корабль, но из-за жары сперва искупались в красивом роднике, который уже не раз служил нам для этой цели. Он защищен от солнца пахучим кустарником, и туземцы, хорошо знающие это место, тоже любят его в меру прохладную воду. Таких мест для купания немало на острове, и они, без сомнения, столь же украшают страну, сколь служат здоровью ее обитателей.
В течение последующих дней мы искали в горах растения и в разных местах находили неизвестные доселе виды. Здешние горы напоминают таитянские, только немного ниже. Во время прогулок мы обнаружили, между прочим, романтического вида долину, окруженную густыми лесами; по ней протекал красивый ручей, ступенчатыми каскадами низвергавшийся со скалистых гор.
Вернувшись с последней ботанической экскурсии, мы узнали важную новость. Один из прибывших с Хуахейне индейцев рассказал, что там стоятна якоре два корабля, один из которых больше нашего. Капитан Кук позвал этого человека к себе в каюту, чтобы расспросить подробнее. Индеец повторил то, что уже рассказывал на палубе, и в подтверждение добавил, чтоон сам побывал на борту меньшего судна, где его напоили допьяна. Мы спросили, как звали капитана; он ответил, что командира большего корабля звали Табане, а меньшего — Тонне. Капитан Кук немало удивился, ведь именно так индейцы называли Банкса и Фюрно, и спросил, как выглядели эти господа. Индеец отвечал, что Табане высокий, Тонно поменьше; это тоже соответствовало внешнему виду обоих. Все же у нас было немало веских причин усомниться в достоверности сего рассказа. Ведь если бы капитан Фюрно действительно был на Хуахейне, он, несомненно, узнал бы от тамошних жителей, что капитан Кук еще находится поблизости, а поскольку он отплыл из Англии под его командованием, то обязан был бы разыскать его. Но так как этого не произошло, оставалось полагать, что если у Хуахейне действительно стали на якорь какие-то европейские корабли, то, во всяком случае, не английские.
Позднее на мысе Доброй Надежды мы узнали, что капитан Фюрно покинул Столовую бухту задолго до того, как индейцы якобы видели его на Хуахейне, а Банкс вообще не покидал Европы. Все это, видимо, было чистой выдумкой; возможно, любезные островитяне просто хотели посмотреть, не испугаемся ли мы столь же могущественных или даже превосходящих нас мореплавателей[437].
На следующий день толпы индейцев явились к кораблю, привезя на продажу много продовольствия; они услышали, что завтра (4 июня) мы собираемся отплывать. Хотя они запрашивали за все недорого, наш запас топоров и ножей уже столь оскудел, что оружейнику пришлось изготовить некоторое количество новых; правда, они получились бесформенными и малопригодными. Особенно это относилось к ножам, лезвия которых выделывались кое-как из бондарных обручей. Но добрые простодушные люди были довольны и этим, ведь они еще не умели судить о ценности вещей только по внешнему виду. Зато мы теперь вдвойне отплатили им за привычку иногда забираться к нам в карманы или тащить что плохо лежит: мы обманывали их откровенно.
Среди жителей островов Общества есть несколько человек, живущих в разных местах и сведущих в традициях, мифах своего народа, а также знающих звезды. Махеине не раз говорил о них как о самых ученых людях страны; он называл их тата-о-рерро, что переводится примерно как «учителя». Мы давно хотели познакомиться с кем-то из них и наконец нашли здесь, в округе Хаманено, вождя по имени Тутаваи, которого называли тата-о-рерро. Тем более нам было жаль, что мы сумели разыскать его только перед самым отплытием. Как бы там ни было, мой отец воспользовался хотя бы последними часами нашего здесь пребывания, чтобы исследовать столь важный предмет.
Высокоученый Тутаваи, видимо, был рад возможности показать свои познания. Его самолюбию льстило, что мы так внимательно слушаем его; возможно, это побудило Тутаваи задержаться на сей теме терпеливее и дольше, нежели обычно способны более непоседливые и поверхностные островитяне. В целом их религия представляет собой самую странную систему многобожия, какую только можно придумать.
Вообще немногие народы влачат столь жалкое существование, настолько поглощены заботами о поддержании своей жизни, что не могут думать больше ни о чем, не способны задуматься о творце и попытаться составить о нем какое-то, пусть и несовершенное, представление. Эти представления, видимо, сохраняются в устном предании у всех народов с тех времен, когда бог непосредственно являл себя людям. Искра такого былого божественного откровения, передаваемого из поколения в поколение, сохранилась и на Таити, и на других островах Общества; во всяком случае, они верят в высшее существо, которое сотворило весь видимый и невидимый мир. Однако история показывает, что все народы, желая ближе исследовать свойства этого всеобщего и непостижимого духа, скоро в большей или меньшей степени переступают границы, кои творец положил для наших чувств и разума, что обычно приводит их к самым глупейшим выводам. Отсюда и получилось, что ограниченные умы, не способные составить понятия о высшем совершенстве, вскоре персонифицировали свойства божества или представили его как особое существо. Таким образом возникло это огромное множество богов и богинь, одна ошибка порождала другую, и поскольку у каждого человека имеется врожденная потребность в представлении о боге, то отец передавал все, что знал об этом, своим детям. Тем временем людской род множился и вскоре стал делиться на различные сословия. Появление сословных различий одним людям облегчило удовлетворение их чувственных желаний, другим затруднило. И если теперь среди тех, для кого они были затруднены, появляйся человек особых способностей, который замечал всеобщее желание своих собратьев поклоняться высшему существу, то часто (я бы даже сказал, всегда) он злоупотреблял этой общей склонностью. В конце концов обманщик старался сковать разум толпы и заставлял ее платить себе дань. Представления о божестве, кои он им внушал, должны были служить тем же намерениям, поэтому он насаждал в народе, который до сих пор испытывал врожденную детскую любовь к богу как к своему благодетелю, трепет и страх перед его гневом.
Примерно так, думается мне, произошло и на островах Общества. Там почитают божества всевозможного рода, наделенные разными свойствами, и, что особенно поражает, у каждого острова есть своя теогония, или история о происхождении богов. Это отчетливо видно при сравнении с известиями, которые приводятся в описании первого плавания капитана Кука.
Вначале Тутаваи рассказал, что высший бог, или творец неба и земли, на каждом острове имеет другое имя, или, чтобы выразиться яснее, на каждом острове верят в особое высшее существо, которому подчиняются все остальные божества. На Таити и Эймео [Муреа] высший бог —О-Руа-хатту, на Хуахейне — Тане, на Раиетеа — О-Ру, на О-Таха — Орра, на Бораборе — Тауту, на Мауруа — О-Ту, а на Табуа-манну, или острове сэра Чарлза Саундерса [Тубуаи-Ману], его зовут Тароа.
Морем, по их представлениям, правят тринадцать богов: 1. Урухадду. 2. Тама-уи. 3. Таапи. 4. О-Туариону. 5. Таниеа. 6. Тахау-меонна. 7. Ота-мауве. 8. О-Ваи. 9. О-Ватта. 10. Тахуа. 11. Ти-утеиа. 12. О-Махуру. 13. О-Вадду. Тем не менее сотворил море другой бог — по имени У-маррео. То же и с солнцем: оно сотворено могучим богом О-Мауве, который вызывает землетрясения, но живет на нем и правит им другое божество, Тутумо-хорорирри. К этому самому богу, который имеет облик красивого человека и у которого есть волосы, достающие до пят, отправляются, по их представлениям, умершие, там они живут, едят плоды хлебного дерева и свинину, которую нельзя только приготовлять на огне.
Они также верят, что в каждом человеке заключено особое существо, действующее в зависимости от получаемых ощущений и составляющее мысли из отдельных понятий[438]. Это существо у них называется ти и соответствует нашей душе. Согласно их представлениям, оно сохраняется после смерти и живет в деревянных изображениях, которые ставят вокруг места погребения, и поэтому их тоже называют ти. Так представления о загробной жизни и о связи между духом и материей укоренились даже на самых отдаленных островах земли! Знают ли они что-нибудь о грядущем наказании и воздаянии? Мне сие представляется вероятным, хотя выяснить этого с помощью вопросов мы не смогли.
Луна сотворена женским божеством по имени О-Хинна, она правит этим небесным телом и обитает там; видимые, подобные облакам пятна на Луне — это О-Хинна. Женщины часто поют короткую песню, видимо прославляющую это божество; возможно, они приписывают ей непосредственное влияние на природу. Песня звучит так:
Те-Ува но те малама
Те-Ува те хинарро, что значит:
Облачко на Луне,
Облачко я люблю!
Впрочем, надо сказать, что таитянская богиня Луны — отнюдь не целомудренная Диана древних, она скорее напоминает финикийскую Астарту. Звезды порождены богиней по имени Тету-матарау, а ветрами распоряжается бог Орри-Орри.
Кроме этих наиболее важных божеств существует еще множество более низкого ранга. Некоторые из них насылают несчастья и умерщвляют людей во время сна. Близ самых значительных марай, то есть каменных памятников, им служат службы таховарахаи, высшие священнослужители острова. Богам-благодетелям приносят молитвы, но произносят их не вслух, а лишь обозначают шевелением губ. Священнослужитель при этом смотрит на небо, и считается, что эатуа, то есть бог, спускается к нему и разговаривает с ним, однако народ его не видит; слышит и понимает его лишь священнослужитель.
В жертву богам на этих островах приносят приготовленных свиней, кур и всякую другую еду. Низших, особенно же злых, богов почитают лишь чем-то вроде шипения. Считается, что некоторые из них могут проникать в дома и убивать людей, другие же пребывают на одном необитаемом острове, который называется Маннуа; они имеют обличье могучих великанов со страшно сверкающими глазами и съедают каждого, кто приближается к их берегу. Впрочем, сказка эта не столько относится к области их вероучения, сколько намекает на людоедов, которые, как уже говорилось, возможно, водились на этих островах в незапамятные времена.
Капитан Кук сделал важное открытие в области религиозных верований этих островитян, о котором во время нашего пребывания там мне не было ничего известно. Лучше всего рассказать об этом моим читателям его собственными словами.
«Я,— говорит капитан Кук,— не без оснований предполагал, что таитянская религия в некоторых случаях предусматривает человеческие жертвоприношения, поэтому однажды я вместе с капитаном Фюрно отправился к марай, месту погребения, в бухте Матаваи и, как обычно в таких случаях, захватил с собой одного из своих людей, довольно хорошо понимавшего здешний язык. С нами были несколько туземцев, один из которых оказался человеком умным и сведущим. На площадке стоял тупапау, то есть помост, на котором лежал мертвец, а возле него кое-какая еда. Все это вселяло надежду, что мое любопытство будет удовлетворено. Я начал задавать короткие вопросы, например: предназначены ли бананы и другие плоды эатуа (то есть божеству)? Приносят ли в жертву эатуа свиней, собак, кур и т. д.? На все эти вопросы таитянин ответил мне утвердительно. Тогда я спросил, приносят ли в жертву эатуа „людей"? Таитянин ответил, что приносят таата-ино, злых людей, после того как их сперва типаррахаи — забьют до смерти. Тогда я спросил, не убивают ли иной раз таким образом и добрых, хороших людей? „Нет, только таата-ино". А приносят ли в жертву богу эри? Он ответил, что у них есть свиньи, чтобы отдать эатуа, и повторил свое таата-ино. Для большей уверенности я поинтересовался еще, может ли быть принесен в жертву честный, безупречный таутау — человек из простонародья, у которого нет ни свиней, ни собак, ни кур, чтобы принести в жертву эатуа? В ответ я услышал все то же: в жертву приносят лишь злодеев. Задав ему еще несколько вопросов, я окончательно убедился, что в жертву богам осуждают, видимо, людей за известные преступления и грехи, в том случае, когда они не в состоянии откупиться, но такие люди принадлежат к самому низшему сословию.
Человек, которого я об этом расспрашивал, постарался описать нам всю церемонию, однако мы были недостаточно сильны в языке, чтобы все понять. Впоследствии я услышал от Омаи, что они действительно приносят человеческие жертвы высшему существу. По его словам, лишь от верховного жреца зависит, кого он назначит в жертву. Когда народ соберется, он один входит в дом бога и остается там некоторое время. Выйдя оттуда, он сообщает, что видел великого бога и говорил с ним (только верховный жрец имеет эту привилегию) и что тот потребовал в жертву человека. Затем он называет имя того, на которого выпал печальный жребий, но можно предположить, что выбор всегда падает на того, к кому жрец питает вражду. Его немедленно умерщвляют, и у жреца в случае необходимости всегда хватает хитрости убедить народ, что принесенный в жертву был действительно дурным человеком».
К этому рассказу капитана Кука могу лишь добавить, что слова, будто верховный жрец видел бога, не вполне соответствуют таитянскому вероучению, согласно которому божество незримо, однако, возможно, это выражение было не совсем верно им понято. В остальном весь рассказ о жертвах согласуется с предположением, которое я уже высказал выше, что таитяне были когда-то людоедами. Ведь известно, что этот вид варварства у всех народов перешел в обычай приносить человеческие жертвы и что эта богослужебная церемония сохранялась еще долго, даже когда культура возрастала и нравы улучшались. Так, греки, карфагеняне и римляне продолжали жертвовать своим богам людей, когда их культура уже достигла наивысшего расцвета.
Божествам кроме жертв специально посвящены также некоторые растения. Поэтому возле марай часто сажают, например, казуариновое дерево, кокосовую пальму и банан. Там же можно встретить сорт кратевы, перечный корень, Hibiscus populneus, Dracaena terminalis Callophillum; все они считаются знаками мира и дружелюбия. Божествам посвящены и некоторые птицы: цапля, зимородок и кукушка. Но я уже упоминал, что не все почитают их одинаково; следует также заметить, что на разных островах святыми считаются разные птицы.
Жрецы у этого народа исправляют свою должность пожизненно, их сан передается по наследству. Верховный жрец каждого острова всегда является эри и занимает следующую ступень в иерархии после короля. В важных случаях его приглашают для совета, он имеет долю во всех благах; словом, эти люди нашли способ стать необходимыми. Кроме жреца в каждом округе есть один или два учителя, так называемых татаор-реро (один из них был Тутаваи), сведущих в теогонии и космогонии и, когда надо, передающих свои познания другим. Эти же люди хранят знания, по географии, астрономии и летосчислению.
Месяцев у них четырнадцать, а идут они в следующем порядке:
I. О-Пороромуа. 2. О-Пороро-мури. 3. Муреха. 4. Ухи-эйя. 5. О-Вирре-амма. 6. Таова. 7. О-Вирре-эрре-эрре. 8. О-Теарри. 9. Оте-таи. 10. Вареху.
II. Вахау. 12. Пиппирри. 13. Э-Унуну. 14. Уманну. Семь первых месяцев вместе называются Уру, или Время хлебного дерева. Но как они высчитывают месяцы, чтобы из них составлялся ровно год, это для меня до сих пор тайна. Можно предположить, что некоторые месяцы, скажем второй и седьмой,— дополнительные, так как их названия особенно сходны с названиями первого и пятого. Если это так, то их вводят каждый раз через некоторый период времени.
Каждый месяц состоит из двадцати девяти дней; во время последних двух дней они говорят, что луна умерла, так как ее тогда не видно. Отсюда следует, что они считают начало месяца не от настоящего времени конъюнкции, а от первого появления луны. Двадцать пятое число их тринадцатого месяца Э-Унуну пришлось на наше 3 июня — день, когда мы получили все эти сведения[439].
Таитянское наименование учителя, гахова, относится также к тем, кто сведущ в целебной силе трав, которые здесь используют для лечения всевозможных болезней. Однако нетрудно увидеть, что сия наука развита здесь еще очень мало: ведь им знакомы лишь немногие болезни, а значит, и нуждаются они в немногих и очень простых лекарствах.
Когда ученый Тутаваи довел свое объяснение до этого места, пришла пора поднимать якоря, и 4 июня в 10 часов утра мы покинули сей остров. Король Раиетеа Ууру, коему завоеватель О-Пуни передал титул и все внешние знаки королевского достоинства, посетил нас вместе с некоторыми из своих родственников, как раз когда мы собирались отчаливать. На борту был также О-Реа с семьей; явился попрощаться и Махеине со своими близкими. Сцена была необычайно трогательная. Добрые люди плакали от души, но больше всех — бедный Махеине, который, казалось, едва мог вынести столь сильную скорбь. Он бегал от одной каюты к другой и обнимал каждого, не в силах вымолвить ни слова. Его всхлипывающие вздохи, его взгляды и слезы не поддаются описанию. Когда корабль наконец пришел в движение, он вынужден был от нас оторваться и спуститься в свое каноэ; но когда все его земляки уже сидели, он продолжал стоять и не отрываясь провожал нас взглядом; наконец он опустил голову и закрыл лицо одеждой. Мы уже были далеко за рифами, а он все еще простирал к нам руки, и это продолжалось до тех пор, покуда мы его не перестали различать.
Так мы расстались с сим радушным народом, который при всех его несовершенствах можно, пожалуй, назвать более невинным и чистосердечным, чем иные другие, превзошедшие его утонченностью нравов и лучше образованные. Здешним жителям знакомы общественные добродетели и обязанности, и они верно следуют им. Добросердечие, которое проявлял честный Махеине при всяком случае,— довольно верное мерило, по коему можно судить вообще о характере всего народа. Не раз я видел, как многие из них истинно по-братски делили свой единственный плод хлебного дерева или несколько кокосовых орехов, как они довольствовались меньшими порциями, лишь бы только никто не остался обделенным! И это единодушное желание помочь ближнему отнюдь не ограничивалось мелочами; с такой же готовностью, с какой они помогали друг другу продовольствием, делились они одеждой и вещами немалой стоимости.
Даже с нами, чужими в их стране, они обходились самым любезным образом. Когда мы хотели выйти из шлюпки на берег или перейти с берега в шлюпку, они всегда вызывались перенести нас на спине, дабы мы не замочили ног. Часто они носили за нами диковины, которые мы купили, и обычно были готовы полезть в воду за подстреленными нами птицами. Когда нас заставал дождь или когда мы от жары и усталости иногда не могли идти дальше, они приглашали нас отдохнуть в своих хижинах и угощали нас всем самым лучшим, что имели. Гостеприимный хозяин в таких случаях скромно стоял в отдалении и не желал ни к чему прикоснуться, пока мы настойчиво его не приглашали. Другие домашние тем временем обмахивали нас ветками или листьями, чтобы нам было прохладнее, и на прощание нас обычно принимали в семью, объявляли в зависимости от возраста отцом, братом или сыном. При этом они полагали, что наши офицеры и все, кого они таковыми считали, должны состоять между собою в родстве примерно так же, как вожди и вообще знатные люди на всех островах Общества, образующие как бы одну семью. Эта ошибка заставляла их принимать за братьев также капитана Кука и моего отца, ибо при всех своих других способностях физиогномисты они были довольно плохие, что, впрочем, делает вдвойне ценными такие их добродетели, как гостеприимство, радушие и бескорыстие; сами они их вовсе не осознают, как бы предоставляя воздать должное их достоинствам благодарным иноземцам, здесь побывавшим.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ Плавание от островов Общества к островам Дружбы
Отплывая от Раиетеа [Раиатеа], мы дали залп из пушек в честь дня рождения его величества короля; для местных жителей это было, надо полагать, новое и дивное зрелище. За шесть недель, проведенных нами на Таити и на островах Общества, мы изрядно окрепли, совершенно избавились от цинги и желчной болезни. Зато у тех,
Who with unbashful forehead woo'd The means of sickness and debility[440],проявились признаки венерических заболеваний. Почти половина матросов оказалась заражена сей мерзкой болезнью; правда, она была здесь в общем не столь злокачественна, как в Европе. Махеине уверял нас, что она уже была распространена на Таити и островах Общества еще до того, как туда приплыл капитан Уоллис в 1768 году; он утверждал также, что его собственная мать умерла несколько лет тому назад на Бораборе [Бора-Бора] от этого недуга.
Таким образом, распространение венерических заболеваний в разных частях света до сих пор сплошь и рядом объясняли неверными причинами. Уже почти триста лет наши моралисты поносят испанцев, а наши врачи обвиняют их в том, что это они завезли к нам сию болезнь из Америки. Однако теперь неопровержимо доказано, что в Европе она была известна еще до открытия Америки[441]! Не менее поспешно принимались упрекать то английских, то французских моряков, будто они заразили добросердечных таитян тогда как те давно этой болезнью страдали и даже умели ее лечить. Более того, яд ее там, по всей видимости, уже ослаблен, как и в Южной Америке. Обычно, чтобы это произошло, эпидемия должна побушевать некоторое время; но, возможно, дело тут в здоровом климате и простой пище островитян. Впрочем, я далек и от мысли, что сия чума занесена в Америку из Европы. Нет! В этой части света ее могли вызвать те же причины, что и в нашей.
Распутство наших матросов с женщинами на Тонгатабу и на Маркизских островах, равно как и их общение с гулящими девицами на острове Пасхи, обошлось без печальных последствий. Отсюда, возможно, следует, что сии острова в настоящее время не заражены; я говорю: возможно, так как последствия эти могут проявляться, но могут оказаться и скрытыми. Это доказывает пример капитана Уоллиса. Он покинул Таити, не имея на борту ни одного венерического больного, хотя названная болезнь уже бушевала там вовсю. Наконец, не подлежит никакому сомнению, что новозеландцы были заражены ею еще до того, как европейцы вступили с ними в общение.
После полудня мы миновали остров Мауруа [Маупити], и попутный пассат понес нас на запад. В 6 часов утра мы увидели остров, который капитан Уоллис назвал островом лорда Хау [атолл Мопихаа, или Мопелиа]. Он состоит из невысоких коралловых рифов, и посредине у него внутреннее озеро. Судя по всему, это был тот самый остров, который жители островов Общества называют Мопиха. Согласно нашим наблюдениям, он расположен под 16°46' южной широты и под 154°8' западной долготы. Мы увидели здесь несколько пеликанов и олуш; людей, похоже, на острове совершенно не было.
К середине следующего дня ветер переменился и стал дуть нам навстречу. Всю вторую половину дня сверкали молнии, гремел гром, временами шел ливень. Ночью ветер утих, но, так как зарницы все еще вспыхивали, мы ради осторожности укрепили на верхушках мачт электрические цепи. В последующие три дня ветер был настолько слабый, иногда совсем неуловимый, что мы почти не продвигались вперед. Во время такого затишья мы развлекались, наблюдая за фаэтонами и крачками (Sterna stolida), кружившими вокруг корабля. Матросы поймали на крючок большую акулу, но, к великому их огорчению, она от них ушла, хоть в нее и успели выпустить три пули.
11 [июня] утром ветер усилился и опять понес нас на вест-зюйд-вест. Однако через два дня снова начался штиль, иногда он сменялся встречным ветром, а ночью то и дело сверкали зарницы. Все это время воздух и вода были полны живых существ: летали стаи морских птиц, плавали вокруг бониты, дорады [корифены], акулы и киты.
16-го рано утром мы увидели еще один низкий остров, а в 3 часа пополудни приблизились к нему вплотную и обошли кругом, но нигде не нашли бухты или места, удобного для высадки. Он состоял из множества мелких островов, соединенных между собою рифами и поросших деревьями, главным образом кокосовыми пальмами, которые придавали очаровательный вид этому маленькому клочку суши. Вокруг острова кружилось такое множество птиц, что мы вправе были счесть его необитаемым. Берег кое-где был песчаный, в таких местах любят откладывать свои яйца черепахи. Море здесь изобиловало вкусной рыбой. Мы назвали этот маленький приятный остров островом Палмерстона[442]; он расположен под 18°4' южной широты и под 165° 10' западной долготы.
Отсюда в продолжение четырех дней мы плыли на вест-зюйд-вест и 20-го пополудни увидели гористый остров; еще до захода солнца мы смогли различить на нем деревья. Ввиду близости суши мы всю ночь лавировали против ветра и лишь на рассвете опять повернули к берегу, а затем поплыли вдоль него на расстоянии 2 миль. Берег всюду был крутой и скалистый, однако у подножия скал то и дело виднелись узкие участки песчаного пляжа. Остров показался нам не особенно высоким; он нигде не поднимался над поверхностью моря выше чем на 40 футов, однако порос лесом и мелким кустарником.
В 10 часов мы увидели семь-восемь человек, бегавших по берегу. Они были темнокожими и нагими, лишь на голове и бедрах белые повязки; в руках каждый держал копье, палицу или весло. В расщелинах между скалами мы увидели вытащенные на берег маленькие каноэ, а на скалистом обрыве росло несколько невысоких кокосовых пальм. Этого уже было достаточно, чтоб нам захотелось высадиться. На воду были спущены две шлюпки с вооруженными людьми, и под их охраной на берег отправились капитан, доктор Спаррман, господин Ходжс, мой отец и я. Перед самым берегом шел коралловый риф, однако в нем удалось найти проход, где прибой был не такой опасный. Здесь мы высадились, перебрались на ближайщий утес и приказали нескольким матросам и морским пехотинцам занять на нем пост.
Скала, покрытая острыми битыми кораллами, поросла мелким кустарником, какой обычно встречается на этих низких островах. Кроме уже известных нам видов мы нашли здесь несколько новых растений, пробивавшихся из трещин в камнях, хотя там не было даже крупицы почвы.
Из птиц нам встречались кроншнепы, кулики и цапли — все того же вида, что и таитянские.
Пройдя шагов полтораста сквозь кустарник, мы услышали громкий крик и незамедлительно вернулись к утесу, где остались матросы. Там от капитана Кука мы узнали, что кричал он сам. Он поднимался вдоль глубокой и сухой расщелины, которую проложила стекавшая с гор вода, но, еще не добравшись до леса, услышал шум, словно кто-то упал с дерева. Капитан решил, что это кто-то из нас, и крикнул, давая понять, что находится рядом, но ответа не услышал и понял, что это индеец. Убедившись в своей ошибке, капитан счел за лучшее вернуться.
Мы стали кричать отсюда индейцам на всех знакомых нам языках Южного моря, что мы друзья, и звали их выйти на берег. Было слышно, как они некоторое время совещались и подзывали друг друга. Наконец в расщелине показался один из них. Вся верхняя часть его тела до бедер была выкрашена черной краской, на голове торчало украшение из перьев; в руке было копье. За его спиной слышались голоса множества людей, но их самих мы за деревьями не видели. Некоторое время спустя к нему присоединился еще один, на вид совсем молодой, безбородый и такой же черный; в правой руке он держал лук, похожий на те, что мы видели на Тонгатабу. Едва показавшись, он левой рукой бросил в нас большой камень, да так точно, что чувствительно поранил плечо доктору Спаррману, хотя находился от нас шагах в пятидесяти, не меньше. Не сдержавшись из-за сильной боли, мой друг поспешил выпустить в противника заряд дроби, но, к счастью, не попал. Тогда оба туземца исчезли и больше не показывались, хотя мы некоторое время еще не трогались с места. Наконец мы вернулись к шлюпкам и стали грести вдоль берега, не обращая больше внимания на местных жителей, которые, едва мы отплыли, тотчас показались на покинутом нами утесе.
Берег всюду был одинаков, поэтому нам стоило немало трудов найти другое место для высадки. Но едва мы вышли на остров, как люди, оставшиеся в шлюпке, закричали нам, что видят вверху на скалах, куда мы собирались взобраться, вооруженных дикарей. Так что пришлось нам грести дальше. Наконец мы добрались до места, где среди крутых скал имелся довольно широкий проход, через который можно было выбраться на остров. Вдоль берега, шагах в полутораста от него, тянулся плоский риф; в нескольких местах там могла пройти шлюпка. С этого рифа морские пехотинцы должны были обеспечить прикрытие нам с капитаном Куком.
В этом месте на берег были вытащены четыре каноэ, сделанные так же, как те, что мы видели на Тонгатабу, и тоже украшенные резьбой, но более простые и не такой чистой работы, как те. Они имели выносные поплавки (аутриггеры) из толстых брусьев; на некоторых были крыши из циновок, под коими лежали рыболовные снасти, копья и кусочки дерева, служащие, вероятно, факелами во время ночной ловли. В каждое из этих каноэ капитан положил подарки: стеклянные бусы, гвозди и медали. Но пока он этим занимался, я увидел, как из расщелины выходит группа индейцев. Мы тотчас отступили на несколько шагов.
Двое туземцев, раскрашенные, как уже было описано, черной краской и с украшениями из перьев на головах, с яростным криком побежали на нас, потрясая копьями. Напрасно мы пытались вступить с ними в дружеские переговоры. Капитан хотел выстрелить в них, но мушкет дал осечку. Ввиду явной опасности он попросил нас тоже открыть огонь, однако и наши мушкеты отказали. Решив, что мы беззащитны, индейцы еще более осмелели и бросили в нас два копья. Одно пролетело на волос от капитана Кука; к счастью, он успел вовремя наклониться. Другое пронеслось так близко от моего бедра, что черная краска, которой оно было намазано, испачкала мне платье. Мы попытались выстрелить еще раз; наконец мой мушкет сработал. Хоть он и был заряжен дробью, выстрел попал прямо в цель, пуля же господина Ходжса прошла мимо.
Наши выстрелы послужили сигналом матросам, оставшимся на рифе и оттуда открывшим заградительный огонь. Между тем они заметили, что, покуда мы отходили, другая толпа индейцев попыталась зайти нам в тыл и перерезать дорогу. Однако этому плану помешал осуществиться заряд дроби, который я выпустил по двум передним воинам; другие тоже остановились, и это дало нам время воссоединиться с нашими людьми.
Стрельба продолжалась все время, покуда мы видели индейцев. Особенно долго не могли успокоиться двое из них. Они стояли за кустами и, даже когда их товарищи уже ушли, все потрясали своими копьями. Наконец, видимо, их ранило, потому что они убежали вдруг со страшным криком. Тогда мы вернулись в шлюпки и решили более не связываться с этими людьми, которых никакие просьбы не могли побудить дружелюбно отнестись к нам. Возможно, сама природа, сделавшая их страну почти неприступной, обрекла их на необщительность. Весь остров, как вообще все низкие острова, состоял из одной коралловой скалы; мы видели на нем лишь несколько кокосовых пальм, других плодовых деревьев здесь вовсе не было. Однако я думаю, что внутренние местности острова не такие пустынные и там может расти немало съедобных растений. Вполне возможно, что посредине его находятся плодородные равнины, возникшие на месте постепенно высохшего внутреннего озера.
Землетрясение ли стало причиной того, что столь большая коралловая скала поднялась на 40 футов над поверхностью моря, или что-либо иное — на этот вопрос пусть ответят будущие физики[443].
Каноэ и оружие туземцев напоминают те, что мы видели на Тонгатабу; вероятно, у обитателей обоих островов общее происхождение. Однако число живущих здесь невелико, они еще очень нецивилизованны, дики и ходят нагими. Длина всего острова, видимо, около 3 миль, расположен он под 19° 1' южной широты и 169°37' западной долготы. Мы назвали его островом Дикарей (Savage Island) [Ниуэ][444].
Вернувшись к кораблю, мы подняли шлюпки и на другое утро поплыли под парусами на запад. Большой кит с высоким спинным плавником очень шумно пускал фонтан воды недалеко от судна, и, как всегда, сопровождали нас птицы и рыбы.
По нашим предположениям, мы находились неподалеку от острова А-Намока [Номука], или Роттердам (который относится к архипелагу Дружбы [Тонга] и был открыт Тасманом в 1643 году). Поэтому в ночь с 23-го на 24-е капитан приказал убрать паруса. Это оказалось весьма своевременной мерой, ибо уже в 2 часа утра мы услышали шум волн, разбивавшихся о берег, а на рассвете действительно увидели землю. Мы направились к ней.
Земля эта состояла из множества низких островов, образовывавших вместе большой риф. Другой такой же риф находился дальше к северу.. Мы взяли курс к самому южному острову. В 11 часов, когда мы находились еще на расстоянии морской мили от берега, оттуда нам навстречу отошло каноэ. Хотя в нем сидели только два человека, они совершенно спокойно гребли к нам, но, увидев, что корабля им не догнать, вернулись к берегу. Бросалась в глаза разница в поведении этих островитян и тех нелюдимых дикарей, с которыми мы познакомились незадолго до того. Мы могли убедиться наглядно, что сии острова по праву заслуживают названия островов Дружбы.
После полудня ветер ослабел, а ночью установился полный штиль. За это время течением нас поднесло так близко к рифу, что мы боялись на него наскочить. Но утром подул легкий ветерок, и скоро мы удалились от опасного места.
На следующий день мы прошли между рифами и низкими островами, образовавшими окружность, внутри которой море было совершенно тихое и гладкое. Эти острова были несколько повыше обычных коралловых; лес и группы деревьев придавали им очаровательный вид. Похоже, что на этих островах вообще ни в чем не было недостатка и что они довольно густо населены, ибо на берегу под деревьями уже виднелось несколько хижин. На восточной стороне одного из этих островов находился белый отвесный утес; на нем можно было различить как будто горизонтальные слои. Издалека он напоминал бастион разрушенного замка и имел вид тем более живописный, что внизу порос низким кустарником и высокими пальмами.
К полудню ветер утих, и островитяне воспользовались этим. В разных местах были спущены на воду каноэ. Хотя корабль находился от них в доброй морской миле, некоторые гребли так резво, что через час уже приблизились к нам. Подойдя к кораблю на расстояние примерно ружейного выстрела, они стали что-то выкрикивать и под эти возгласы подплывали все ближе.
В первом каноэ находились три человека, по виду совершенно похожих на жителей Эа-Уве [Эуа] и Тонгатабу (оба эти острова мы посетили в октябре 1773 года). Как только они подошли к кораблю, мы спустили им на бечевке бусы и гвозди. Они в ответ незамедлительно отправили на палубу связку бананов и несколько отменно вкусных пампельмусов (Shaddocks, или Citrus decumanus). К сему подарку была присовокуплена также ветка, полная красных плодов пальмового ореха, или пандануса (Athrodactylis), которые здесь, на островах Дружбы считаются символом мира. Таким образом, предварительные переговоры были как бы закончены, после чего они продали нам весь свой запас пампельмусов и других плодов, а потом и сами поднялись на борт.
Тем временем подоспели и другие каноэ. Туземцы отдавали нам свои товары с таким доверием, словно мы были знакомы давным-давно. Они сообщили названия всех соседних островов. Остров с высокими скалами назывался Терре-фечеа [Телекивавау], другой, чей вид показался нам таким живописным, они называли Тонумеа. Оба находились к востоку от нас; к западу же лежали острова Манго-нуэ и Манго-ити (Большой и Малый Манго), а к юго-западу — Намокка-нуэ и Намокка-ити (Большой и Малый Намокка). Первый из них Тасман наименовал также островом Роттердам.
После полудня опять подул ветер, и мы сразу поплыли к Намокке как к наиболее крупному острову. Чем ближе мы к нему подходили, тем больше каноэ приветствовало нас. Они спешили от окрестных островов с плодами, рыбой, поросятами и меняли все это на гвозди и старые тряпки.
Всюду между этими островами промерялась глубина; сперва лот показывал от 45 до 50 саженей, а по мере того как мы проходили дальше, 9, 12, 14 и -20 саженей. В 4 часа мы обогнули южную оконечность Намокки и стали примерно в миле от берега острова, где когда-то стоял на якоре и Тасман. Берег здесь поднимался над водой отвесно на высоту 15—20 футов и наверху переходил в совершенно плоскую равнину; только посредине ее была небольшая возвышенность. Своей крутизной он напоминал скалы острова Дикарей, от которого мы приплыли, однако лес здесь был выше, а над всеми деревьями возвышались гордые верхушки кокосовых пальм.
Пока мы становились на якорь, какой-то индеец стащил наш лот, оторвав его вместе с куском бечевки. Капитан по-хорошему попросил его отдать, но тот не обратил на его слова внимания. Тогда был дан выстрел по его каноэ, но и это не произвело на индейца впечатления; он спокойно поплыл к другому борту корабля. Мы повторили свое требование, и снова без результата; тогда пришлось подкрепить слова чем-то более основательным, то есть зарядом дроби. Это наконец подействовало; индеец подплыл на каноэ к носу корабля, где с борта свисал канат, и привязал к нему лот вместе с бечевкой. Однако его более разумных земляков это не удовлетворило, и они в наказание сбросили его с каноэ в воду, так что ему пришлось добираться до берега вплавь.
Из-за этой проделки меновая торговля на носу корабля была прекращена, но в других местах она продолжалась. Из съестных припасов мы получили от них кокосовые орехи, превосходный ямс, плоды хлебного дерева, бананы, пампельмусы и другие фрукты. Они принесли также живых, пурпурного цвета камышовых курочек (Rallus porphyrio)[445], а кроме того, кое-какие уже приготовленные блюда, например морского леща (Sparus), который завертывается в листья и запекается в земляной печи, таким же образом запеченный сорт волокнистых корней, питательная ноздреватая мякоть которых вкусна, как будто ее приготовляли в сахаре. За все это мы расплачивались с ними гвоздями разной величины и кусками ткани.
Каноэ этих индейцев, их вид, одежда, обычаи и язык — все здесь было такое же, как у жителей Тонгатабу. Возможно, местные жители кое-что знали и про нас, ведь Тонгатабу находится близко, и они могли слышать о нашем пребывании там в октябре прошлого года.
На другое утро, совсем рано, капитан Кук отправился на берег к той самой песчаной бухте, которую столь точно описал Тасман. Она закрыта рифом, на южной стороне которого есть узкий проход для лодок; однако в этом мелком месте всегда приходится ждать прилива. Капитан сразу же поинтересовался, можно ли найти тут пресную воду, и его привели к тому же самому водоему недалеко от берега, из которого брал воду и Тасман. По дороге он купил молодую свинью и имел возможность убедиться в особом гостеприимстве здешних жителей, когда одна из самых красивых девушек в знак дружелюбия стала делать ему галантные предложения. Он, однако, весьма вежливо отказался и, как только нашел место, удобное для того, чтобы наполнить водой бочки, поспешил вернуться на корабль.
А там уже собралось множество каноэ с женщинами, явно желавшими поближе познакомиться с нашими матросами. Но поскольку капитан строжайше запретил всем, страдавшим венерическими болезнями или только недавно от них избавившимся, выходить на берег, равно как допускать на корабль женщин, то всем этим девицам, которые довольно долго плавали вдоль судна туда-сюда, пришлось возвратиться ни с чем.
Сразу же после завтрака капитан Кук, доктор Спаррман, мой отец и я отправились на берег, куда туземцы принесли на продажу много пампельмусов и клубней ямса. Бананов и кокосовых орехов было поменьше, хотя мы видели на острове много таких растений. Мужчины ходили здесь почти совершенно нагими, все их одеяние по большей части состояло из узкой полоски материи вокруг бедер. Лишь немногие мужчины, а также все женщины носили нечто вроде юбки, то есть кусок цветной грубой материи из древесной коры, которая обертывалась вокруг бедер и доставала до ступней.
Едва индейцы заметили, что мы интересуемся продовольствием, как нас обступила целая толпа, наперебой предлагая свои товары; они кричали так, что мы ушли из этой рыночной толчеи и попытались пройти в глубь острова, чей плодородный вид вселял большие ожидания. Земля сама рождала обилие диких трав, а часто встречающиеся нам посадки деревьев делали весь остров похожим на сад. Плантации здесь были огорожены не со всех сторон, как на Тонгатабу, а лишь со стороны дороги, что делало весь вид более свободным. Внутренней части острова придавали особую живописность холмы, поросшие кустарником.
Дорога шла через луг. Кое-где по обеим сторонам она была обсажена высокими деревьями, стоявшими довольно далеко друг от друга, кое-где — цветущим, тенистым и благоуханным кустарником. Справа и слева сады чередовались с дикими зарослями. Дома были не более 30 футов в длину, 7—8 футов в ширину и приблизительно 9 футов в высоту. Устроены они были странно: плетенные из тростника стены стояли не вертикально, а к основанию несколько сближались друг с другом и редко имели в высоту больше 3—4 футов. Двускатная соломенная кровля выступала над боковыми стенами и вверху круто сходилась, так что в разрезе такой дом представлял собой пятиугольник. В одной из длинных боковых стен, примерно в 18 дюймах над землей, имелось квадратное отверстие со стороной 2 фута, и оно выполняло роль как двери, так и окна. Эти дома, видимо, также употребляются для хранения продовольствия, потому что в каждом мы нашли насыпанную на полу кучу клубней ямса, который, очевидно, составляет повседневную пищу островитян. Хотя это во всех отношениях неудобно, туземцы живут здесь как ни в чем не бывало, они даже спят на этом неровном ложе, постилая поверх клубней только несколько циновок. Привычка превозмогает все! Вместо подушек здесь тоже употребляются маленькие узкие скамеечки из дерева, какие таитяне ночью подкладывают себе под изголовье.
Кроме упомянутых жилых хижин имеются отдельно стоящие навесы, которые покоятся только на сваях, подобно тем, что мы видели на Тонгатабу. Но под ними люди укрываются, видимо, только днем, хотя на полу, как и в закрытых хижинах, всегда постилаются циновки. Мы встретили по пути много таких жилищ, однако людей в них видели редко, поскольку большинство ушли к месту торга.
Те же, кого мы встречали, были все очень вежливы; они обычно кивали головой и приветствовали нас дружелюбным «Лелей воа» (то есть «Добрый друг») или другими подобными словами. При надобности они были готовы оказать нам помощь, становились нашими проводниками по острову, взбирались на самые высокие деревья, чтобы сорвать нам цветы, и доставали из воды птиц, которых мы подстрелили. Часто они показывали нам красивейшие растения и говорили, как они называются. Если мы показывали им траву, которой хотели иметь побольше, они не жалели сил, чтобы принести ее из самых отдаленных мест. Они охотно угощали нас кокосовыми орехами и пампельмусами, постоянно предлагали свои услуги, несли за нами все, что мы собрали, как это было ни тяжело, а когда мы под конец давали им гвоздь, бусы или кусок ткани, считали себя вполне вознагражденными. Словом, они во всем проявляли предельную услужливость.
Во время этой первой прогулки мы попали к большому соленому , озеру недалеко от северной оконечности острова; в одном месте его отделяло от моря всего несколько шагов. В ширину оно имело около мили, в длину же 3 мили. Берега у него были приятные, но особую живописность ему придавали расположенные посредине три маленьких лесистых острова. Мы полюбовались с холма этим прелестным видом, красоты которого как бы удваивались, отражаясь в гладком зеркале вод.
Ни один из островов, где мы до сих пор побывали, не вмещал на столь малом пространстве такого множества красивых пейзажей, такого разнообразия чудесных благоухающих цветов! Озеро было полно диких уток, а на его лесистых берегах водились многочисленные голуби, попугаи, камышовые курочки и мелкие птицы, которых жители приносили нам на продажу.
В полдень мы вернулись к месту торга, где капитан Кук успел за это время приобрести большой запас плодов и кореньев, несколько кур и пару поросят. На борту корабля поторговали не менее удачно. Вся корма была завалена пампельмусами, отличавшимися превосходным вкусом, а ямсом запаслись так, что мы питались им несколько недель вместо обычных сухарей. Индейцы, особенно те, что приплыли на двойных каноэ с соседних островов, привезли также много оружия и домашней утвари.
Во время обеда мы заметили, что одного из наших людей, оставшегося на берегу, со всех сторон окружили индейцы. Он, казалось, был в замешательстве и знаками показывал, чтобы за ним прислали шлюпку. Никто, однако, не придал этому значения, и лишь после обеда несколько матросов отправились на берег за покупками. Проходя мимо места, где оставался бедняга, они увидели, что это наш лекарь Паттен, и сразу доставили его на борт. Оказалось, что все это время, пока он один оставался на берегу, его жизни угрожала опасность, потому что среди этого добродушного славного народа, как и среди более цивилизованных наций, тоже есть негодяи и нарушители спокойствия.
Один индеец, которому он пообещал бусы, вызвался провести его по острову. В пути ему удалось подстрелить одиннадцать уток, которых его провожатый нес за ним. Вернувшись к месту торга, он увидел, что все наши люди уже на корабле, и это его несколько встревожило. Индейцы, видимо, заметили его смущение, они стали собираться вокруг, явно желая воспользоваться его положением. Тогда он поднялся на скалу, находившуюся прямо против корабля. На ней-то мы его и видели с борта. Тем временем его проводник попробовал незаметно бросить несколько уток, но когда господин Паттен это заметил, поднял их опять. Индейцы подступали к нему все плотнее, некоторые даже грозили ему копьями, однако вид его ружья все-таки их сдерживал. Тогда они попробовали хитростью добиться того, чего не могли сделать силой, и подослали к нему женщин, которые всяческими соблазнительными позами и жестами попытались отвлечь его внимание и подманить его к себе.
Но его положение было слишком опасным, чтобы подобной уловкой они могли чего-то добиться.
В это время господин Паттен увидел плывущее от корабля каноэ; он окликнул сидевшего в нем островитянина и предложил ему свой последний гвоздь, если тот отвезет его на судно. Он уже собирался войти в каноэ, как вдруг у него выбили из рук ружье, отобрали уток (оставив ему только три штуки), и каноэ уплыло.
Легко вообразить себе, как он был ошеломлен и озабочен всем этим. Ему теперь не оставалось ничего другого, как взобраться опять на утес, утешая себя тем, что с корабля его уже заметили и поспешат на помощь. Однако индейцы увидели, что он теперь совсем беззащитен, и стали совершенно безбоязненно дергать его за одежду. Не успел он оглянуться, как у него уже утащили шейный и носовой платки. С этим бы он еще примирился; однако очередь дошла до сюртука, а некоторые из грабителей опять стали угрожать ему оружием. Уже готовясь к неминуемой смерти, он в величайшем страхе начал искать во всех карманах, нет ли там ножа или чего-нибудь еще, пригодного для защиты, однако не нашел ничего, кроме жалкого футляра для зубочистки. Он не медля открыл его и наставил, словно маленький пистолет, на толпу, которая, смутясь перед незнакомым предметом, отступила на несколько шагов.
Теперь при малейшем движении врагов он сразу угрожающе наставлял на них свое страшное оружие; но поскольку никто не спешил спасти его, изнемогающего от жары и усталости, он уже сомневался, что верный футляр для зубочистки еще долго сможет служить ему защитой, и готов был распрощаться с жизнью, когда ему вдруг пришла на помощь молодая стройная женщина. Ее волосы развевались, когда она отделилась от толпы и приблизилась к нему. Лицо ее дышало такой невинностью, добротой, нежностью и состраданием, что он сразу проникся к ней доверием. Она протянула ему кусок пампельмуса; увидев, что он принял его жадно и с благодарностью, она дала ему еще, пока он не съел весь фрукт.
Наконец от корабля отошли шлюпки; увидев это, индейцы поспешили скрыться. Лишь великодушная защитница да старик, ее отец, оставались около него без боязни и опасения, сознавая, что держали себя хорошо. Она спросила, как его зовут, он назвал себя на таитянский лад — Патине,— и тогда она сказала ему, что отныне возьмет это имя себе, хотя и переиначила его в Патеине. На прощание он одарил ее и ее отца всякими мелочами, какие сумел одолжить у матросов, и добрые люди, весьма довольные, вернулись к себе домой.
Господин Паттен, возвратясь на корабль, тотчас рассказал капитану Куку, что с ним произошло из-за отсутствия необходимой помощи. Однако в ответ ему было сказано, что он потерял ружье по собственной вине, ибо должен был вести себя осторожно и не доверяться туземцам. Между тем вся его неосторожность состояла в том, что он несколько задержался на охоте; такое не раз случалось и с другими, но обходилось благополучно.
После полудня мы съехали на берег каждый по своим делам. Мой отец в сопровождении единственного матроса ходил по всему острову, индейцы не сделали ему ничего плохого, и он вернулся к вечеру с множеством новых растений. Вообще больше не было никаких причин жаловаться на туземцев, если не считать нескольких случаев мелкого воровства, в коем они были не менее ловки, чем их собратья на Тонгатабу и на островах Общества.
Назавтра ранним утром мы увидели на северо-западе несколько островов, которые до сих пор из-за туманной погоды были неразличимы. Два западных казались гористыми, с остроконечными вершинами; но самым крупным был третий. Над ним поднимались густые испарения, а накануне ночью мы как раз в этом месте видели огонь. Индейцы рассказали нам, что огонь виден там все время, поэтому мы предположили, что это вулкан. Они называли этот остров Тофуа, а близлежащий остров с остроконечной горой — Э-Гао [Као][446]. Севернее этих островов мы смогли различить тринадцать низких островов, названия которых туземцы нам перечислили по порядку.
После завтрака мы опять поспешили заняться своими исследованиями на берегу, но не стали задерживаться у моря, где снова собралась толпа людей обоего пола. Первым из растений нам попался прекрасный вид лилии (Crinum asiaticum); этих ценных цветов мы встретили вскоре еще много. Дорога привела нас к месту, где наполнялись водой бочки. Это был тихий пруд длиной шагов в сто-полтораста и шириной в полсотни шагов. Вода в нем имела солоноватый привкус, так что, возможно, этот пруд был связан под землей с близлежащим соленым озером. Лейтенант Клерк[447], командовавший водоносами, рассказал нам, когда мы проходили мимо, как один индеец с большой ловкостью выхватил у него мушкет и убежал с ним.
Отсюда начинался темный лес из мангровых деревьев, окружавший берега соленого озера. Эти деревья занимают очень много места и чем дальше, тем больше переплетаются друг с другом. С них не падают, как с других деревьев, семена; они просто склоняются к земле плодоносными концами ветвей, пускают новые корни, и из земли поднимаются новые стволы, на коих опять появляются зеленые ветви.
Пока мы искали здесь новые растения, нам послышалось, будто трижды выстрелила пушка. Но так как деревья сильно заглушали звуки, мы приняли это за ружейные выстрелы, какие нередко случались по неопытности наших молодых, необученных стрелков.
Возвращаясь от этого соленого озера, мы прошли через сад, где нас дружелюбно приветствовали индейцы. Они пригласили нас сесть, но мы не стали задерживаться, ибо хотели еще поохотиться на уток, и поспешили к месту, где наполнялись водой бочки. Там нас встретил штурман Гилберт с известием, что три пушечных выстрела, как и мушкетные залпы, были сигналами, призывавшими нас вернуться ввиду возникшего раздора с индейцами. Капитан во главе отряда морских пехотинцев уже находился неподалеку. В стороне сидели на корточках два туземца, которые робко приветствовали нас возгласами «воа!», то есть «друг!». Поначалу мы решили, что поводом для недоразумения послужило похищение мушкета господина Клерка, и были удивлены, что оно вызвало такие грозные меры. Однако причина оказалась, в сущности, еще более мелкой.
Наш бочар, чинивший бочки, не уследил за своим теслом. Какой-то индеец улучил момент и убежал с ним. Чтобы вернуть ценный инструмент, каких на корабле было всего двенадцать, капитан тотчас велел захватить несколько больших двойных каноэ, хотя они принадлежали даже и не здешним жителям, а туземцам, приплывшим сюда ради торговли с близлежащих островов и, следовательно, никак не повинным в случившемся. Индейцы были озадачены, и это принесло плоды: они отдали мушкет Клерка.
Чтобы вернуть теперь тесло бочара, пришлось конфисковать еще одно каноэ. Находившийся в нем туземец, не зная за собой никакой вины, решил было защищать свою собственность: он схватил копье и замахнулся им на капитана. Но тот вскинул ружье и приказал индейцу бросить копье в сторону. Поскольку тот не проявил такого желания, капитан без промедления выпустил по нему заряд дроби. Расстояние было маленькое, и туземец от боли упал. Мало того, был дан приказ выстрелить из трех корабельных пушек, одна за другой в сторону самой высокой горы. Можно было ожидать, что индейцы поспешат скрыться, однако часть их, вполне полагаясь на свою невиновность, осталась на берегу, а несколько каноэ продолжали как ни в чем не бывало ходить вокруг корабля.
Особенно стоически проявил себя в этих обстоятельствах один индеец. На своем маленьком каноэ он встречал другие лодки, шедшие к нам от берега, выменивал на полученные от нас бусы и гвозди то, что ему больше всего нравилось, и продавал нам этот новый отобранный товар с немалой прибылью. Редкое каноэ могло добраться до нашего корабля без того, чтобы он его не обыскал; за это наши матросы прозвали индейца таможенным чиновником. Сей малый как раз находился у самого нашего корабля и вычерпывал набравшуюся в капоэ воду, когда футах в шести над его головой выстрелили пушки. Можно себе представить, как должен был испугать, едва ли не оглушить его внезапный грохот столь мощного выстрела. Но ничуть не бывало. Он даже не поднял головы и спокойно продолжал себе вычерпывать воду, а потом возобновил свой торг, словно ничего не случилось.
Прошло немного времени после того, как мы встретили капитана с его отрядом, когда тесло бочара, несчастная причина всего этого переполоха, было возвращено. Какая-то женщина средних лет, по-видимому пользовавшаяся уважением, послала за ним нескольких своих людей, и они принесли не только его, но и патронташ и дробовик господина Паттена, который, как можно было понять, был спрятан в воде.
Скоро несколько индейцев принесли нам на доске своего раненого земляка, который был, видно, без сознания. Поэтому сразу послали за лекарем господином Паттеном, а беднягу велели опустить на землю.
Туземцы тем временем стали возвращаться. Особенно старались восстановить мир и спокойствие женщины, но в их испуганных взглядах читался укор за столь жестокое с ними обращение. Наконец с полсотни их или больше уселись на зеленую траву и знаками пригласили нас сесть с ними рядом. Каждая красавица принесла несколько пампельмусов, которые они с дружескими и ласковыми ужимками разделили по кусочку между нами.
Среди женщин выделялась своей юной красотой приятельница господина Паттена. Кожа у нее была светлее, чем у других, сложение пропорциональное, черты лица на редкость правильные и приятные. Живые темные глаза ее сверкали, черные вьющиеся волосы ниспадали на плечи. Одежда ее представляла собой кусок коричневой материи, обернутой под грудью вокруг тела, а от бедер расширявшейся, и этот безыскусный наряд украшал ее лучше, чем могло бы украсить самое изысканное европейское платье.
Тем временем прибыл господин Паттен с необходимыми инструментами и перевязал раненого. Когда перевязка была готова, туземцы положили на нее вдобавок сверху банановых листьев, и мы предоставили им возможность лечить его дальше по-своему, только дали больному еще флягу водки, велев время от времени промывать ею раны. Бедняга натерпелся боли, ведь выстрелили в него с расстояния всего в несколько шагов, и там, куда попала дробь, все было словно растерзано; однако опасности для жизни не было, так как задета была только мякоть. Чтобы окончательно покончить дело добром, мы раздали всем бусы и после взаимных заверений в дружбе возвратились на корабль.
Жители этого острова столь же миролюбивы и притом столь же корыстолюбивы, как и жители Тонгатабу. Они не стали обижаться на наши поспешные действия, а продолжали, как прежде, торговать возле корабля. Казалось, народ этот был рожден для торговли. Каждый спешил обменять на что-нибудь наши товары и диковины. Особенно интересовали их молодые собаки, которых мы везли на борту с островов Общества, намереваясь выпустить их на тех островах, где этих животных прежде не было. Две пары собак мы оставили туземцам, и они обещали нам заботиться о них.
Здешние островитяне отличаются особой сноровкой в управлении своими каноэ, кроме того, они отменные пловцы. Обычные лодки, в коих подвозились к кораблю товары, были невелики, но тщательно сделаны и отлично отполированы, как я уже отмечал выше. Лодки с соседних островов были крупнее и соединены по две поперечинами, так что в иной могло поместиться до полусотни человек. Посредине была обычно устроена хижина, чтобы люди могли находиться в тени, а их товары, оружие и другие необходимые предметы не промокали. В полу этой хижины, образованном положенными поперек лодок досками, были оставлены отверстия, через которые можно было спуститься внутрь каноэ. Мачты были сделаны из крепких деревьев и при желании могли сниматься. Паруса — большие, треугольные, но мало приспособленные для поворотов. Вместо якоря они привязывали к концу крепкого каната несколько больших камней, которые удерживали лодку своей тяжестью.
Назавтра капитан уже собирался отплывать отсюда, поэтому после обеда мы сразу отправились на берег, дабы по возможности с толком использовать оставшееся время. Бродя по полям и рощам, мы собрали много ценных растений. Мы также накупили палиц, копий и всевозможной домашней утвари, вроде маленьких скамеечек, больших деревянных мисок и тарелок, а также несколько глиняных горшков, судя по виду, уже немало послуживших. Не так-то легко понять, зачем этим людям при их добродушном и миролюбивом характере столько оружия. Они, конечно, могли, как и таитяне, враждовать со своими соседями, но, судя по тому, как были украшены, в том числе резьбой, их палицы, это оружие не часто пускалось в дело.
На рассвете следующего дня мы снялись с якоря и взяли курс на остров Тофуа, где и этой ночью видели огонь вулкана. Целая флотилия каноэ еще несколько миль следовала за нами, предлагая напоследок одежду, утварь и украшения. Некоторые привезли нам рыбу разных видов, неизменно очень вкусную.
Остров Намокка, на коем мы провели всего два дня, лежит под 20° 10' южной широты и 174°32' западной долготы; он имеет в окружности не более 15 миль, но очень густо заселен. Он кажется наиболее значительным из близлежащих островов, также густо населенных и богатых растениями и плодами. Все они расположены на отмели, где море имеет в глубину от 9 до 60—70 саженей. Почва на них, видимо, везде одинакова. Намокка, как и Тонгатабу, состоит из коралловой скалы, покрытой слоем тучной, плодородной земли. Ввиду недостатка времени мы не смогли должным образом обследовать холм, находящийся посреди острова, хотя несомненно стоило бы выяснить, такого же ли он происхождения, как и остальная часть суши; хотя сейчас он и зарос кустарником, возможно, он порожден вулканом, тогда как остальная часть острова представляет собой коралловый риф.
Наличие водоема с большим запасом пресной воды дает здешним жителям существенное преимущество по сравнению с обитателями Тонгатабу. Однако купание здесь, видимо, не так распространено, как на Таити; что говорить, в тамошней проточной воде купаться лучше и приятнее, нежели в здешней стоячей. Впрочем, они прекрасно знают цену хорошей питьевой воде и потому, как и во времена Тасмана, приносили нам на корабль полные калебасы[448] ее, считая это достойным предметом для торговли. Несомненно, тому, что хлебное дерево и пампельмус встречаются здесь чаще, да и вообще все растения растут лучше, нежели на Тонгатабу, остров обязан как изобилию воды, так и плодородию почвы. Последнее во многом облегчает им обработку земли. Например, не нужно сооружать столько изгородей, как их соседям, хотя совсем без них они не обходятся. Длинные аллеи хлебных деревьев, превосходные зеленые лужайки под ними красотой напоминают самые плодородные места на Эа-Уве, или острове Мидделбург. Вьющиеся высоко растения, которые местами образуют над тропой как бы густолиственный свод, иногда бывают украшены чудными благоуханными цветами. То прелестный холм, то группа домов или деревьев, а порой и внутреннее озеро — все это складывалось в необычайно красивую картину. Еще больше оживлял и украшал ее вид повсеместного процветания жителей. Вокруг домов бегали куры и свиньи. Пампельмусов было так много, что никто их не собирал, хотя иные, перезрев, падали на землю и валялись почти под каждым деревом. Все хижины были полны клубней ямса. Словом, куда ни бросишь взгляд — всюду следы изобилия, и сей отрадный вид прогонял заботы и печали. Нам он доставлял тем большее наслаждение, что куплен был ценой трудного путешествия; ведь. чем тяжелее одно, тем, конечно, отраднее другое. Пусть не обессудят меня, если я без устали буду вновь и вновь возвращаться к впечатлению, какое производили на меня подобные места. Кто не любит говорить о том, что ему по душе? Господин Ходжс зарисовал пейзаж этого острова, который был выгравирован на меди для описания плавания капитана Кука, а также весьма точно изобразил усадьбу местного жителя и окружающую местность.
Обитатели сего дивного края ни в чем, по-моему, не отличаются от жителей Тонгатабу и Эа-Уве. Они среднего роста, хорошо сложены, упитанны, но отнюдь не тучны, с каштановой кожей. Их язык, лодки, домашняя утварь, татуировка, то, как они подстригают бороду и пудрят волосы,— словом, весь их вид и все обычаи совершенно совпадают с тем, что мы видели на Тонгатабу. Мы только не могли за краткое время своего пребывания здесь заметить какую бы то ни было систему субординации, которая на Тонгатабу, напротив, бросается в глаза, а в почестях королю достигает едва ли не степени крайнего рабства. На Намокке мы не встретили никого, кто бы пользовался особым почтением или имел власть над другими, если не считать мужчины, которого наши матросы прозвали таможенным чиновником, ибо тот досматривал все подплывающие к кораблю каноэ. Возможно, нечто подобное можно сказать о женщине, пославшей за украденными у нас вещами. Великодушная заступница господина Паттена была, пожалуй, единственной на острове женщиной, которая не подстригала волос, и, поскольку мы на всех других островах Южного моря замечали, что право отпускать волосы является особой привилегией женщин определенного ранга, возможно, и она была представительницей знатного сословия, что чувствовалось и по ее поведению.
Однако из того, что мы не заметили здесь признаков сословных различий, вовсе не следует, что у этих островитян не существует никаких определенных форм правления. Напротив, сходство с соседями, которые все имеют монархическую форму правления, вообще пример известных до сих пор островов Южного моря заставляет предположить, что и здесь существует подобное общественное устройство. А их необычное сходство с обитателями Тонгатабу может служить почти что залогом общего происхождения с ними. Возможно, они имеют и общие религиозные представления, хотя ни я, ни кто-либо из наших спутников нигде на острове не встречали ни файетук, ни чего-либо вообще такого, что имело бы хоть малейшее сходство с местами погребения, которых так много на Тонгатабу.
Прежние путешественники свидетельствуют, что между 170° и 180° восточной долготы[449] от Гринвича и между 10° и 22° южной широты лежит множество островов. Насколько мы теперь можем о них судить, все они населены одинаковым типом людей, говорящих на одном и том же диалекте, одинаково общительных и склонных к торговле. Так что все эти острова можно отнести к числу так называемых островов Дружбы. Все они густо населены, особенно те, на которых мы побывали. Тонгатабу весь производит впечатление сплошного сада. Эа-Уве, Намокка и близлежащие к ним острова тоже могут считаться одними из самых плодородных в Южном море. Можно предположить, что число жителей на всех этих островах составляет не менее 200 тысяч человек[450].
Здоровый климат и превосходные плоды позволяют этим людям совершенно не знать тех болезней, коим так легко подвержены мы, европейцы, а простота их понятий вполне отвечает непритязательности их нужд. В искусствах они достигли большего, чем другие народы Южного моря; в свободное время они занимаются резьбой и другими полезными ремеслами, а благозвучная музыка украшает их досуг. Сравнительно развитой вкус дает им еще одно преимущество: они лучше понимают и чувствуют цену телесной красоты, а это то самое чувство, что делает столь же приятными, сколь и долговечными нежнейшие человеческие отношения — взаимное влечение полов. Они, как правило, трудолюбивы, в отношениях же с чужеземцами скорее вежливы, нежели честны. Вообще стремление получить выгоду все больше вытесняет у этого народа подлинную сердечность, заменяя ее сухой вежливостью. Все это прямо противоположно характеру таитян, которые находят удовольствие в бездеятельности, но при этом слишком честны, чтобы стараться лишь произвести впечатление с помощью внешних манер. Зато на Таити и островах Общества есть много сибаритствующих эрриоев, чьи моральные устои изрядно подточены, тогда как на островах Дружбы пороки, порождаемые богатством, пока не распространились.
В полдень каноэ, сопровождавшие нас от Намокки, отстали и вернулись к различным низким островам, которые образуют кругом как бы множество плодородных и красивых садов. После полудня ветер ослаб и переменился, так что нас теперь сносило скорее в обратную сторону, чем несло вперед. Индейцы воспользовались случаем и опять появились рядом; они не жалели усилий, чтобы выторговать гвоздь или кусок ткани. К вечеру лодок прибыло так много, что они составили целую небольшую флотилию, и меновая торговля с обеих сторон пошла еще оживленней, чем прежде.
На другое утро каноэ появились опять, причем сразу же на рассвете; удовольствие было смотреть, как они подходили со всех сторон под парусами. Если ветер был попутный, они шли очень быстро, ибо у этих каноэ были хорошие ходовые качества, а большие треугольные паруса придавали им, особенно на отдалении, вид красивый и живописный.
Однако это продолжалось недолго; усилившийся ветер положил торговле конец. Мы покинули их и взяли курс к двум высоким островам, которые видели с места нашей стоянки. После полудня нас еще раз догнали три каноэ, на одном из которых было пятьдесят человек, и, покуда мы проходили узким проливом между обоими островами, они продали нам еще всяких товаров.
Больший из островов находился от нас к югу. На местном наречии он назывался Тофуа и, видимо, был обитаем. Некоторые индейцы, побывавшие у нас на борту, рассказывали, что там много пресной воды, кокосовых орехов, бананов и хлебных деревьев. Даже издалека можно было различить пальмы и множество казуариновых деревьев. Хотя земля в основном выглядела очень гористой, там не было недостатка в плодородных местах, поросших травами и кустарником. Скалы со стороны моря, казалось, были образованы лавой, а берег как будто покрыт черным песком. Мы подошли к острову на расстояние кабельтова[451], но нигде не смогли найти места, чтобы бросить якорь, так как глубина всюду была 80 саженей и больше. Пролив имел в ширину не более мили, а скалистый берег острова, открывшийся с этой стороны, был полон отверстий и пещер; кое-где камень напоминал колонны, впрочем довольно бесформенные.
Туман мешал как следует разглядеть собственно вершину острова, но было видно, что над ней поднимается довольно значительный пар. С этой стороны казалось, что дым вырывается с другого склона горы, но, когда мы добрались до другой стороны, нам стало казаться, что он поднимается с того склона, где мы были прежде! Подобный обман зрения позволяет заключить, что вершина горы полая и образует кратер, из коего и выходит пар[452]. На северо-западной стороне вершины, ниже облака, виднелось пятно, видимо недавно выжженное пламенем; во всяком случае, там совершенно не было заметно зелени, тогда как другие склоны поросли травой.
Когда мы находились в том месте, куда ветер нес дым, начался дождь, и многие из нас нашли, что вода, попадавшая в глаза, была жгучей и едкой. Вероятно, дождь захватил частицы, которые выбрасываются или испаряются вулканом. Зюйд-зюйд-ост, заметно покрепчавший, стал относить нас от этого острова столь быстро, что мы, так и не найдя подходящего места для якорной стоянки, не смогли даже издалека произвести многих наблюдений над вулканом. Это было тем более жаль, что как раз сие явление заметно влияет на земную поверхность и определяет многие перемены.
Мы плыли теперь на вест-зюйд-вест. На другой день, то есть 1 июля, около полудня, мы обнаружили остров, которого, судя по всему, еще не видел ни один мореплаватель. Тем более жадно мы устремились к нему и до наступления ночи подошли довольно близко, однако, остерегаясь прибоя, всю ночь лавировали против ветра, чтобы не подвергать себя опасности. Едва стемнело, как мы увидели на берегу множество огней — несомненный признак того, что остров был обитаем.
На другое утро мы снова приблизились к берегу и обогнули восточную оконечность острова. Он имел в длину около мили, на нем были два мягко сбегающих холма, поросших, как и весь остров, лесом. Один конец острова переходил в низкий мыс; на нем мы заметили красивую рощицу кокосовых пальм и хлебных деревьев, в тени которых стояли хижины. Берег был песчаный; с восточной стороны находился коралловый риф, отстоявший от берега примерно на полмили, а по концам уходивший в море почти на две мили.
Скоро на рифе показались пять мужчин с темно-коричневой кожей; вооруженные палицами, они пристально разглядывали нас. Но когда мы спустили шлюпку со штурманом, чтобы он поискал проход внутрь рифа, они поспешно сели в свое каноэ и вернулись на остров. Тем временем штурман миновал проход и вслед за индейцами направился к берегу, где их собралось уже около тридцати. Десять или двенадцать из них были вооружены копьями; тем не менее свое маленькое каноэ они предусмотрительно утащили в лес и, как только штурман вышел на берег, сами убежали оттуда. Он положил на песок несколько гвоздей, нож и медали, после чего вернулся на корабль доложить, что море в проходе очень глубоко, между рифом же и берегом — слишком мелко. В бухте он видел более дюжины плававших вокруг больших черепах, но, поскольку у него не было ни гарпуна, ни других орудий, он не смог раздобыть ни одной. Так что пришлось нам поднять шлюпку и распрощаться со всякой надеждой высадиться на этот остров для ботанических исследований. Отплывая, мы заметили на рифе несколько крупных коралловых скал, выступавших над водой футов на 15, узких и широких сверху. Землетрясение ли занесло их так далеко в море, в недрах которого они возникли, либо причина, породившая это явление, была иная, сказать не могу.
В нескольких милях к западу от этого острова мы встретили большой кольцеобразный риф, а внутри его озеро. Рассказ штурмана про изобилие черепах на острове заставил нас предположить, что они, возможно, есть и здесь; поэтому после полудня за черепахами были снаряжены две шлюпки, однако они вернулись ни с чем: на рифе не оказалось ни одной черепахи. Шлюпки пришлось опять поднять, и еще до темноты мы покинули эту новооткрытую землю, которую назвали островом Тартл [Ватоа][453]. Он расположен под 19°48' южной широты и 178°2' западной долготы.
Отсюда свежий пассат весь день беспрерывно нес корабль на вест-зюйд-вест, однако ночью мы легли в дрейф. На всем пути нас не сопровождали, как обычно, птицы, лишь иногда показывались олуша или фрегат. Хорошая погода, ямс с Намокки и надежда на новые открытия в сей неисследованной части Южного моря вселили в нас бодрость и хорошее настроение.
9 июля, достигнув примерно 176° восточной долготы и 20° южной широты, мы переменили курс и повернули на северо-запад. Вплоть до 12-го свежий попутный ветер не менялся, однако 13-го он начал слабеть, и стал накрапывать дождь как утром, так и вечером. В этот день исполнилось ровно два года с тех пор, как мы покинули Англию; матросы не преминули отметить сию дату по своему обыкновению, то есть с полными стаканами. У них осталось кое-что припасено от ежедневной выдачи водки, и они решили утопить все свои заботы и печали в гроге, сей Лете[454] моряков. Один из них, человек восторженного склада, как и в прошлом году, сочинил в честь этого дня духовную песню и, исполнив ее перед своими товарищами, обратился к ним с серьезным призывом покаяться, после чего, однако, сам к ним присоединился, взявшись за бутылку с той же страстью, с какой призывал к покаянию. Грех, как это бывает обычно, оказался сильнее его.
Два следующих дня дул свежий ветер, на третий день начался туман с дождем. 16-го мимо корабля проплыла калебаса, как будто возвещая нам близость земли, и несколько часов спустя, а именно в 2 часа пополудни, мы действительно увидели впереди довольно большой остров.
К ночи ветер усилился, волны швыряли нас из стороны в сторону. На беду, пошел такой сильный дождь, что вода сквозь палубу проникала в нашу каюту, промочив книги, платье и постели, так что ни о покое, ни о сне думать было нечего. Эта сильная буря и неблагоприятная погода задержали нас на весь следующий день, и дымка почти совсем скрывала землю, покуда мы лавировали у ее берегов. Все это было тем более неприятно, что как раз в этой части моря, которое всегда именуется Тихим, такой погоды меньше всего можно было ожидать. Отсюда видно, сколь мало следует доверять таким общим названиям. Как ни редки в этих местах бури или ураганы, их все же не назовешь чем то необычайным либо неслыханным. Особенно сильные ветры господствуют, видимо, в западной части. Когда капитан Педро Фернандес де Кирос покидал свою землю Святого Духа, когда господин Бугенвиль был на берегах Луизиады, а капитан Кук на «Индевре» обследовал восточное побережье Новой Голландии [Австралии], всех их встречали бурные ветры[455].
Возможно, причина в том, что в этой части океана лежат обширные земли; во всяком случае, известно, что близость гористых больших земель способна изменить направление даже пассатов, которые в жарких широтах дуют всегда в одну и ту же сторону.
На другой день погода прояснилась настолько, что мы смогли приблизиться к берегу. Теперь можно было различить два острова; это были острова, которым Бугенвиль дал названия Пятидесятница [Пентекост] и Аврора [Маэва]. Мы направились к северной оконечности последнего.
За те два года, что мы обследовали новооткрытые острова, мы не раз исправляли ошибки своих предшественников и опровергали старые заблуждения. Теперь мы начинали третий год с исследования архипелага, который французский мореплаватель из-за плохого оснащения своих кораблей и недостатка продовольствия смог осмотреть лишь бегло. Этому последнему году нашего плавания суждено было оказаться особенно щедрым на открытия; он вознаградил нас за оба первых года, хотя и в эти два года мы потрудились на совесть, ибо в большинстве мест, которые мы до сих пор посетили, наши предшественники оставили для нас немало такого, о чем мы могли рассказать впервые; что же касается людей и нравов, кои являются главной целью любого философского описания, то они многого вообще не увидели. Поскольку же новое обычно ценится больше всего, то дальнейший рассказ о последней части нашего плавания можно в этом отношении назвать самым приятным и увлекательным для читателя.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ Рассказ о пребывании на Малликолло и открытии Новогебридских островов
18 июля в 8 часов утра мы достигли северной оконечности острова Аврора [Маэво] и увидели там всюду, даже на самых высоких горах, множество кокосовых пальм. Вообще вся страна, насколько можно было различить сквозь туман, была покрыта лесом, что придавало ей дикий, но тем не менее приятный вид. Когда в одном месте туман несколько разошелся, мой отец увидел невысокий скалистый пик, который господин Бугенвиль назвал пиком Этуаль [остров Мера-Лава] или пиком д' Аверди, и мы с еще большей точностью смогли установить свое местонахождение.
В подзорную трубу можно было видеть людей; мы слышали даже их голоса. Обогнув северную оконечность острова, мы, насколько нам это позволял южный ветер, взяли курс вдоль западного берега на юг. Правда, все еще сильно штормило, но с этой стороны было по крайней мере спокойнее, поскольку вокруг лежали острова. Прямо против нас находился остров, названный Бугенвилем Лепро [Аоба], и весь день мы лавировали между ним и Авророй.
В 4 часа пополудни мы приблизились к первому из них на полторы мили. Облака не позволяли разглядеть гор, зато равнинная часть была видна очень ясно. Насколько мы могли судить, остров был очень плодородный. Берег прямо перед нами был весьма крут, а море в этом месте такое глубокое, что на 120 саженях мы не достали дна. Северо-восточная оконечность острова, напротив, была низкая и заросла деревьями. Особенно много было пальм; к нашему удивлению, они росли даже на горах, чего мы не видели ни на одном другом острове. С крутого, поросшего кустарником берега в море низвергались большие водопады, что делало это место похожим на романтический берег бухты Даски. На воде можно было увидеть спящих черепах, кои, невзирая на сильный ветер, преспокойно продолжали спать.
Чтобы пройти между островом Лепро и островом Аврора, мы лавировали всю ночь, продвигаясь к югу, и утром 8-го уже подошли вплотную к первому из них. Наконец один индеец отважился выйти в море на своем каноэ, а вскоре мы увидели, как еще трое спускают свои лодки в воду, собираясь плыть к нам. Другие сидели на скалах и смотрели на корабль оттуда. Некоторые из них с головы по грудь были выкрашены черной краской, при этом совершенно нагие, если не считать набедренной повязки и чего-то белого на голове. Лишь один из них носил кусок материи, который спускался наподобие орденской ленты с одного плеча к противоположному бедру и там опоясывался вокруг чресел. Он, видимо, был белого цвета, но довольно грязный и с красной каймой. Жители, все с темно-коричневым цветом кожи, вооружены луками и длинными стрелами. Те, что находились в каноэ, подплыли вплотную к нам и некоторое время говорили что-то громко и отчетливо, но язык их был нам совершенно незнаком. Более близкое знакомство оказалось невозможно, так как никто не желал подняться на борт. Когда мы, лавируя, опять повернули в сторону моря, они отстали от нас и возвратились на берег. Между скалами в разных местах были поставлены тростниковые плетни, вероятно чтобы ловить ими, как вершей, рыбу.
Тем временем мы совсем приблизились к острову Аврора и увидели, что он всюду покрыт прекрасным зеленым лесом. Вдоль берега тянется очень красивый песчаный пляж. Множество лиан вьется вокруг высоких стволов, переползая с дерева на дерево и как бы украшая их природными гирляндами и фестонами. На склоне холма огороженная плантация, а под ней сквозь кустарник низвергается пенистый водопад.
В 2 часа в море были спущены два каноэ, но они вскоре возвратились на берег, поскольку корабль, вынужденный лавировать, повернул в другую сторону.
Остров Аврора представляет собой узкую и длинную, вытянутую с севера на юг гору, довольно высокую и остроконечную. В длину он составляет примерно 36 миль, но в ширину нигде не бывает более 6 миль; центр его расположен под 15°6' южной широты и 168°24' восточной долготы. Остров Пятидесятницы расположен в 4° южнее и в длину, вероятно, такой же, а в ширину несколько больше. Центр его расположен под 15°45' южной широты и 168°28' восточной долготы. Остров Лепро, или Прокаженных, примерно такой же величины, как Аврора, только шире и расположен под 15°20' южной широты и 168°3 восточной долготы.
На островах Пятидесятницы и Лепро вдоль побережья больше равнин, чем на других, поэтому они лучше обработаны и на них больше всего жителей. Когда стемнело, мы действительно увидели перед хижинами множество костров, причем на острове Пятидесятницы огни поднимались до самых высоких вершин. Судя по всему, жители здесь занимаются больше земледелием, чем рыбной ловлей; здесь было видно мало лодок, да и крутой берег не особенно благоприятствует сему промыслу.
Остров, указанный на карте господина Бугенвиля южнее острова Пятидесятницы, показался перед нами на следующее утро. Он, однако, был окутан облаками, что не позволяло судить ни о его виде, ни о высоте. Весь этот день нам пришлось идти против ветра, однако буря немного утихла.
На другое утро погода улучшилась, прояснело, так что мы отчетливо могли видеть самый южный из островов, открытых господином Бугенвилем. Между ним и южной оконечностью острова Пятидесятницы есть пролив шириной около 6 миль. С южного острова в море выдается к востоку длинный низкий мыс, северный же берег, напротив, обрывается к морю очень круто, зато дальше вверх весьма полого поднимается к горе в глубине острова. Под облаками, окутавшими ее вершину, мы заметили густые скопления дыма, который, видимо, исходил из огнедышащей горы. Этот остров имеет в длину около 7 миль, центр его расположен под 16° 15' южной широты и под 168°20' восточной долготы. Еще в тот же самый день показался и самый юго-западный из открытых здесь Бугенвилем островов. Мы были рады возможности осмотреть такое множество разнообразных новых земель и направлялись к ним каждый раз с величайшей охотой. По нашим предположениям, здесь должен был находиться вулкан. Достигнув северо-западной оконечности острова, мы убедились, что это предположение было совершенно правильно. Отсюда хорошо были видны столбы белого пара, бурно поднимавшегося с вершины горы в глубине острова. Юго-западное побережье острова представляло собой большую равнину. Среди деревьев, равных которым по красоте мы не видели с тех пор, как покинули Таити, перед хижинами горело множество костров. Это тоже свидетельствовало о плодородии и густонаселенности острова.
Обогнув западную его оконечность, мы увидели на юго-востоке еще два острова. Один из них представлял собой весьма высокую гору, также напоминавшую вулкан, а дальше к югу находился второй остров с тремя высокими горами.
Западная часть острова, вокруг которого мы плыли, тоже была прекрасна. Зеленели великолепные леса, всюду виднелись кокосовые пальмы. Горы находились довольно далеко в глубине острова, поэтому между ними и берегом простирались равнины, обильно поросшие лесом и обрамленные у моря красивыми песчаными пляжами.
К полудню мы подошли довольно близко к берегу и увидели множество туземцев; они шли к нам вброд по пояс в воде. Один из них был вооружен копьем, другие — луком и стрелами, все остальные держали палицы. Несмотря на такое воинственное снаряжение, они махали нам зелеными ветками, что повсеместно считается знаком мира. Однако против их ожиданий и, возможно, вопреки их желанию нам в этот момент пришлось, лавируя, повернуть в сторону.
После обеда мы наконец решили пристать к берегу и послали две шлюпки разведать бухту, которую облюбовали с корабля. Она была прикрыта коралловым рифом, и на южной ее стороне собрались несколько сот индейцев. Некоторые из них шли навстречу нашим шлюпкам в своих каноэ, однако подойти к кораблю они не решались, поскольку он был еще далеко в море. Наконец со шлюпок нам знаками дали понять, что здесь хорошее дно для якорной стоянки. Мы вошли в бухту вслед за ними. У входа в нее были коралловые рифы; она была узкая и глубоко вдавалась в сушу. Наши штурманы поднялись на борт, и офицер рассказал нам, что индейцы на каноэ подходили к ним вплотную, не выказывая никаких враждебных намерений, напротив, махали зелеными ветками, зачерпывали пригоршней воду из моря и выливали ее себе на голову. Офицер расценил эту церемонию как знак дружбы и ответил им таким же образом, чем островитяне, по-видимому, были очень довольны.
Как только мы вошли в залив, они сразу приблизились к кораблю, размахивая, зелеными ветками, главным образом Dracaena terminalis и красивого Croton variegatum. При этом они беспрестанно повторяли слово томарр, или гомарро, имевшее, видимо, тот же смысл, что и таитянское тайо, то есть «друг». В то же время они были вооружены по большей части луками и стрелами, а некоторые и копьями, готовые, по-видимому, как к войне, так и к миру. Когда они подошли достаточно близко, мы бросили им несколько кусков таитянской материи, которую они приняли с большой радостью. В виде ответного подарка они передали на корабль несколько стрел. У первых наконечники были просто деревянные, но потом они передали нам стрелы с костяными наконечниками, намазанными каким-то черным, похожим на камедь веществом, которое мы сочли за яд. Чтобы удостовериться в этом, мы укололи такой стрелой в ногу молодую таитянскую собаку, по никаких последствий это не вызвало.
Язык сего народа настолько отличался от всех известных нам диалектов Южного моря, что мы не могли у них понять ни слова. Он звучал гораздо грубее, так как в нем часто встречались «р», «с», «ч» и другие согласные. Телосложение этих людей тоже было довольно своеобразное. Тощие, ростом не более 5 футов 4 дюймов и сложены непропорционально. Руки и ноги у них длинные и очень тонкие, цвет кожи темно-коричневый, волосы черные и шерстистые. Особенно странными казались черты лица: широкие, приплюснутые, как у негров, носы и выдающиеся скулы, а лоб маленький, иногда странной формы, площе, чем обычно бывает у людей. Можно к этому добавить, что лицо и грудь они раскрашивали черной краской, и это делало их еще безобразнее. У некоторых на головах были маленькие, сделанные из циновок шапочки, в остальном они ходили совершенно нагие. Вокруг бедер была повязана только бечевка, причем так крепко, что глубоко вдавливалась в тело. Почти все другие народы из чувства стыдливости придумали прикрывать свое тело одеждой, здесь же только половые органы мужчин были обернуты кусочком материи и так, в своей естественной форме подтянуты кверху и прикреплены к бечевке или поясу, что не только не прикрывало их, но, наоборот, выставляло, да еще в крайне непристойном, по нашим понятиям, положении.
С тех пор, как мы вошли в бухту, индейцы окружили корабль и переговаривались друг с другом весело и возбужденно, как будто выражая радость. Едва кто-либо из них появлялся, как сразу начинал болтать без умолку, да при этом еще скалил зубы — дружелюбно, но ничуть не лучше, чем Смерть у Мильтона[456]. Это, равно как и их тощее сложение, безобразие и черная раскраска, делало их совершенно похожими на обезьян. Мне было бы от души жаль, если бы господин Руссо и его поверхностные последователи сочли сии слова за подтверждение своей орангутанговой системы; напротив, по мне, достоин сожаления человек, способный так забыть самого себя, свой разум и снизойти чуть ли не до павиана[457].
Когда стемнело, индейцы вернулись на берег и разожгли там множество костров, вокруг которых продолжали громко переговариваться. Казалось, будто они не могут насытиться разговорами, ибо поздно вечером опять подошли к кораблю на своих каноэ с горящими факелами, дабы вновь побеседовать с нами. Что ж, с их стороны не было недостатка ни в словах, ни в желании — но тем хуже, однако, обстояло дело с нашей способностью ответить. Вечер был славный, безветренный, луна иногда выглядывала из облаков. Убедившись, что мы не столь разговорчивы, как они, островитяне стали предлагать нам на продажу свои стрелы и прочие мелочи; однако капитан, дабы избавиться от них, строго приказал не покупать ничего.
Для нас был необычным и новым вид индейцев, бодрствующих столь поздно ночью, да еще на воде. Некоторые из нас высказали мнение, что они просто хотели разведать, начеку ли мы, хотя до сих пор их поведение не давало повода для таких подозрений. Убедившись наконец, что мы расположены к торговле не больше, чем к разговорам, они в полночь вернулись на берег — однако вовсе не для того, чтобы спать. Всю ночь мы слышали, как они там пели, били в барабаны, а иногда и танцевали, что доказывает их природную склонность к веселью и удовольствиям.
И на другое утро нам также не было от них покоя. Уже на рассвете они приплыли на своих каноэ, стали звать нас, громко повторяя слово гомарр. Четверо или пятеро из них отважились без всякого оружия подняться на палубу. Они ходили по всему кораблю смело и беззаботно, даже вскарабкались с необычайной ловкостью по снастям на мачты до самой верхней марсовой корзины. Когда они спустились, капитан провел их в свою каюту и подарил медали, ленты, гвозди и куски красной ткани. Здесь они показали себя самыми смышлеными и толковыми людьми, каких мы до сих пор встречали в Южном море. Они так быстро и правильно схватывали наши знаки и жесты, как будто общались с нами бог весть с каких пор, и за несколько минут научили нас множеству слов своего языка.
Как мы и поняли с самого начала, он совершенно отличался от языка, распространенного, хотя и в виде разных диалектов, на островах Общества, Маркизских, Дружбы [Тонга], на низких островах [Туамоту], острове Пасха и в Новой Зеландии. Самым необычным в нем было бурлящее произношение звукосочетания бррр; звук этот производился губами. Так, одного из наших знакомцев звали Мамбррум, другого — Бономбрруаи. Желая выразить свое изумление, они издавали шипящий звук — примерно так шипят гуси, если их раздразнить.
Им хотелось заполучить все, что ни попадалось им на глаза, однако, получив отказ, они не огорчались. Особенно понравилось им маленькое зеркальце, которое мы им подарили. С огромным удовольствием они разглядывали в нем себя, показывая таким образом, что при всем своем безобразии они, возможно, нравились себе ничуть не меньше, чем более красивые обитатели Таити и островов Общества. В мочках ушей и в ноздрях у них были отверстия, куда они в качестве украшения втыкали тонкие палочки или даже по две палочки белого селенита или алебастра, связанных в форме тупого угла. Это украшение изображено на гравюре. На руках выше локтей они носят плетеные браслеты, усеянные белыми и черными ракушками. Их повязывают уже в детстве, и так крепко, что потом их уже нельзя снять через локти. Кожа у них мягкая, гладкая, темно-коричневого цвета, а лица с помощью черной краски делаются еще темнее. Волосы курчавые, шерстистые, но на ощупь не мягкие, борода густая, курчавая, но не шерстистая; татуировки на теле не было, да из-за черного цвета кожи ее на расстоянии и нельзя было бы заметить. Господин Ходжс воспользовался возможностью сделать несколько портретов этих людей; некоторые из них были выгравированы на меди для книги о плавании капитана Кука. Самое характерное в чертах лица схвачено там верно, жаль только, что художнику показалось необходимым набросить им на плечи драпировку, тогда как этим людям вообще незнакома какая-либо одежда. Их легко удалось уговорить посидеть спокойно, пока господин Ходжс87 их рисовал; казалось, они поняли, для чего это делается.
Беседа была в полном разгаре, и добрые люди, судя по всему, казались весьма довольными, когда в каюту вошел первый лейтенант и рассказал, что один из индейцев требовал допустить его на корабль. Ему отказали, потому что здесь и так было полным-полно народу. Тогда индеец нацелился из лука в матроса, который, находясь в шлюпке, оттолкнул его каноэ. Поняли ли находившиеся в каюте островитяне по выражению лица лейтенанта и по нашим лицам содержание его слов, или слуха их достигли голоса их товарищей возле корабля — сказать не берусь. Как бы там ни было, лейтенант еще не кончил рассказ, как один из индейцев уже выпрыгнул через открытое окно каюты в воду и поплыл к своему рассерженному земляку, чтобы его успокоить. Тем временем капитан вышел с заряженным мушкетом на палубу и наставил его на индейца, который, к неудовольствию своих земляков, все еще продолжал целиться в матроса. Увидев такое дело, этот малый нацелил свою стрелу в капитана. Тогда индейцы, находившиеся вокруг корабля, кликнули тех, что были в каюте, и, как мы ни старались их успокоить, они тоже один за другим попрыгали из окна, боясь, как бы строптивость земляка не обошлась им дорого.
Мы услыхали выстрел и поспешили на палубу. Капитан выпустил в парня заряд дроби, и несколько дробинок попали в него. Тот, однако, не испугался. Он совершенно хладнокровно отложил стрелу с деревянным наконечником и стал искать другую, должно быть отравленную. Едва он опять прицелился этой стрелой, как третий лейтенант выстрелил дробью ему в лицо, после чего тот потерял всякую охоту задираться дальше и поскорее поплыл к берегу. Зато вместо него выстрелил индеец, находившийся с другой стороны корабля, и его стрела воткнулась в среднюю мачту. В него послали пулю, но, к счастью, не попали. Тут все каноэ одно за другим поспешили к берегу, а индейцы, еще остававшиеся на борту, попрыгали, спасаясь, в море. Особенно испугался выстрелов индеец, который находился на марсе и не знал причины переполоха: с неописуемым проворством он прыгнул с мачты в море.
Чтобы нагнать побольше страху и показать свое могущество, мы выстрелили еще из пушки в сторону берега, по деревьям. Тут они побежали совсем уже без оглядки. Те, кто был ближе всего к нам, от страха попрыгали из каноэ в море и в величайшем замешательстве поплыли к берегу. Как только они до него добрались, с разных сторон послышался барабанный бой. Было видно, как бедолаги бегают туда-сюда, собираются группами в зарослях, очевидно совещаясь, что им предпринять в столь критических обстоятельствах. Мы же тем временем спокойно сели позавтракать.
В 9 часов опять показалось несколько каноэ, они сновали возле корабля; однако индейцы казались робкими и встревоженными. Мы помахали им веткой Dracaena terminalis, которую они накануне сами передали нам в знак мира. Увидев ее, они тотчас опустили свои руки в море, а затем возложили их на головы и приблизились, чтобы взять подарки, которые капитан спустил им с борта, и с ними вернулись на берег. Мы на двух шлюпках последовали за ними: капитан, мой отец, доктор Спаррман, я и еще несколько человек, а также отряд морских пехотинцев.
Шагах в тридцати от берега тянулся риф; за ним было так мелко, что пришлось выйти из шлюпок и добираться до суши вброд. Там наши морские пехотинцы выстроились перед индейцами, которых было не менее трехсот и которые были вооружены, но держались миролюбиво и приветливо. Мужчина средних лет, более высокого роста, чем остальные, и, судя по виду, вождь, передал свои лук и колчан другому, а сам безоружный спустился к берегу и протянул руку в знак дружбы и примирения. Затем он велел принести поросенка и передал его в подарок капитану — возможно, чтобы искупить поведение своих земляков, а возможно, чтобы подтвердить восстановление мира. Эта сцена зарисована господином Ходжсом и очень красиво выгравирована для книги о путешествии капитана Кука.
Когда с этим было покончено, мы дали им понять, что нам не хватает дров. Чтобы восполнить этот недостаток, мы показали им несколько деревьев у самой воды, которые тут же на месте велели срубить и распилить. Пляж в этом месте не шире пятнадцати шагов, так что в случае нападения мы оказались бы в весьма опасном положении. Чтобы обеспечить себе какое-то прикрытие, капитан Кук приказал провести черту и показал индейцам, чтобы те ее не переступали. Они соблюдали это условие, однако со всех сторон их собиралось все больше. У каждого был лук из темно-коричневой древесины, более гибкой и красивой, чем красное дерево. Стрелы находились в круглом, сплетенном из листьев колчане и представляли собой тростинки длиной 2 фута, обычно с наконечником длиной 12 дюймов из эбенового или похожего на него блестящего черного и ломкого дерева. У других наконечники были костяные, но более короткие, длиной 2—3 дюйма, вставленные в щель и укрепленные с помощью кокосовых волокон. Поскольку волокна наматывались крест-накрест, то в промежутках образовывались маленькие ромбовидные углубления, заполненные попеременно красной, зеленой и белой красками. Деревянные наконечники были очень острые и покрыты, словно лаком, смолистым веществом.
Доверившись вновь заключенному мирному союзу, мы решились переступить проведенную линию и оказались среди дикарей. В силу своей природной болтливости они тотчас залопотали друг с другом и с нами и начали обучать нас своему языку, очень удивляясь тому, что мы так быстро запоминаем слова, и, казалось, задумывались над тем, как возможно выразить звучание слов с помощью карандаша и бумаги. Насколько усердны они были, обучая нас своему языку, настолько интересовал их наш язык; они очень точно, с достойной восхищения готовностью повторяли все, что мы им говорили. Желая получше испытать подвижность их органов речи, мы попробовали предложить им самые трудные знаки из всех европейских языков, например русское щ, однако они не споткнулись даже на нем и с первого же раза без труда и ошибок повторили. Едва мы сообщили им название наших чисел, как они очень быстро повторили их на пальцах; короче говоря, все их телесные недостатки вполне восполнялись остротой ума.
Мы захотели приобрести кое-что из их оружия, однако они не проявили склонности уступить его нам. Но все их колебания прекратились, едва мы предложили взамен носовые платки, куски таитянской материи и английской ткани. На товары, имевшие в их глазах особенно большую цену, они скоро стали обменивать обычные и, наконец, даже отравленные стрелы, однако предупредили нас, чтобы мы не касались их острия пальцем, так как малейшая рана, нанесенная ими, смертельна; другими можно попасть в руку, и это не будет опасно для жизни. Когда мы делали вид, будто, несмотря на это предостережение, хотим пощупать острие, попробовать пальцем, насколько оно остро, они всякий раз с искренней тревогой отдергивали нашу руку, точно остерегая нас от неминуемой опасности.
Кроме луков и стрел на правом плече у них на толстом, сплетенном из травы шнуре висела палица из казуаринового дерева. Как и все их деревянные орудия, она была очень тщательно отделана и красиво отполирована, в нижней части обычно имела утолщение, но была длиной не более 3,5 фута. Ее, видно, пускали в ход в настоящей рукопашной схватке, когда стрелы иссякали. На левой руке островитяне носили круглую дощечку, обтянутую соломой и крепко привязанную к сгибу пальцев. Она имела в поперечнике около 5 дюймов и служила для защиты руки от удара спущенной тетивой. Однако эти деревянные машкеты, как их можно было бы назвать, а также упомянутые выше украшения (браслеты из ракушек, камень, продеваемый в нос, и раковины, какие они носят на груди) слишком высоко ценились, чтобы служить предметом обмена.
Недалеко от берега, где наши люди валили деревья, мы отыскали несколько новых растений. Тем больше сокровищ хранили, видимо, внутренние области острова, который производил впечатление одного сплошного леса. Доктор Спаррман и я обнаружили тропу, по которой можно было пройти довольно незаметно, прячась за кустарником. Мы так и сделали и уже через первые двадцать шагов нашли два прекрасных новых растения. Однако не успели мы спрятать свою ботаническую добычу, как из леса вышли несколько индейцев и знаками дали нам понять, чтобы мы вернулись к берегу. Мы показали им сорванные растения и жестами, как могли, постарались объяснить, что просто ищем травы. Но это не помогло, они настаивали, чтобы мы ушли из леса, и во избежание неприятностей нам пришлось вернуться обратно.
На этом участке леса деревья стояли плотно и заросли низким кустарником, но дальше лес казался более редким. Судя по тому, что оттуда доносились голоса женщин и детей, там, возможно, находились плантации или жилье. Поэтому нам было крайне жаль, что нас обнаружили в такой неподходящий момент. Под деревьями в лесу мы не нашли ничего нового, однако много неизвестных пород могло быть в так называемом подлеске. Что здесь были кокосовые пальмы, бананы, хлебное дерево и другие ценные деревья, мы не сомневались, ибо видели их еще с корабля и уже знали, как они называются на местном языке.
Во время нашего недолгого здесь пребывания капитан Кук попросил у человека, которого считал вождем, свежей воды, и ему тотчас принесли полную калебасу. Вода была очень чистая и прозрачная, ее подали капитану вместе с кокосовым орехом. Но, кроме этой маленькой порции, получить ничего не удалось.
У некоторых островитян с руки свисали маленькие пучки некоей травы, относящейся к новому семейству Evodia и имеющей благоуханные цветы. Чтобы исследовать это растение, мы сняли с их рук несколько пучков, что одни позволили сделать без возражений, другие, напротив, вырвали у нас траву и отбросили с таким недовольным видом, словно это было теперь что-то подозрительное или зловредное. Мы попробовали семена этой травы на вкус, они были приятны и ароматны; не было никаких причин считать эти растения ни ядовитыми, ни просто вредными для здоровья. Почему же индейцы с таким неистовством вырывали их у нас из рук? Понять сие трудно — разве что это растение считается знаком вражды или вызова, подобно тому как некоторые другие растения считаются знаками дружбы и мира[458].
Наступила пора отлива, и вода отошла от берега так далеко, что посуху можно было дойти до рифа, где вокруг наших шлюпок собралась толпа индейцев, желавших менять вещи. Таким образом мы могли оказаться в некотором окружении. Потому части морских пехотинцев было приказано образовать фронт в сторону суши, а другой части — в сторону моря, хотя индейцы не выказывали в отношении нас никаких враждебных намерений. Так что мы беззаботно продолжали свои беседы, да и они без умолку болтали между собой; шум стоял сильнее, чем на самой большой и людной ярмарке.
Вдруг все разговоры смолкли и наступила мертвая тишина. Мы озадаченно переглянулись, в испуге осмотрелись вокруг и ради осторожности присоединились к солдатам. Дикари были смущены не меньше; казалось, они сами опасались какой-то беды, но, увидев, что мы держимся вполне спокойно, стали опять болтать, и за несколько минут всякая настороженность с обеих сторон исчезла.
Ничтожное обстоятельство, послужившее причиной этой тревожной тишины, в то же время красноречиво доказывало, как хорошо эти люди были настроены по отношению к нам. Дело в том, что один из матросов велел какому-то индейцу пустить как можно выше в воздух стрелу. Тот уже готов был это сделать, натянул тетиву, но некоторые из его земляков испугались, что мы неверно истолкуем этот выстрел, начали его отговаривать, а заодно громкими возгласами призвали поберечься остальных. Поэтому вдруг и наступила общая тишина. Вообще вся эта сцена могла бы дать тему как поэту, так и живописцу. Выражение испуга и ожидания, мелькнувшее на всех лицах, дикие, опасливые взгляды, мрачные, угрожающие мины, сияющие отвагой глаза, бесконечное разнообразие поз, характерных движений, когда каждый потянулся к своему оружию, природа, группы индейцев — словом, все вместе составляло сюжет, достойный исторической картины.
Когда переполох утих, наши дровосеки вновь принялись за работу, немало восхищая индейцев своей сноровкой. Показалось и несколько женщин, однако все они еще держались в некотором отдалении от намеченной нами черты. Они были маленького роста и притом самой безобразной наружности, какую мы только встречали в Южном море. На взрослых, вероятно замужних, были короткие куски материи или циновки, достававшие от бедер до колен. Иные носили только шнур вокруг тела с повязанными на нем соломенными жгутами; они, как передник, прикрывали, во всяком случае, самое необходимое. Дети же без различия пола до десяти лет ходили совершенно голые. Некоторые женщины посыпали волосы желтой пудрой из куркумы, другие раскрашивали этой краской лицо, иные даже все тело, что неприятно контрастировало с темным цветом их кожи. Здесь это, конечно, считалось красивым, ибо вкусы людей бесконечно разнообразны. Сей желтый грим, если его можно так назвать, составлял все украшение женщин; во всяком случае, мы не видели больше ничего: ни ушных колец, ни ожерелий, ни браслетов. Похоже было, что до таких украшений здесь падки лишь мужчины. Обычно это служит признаком презрения к женщинам, кои живут в величайшем рабстве. Видимо, так оно было и здесь. На спине женщины носили большие узлы, а в них ребенка, иногда даже не одного, что при их и без того хилом сложении производило тяжкое впечатление. Мужчины не выказывали им никакого уважения, они даже не позволяли им подойти к нам поближе, и женщины держались соответственно: они убегали, когда мы к ним приближались.
К вечеру большая часть толпы разошлась, вероятно чтобы поесть. Вождь пригласил капитана в свою лесную хижину, однако тот не принял приглашения. Побыв еще немного на берегу, он к 11 часам вместе с нами вернулся на корабль. Туземцы спокойно пропустили нас, но оставались на берегу, пока мы не достигли корабля. Господин Бугенвиль на острове Лепро столь же легко не отделался; там индейцы держались дружелюбно лишь до тех пор, пока его люди не сели в шлюпку, а потом обстреляли их из луков, на что те ответили ружейным залпом, так что несколько индейцев упали на землю. Поскольку эти острова расположены близко друг от друга и господин Бугенвиль был там всего несколько лет назад, вероятно, и здешние жители кое-что слышали о могуществе европейцев; потому и держались с нами осторожно.
Сразу после обеда капитан Кук и мой отец отправились на берег, на северную сторону бухты, чтобы забрать наш якорный буй, украденный туземцами, и, как мы могли видеть через подзорную трубу, утащенный ими в ту сторону. Все это время на южном берегу бухты, где мы высаживались утром, не было видно ни одного индейца. Из леса, однако, слышалось хрюканье свиней; очевидно, на острове имелся кое-какой скот.
Как только наша шлюпка отошла, несколько каноэ с индейцами, желавшими торговать, подплыли к борту. До позднею вечера они привозили на продажу луки, стрелы, палицы и копья и уступали их за небольшие куски ткани. Их каноэ были не более 20 футов в длину, однако плохо сработаны и без украшений, но с выносными поплавками, или противовесами (аутриггерами). Мы насчитали их всего не более четырнадцати, из чего можно было заключить, что рыбная ловля для здешних жителей значит немного.
Капитан с моим отцом вернулись на борт еще до захода солнца. Туземцы спокойно позволили им забрать якорный буй. Правда, некоторые принадлежности к нему пропали, но их легко можно было заменить. Индейцы, жившие на том берегу, скоро начали торговать с нашими людьми; однако они не хотели продавать ничего, кроме оружия и украшений, да и в обмен получали лишь незначительные мелочи.
Одна старуха отдала украшение, которое здесь обычно вдевают в нос. Оно состоит из двух полупрозрачных клиновидных кусочков селенита, связанных острыми концами с помощью стеблей травы. Толстый конец в диаметре имеет около полудюйма, а в длину каждый составляет три четверти дюйма. Сию ценную вещь она вынула из собственного носа. Вообще это громоздкое украшение, выкрашенное черной краской, можно было назвать во всех отношениях безобразным.
Наши люди хотели раздобыть съестного, но, несмотря на все их старания, индейцы ничего подобного на продажу принести не пожелали. Возможно, товары наши казались им не так хороши, чтобы отдавать за них продовольствие, которое всюду составляет истинное богатство народа. Так к нему относятся при меновой торговле все народы Южного моря, и по тому, каким количеством съестного оплачивали они наши товары в зависимости от их полезности, можно было почти всегда довольно точно судить о богатстве народа и о плодородности страны.
Пользуясь случаем, наши люди прошли еще вверх к месту, где заканчивался мыс, огибавший бухту, и увидели там огороженные плантации бананов, хлебного дерева, кокосовых пальм и других растений, а неподалеку — несколько бедных маленьких хижин. Это были просто навесы из пальмовых листьев, покоившиеся на нескольких сваях, однако такие низкие, что под ними нельзя было стоять прямо. Поблизости в траве бегали свиньи и домашняя птица. Жителей, казалось, не обеспокоил нежданный приход чужих гостей; вообще они проявили к нам меньше любопытства, чем их земляки, с которыми мы имели дело утром. Их было немного, и они казались не особенно довольными тем, что капитан Кук дошел до их домов, но свое недовольство не выражали какими-либо открытыми действиями.
От этих хижин наши люди дошли до конца мыса, откуда на востоке были видны три острова. Они спросили у своих спутников-индейцев, как называются эти острова, и те сказали, что самый большой, на котором мы заметили вулкан, называется Амбррим [Амбрим], другой, с высокой горой, напоминавшей по форме сахарную голову,— Па-ум [Паама], а самый южный—Апи [Эпи]. Потом они показали на мыс, где сами стояли, и спросили, как называется на здешнем языке их собственный остров. Малликолло [Малекула] — ответили те. Это название было так похоже на Маниколло (как назвал капитан Кирос в описании своего плавания 160 лет назад один из островов), что несомненно речь шла об одной и той же земле. Небольшое расхождение в звучании связано было, скорее всего, с тем, что капитан Кирос, по его собственным словам, не был тут сам, а лишь слышал об этой земле от индейцев[459]. Как бы то ни было, из истории его плавания можно заключить, что земля, которую он назвал Землей Святого Духа (Тьерра дель-Эспириту-Санто), есть не что иное, как один из островов архипелага, где мы сейчас находились [остров Эспириту-Санто, или Мерена]. С этой точки зрения открыть название Малликолло было для нас очень важно.
На обратном пути кто-то из наших людей нашел на берегу апельсин — явное доказательство того, что сведения, которые Кирос сообщает о продуктах, производимых на открытых им землях, заслуживают такого же доверия, как и все остальное, о чем он рассказывает. В данном случае мы были вправе составить о Малликолло самое лестное представление, ибо он славил сей остров как особенно богатый всевозможными дарами природы. Наши люди показали этот фрукт индейцам, и они тотчас сказали им, как он называется на их языке. На островах Дружбы мы встречали пампельмусы (шеддок), но апельсинов до сих пор не видели ни на одном из островов Южного моря[460].
Капитан велел шлюпке пройти около двух миль в глубь бухты. Берег там зарос мангровыми деревьями, но пресной воды не было видно нигде, хотя, наверное, между деревьями в море стекал ручей. Обнаружить его не удалось, потому что просто невозможно было продраться через эти заросли, где ветви, свисая, пускают новые корни и переходят таким образом в новые стволы, не отделяясь от материнского дерева. В тот день до вечера держалась жара, и наши люди вернулись на борт крайне утомленные. По пути они слышали бой барабанов и видели, как индейцы под этот бой танцуют на берегу возле костров. Музыка, подобная той, что мы слышали прошлой ночью, была неблагозвучна и однообразна, зато она казалась более живой, чем на островах Дружбы.
Ночью наши люди попробовали ловить рыбу, и довольно успешно. Особенно кстати нам пришлась девятифутовая акула, ибо из свежих съестных припасов у нас оставалось лишь немного клубней ямса, которые мы употребляли вместо хлеба. Другой матрос поймал индейскую прилипалу (Echeneis naucrates) почти двух футов в длину, третий — двух больших красных морских лещей, похожих на тот вид, что Линней называет Sparus erythrinus. Одной из этих рыб матрос угостил своих товарищей, другую подарил лейтенантам. Капитану досталась часть акулы, которую мы и поели на другой день. Таким образом, вся наша команда получила немного свежей еды. Правда, акулье мясо нельзя назвать лакомством, но все-таки оно было лучше нашей обычной солонины; нужда заставила нас счесть его даже вкусным. Ведь превращает же сей строгий воспитатель во вкусную еду для гренландцев китовый жир, а для готтентотов — отвратительные грязные потроха!
Когда акулу вскрыли, в ней нашли костяное острие, вероятно, отравленной стрелы, застрявшее глубоко в голове. Она пронзила насквозь череп, но, несмотря на рану, акула вела себя так, будто и не была ранена. На этом наконечнике оставалось еще немного дерева и кокосовых волокон, но они уже так истлели, что рассыпались от малейшего прикосновения. Похоже, яд, который якобы содержался в этих стрелах, для рыб не был смертельным.
На другое утро мы снялись с якоря и покинули этот остров. За короткое время мы едва успели сделать план здешней гавани. Как показали астрономические наблюдения, она расположена под 16°28' южной широты и 167°56' восточной долготы и получила название бухта Порт-Сандвич. Не успели мы выйти за риф, как наступил штиль. Пришлось спустить шлюпки, которые отбуксировали нас в открытое море, затратив на это немало времени и труда. Индейцы воспользовались случайной отсрочкой и на четырнадцати каноэ привезли нам еще множество оружия в обмен на таитянскую материю, которая им очень нравилась. Мы и на сей раз потребовали от них продовольствия, но они расположены были к этому так же мало, как накануне, и не соглашались отдать нам ничего, кроме этих вещей, без которых им легче было обойтись или которые они без особого труда могли сделать.
К полудню мы наконец вышли из бухты, и поднявшийся ветер стал уносить нас от Малликолло. Теперь мы держали курс на Амбррим, то есть на остров, где видели огнедышащую гору. Могли бы мы получить продукты, если бы пробыли здесь подольше и ближе познакомились с местными жителями, сказать трудно; думается, все равно вряд ли, потому что о пользе наших железных изделий они не имели пока никакого представления, а других товаров за их продовольствие мы не могли им предложить.
Остров Малликолло вытянут с севера на юг и имеет в длину около 20 морских миль; гавань, где мы останавливались, расположена на его юго-восточной оконечности. В глубине острова лежат высокие, покрытые лесом горы, с которых, видимо, стекают хорошие источники и ручьи, хотя из-за густых мангровых зарослей мы не смогли до них добраться. Земля там, где мы могли ее видеть, жирная и столь же плодородная, как на островах Общества. Поскольку на соседнем острове Амбррим находится огнедышащая гора, можно предположить, что остатки, вулкана есть и на Малликолло. Растения на такой почве и в здешнем климате произрастают, видимо, хорошо и в большом разнообразии, и полезных растений здесь не меньше, чем на других островах Южного моря. Кокосовые орехи, хлебное дерево, бананы, ямс, корни Arum[таро], куркуму и апельсины мы покупали здесь сами и узнали от местных жителей, как называются эти плоды.
Домашние животные представлены здесь свиньями и курами, однако наше присутствие расширило этот перечень, поскольку мы оставили на Малликолло для разведения пару молодых собак с островов Общества. Индейцы выказали по этому поводу необычайную радость, но дали этим животным то же название, каким на их языке обозначают свиней (брооас). Очевидно, собаки для них оказались совершенно новыми, неизвестными животными. Других четвероногих мы за время нашего короткого пребывания здесь не встретили, однако вряд ли на острове, столь далеко отстоящем от материка, таковые вообще водятся. Зато в лесах много разных птиц, часть которых наверняка еще неизвестна натуралистам. Более близко изучить животный и растительный мир нам не позволила кратковременность стоянки, ведь мы провели на острове всего один день, причем главным образом на бесплодном побережье.
Куда более странными, чем природные продукты этой страны, выглядят ее обитатели. Насколько можно судить по толпе, что встретила нас в Порт-Сандвиче, число их довольно значительно, однако, если принять во внимание размеры острова, его не назовешь особенно густонаселенным. По-моему, самая высокая цифра, какую можно предположить,— 50 тысяч, и живут они не только в низменных областях страны, как на Таити, а расселены но площади более чем в 600 квадратных миль. Вообще Малликолло представляет собой как бы один большой лес; лишь несколько участков среди него выкорчеваны и обработаны, но подобные обитаемые места рассеяны в нем, как маленькие острова в просторах Южного моря.
Если нам когда-либо удастся проникнуть сквозь мрак, каким окутана история сего народа, то, скорее всего, окажется, что они появились в Южном море позднее, нежели обитатели островов Дружбы или Общества. Во всяком случае, очевидно, что они совсем иного происхождения; это доказывает как их вид, так и язык и нравы. Кое в чем они, видимо, сходны с жителями Новой Гвинеи и Папуа, во всяком случае у них такая же черная кожа и такие же шерстистые волосы[461]. И если климат действительно влияет на людей до такой степени, как это утверждает граф Бюффон, то Малликолло заселен не так давно, поскольку у здешних жителей со времени их переселения в эти более мягкие широты не уменьшилась ни первоначальная чернота кожи, ни шерстистая курчавость волос. Я, со своей стороны, считаю, что климат не оказывает столь общего и явного влияния, и называю данную причину лишь, предположительно, но готов отказаться от нее в пользу другого, более вероятного мнения.
К сожалению, Новая Гвинея и соседние с ней острова, единственные земли, исследование которых могло бы пролить на данный вопрос какой-либо свет, еще мало изучены, а что касается до их жителей, то они почти совсем еще нам неизвестны. Немногие путешественники, там побывавшие, сообщают лишь, что на Новой Гвинее живет более чем один народ и, что самое примечательное, наряду с неграми там есть люди с более светлой кожей, которые, судя по их обычаям, возможно родственны обитателям островов Общества и Дружбы. А может, там есть и третье племя, возникшее из смешения негров с менее чернокожими[462].
Тощее телосложение позволяет сравнить малликольцев с жителями Новой Голландии [Австралии], однако в остальном они совершенно от них отличны. Представляется особенно странным и, на мой взгляд, совершенно своеобразным обычай этого народа перетягивать себе живот шнуром так крепко, что тому, кто не приучен к сей моде с детства, он причинял бы, вероятно, крайнее неудобство, а возможно, и вред здоровью. Шнур, который для этого используется, примерно с палец толщиной, образует над пупком очень глубокую перетяжку, так что кажется, будто у них два живота, один выше, другой ниже пояса. Капитан Кук по этой причине любил сравнивать их с муравьями. Рука выше локтя тоже перетянута очень тесным браслетом, вероятно таким же манером. Несомненно, подобные браслеты они должны надевать уже в детстве, да так с ними и вырастать.
Черты лица у них крайне безобразны, но в них немало мужественности, живости, смышлености. Нижней частью лица, особенно губами, они весьма отличаются от африканских негров, верхняя же часть, особенно нос, имеет такой же вид, как у них, и волосы такие же шерстистые и курчавые. Вдавленный лоб сформирован, видимо, не природой, а руками матерей; ведь известно, что голова новорожденного может принимать любые формы. Например, на Американском континенте есть народы, которые стараются придать головам своих детей форму солнца, луны или других тел. На Малликолло стискивание головы не заходит столь далеко и немного добавляет к природному безобразию их лиц.
Климат на этом и на соседних островах очень теплый, но, вероятно, не такой умеренный, как на Таити, поскольку Малликолло гораздо большe пo размеру. Правда, во время нашего краткого здесь пребывания мы не страдали от чрезмерной жары. Термометр показывал 76—78° [24—25°С], что для жарких широт вполне сносно. В таком климате не нужно одежды, и носить ее было бы чистой роскошью, для которой местные жители еще недостаточно богаты и зажиточны. Густой лес, покрывающий всю страну, достаточно защищает ее как от жара отвесных солнечных лучей, так и от суровых ветров.
Единственное, что прикрывали туземцы,— это половые органы, и то, по-моему, лишь для того, чтобы защитить от повреждений сии чувствительнейшие части тела в лесах, полных колючек и сучьев. Что это было главной причиной, доказывает хотя бы обыкновение подтягивать их вверх. Стыдливость, во всяком случае, тут ни при чем; ведь она, как целомудрие, является лишь следствием нашего воспитания, но не врожденным понятием; считать ее таковым у нас столь же мало оснований, как выдавать за природные инстинкты многие другие моральные чувства. Все грубые, необразованные народы наглядно показывают, что стыд и целомудрие в природном состоянии — добродетели совершенно неведомые. А значит, это чисто условные добродетели, всюду принимающие разные формы в зависимости от степени утонченности и нравов. Если бы мы попытались внушить мужчинам на Малликолло наши понятия о воспитанности и чести и прикрыть их к тому же чужеродными одеждами, вот тогда они наверняка не смогли бы воздержаться от непристойных мыслей, ибо форма таких одежд скорее поощряет их, нежели им препятствует. Точно так же и женщины здесь меньше всего заботились о стыдливости, когда надевали свой жалкий пук соломы, который служил им вместо передника.
Гораздо более глубокими и коренными можно считать свойственные всем представления о красоте, сколь ни различны они у разных народов. Малликолец считает, что камень в носу, браслет, ожерелье и черный глянцевый грим необычайно его красят, зато своей жене он не позволяет никаких, украшений. Женщины, насколько мы видели, довольствуются тем, что раскрашивают себе тело желтой куркумой, которая издает особый ароматический запах. На островах Дружбы [Тонга] эту краску употребляют вместо пудры для волос, а на острове Пасхи женщины раскрашивают себе ею лицо и одежду. Возможно, сие делается и не для украшения, а больше ради других полезных свойств, приписываемых этому веществу. Татуировка, распространенная у других народов Южного моря, имеющих более светлую кожу, малликольцам, видимо, совершенно неизвестна.
Пища у них по большей части растительная, поскольку они занимаются настоящим земледелием. Иногда они могут съесть свинью или курицу, да и море способно поставлять им съестное. Правда, мы не видели у них рыболовных снастей, но наличие каноэ позволяет предположить, что они без рыбной ловли не обходятся. С их орудиями мы познакомиться не смогли из-за краткости своего здесь пребывания. Однако, насколько можно судить по их лодкам и жилищам, они мастера не особенно умелые. Почва здесь, видно, хорошая и плодородная, однако из-за леса, покрывающего весь остров, должно быть, крайне трудно обрабатывать столько земли, сколько нужно, дабы обеспечить себе пропитание, тем более что произрастание культурных растений весьма затруднено обилием сорняков. И кто знает, не для того ли они перетягивают себя бечевками и браслетами, чтобы помешать росту тела и, стало быть, меньше нуждаться в питании? Во всяком случае, я склонен думать, что лишь необходимость может породить столь противоестественный обычай, а затем он, возможно, остался уже по привычке, и теперь это считается просто красивым.
Время, которое им приходится тратить на возделывание земли, видимо, не оставляет им досуга для изготовления настоящей одежды, да она им и не особенно нужна. Кроме того, хорошо известно, что любовь к покою и праздности является обычным недостатком всех малых нецивилизованных народов. Они не возьмутся за работу, покуда не заставит нужда. Мы заметили, что малликольцы часть своего времени посвящают музыке и танцам. Их инструменты, как можно себе представить, весьма просты. Мы не слышали у них ничего, кроме барабана, но барабаны, как и дудки,— обычно первые изобретаемые инструменты. Повседневные домашние занятия столь однообразны, что человеку для отдыха действительно нужно что-то необычное; похоже, что именно этой цели служат повсюду сильные и своеобразные движения тела, искусственные звуки, напряжение голоса и органов речи.
Однако малликольцам барабаны служат не только для досуга; в случае опасности ими подается сигнал тревоги. Мы с большой вероятностью можем предположить, что они ведут частые войны со своими соседями; наверняка и между ними самими бывают раздоры, ибо они живут отдельными семьями, рассеянными по всему острову. Они привыкли всегда носить при себе оружие, никогда не выпускать его из рук; безоружными были разве только те, кто входил в каюту к капитану. Похоже, что и в изготовлении его они выказывают больше искусства и старания, нежели в других своих занятиях. Луки их крепки, сделаны из очень упругого дерева и чисто отшлифованы. Стрелы красиво отделаны, особенно ядовитые снабжены настоящими маленькими украшениями. Само изготовление ядовитых стрел свидетельствует о смышлености островитян. Возможно, на эту уловку толкнули их жажда мести и страх перед угнетением. А может быть, такое вспомогательное средство возмещает им недостаток телесной силы, слабость сложения. Однако нельзя с уверенностью сказать, действительно ли стрелы у них были отравлены. Собака, на которой мы вскоре по прибытии поставили опыт, сама собой поправилась, хотя она как раз в это же время поела и ядовитой рыбы.
Позже мы устроили испытание еще на одной собаке. Ланцетом ей сделали надрез на бедре, затем соскоблили камедь, которую считали ядом, посыпали на рану и перевязали. Несколько дней собака хромала как из-за нарыва, так и из-за тугой перевязки; но когда перевязку сняли, она постепенно выздоровела, как и первая.
Жители острова Санта-Крус или Эгмонт [остров Нденде], убившие несколько человек из экипажа капитана Картерета, видимо, во многих отношениях напоминали малликольцев, о чем можно судить по описанию, содержащемуся в «Истории английских морских путешествий» Хауксуорта (ч. 2, с. 87, 179 и сл.). По свидетельству Картерета, правда, луки и стрелы у них длиннее[463], а острия стрел делаются не из костей, а из кремня. Однако что касается главного, то есть их отравленности, то тут они несхожи. Во всяком случае, Кирос (первым открывший Санта-Крус) уверяет, что и жители этого острова, как и жители залива Св. Филиппа и Св. Якоба [Сент-Филип-энд-Сент-Джемс на острове Эспириту-Санто], также имеют обычаи отравлять свои стрелы. Должен, однако, сказать, что примеры, приводимые им в доказательство этого предположения, на мой взгляд, столь же мало позволяют судить о действительном положении вещей, как и опыты с нашими собаками.
Выше я упоминал, что малликольцы пытаются защитить руку от спущенной тетивы с помощью своего рода деревянной манжеты; судя по тому, что они их никогда не снимают, луком они пользуются постоянно. Кроме того, они носят также копья или дротики и короткие боевые палицы, которые, видимо, используют лишь в рукопашной. Обилие оружия позволяет предположить воинственность их нрава, хотя с нами они держались в общем миролюбиво, но притом осторожно. Иногда в физиономиях их проступало что-то враждебное и злое, однако причиной могла быть просто озабоченность или недоверие. Конечно, они нас не пригласили задержаться, однако стоит ли их упрекать за это, если они видели в нас страшных и могущественных пришельцев, от коих нельзя было ждать ничего хорошего?
О форме правления этого народа при беглом взгляде судить трудно, так что я здесь могу высказать не более чем предположения. Чувствуется, что они постоянно настороже, а стало быть, часто воюют или находятся с кем-то во вражде. Для этого им надобны предводители, которым они, возможно, подчиняются, как это делают новозеландцы, на время боя. Единственный, кого мы могли счесть вождем, был человек, по приказанию которого нам принесли воду; это показало, что он пользуется среди своих земляков некоторым почтением, хотя внешне от них ничем ее отличается [464].
Религия их осталась нам совершенно неизвестна, как и их домашняя или частная жизнь. Страдают ли они болезнями, мы тоже не могли выяснить. Нам самим не встретилось ни одного больного, однако, по сведениям господина Бугенвиля, жители одного из соседних островов так страдают от проказы, что он даже назвал их землю Isle de Lepreux, то есть островом Прокаженных.
О национальном характере малликольцев следует судить, учитывая степень их культуры. Они живут, разделенные на множество мелких племен и отдельные семьи, рассеянные по всему острову, отсюда, видимо, частые столкновения друг с другом. Поэтому не приходится удивляться их постоянной настороженности и недоверчивости. Однако задираться они отнюдь не склонны; напротив, их поведение с нами доказывало, что они предпочли бы избегать ссоры, и бывали весьма недовольны, когда кто-либо из их земляков предпринимал что-то, способное нарушить добрые взаимоотношения. Часто они вручали нам зеленые ветки, повсеместно служащие знаком мира. Судя по всему, то же значение имеет и обычай поливать водой голову; одновременно он подтверждает наше предположение, что этот народ имеет сходство с обитателями Новой Гвинеи. Дампир, в частности, обнаружил подобную же моду и в Пуло-Сабуда, на западном побережье Новой Гвинеи. В обращении они проявляют большую смышленость, понятливость, обладают желанием и способностью обогащать свои знания. Вероятно, они очень любят танцы и темперамент имеют веселый, живой. Было бы нетрудно сделать их несравненно более цивилизованными; думаю, честолюбивый человек из их же среды быстро добился бы этого.
Однако возвращаюсь к истории нашего плавания.
Мы вышли за риф бухты Порт-Сандвич, взяли курс на Амбррим, и перед нами постепенно открылась юго-восточная оконечность Малликолло, где четыре-пять маленьких островов образовали нечто вроде бухты.
Амбррим, на которой находится огнедышащая гора, имеет в окружности около 20 морских миль. Центр острова лежит под 16° 15' южной широты и 168°20' восточной долготы. К югу от него находится остров Па-ум с большой горой. Он на вид не очень крупных размеров, хотя мы не знали, не соединяется ли с ним низкая земля, находящаяся западнее. Но если обе они образуют остров, все равно он в поперечнике не более 5 морских миль.
Упомянутый пик, согласно нашим наблюдениям, лежит под 16°25' южной широты и 168°30' восточной долготы. К югу от этой горы находится остров Ани. Он большой, гористый, одинаковой величины с Амбрримом, то есть примерно 7 миль в длину. Центральная его часть находится под 16°42' южной широты и 168°36 восточной долготы. Дым, который, как мы видели, часто поднимался со всех этих островов, заставлял нас предположить, что туземцы готовят здесь еду на кострах под открытым небом, ибо на островах Общества и Дружбы, где пища готовится всегда в земле с помощью раскаленных камней, мы редко видели дым либо огонь.
Свежая рыба, которой в тот день угостилась вся наша команда, едва не стала причиной смерти некоторых. Все лейтенанты и лица, сидевшие с ними за одним столом, а также один помощник штурмана, кадеты и корабельный плотник съели двух красных морских лещей (Sparus erythrinus). Спустя несколько часов у них появились сильнейшие симптомы отравления. Недомогание началось с сильного жара, затем последовали невыносимая головная боль, рвота и понос. Все тело, особенно руки, колени и вообще ноги, настолько онемело, что люди не могли даже стоять, а тем более ходить. Слюнные железы стали выделять много слизи. Наконец заболел и живот, то и дело начинались кишечные судороги. То же самое случилось со свиньей, поевшей внутренности этой рыбы; она ужасно раздулась, а на другое утро ее нашли в стойле мертвой. Остальные внутренности и несколько кусков вареной рыбы съели собаки, которые расплатились подобным же образом. Они жалобно выли и скулили, их все время тянуло на рвоту, и от изнеможения они едва ползали. Подох, к сожалению, даже маленький попугай с островов Дружбы, привыкший сидеть за столом на плече своего хозяина, хотя он попробовал всего маленький кусочек. Словом, радость от возможности поесть свежей рыбы внезапно обернулась болью и стенаньями. К счастью, наш врач избежал судьбы своих сотрапезников благодаря тому, что ел на сей раз не за нашим столом; так что он сумел оказать больным необходимую помощь[465].
На следующее утро мы находились все еще недалеко от Малликолло, Амбррима, Апи и Па-ума, а курс держали к южному острову, который увидели 21-го. По трем небольшим горам мы назвали его островом Три-Хиллс, то есть островом Трех холмов [Май]. Подойдя к нему на полмили, мы нашли его похожим на встреченные прежде. Он был лесист и производил впечатление густонаселенного. Некоторые из жителей спустились к берегу. Они были вооружены луками и видом очень походили на малликольцев.
У северо-западной оконечности этого острова находились риф и несколько отдельных утесов. Сам остров в окружности имеет около 5 морских миль и вытянут с северо-востока на юго-запад. Согласно астрономическим наблюдениям, он расположен под 17°4' южной широты и 168°32' восточной долготы.
В полдень мы развернули корабль и пошли на северо-восток, чтобы поближе рассмотреть мелкие острова к югу от Апи. При этом мы увидели на юго-востоке высокую гору, а за ней довольно большую полосу земли. Нас начинала удивлять многочисленность островов, которые здесь лежали группами, и то, что они располагались в юго-восточном направлении, наводило на мысль, не тянутся ли они до Новой Зеландии, что сулило нам цепь открытий.
После полудня мы достигли самого северо-восточного из этих островов. Все они были гораздо меньше, чем Малликолло, Амбррим и Апи, даже не так велики, как острова Три-Хиллс и Па-ум. Тем не менее большинство их оказались обитаемы. Особенно хорошо это было видно вечером, ибо, когда темнело, даже на самых крутых скалах, где днем мы не предполагали жителей, появлялись огни. После заката наступил штиль, продолжавшийся несколько часов. Ночь была на редкость темная, а множество скал, окружавших нас со всех сторон, делали наше положение вдвойне опасным. Поистине мореплаватель, желающий открыть новые острова и точно определить их местонахождение, должен каждый миг опасаться крушения! Ведь чтобы по-настоящему исследовать берега неизвестной земли, надо подплыть к ней вплотную, а там уж зависит от везения, разрушат ли разом все твои честолюбивые надежды внезапный шторм, скрытые рифы или морское течение. Конечно, при всяком большом предприятии необходимы осторожность и ум, но при морских открытиях, как и во многих других важных делах, наиболее верный путь к славе обеспечивает известная степень отваги и безусловная вера в наилучший исход; они часто увенчивают смельчака наградой большей, чем он, в сущности, заслуживает.
Эти опасные острова были названы островами Шепард, в честь кембриджского профессора астрономии доктора Антона Шепарда. Ночью ветер усилился, и до рассвета нам пришлось лавировать. С восходом солнца мы отошли от самого южного из островов Шепарда и взяли курс к земле, которую накануне обнаружили к югу. По пути мы прошли мимо острова Три-Хиллс и еще нескольких островов, расположенных от него всего лишь несколькими милями южнее. Они были гораздо меньше по размеру, но тоже покрыты лесами и красивой зеленью. Мы проплыли между одним из этих островов и высокой скалой; она напоминала видом колонну и потому была названа островом Монумент [Монумент-Рок][466].
Волны, которые неистово бились об нее, выбили в ней много глубоких морщин. Вся скала поднималась над водой на высоту около 300 футов, была черноватого цвета и не лишена растительности. Вокруг летали олуши и морские ласточки, которые, видимо, гнездились на ней. Соседний с Монументом остров капитан Кук назвал Ту-Хиллс, то есть островом Двух холмов [Матасо], так как на нем имелись две приметные возвышенности.
Отсюда мы взяли курс на юг, к земле, которую заметили 24-го. На юго-западе мы увидели каноэ с раздутым треугольным парусом, оно проплывало немного в стороне от острова Три-Хиллс. Вероятно, жители этой группы островов общаются друг с другом, как и жители островов Общества и Дружбы. После полудня мы приблизились к южному острову, который, как оказалось теперь, состоял из двух, и хотели проплыть мимо него, когда ветер вдруг стих, а морское течение неудержимо потащило корабль к западу.
Итак, в эту ночь, как и в предыдущую, мы опять попали в опасное положение, с той только разницей, что теперь ярко светила луна и мы поэтому хорошо могли видеть, как быстро течение относит нас к западному острову. Приходилось опасаться, как бы нас не разбило о его северную оконечность, ужасавшую своим видом. Она представляла собой черные почти отвесные скалы, у подножия которых находился узкий, усеянный камнями пляж. До 10 часов мы пребывали в страшной неизвестности относительно своей судьбы! При столь мощном течении нечего было и пытаться опустить шлюпки, дабы они взяли корабль на буксир. Волны словно играли судном, они крутили его, поворачивали к берегу то бортом, то носом, то кормой. Как ужасно отдавался от скал грохот бушующих волн! Еще никогда шум прибоя не казался таким страшным, никогда он не грозил нам столь очевидной опасностью. Наконец течение пронесло нас довольно близко от берега, не причинив никакого вреда.
Утром снова поднялся ветер, позволивший нам пройти между обоими островами. Восточный, всего 8 или 9 миль в окружности, был, однако, обитаем. Множество людей, вооруженных луками, стрелами и дротиками, высыпало на берег поглазеть на нас. Посредине острова возвышался довольно большой, почти безлесный холм. В нижней его части и у подножия можно было увидеть обработанную землю, равно как и рощи кокосовых пальм, бананов и разных деревьев, в тени которых стояли несколько хижин, а на берегу — вытащенные из воды каноэ.
Другой остров находился в 4—5 морских милях к западу. Оказалось, что и этот клочок суши состоит из двух островов. Северный был тот самый, о который мы чуть не разбились. В окружности он не больше 12—15 миль, той же высоты и по виду такой же, как восточный. Больший остров располагался южнее и тянулся с северо-запада к юго-востоку по меньшей мере на 10 морских миль. Как и прочие, он был довольно гористый, но не крутой и радовал взор обилием прекрасных видов. Угрюмые леса живописно чередовались с большими оголенными участками, золотисто-желтый цвет которых заставлял вспомнить спелые европейские нивы. Вообще сей остров показался нам самым красивым в этой группе, на нем лучше всего было бы устроить европейскую колонию. Мы проплыли мимо него довольно далеко от берега, и на вид он показался нам не столь густо заселенным, как более северные острова, оставшиеся позади. Это могло бы облегчить закладку здесь колонии, и, прояви колонисты человеколюбие, они могли бы стать истинными благодетелями туземцев. Ведь здешние жители — соплеменники малликольцев, то есть, как мы заметили, весьма смышленые люди, вполне расположенные принять усовершенствования цивилизованной жизни.
На северо-западной оконечности острова, похоже, имелся залив, глубоко вдававшийся в сушу, однако более близко исследовать это место мы не смогли из-за рифов и мелких островов, закрывавших к нему доступ с востока. Наверное, удобнее можно было подойти туда с запада. Капитан Кук назвал большой остров островом Сандвич [Эфате], расположенный к северу от него — Хипчингбрук [Нгуна], а восточный — Монтегю [Эмау], в честь первого лорда Адмиралтейства и двух его сыновей. Центр острова Сандвич находился под 17°40' южной широты и 168°30' восточной долготы.
После полудня и всю ночь мы плыли на юго-восток. На рассвете мы находились милях в 14 от острова Сандвич и почти на таком же расстоянии от нового лежавшего перед нами острова.
Наш корабль теперь напоминал своим видом госпиталь. Отравившиеся чувствовали себя все еще плохо, боли в животе и в суставах не уменьшались; встав с постели, они от головокружения не могли держать прямо голову, а когда ложились, ломота из-за постельного тепла до того усиливалась, что люди не могли сомкнуть глаз. Продолжалось и слюнотечение, а на руках показалось множество маленьких нарывов. Многие жаловались не столько на боль, сколько на слабость. Бледные и изможденные, они двигались как тени. Из лейтенантов ни один не мог стоять на вахте, а поскольку младший штурман и многие кадеты тоже отведали этой злосчастной рыбы, то вахту несли по очереди констебль и двое младших штурманов. Собаки, принявшие участие в угощении, тоже еще не выздоровели и страдали тем паче, что никто им не мог оказать помощь. Они беспрерывно скулили и все время просили пить, из чего следовало, что наряду с сильнейшей болью они испытывали жгучую жажду. Хуже всего было тем из них, кто поел внутренностей. Одно из этих бедных животных было как будто предназначено для мученической судьбы, потому что как раз незадолго до того его уже использовали для опыта с якобы отравленной стрелой. Однако эта собака благополучно все пережила и здоровой прибыла в Англию.
Кирос в описании своего путешествия рассказывает, что многие из его людей пострадали таким же образом, отведав в заливе Св. Филиппа и Св. Яго ту же самую рыбу, ибо «паргос» по-испански как раз и означает «морской лещ» (Pagrus). Однако этот вид рыбы бывает ядовит не всегда, а лишь после того, как они поедят ядовитых растений, что часто случается в ост-индских и вест-индских водах. Это предположение подкрепляется тем, что внутренности были ядовитее остальных частей рыбы. Несомненно, самая сильнодействующая часть яда осталась там, и лишь более слабые частицы через кишечный сок и кровь проникли в мясо.
Со дня отплытия с Малликолло держалась мягкая погода и время от времени дул свежий пассат. Но когда мы находились недалеко от последнего из новых островов, ветер заметно ослаб. На следующий день установился полный штиль, однако волны продолжали довольно неприятно раскачивать корабль, а течение снесло нас на несколько миль к северу. Вечером вдали на юго-востоке мы увидели еще один остров, на который поначалу не обратили внимания.
Ветер, опять поднявшийся 29-го, позволил нам 30-го приблизиться к берегу на расстояние 6 морских миль. После полудня мы еще раз решили испытать на собаке, которая уже совсем выздоровела, действие малликольской стрелы. Ланцетом ей сделали надрез на бедре и насыпали в ранку не только камедь, которой было обмазано костяное острие, но и зеленое землянистое вещество с кокосовых волокон, которыми стрела была обмотана; на рану наложили липкий пластырь, чтобы эксперимент прошел как следует. Но собака выздоровела так быстро, словно в ране и ничего не было.
На другое утро опять наступил полный штиль; матросы уже готовы были думать, не заколдован ли этот остров, потому что мы, как ни старались, не могли к нему приблизиться. Другой остров на юго-востоке, открытый 28-го, теперь стал виден гораздо отчетливее. Ближний остров выглядел не таким плодородным и не таким красивым, как те, что мы открыли прежде, но тем не менее он казался обитаемым, так как над ним поднимался дым. Крайне досадно было видеть совсем рядом перед собой берег и не иметь возможности приблизиться к нему! Быть привязанным к кораблю и знать, что совсем близко находятся люди, образ жизни и мыслей которых может оказаться для нас во многом новым! Не познакомиться с ними, когда так хотелось бы рассказать об этом! Препятствия нередко лишь разжигают желание; так было и на сей раз, ибо, в сущности, не было бы большой беды, если бы мы здесь и не высадились, поскольку остров выглядел неплодородным а не сулил ничего съестного.
После полудня удалось поймать двух акул, которые плавали возле корабля в сопровождении рыб-лоцманов и прилипал, всегдашних своих спутников. Один из этих крупных прожорливых хищников оказался своего рода эпикурейцам. В его желудке мы нашли не более и не менее как четырех молодых черепах 18 дюймов в диаметре, а также кожу и перья так называемой олуши (Pelecanus sula Linn.). Но и поглотив все эти лакомства, акула все же не удержалась от соблазна схватить кусок жирной свинины, насаженной на крючок. Едва ее вытащили на палубу, как каждый захотел себе порцию, и в считанные минуты она была разделана, зажарена и съедена. Другая попробовала вырваться, однако офицеры прикончили ее несколькими пулями, ибо им не меньше, чем простым матросам, не хотелось ее упускать. Так мы отомстили двум прожорливым тиранам за всех морских жителей. В жарких широтах солонина особенно противна, возможно потому, что она еще больше разжигает и без того сильную жажду. Однако со времени нашего отплытия с Намокки другой мясной пищи у нас не было; поэтому можно себе представить, как нам понравилось акулье мясо.
Ночью поднялся слабый ветерок, который помог нам еще немного приблизиться к берегу. На другое утро, 1 августа, мы увидели отдельные утесы, отстоявшие от берега на несколько морских миль. Чем ближе мы подходили, тем меньше видели причин считать остров столь неплодородным, как показалось вначале.
В десять утра кто-то закричал, что на судне пожар! Страшная весть вызвала у всех внезапный ужас, всюду видны были растерянные лица. Эта растерянность длилась некоторое время, прежде чем принялись тушить. Внезапная опасность вначале обычно лишает нас способности быстро все обдумать и решительно действовать. Вот почему столь ценными, хотя и редкими, свойствами бывают присутствие духа и решительность. Стоит ли удивляться, если их не оказалось у большинства из тех немногих, на ком лежало командование кораблем? Но и для самых стойких трудно было найти испытание более суровое, чем пожар на судне! Куда менее страшна буря, даже вблизи опаснейших берегов, ибо всегда остается надежда спасти но крайней мере жизнь. Но тут страх был куда сильнее. В минуту первого замешательства мы решили, что горит в помещении, где хранилась парусина. Однако вскоре выяснилось, что от лампы в каюте провиантмейстера загорелся всего лишь кусок таитянской материи; и только дым вызвал такие опасения.
По мере приближения к острову мы видели все больше лесов, а среди них расчищенные участки и плантации, которые поднимались до самой верхушки горы. Уже можно было различить множество кокосовых пальм, однако вид у них был не такой красивый, как в других местах. После полудня мы добрались до западной стороны острова и пошли вдоль побережья. Между горами и пляжем то и дело видны были небольшие участки, засаженные по большей части бананами и обнесенные изящными изгородями. Возле них стояли хижины, или, вернее, просто навесы на столбах, а вдоль берега шли тридцать-сорок жителей, вооруженных луками, стрелами и копьями. С отдаления они казались чернокожими и вообще весьма напоминали жителей Малликолло. Среди них было несколько женщин, носивших нечто вроде юбки из соломы и листьев, которые доставали до икр, а иногда и до щиколоток. Мужчины же, подобно малликольцам, ходили совершенно нагие.
Тем временем мы достигли открытого залива. С берега в воду отважно бросилось множество людей обоего пола, они зазывали нас дружественными жестами. Однако капитану показалось неудобным становиться здесь на якорь, и он приказал плыть дальше. Когда мы увидели южную оконечность острова, откуда берег уходил на восток, уже начинало темнеть, а поскольку и ветер ослаб, мы повернули в сторону моря, чтобы какое-нибудь морское течение ночью не снесло нас к берегу.
Матросам, помимо всего прочего, пришлось каждое утро и каждый вечер мыть палубу, дабы она не пересохла и не растрескалась от сильной жары. Один морской пехотинец хотел достать для этой цели воды из моря и имел несчастье упасть за борт. Плавать он не умел и погиб бы, если бы корабль тотчас не развернули по ветру и ему не бросили сразу много веревок. К счастью, он сумел ухватиться за одну из них и был вытащен. Страх смерти и напряжение, с каким он избежал ее, так его изнурили, что, ступив на палубу, он едва мог держаться на ногах. Его товарищи проявили по отношению к нему подлинную заботливость, они повели его в кубрик, переодели в сухое платье и дали несколько глотков водки, так что он скоро пришел в себя. Солдаты относились друг к другу так по-братски почти во всех случаях. Среди матросов это было гораздо реже.
Штиль, до сих пор испытывавший наше терпение, никак не кончался. И в эту ночь корабль оставался недвижим, как бревно в воде, а на другой день течение постепенно снесло нас обратно в залив, мимо которого мы проплыли накануне вечером. Пришлось послать шлюпки, чтобы они поискали место для якорной стоянки. Глубина была измерена не ближе чем шагах в пятистах от берега; она здесь достигала примерно 20 саженей. Жители опять высыпали на берег, но наши люди не смогли вступить с ними в беседу, ибо капитан как раз увидел, что поднимается ветер, и дал сигнальный выстрел, приказав шлюпкам возвратиться. Насколько мы могли заметить, звук этого пушечного выстрела не произвел на островитян особого впечатления, возможно потому, что они в силу своего неведения не связывали его ни с чем-либо хорошим, ни с плохим и вообще, должно быть, еще не видели европейцев.
Теперь мы направились к северо-западной оконечности острова и на другое утро приблизились к обособленным скалам, которые заметили прежде. Как раз против них на острове находилась гора с двугорбой вершиной; видом она напоминала седло и казалась довольно высокой. На обособленных скалах росло много кустарника, и, поскольку мы испытывали недостаток в топливе, капитан послал две шлюпки, дабы привезти его оттуда. В надежде на новые ботанические открытия мы отправились с ними.
С корабля до скал казалось рукой подать, однако пришлось грести по меньшей мере 5 миль, покуда мы к ним не подошли. И тут нам пришлось разочароваться во всех своих надеждах, потому что море било об эти скалы такими неистовыми волнами, что высадиться не было никакой возможности. Напрасно мы плавали вокруг, жадно глядя на кусты и деревья. Еще больше подогрели наше любопытство большая летучая мышь и несколько мелких птиц, летавших среди кустов, а также множество рыб, плававших среди камней. Однако птицы не приближались к нам на выстрел, а рыбы не желали клевать.
На обратном пути мы все-таки выловили одну водяную змею (Coluber laticaudatus Linn.) того же вида, что часто встречались и на Тонгатабу. Как только мы вернулись на борт, корабль при небольшом ветре поплыл к заливу у западного склона седлообразной горы. Вечером мы вошли в него. Он оказался шириной свыше 8 миль, в берег же вдавался не более чем на 2 мили. Так называемая Седельная гора образует на восточной стороне этого залива полуостров и защищает рейд от пассатных ветров. У самого залива эта гора очень крутая, однако к середине она становится более пологой и поднимается в виде череды холмов. Вдоль всего берега любое свободное местечко среди диких зарослей использовано для плантаций, которые обнесены тростниковыми оградами, как на островах Дружбы.
Мы проплыли примерно в миле от берега к низкому мысу, за которым предполагали стать на якорь. Толпа жителей стояла на берегу, некоторые плыли нам навстречу и приблизились настолько, что мы отчетливо слышали их призывные крики; однако подплыть к кораблю ни один не отважился. Как и малликольцы, на которых они весьма походили внешне, здешние жители были темнокожи, но мы видели одного с более светлой кожей и рыжеватыми волосами. Нам показалось странным, что нигде, ни на воде, ни на берегу, не видно было каноэ; трудно поверить, что на таком прекрасном острове нет ни единой лодки!
Когда стало темнеть, жители поплыли обратно к берегу и зажгли на плантациях костры. Поскольку пресная вода была у нас на исходе, а та, что мы взяли на Намокке, оказалась невкусной, мы охотно стали бы на якорь близ этого острова, где, судя по всему, имелась в изобилии не только пресная вода, но и продовольствие. Те, кто отравился на Малликолло красным морским лещом, все еще не совсем оправились, по ночам у них ломило кости, они жаловались, что шатаются зубы, а нёбо и гортань болезненно воспалены. Но они тешили себя надеждой, что улучшенное питание поможет им избавиться от сей тягостной болезни. Однако все эти надежды оказались напрасными.
На другое утро капитан, взяв две шлюпки с людьми, отправился на берег. Одной командовал он сам, другой — штурман; задачей их было найти удобное место, где можно было бы наполнить бочки питьевой водой. Они поплыли к месту, расположенному прямо против корабля. Там уже собралось по меньшей мере шестьдесят местных жителей. Когда моряки уже приближались к берегу, несколько туземцев пошли вброд им навстречу и окружили шлюпки. К их великому удовольствию, капитан раздал им гвозди, медали и таитянскую материю, однако вскоре поплыл к другой стороне упомянутого низкого мыса. Увидев это, островитяне побежали туда по суше. Шлюпки обогнули мыс, скрылись за ним, и почти целый час мы их не видели. Зато было видно, как к заливу отовсюду сбегаются туземцы, некоторые же оставались против корабля и, как нам казалось, рассматривали его с большим вниманием.
Не успели мы оглянуться, как послышались ружейные выстрелы, а затем поднялась беспорядочная стрельба, продолжавшаяся некоторое время. Тотчас на подмогу обеим шлюпкам была послана третья, а из полуфунтовой пушки выпустили в сторону мыса ядро. Затем установили пушку на носу корабля и выстрелили из нее по горам. Звук выстрела до того перепугал жителей, которых мы видели, что они поскорее убежали в заросли. Некоторые удивленно пришли со своих плантаций, но, увидев, что их земляки разбегаются, тотчас повернули назад. С того места, откуда послышался первый выстрел, несколько человек понесли в горы убитого или раненого. Наконец вернулся в шлюпке капитан. Один из матросов получил две раны, в щеку и в руку, и капитан Кук рассказал нам, что произошло.
Обогнув мыс, шлюпки сразу оказались близ места, удобного для высадки. Капитан с еще одним человеком вышли на берег и увидели несколько сот жителей, вооруженных луками, стрелами, палицами и длинными копьями. Кожа у них орехового цвета, рост средний, но выше, чем у малликольцев, телосложение и черты лица гораздо более красивые, наряд же с европейской точки зрения столь же непристойный, то есть они также совершенно нагие, с бечевкой вокруг тела. У некоторых лица разрисованы черной и красной красками. Волосы и борода курчавые а густые, иногда более, иногда менее шерстистые, но почти у всех черные; лишь у некоторых волосы рыжеватые.
Чтобы снискать доверие новых знакомых, капитан раздал им разные безделушки, причем первым делом одарил человека, который по виду пользовался уважением у остальных. Он объяснил ему знаками, что нам нужна вода и продовольствие. Как только вождь понял, о чем идет речь, он тотчас отослал куда-то нескольких индейцев, а пока их не было, беседовал с капитаном. Посланцы скоро вернулись и принесли полую бамбуковую трубку с пресной водой, несколько кокосовых орехов и один клубень ямса. Судя по их знакам, воду они взяли где-то поблизости, однако всячески старались не допустить, чтобы наши люди сами отправились туда и исследовали местность. Поскольку число их все прибывало, капитан счел благоразумным вернуться на корабль.
Однако их отход послужил сигналом к нападению. Не успела шлюпка оттолкнуться от берега, как один из индейцев силой выхватил у нашего матроса весло. Правда, другой забрал его и бросил обратно нашим, зато некоторые другие жители попытались силой вытащить на берег доску, по которой наши матросы входили в шлюпку, а иные пошли к ней по воде, выхватили два весла и вцепились в саму шлюпку, чтобы вытащить ее на берег. Было похоже, что командовал всем этим нападением сам вождь, поэтому капитан Кук хотел выстрелить в него. Но случилось то же, что было на острове Сэвидж [Ниуэ]: ружье дало осечку. Туземцы увидели, как он целится, и, естественно, поняли что у него в руках; тотчас на шлюпку со всех сторон полетели стрелы и дротики. Один дротик, который представлял собой просто заостренную палку, попал в щеку нашему матросу. Тогда капитану пришлось дать своим людям команду открыть огонь. Потребовалось некоторое время, пока хоть одно ружье сработало, но первыми же выстрелами были убиты два дикаря, находившиеся близко к шлюпке.
Остальные, однако, не испугались, они лишь отбежали на несколько шагов, а потом смело вернулись и снова атаковали шлюпку камнями и стрелами. Тут открыли огонь и со второй шлюпки, и, хотя там тоже сработали лишь два или три ружья, все же несколько туземцев оказалось ранено. Хотя в Англии есть отличные кремни и правительство немало уплатило за их поставку, войска там снабжены самыми худшими ружейными кремнями в мире. Невероятно, но английские поставщики не упускают случая нажиться даже ценой человеческих жизней! Я полагаю, однако, что, если не везде, то уж в таких вещах, как эта, необходим строжайший надзор, ибо малейший недосмотр тут может стоить жизни тысячам подданных, а иногда и решить счастливый или несчастливый исход сражения[467].
Тростниковая стрела с наконечником из черного дерева, зазубренным с обеих сторон, попала в грудь штурману, но она была уже на излете и лишь контузила его. Раненые индейцы на четвереньках уползли в заросли, а когда началась настоящая стрельба, весь их отряд поспешно убежал. Лишь у некоторых хватило смелости занять позицию за песчаным холмом; под его защитой они продолжали беспокоить наших людей, но выдержать там долго они не смогли, ибо, едва кто-либо высовывал голову, в него тотчас стреляли. Увидев третью шлюпку, спешившую к ним на помощь, капитан повернул к кораблю и приказал двум другим промерить дно по всему заливу.
И все же я до сих пор не могу поверить, что эти дикари имели на уме враждебные намерения, когда пытались задержать нашу шлюпку! Враждебность могла возникнуть, лишь когда они увидели, что в них, более того, в их предводителя целятся из ружья. Однако нашим это не пришло в голову. Видимо, такова уж неизбежная наша, европейцев, беда, что мы во время путешествий, совершаемых для открытий, всегда жестоко обходимся с бедными дикарями.
После завтрака мы снялись с якоря, чтобы войти поглубже в залив, где наши шлюпки неподалеку от берега нашли более удобное место для стоянки. Весь западный берег залива был покрыт тысячами пальм, что выглядело очень красиво; однако, судя по всему, это были не кокосовые пальмы. По пути мы прошли мимо места, где произошла стычка. Там еще оставалось несколько индейцев; однако, увидев корабль, они убежали в лес. Оба весла, которые мы потеряли, все еще стояли там, прислоненные к кустам; но было решено, что не стоит посылать за ними шлюпку. Мы уже радовались, что станем на якорь, когда капитан неожиданно приказал развернуть корабль и обогнуть с востока Седельную гору.
Мыс, где индейцы так коварно напали на нас, получил название Трейтрсхед, то есть Голова предателя. Мы миновали его лишь в 3 часа пополудни. Когда мы проходили с восточной его стороны, перед нами оказался залив, глубоко вдававшийся в сушу; там было несколько удобных бухт или гаваней. Оба берега поросли густым лесом, чей великолепный вид манил взгляд ботаника. К югу поднимался пологий склон, и взору открывалась просторная, почти всюду возделанная местность, наверняка богатая растительными продуктами.
Сколь ни привлекателен был этот вид, капитан, кажется, все еще не решил, входить ему в залив или нет. Тем временем на юге опять показался тот остров, который мы уже видели 28 июля, и капитан решил наконец все-таки покинуть залив и плыть к этому отдаленному острову, дабы по возможности осмотреть все острова этой группы.
Остров, от которого мы теперь удалялись, расположен под 18°48' южной широты и 189°20' восточной долготы. Он имеет почти четырехугольную форму и не менее 30 морских миль в окружности[468]. Свежий попутный ветер быстро уносил нас к новому острову, где ночью мы увидели много огней, в том числе один большой столб пламени, какой обычно бывает на вулканах.
На рассвете оказалось, что ночью мы прошли совсем рядом с низким, поросшим пальмами островом, находившимся к северо-востоку от нас. Но установить, представляет ли он, как большинство таких низких островов, один коралловый риф, мы не могли. Большой остров, к которому мы направлялись, был вытянут с северо-запада на юго-восток; на нем виднелась цепь высоких гор. А перед ними шел ряд невысоких холмов: крайний из них, на юго-востоке острова, представлял собой вулкан, как мы и предположили минувшей ночью, когда увидели огонь. Вулкан состоял из обгоревших и потому совершенно бесплодных каменных глыб красновато-бурого цвета; он имел конусообразную форму с кратером посредине. Это был самый низкий из холмов. Из его жерла время от времени поднимался столб густого дыма, напоминавший огромное дерево, чья густолиственная крона постепенно расширялась. Каждый раз, когда появлялся новый такой столб, слышался глухой гул, подобный далекому грому, и эти извержения следовали одно за другим довольно часто. Цвет дыма не всегда оставался одинаковым, обычно он был белый или желтоватый, но иногда серовато-красный; последнее, вероятно, было вызвано отсветом внутреннего огня. За исключением вулкана, весь остров был покрыт деревьями, преимущественно кокосовыми пальмами, и листва даже в это время года, как ни говори, зимнее, была на вид светлая и свежая.
После 8 часов были спущены шлюпки и с ними послан штурман, чтобы замерить дно в гавани, лежавшей перед ними к востоку от вулкана. Пока попутный ветер нес их туда, показались два каноэ с местными жителями. Они отошли с разных мест на берегу и собирались следовать за нашими шлюпками. Третье каноэ шло под парусом на отдалении вдоль берега. Наши люди дали знак, что корабль может идти за ними. Мы направились в сторону гавани, куда вел узкий проход, но были немало испуганы, когда лот, который выбрасывался постоянно, после 6 саженей вдруг показал 3,5. Однако тут же глубина опять стала увеличиваться до 4,5 сажени и более. Потом выяснилось, что на мелком месте находилась скрытая скала, на которую мы легко могли наткнуться и в без того узком проходе. Гавань сама по себе была круглая, маленькая, но защищенная и удобная; глубина ее в том месте, где мы бросили якорь, была 4 сажени.
Среди всех островов, открытых нами здесь, этот был единственный, на котором мы пробыли некоторое время. Мы запаслись на нем топливом и пресной водой, однако местные жители не захотели нас снабдить продовольствием, хотя у них не было в нем недостатка. В этом отношении стоянка здесь дала нам немного, зато она предоставила нам драгоценную возможность познакомиться с народом, или, вернее, с особым человеческим племенем, совершенно непохожим на все, что мы видели прежде, и потому вызывающим особенный интерес и достойным внимательного изучения.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Рассказ о нашем пребывании на Танне и отплытии с Новогебридских островов
Едва став на якорь, мы с превеликим удовольствием увидели, как со всех сторон залива к нам приближаются в своих каноэ местные жители. Они стали плавать вокруг корабля в некотором отдалении. Все были вооружены копьями, палицами, луками и стрелами, но, казалось, не могли решить, считать ли нас друзьями или врагами. Наконец один, а за ним другой осмелели, стали передавать нам на палубу то клубень ямса, то кокосовый орех, получая ответные подарки. Скоро число каноэ достигло семнадцати, в некоторых находилось по двадцать два, в других — по десять, семь, пять человек, а в самых маленьких по два. Всего индейцев вокруг нас было более двух сотен. Мы слышали отдельные слова; казалось, они о чем-то нас спрашивали. Но когда мы отвечали им по-таитянски или по-малликольски, они лишь повторяли эти слова, но явно их не понимали.
Постепенно первое впечатление, произведенное на них нашим присутствием, прошло, и наконец они совсем без опаски приблизились к судну вплотную. Мы как раз спустили с кормы в море кусок солонины в небольшой сетке; это был наш обычный способ отмачивать ее. Какой-то старик туземец схватился за эту сетку и отвязал бы ее, если бы мы ему самым строгим голосом не крикнули сверху, чтоб он немедленно ее отпустил. Тогда другой стал грозить нам своим копьем, а третий уже зарядил лук стрелой и стал целиться в людей на палубе. Капитан Кук решил, что самое время выстрелить из пушки, дабы показать островитянам наше могущество и таким образом раз и навсегда покончить с враждебными действиями. Он знаками показал туземцам, чтобы они для собственной безопасности отплыли в сторону. Я опасался, как бы дикари не истолковали этот доброжелательный знак худшим образом или просто не оставили его без внимания; но, к моему удивлению, скоро все они собрались у нашей кормы. Пушка выстрелила по берегу, и в тот же миг две сотни туземцев враз попрыгали из своих каноэ в море. Лишь один, хорошо сложенный молодой человек с открытым, приятным лицом смело остался стоять в своей лодке, и улыбка его выражала как бы презрение к своим пугливым землякам. Страх между тем прошел, они увидели, что грохот не причинил им никакого вреда, и, вернувшись к своим каноэ, все громко заговорили друг с другом. Казалось, они смеются над собственным страхом. Тем не менее держались они на некотором расстоянии, но не выказывали никаких враждебных намерений.
Капитан Кук был недоволен положением судна; он хотел войти глубже в залив и послал для этого вперед шлюпку с большой командой, которая не встретила со стороны индейцев никакого противодействия. Все их внимание было привлечено скорее к бую станового якоря. Они жадно рассматривали его; наконец какой-то лысый старик не удержался и попытался завладеть им. Он подплыл к бую в своем каноэ и попробовал его утащить. Вначале он потянул за веревку, но буй не поддался. Тогда он попытался отвязать его. Увидев, что он собирается делать, капитан Кук показал знаками, чтобы он оставил буй в покое, но туземец не обратил на него ни малейшего внимания. Тогда капитан выстрелил в него дробью. Почувствовав себя раненым, тот сразу отпустил буй, но, как только первая боль прошла, вернулся и принялся за свое дело. Тогда в воду перед ним выстрелили пулей. После этого он оставил в покое буй и поплыл к кораблю с подарком — кокосовым орехом. В его поведении была, по-моему, какая-то смелость и значительность; казалось, он предлагает нам свою дружбу в награду за нашу храбрость.
Тем временем посланная шлюпка поставила второй якорь, и с его помощью мы стали подтягивать корабль в гавань. Хотя попытка стащить якорный буй не прошла для одного из индейцев безнаказанно, это не удержало от подобной же попытки другого. Какое-то время он то приближался к бую, то отплывал, не решаясь приступить к действию, но затем искушение взяло верх, и он преспокойно стал тащить буй в каноэ. Чтобы помешать ему, в него тоже выстрелили из мушкета. Пуля ударила рядом с ним в воду и, отскочив несколько раз от ее поверхности, вылетела на берег, перепугав собравшихся там индейцев. Один лишь главный виновник ничуть не испугался и опять подплыл на своем каноэ к бую. Пришлось еще раз пустить в ход мушкет, а когда и это не помогло — малую пушку и наконец большую. Лишь это как следует напугало и его, и других индейцев, находившихся на берегу и в море, но никому не причинило вреда.
После этой небольшой суматохи мы завели корабль в нужное место. Во время буксировки он несколько раз задевал дно, потому что кое-где очень близко подходил к берегу, однако, на счастье, море здесь было тихое, и удавалось без труда и повреждений сняться с мели. Покончив с этим делом, мы спокойно отобедали, а затем на трех шлюпках в сопровождении большой команды, в том числе всех морских пехотинцев, отправились на берег. Все как будто позволяло надеяться на совершенно спокойную высадку, поскольку жителей на берегу было слишком мало, чтобы затеять с нами стычку. Они расположились в траве недалеко от моря. Увидев, что мы выходим из шлюпок, все стали разбегаться, но мы знаками дали понять о своих дружественных намерениях, и они вернулись. С запада пришла толпа в полтораста дикарей, каждый в одной руке держал оружие, в другой — зеленую пальмовую ветвь. Эти ветви они передали нам в знак мира, а мы в ответ подарили им медали, таитянскую материю и железные изделия, а также обменяли на те же товары несколько кокосовых орехов. Однако потребовалось некоторое время, чтобы они по нашим жестам и знакам, указывающим на кокосовые пальмы, поняли, что мы хотим плодов с этих деревьев.
Затем мы предложили всем сесть. Некоторые так и сделали, после чего мы показали, чтобы они не переступали проведенную на песке черту, и они охотно с этим согласились. Увидев неподалеку пруд, мы показали им, что хотели бы здесь просто запастись питьевой водой, а также топливом. Тогда они показали нам на дикорастущие деревья, но только попросили, чтоб мы не рубили кокосовых пальм, которые во множестве росли вдоль берега. Мы для начала показали им, каким образом будем набирать воду и рубить деревья; все это обошлось тоже спокойно.
Тем временем солдаты образовали строй. Индейцы испытывали перед ними такой страх, что при малейшем их движении сразу немного отбегали. Лишь несколько стариков держались храбро и так легко не пугались. Мы потребовали, чтобы они положили оружие перед собой. Как ни несправедливо было такое требование, большинство его исполнили.
Цвет кожи у них был каштановый, или, скорее, темно-коричневый, роста они были среднего, но сложения более крупного и пропорционального, чем малликольцы. Подобно им, они ходили совершенно нагие, носили такую же бечевку вокруг тела, с той лишь разницей, что она не так сильно перетягивала живот. На женщинах, которые стояли поодаль, были юбки, доходившие до колен, и они выглядели не столь безобразно, как малликолянки. Несколько девушек держали в руках длинные копья, но не подходили к нам ближе, чем другие.
Уже во время этой первой беседы мы запомнили несколько слов здешнего языка. Большинство из них были для нас совершенно новыми и неизвестными. Иногда для одного и того же предмета они употребляли два разных выражения, одно из которых звучало незнакомо, другое напоминало однозначное слово из языка островов Дружбы [Тонга]. Очевидно, по соседству находились другие острова, население которых принадлежало к тому же народу, что и обитатели островов Общества и Дружбы[469]. Мы выяснили также у наших новых знакомцев, что их остров называется Танна; на малайском языке это слово равнозначно слову «земля». В связи с этим должен заметить, что мы взяли за правило каждый раз выяснять местные названия всех земель, которые посещали, ибо они лишь одни самостоятельны и не подвержены столь частым переменам, как произвольные наименования, которые каждый мореплаватель считает себя вправе дать своему и чужим открытиям.
Наполнив бочки, мы возвратились на судно, очень довольные, что первый шаг к знакомству с туземцами оказался удачным и прошел так спокойно. На другое утро оказалось, однако, что островитяне держались с нами столь мирно лишь потому, что их было не так много; вообще же они отнюдь не склонны были позволять нам свободный доступ на свой остров. Они боялись, не заримся ли мы на их землю и прочую собственность, и готовились защищать то и другое.
Чтобы не прерывать нить своего повествования, я до сих пор не упоминал о таком примечательном феномене, как находившийся на острове вулкан. Он как раз извергался, когда мы там находились, и отстоял от нас миль на 5—6, так что из-за разделявших нас холмов мы с корабля могли видеть только дымящуюся вершину. Она во многих местах потрескалась, а по верхней кромке была как бы зазубрена. Каждые пять минут из нее с грохотом вырывался столб пламени, причем подземный гул длился иногда полминуты. В то же время воздух был полон дыма и черной золы, которая, если попадала в глаза, причиняла едкую боль. Этой золы падало так много, что за несколько часов ею оказался засыпан весь корабль, а по всему берегу лежали маленькие куски пемзы и обгорелые угли.
На другое утро мы перевели корабль в более удобное место, поближе к берегу. Между тем жители с наступлением дня вышли из лесу и, казалось, держали между собой на берегу совет.
Для последующего необходимо, чтобы я здесь подробнее описал местность вокруг гавани. На востоке, на юге и на западе она неодинакова. Так, на востоке берег залива образует выступающий мыс, довольно широкий пляж которого, усыпанный коралловыми камнями и ракушечным песком, окружен рощей пальм, тянущейся в глубину шагов на сорок. За этим небольшим леском земля, подобно валу, поднимается на 40—50 футов. Сверху этот вал плоский и, пересекая мыс поперек до открытого моря, образует равнину шириной 2 мили и длиной 3 мили, заканчиваясь у южной стороны гавани. Там он переходит в красивую возделанную низменность, которую как раз видишь при входе в залив и которая в глубине упирается в ряд пологих холмов, а впереди окружена широким пляжем из черного песка, где мы брали воду и дрова. Наконец, левая, или западная, сторона гавани представляет собой гору высотой футов 800 и почти совершенно отвесную от вершины до высоты 90 футов от земли. Одновременно она ограничивает с запада упомянутую возделанную низину; здесь обрывается красивый широкий пляж, и до самого крайнего участка на западе идет лишь узкая полоса сланца. В юго-восточном конце гавани находится плоский коралловый риф, который скрыт под водой даже во время отлива и образует в этой части моря мель. То тут, то там индейцы отталкивали свои каноэ от берега и привозили на продажу по одному-два кокосовых ореха или банана. Обменяв их на таитянскую материю, они сразу возвращались на берег, чтобы привезти новые. Один предложил капитану свою палицу, тот показал, что даст ему за это кусок материи. Так они сторговались, индейцу спустили на бечевке материю в каноэ, он сразу ее отвязал, но явно не собирался отдавать за нее палицу. Капитан попытался знаками напомнить ему о данном слове; тот как будто его понимал, но не обращал на эти знаки ни малейшего внимания. Тогда капитан выстрелил в него дробью. Индеец с двумя своими товарищами, находившимися в каноэ, поскорее стал грести прочь. Тогда с палубы вдогонку ему несколько раз выстрелили из мушкета. Испугавшись пули, упавшей рядом с лодкой и несколько раз отскочившей от воды, они прыгнули в море и поплыли к берегу. К месту, где они выбрались на сушу, вскоре сбежалось много людей, видимо желавших узнать, что случилось с их земляками.
Спустя несколько минут небольшого роста старик в одиночестве подплыл к кораблю в каноэ, груженном сахарным тростником, кокосовыми орехами и клубнями ямса. Этот старик еще накануне прилагал немало стараний, чтобы поддержать мир между нами и своими земляками. Дружелюбное, искреннее выражение его лица позволяло нам надеяться, что и на сей раз он направляется к нам с тем же достохвальным намерением. Поэтому капитан Кук подарил ему полный наряд из лучшей красной таитянской материи, чем старик был необычайно доволен. Как и у других его земляков, которые никогда не ходили без оружия, у него были две большие палицы. Капитан Кук, находившийся в одной из наших шлюпок, взял эти палицы, бросил их в море и дал старику понять, что все островитяне тоже должны положить оружие. После чего достойный старик погреб к берегу, не особенно печалясь об утрате своих палиц. Некоторое время он прохаживался по берегу в новом наряде.
Теперь отовсюду, особенно с крутой горы на западной стороне гавани, сюда пришло множество народу. Лес на равнине кишел людьми, и среди них не было ни одного безоружного.
Тем временем мы развернули корабль бортом к берегу, дабы в случае необходимости пушки могли достать до него. Приняв сию меру предосторожности, мы отправились туда на одной большой и двух малых шлюпках вместе со всеми морскими пехотинцами и хорошо вооруженным отрядом матросов. Увидев нас, все дикари поспешили из леса на открытый берег и стали двумя большими толпами по обеим сторонам места, где мы брали воду. Западная группа была самая крупная, она состояла не менее чем из семисот человек, которые держались сомкнутым отрядом и, казалось, ожидали сигнала к нападению; с востока стояло человек двести вооруженных людей, не проявлявших внешне такой враждебности. Между этими двумя группами стоял маленький старик, уже знакомый нам, и с ним еще двое, как и он, без оружия, перед ними лежали кучей бананы, ямс и т. п.
Когда мы еще находились шагах в двадцати от берега, капитан Кук крикнул туземцам и вдобавок показал знаками, чтобы те положили оружие и отошли от берега. Они пренебрегли требованием. Возможно, им даже показалось недостойным и смешным, что горстка чужеземцев берется устанавливать им законы в их собственной стране. Было бы неосторожно высаживаться между обеими толпами. Они могли напасть на нас, что стоило бы жизни многим из этих неповинных людей, да наверняка и иным из нас. Дабы по возможности заранее припугнуть их и удержать от подобного намерения, капитан Кук приказал выстрелить из мушкетов в воздух. Неожиданный гром поначалу и впрямь испугал толпу, но, когда первое удивление прошло, почти все остались на прежнем месте. У одного, стоявшего возле самого берега, даже хватило наглости показать нам зад и похлопать по нему рукой, что у всех народов Южного моря является обычным знаком вызова. Из-за этого бахвала капитан приказал еще раз выстрелить в воздух. На корабле это сочли за сигнал и дали залп сразу из пяти четырехфунтовых пушек, двух полуфунтовых и четырех мушкетов. Ядра просвистели над головами индейцев и срезали верхушки с нескольких пальм. Это возымело нужное действие, через несколько мгновений на берегу не осталось никого. Один только старый миротворец и два его друга бесстрашно продолжали стоять возле своих плодов. Как только мы ступили на сушу, старик подарил эту снедь капитану и попросил его больше не стрелять. Господин Ходжс очень точно и с большим вкусом изобразил эту сцену высадки.
Теперь первой нашей заботой было выстроить морских пехотинцев в две линии для защиты работавших. В землю вбили колья, протянули между ними веревку так, чтобы у набиравших воду была площадка шириной не менее 150 футов, где они без помех могли бы заниматься своим делом. Постепенно из зарослей на берег стали выходить жители. Мы знаками велели им не переступать линию, что они и выполнили. Капитан повторил свое требование положить оружие. Большая западная группа этого не сделала, но другие, настроенные, видимо, одинаково с миролюбивым стариком, в основном так и поступили. В знак нашего доверия к этому старику, которого звали Пао-вьянгом, мы разрешили им зайти за черту.
Постепенно мы осмелели и решили поискать в лесу растения, но не прошли и двадцати шагов, как всюду в кустах увидели индейцев, которые перебегали между группами стоявших на берегу. Поэтому нам показалось разумнее не углубляться дальше. Пришлось довольствоваться двумя-тремя новыми видами растений, и с сей небольшой добычей мы вернулись на берег.
Видя, что меньшая, восточная группа настроена миролюбиво, мы попытались завязать с ними разговор. Надо было познакомиться с их языком, и мы действительно узнали много новых слов. С торговлей, однако, повезло меньше. Как мы ни уговаривали их продать нам что-нибудь из своего оружия, они не уступали ничего. Цилиндрический кусок алебастра длиной 2 дюйма, который они носили в носу как украшение,— вот все, что мы смогли обменять. Прежде чем отдать нам сие украшение, владелец вымыл его в море; сделал ли он это ради чистоты или по какой-то другой причине — сказать не берусь.
Все то время, что мы оставались на берегу, жители не делали даже поползновений напасть на нас или помешать в работе. Меньшая группа относилась к нам как будто совсем хорошо, так что мы могли надеяться, что вскоре сумеем завязать с ними дружеские отношения.
Множество туземцев, собравшихся с разных мест острова, дали нам прекрасную возможность изучить их внешний вид, одежду и оружие.
В основном они среднего роста, хотя несколько человек были повыше, телосложения хорошего, правда, в большинстве тощие, но было несколько и довольно крепких парней. Красиво сложенных людей, каких довольно часто встретишь на островах Общества, Дружбы, на Маркизских островах, на Танне очень немного. Зато я не видел здесь ни одного толстого или тучного мужчины; все они подвижные, живые. Черты лица у них крупные, нос широкий, глаза почти у всех большие и обычно кроткие. Вид у них мужественный, открытый, прямодушный, но, конечно, как и среди любого другого народа, здесь встречаются физиономии, не сулящие ничего хорошего. Волосы у них черные, но у некоторых на кончиках коричневатые или желтоватые. Они очень густые, взъерошенные и по большей части курчавые, иногда немного шерстистые. Борода тоже густая, черная и курчавая, цвет кожи темно-коричневый, иногда черноватый, так что при первом взгляде кажется, будто они вымазаны сажей. Кожа, как и у негров, очень мягкая на ощупь.
Ходят они почти совершенно нагие, но, как и весь род человеческий, падки на украшения. Самое странное — их прическа. Она сплошь состоит из маленьких косичек, толщиной едва со стержень голубиного пера; вместо лент они перевиты гибким стеблем так, что на конце остается лишь маленький пучок. Те, у кого сравнительно густые волосы, вынуждены носить на голове несколько сотен таких маленьких жестких косичек, а так как длиной они всего 3—4 дюйма, то обычно торчат во все стороны, как иглы у дикобраза:
Like quills upon the fretful porcupine.
Shakespeare[470]Но если волосы немного длиннее, скажем дюймов в 5—9, то косички ниспадают с головы, и тогда эти люди напоминают речных богов с их струящимися камышовыми волосами. Некоторые, особенно те, у кого волосы шерстистые, оставляют их либо расти, как им положено природой, либо, самое большее, связывают на затылке в косицу с помощью гибкого , листа. Почти у всех в волосы воткнута тростинка или тонкая палочка длиной около 9 дюймов, чтобы время от времени спасаться от насекомых, коих водится в их головах большое количество. Они втыкают также в волосы маленькую тростниковую палочку, украшенную петушиными иди совиными перьями.
Чтобы прикрыть голову, некоторые повязывают ее зеленым листом банана или носят настоящую шапку из циновки; однако и то и другое есть не у всех. Бороду большинство оставляет расти, как ей положено природой, но некоторые заплетают ее в косички. Ноздри почти у всех проколоты, и в отверстие вставлена тонкая тростинка или камень такой же формы. Вместо серег они носят в ушах кольца из черепашьего панциря или из белых раковин, а иногда то и другое рядом или подвешенные в виде цепочки. В обоих случаях украшение необычайно растягивает отверстие в мочке, ибо некоторые кольца имеют ширину не меньше полудюйма и толщину три четверти дюйма. На шее у них иногда висит шнур, с которого на грудь свисает раковина или иногда вместо нее маленький овальный кусочек зеленого, похожего на новозеландский талька [нефрита]. На левой руке между локтем и плечом большинство носит браслет, сделанный из кокосовой скорлупы и либо украшенный резьбой, либо гладкий, но красиво отполированный. Чтобы сделать его еще более красивым, они втыкают за браслет какую-нибудь зелень, например Evodia hortensis, Croton variegatum, Lycopodium phlegmaria, Vitex trifolia или нее разновидность Еpidendrum.
Некоторые опоясываются повязкой из грубой материи, изготовляемой из луба какого-то дерева, обычно коричневого цвета. Другие довольствуются тонким шнуром, опоясанным вокруг тела; и то и другое служит, чтобы подтягивать мужской детородный член, который здешние жители, как и малликольцы, обертывают листьями растения, похожего на имбирь, и подвязывают к поясу возле пупка. Когда мальчику исполняется шесть лет, он уже должен следовать этой моде; то есть она, как я уже предположил, рассказывая о малликольцах, возникла отнюдь не по причине какой-либо стыдливости, ибо у нецивилизованных народов в детстве на такие вещи совершенно не обращают внимания. Пожалуй, в таком виде это должно производить впечатление прямо противоположное; скорее всего, жителями как Танны, так и Малликолло [Малекула] руководит не почтенное желание что-либо сокрыть, а сугубо телесное представление о том божестве плодородия, коему у древних посвящались сады.
Среди других украшений этого народа — различные виды грима и всевозможные фигуры, которые они надрезают на коже. Гримом красится только лицо; изготовляется он либо из красной охры, либо из белой извести, либо из черной, с графитовым блеском краски. Все это замешивается на кокосовом масле и наносится косыми полосами шириной 2—3 дюйма. Белая краска употребляется не часто, зато тем чаще встречается красная и черная; каждая из них нередко покрывает поллица. Надрезы на коже делаются преимущественно между плечом и локтем, а также на животе; они заменяют татуировку, распространенную среди жителей Новой Зеландии, острова Пасхи, островов Дружбы, Общества и Маркизских (поскольку у всех у них цвет кожи более светлый). Для этой операции жители Танны используют бамбуковую палочку или острую раковину; этой палочкой или раковиной они по произвольному рисунку делают довольно глубокие надрезы на коже, а затем накладывают на них особую траву, обладающую свойством, залечивая раны, вызывать выпуклые рубцы. Эти рубцы, коими бедняги немало гордятся, изображают цветы или другие странные фигуры. Метод, когда подобным же образом с помощью острого инструмента на коже накалываются точки, здесь совершенно, видимо, неизвестен, во всяком случае, я встретил на Танне лишь одного человека, имевшего на груди татуировку наподобие таитянской.
Оружие жителей Танны, без которого они никогда не появляются, составляют луки и стрелы, палицы, дротики или копья, а также пращи. С луком и пращой лучше всего умеют обращаться молодые люди, зато более старшие превосходно владеют копьем и палицей. Луки очень тугие, изготовляются они из самой лучшей и упругой казуариновой древесины, превосходно отполированы и, вероятно, время от времени смазываются маслом, чтобы они всегда оставались гладкими и упругими.
Стрелы делаются из тростинки длиной почти 4 фута, а острие — из черного дерева той же породы, что употребляется для этой цели малликольцами. Однако эти наконечники имеют здесь другую форму: они треугольные, иногда более 12 дюймов длиной и с двух, а иногда со всех трех сторон снабжены зазубринами. Для охоты на птиц и для рыбной ловли они используют стрелы с тремя остриями. Пращи делаются из кокосовых волокон, причем посредине, куда кладется камень, они шире, чем у концов. Островитяне носят ее с собой обычно на руке или обернув вокруг тела, как носят при себе и камни, специально завернув в большой лист. Третий вид метательного оружия — это дротики или копья. Обычно для них берутся узловатые бесформенные палки толщиной не более полудюйма, но длиной 9—10 футов; более толстый конец образует треугольное острие 6—8 дюймов, на котором с трех сторон делается около десятка надрезов или зазубрин. Таким копьем житель Танны редко промахивается мимо цели, тем паче с небольшого расстояния. В этом ему помогает кусок веревки длиной 4—5 футов, сплетенной из древесного луба и имеющей на одном конце узел, на другом — петлю. Пользуются ею следующим образом. В петлю вставляется указательный палец, затем этим пальцем и большим берется дротик, а другой конец бечевки обертывается один раз вокруг древка дротика поверх руки. Теперь при броске дротик не может отклониться от данного ему направления, покуда с силой не вырвется из петли, которая остается на указательном пальце метателя[471]. Я видел не один такой бросок, когда зазубренное острие дротика, брошенного с расстояния 30—40 футов, пробивало столб толщиной 4 дюйма[472].
То же можно сказать и про их стрелы; на расстоянии 8—10 шагов они вонзаются в цель с полной силой, однако на большем расстоянии, то есть шагах двадцати пяти — тридцати, их можно не опасаться, ибо туземцы, боясь сломать лук, не натягивают его столь сильно, чтобы он поражал на таком расстоянии. Кроме этого метательного оружия, одним из которых всегда владеют взрослые, каждый имеет при себе еще палицу, используемую при рукопашной схватке. Они бывают пяти видов. Лучшие изготовляются из казуаринового дерева и имеют 4 фута в длину. Они прямые, чисто отполированные и с обоих концов, сверху и снизу, имеют утолщение. Верхнее, круглой формы, служит рукояткой, другое образует собственно палицу и имеет несколько заостренных выпуклостей или зубцов в виде звезды. Для другого вида палиц, длиной 6 футов, берется серое твердое дерево, причем, видимо, от комля, так как на нижней части этой палицы с одной стороны обычно есть заметный выступ, похожий на кусок корня. У третьего вида, длиной почти 5 футов, на нижнем конце имеется выступ в 8—10 дюймов, перпендикулярный рукоятке палицы, видом напоминающий ланцет, каким пользуются ветеринары, и с таким же острым угловатым лезвием. Четвертый вид палицы похож на предыдущий, но с острыми выступами на каждой стороне, то есть всего их четыре. Наконец, пятый вид представляет собой кусок кораллового камня, которому придана округлая форма; длина этой палицы около полутора футов, толщина же в поперечнике всего 2 дюйма; она используется не только для нанесения удара, но и для метания.
В тот день показалось всего несколько женщин, и то на изрядном отдалении. Насколько можно было видеть, все они были безобразны и ростом меньше мужчин. На молодых девушках была лишь бечевка вокруг тела, с которой спереди и сзади свисало по небольшому пуку травы. Женщины постарше носили короткую юбку из листьев. Их ушные серьги представляли собой несколько колец из черепашьего панциря, а ожерелья были сделаны из нанизанных на шнур раковин. Некоторые старухи обертывали вокруг головы зеленый лист банана, другие носили шапочки из циновки; однако и то и другое встречалось редко. К полудню большинство жителей ушло с берега, должно быть из-за сильной жары, а также и потому, что наступило время еды. По тем же причинам и мы вернулись на борт с наполненными бочками.
После обеда, часов около трех, мы опять отправились на берег, но не увидели там ни души. Лишь в отдалении, к востоку, была видна группа индейцев человек в тридцать; они сидели в тени пальм и, казалось, не обращали на нас ни малейшего внимания. Мы воспользовались случаем, чтобы незаметно углубиться на несколько шагов в лес, где были разные новые растения. Равнина у подножия плоской возвышенности была частично не возделана и привлекала наше любопытство разными породами диких деревьев и невысоким кустарником. Однако уходить далеко от берега мы не могли, ибо не знали, можно ли вполне доверять дикарям.
Собирая растения, мы приблизились к индейцам, которые по-прежнему спокойно сидели на траве. Однако на изрядном расстоянии от них нам встретился старый Пао-вьянгом и принес моему отцу в подарок поросенка. Тот отдарил его тем, что имел при себе: дал длинный гвоздь и кусок таитянской материи. Затем мы вместе вернулись к шлюпкам, чтоб отнести туда свинью.
Наши люди как раз занимались тем, что ловили рыбу большой сетью. Должно быть, сидевшие в отдалении индейцы заметили это и вскоре подошли к нам; причем они не только оставили свое оружие, чего обычно не делали, но и завели с нами вполне дружелюбный разговор. Рыбная ловля была настолько удачной, что за короткое время у нас оказалось 3 центнера[473] разнообразной вкусной рыбы.
Особенно вкусна была разновидность кефали, а также рыба Esox argenteus N. S, которая часто встречается на вест-индсих островах и получила название «десятифунтовик» (ten pounder), ибо она нередко имеет такой вес.
Пао-вьянгом попросил себе немного и очень обрадовался, когда ему дали несколько рыбин. К закату солнца мы возвратились на борт. Провизия, которую мы привезли, вызвала у всей команды большую радость, тем более что каждый давно мечтал о свежей еде.
Вулкан, еще накануне утром дававший о себе то и дело знать, после полудня совсем утих. Ночью несколько раз шел дождь, и на другое утро гора опять стала оживать. Взрывавшийся из нее огонь каждый раз являл нам красивое, великолепное зрелище. Дым, густыми кудрявыми облаками поднимавшийся над вулканом, то и дело менял блистательнейшие цвета: желтый, оранжевый, багряный, пурпурный,— которые под конец переходили в красновато-серый и темно-коричневый. Каждый раз, когда извергалось это пламя, вся гора, поросшая лесом, внезапно озарялась золотом и пурпуром, при этом то ярче, то слабее, в зависимости от отдаления, высвечивались группы деревьев.
После завтрака мы сошли на берег, где собрались жители, хотя и не столь много, как накануне. Они не только позволили нам спокойно выйти, но и сами расчистили дорогу, чтобы мы спокойно прошли к месту, где обычно наполняли водой бочки. Капитан для безопасности счел все же необходимым протянуть бечевки. Недоверие островитян, похоже, еще не до конца прошло; во всяком случае, большинство не удавалось убедить, чтобы они продали нам оружие, но некоторые уже не очень об этом заботились и меняли как палицы, так и копья. Мой отец дал Пао-вьянгому за свинью, которую тот подарил ему накануне, топор и показал, как им пользоваться. Топор до того ему понравился, что он . стал показывать его своим землякам. Скоро топоры стали пользоваться спросом. Мы обещали им такие же, если они за это принесут нам свиней, но ничего из этого не получилось.
В тот день капитан Кук приказал господину Уолсу поставить палатку для астрономических наблюдений. Некоторые из собравшихся при этом дикарей устроили вокруг пляску, заносчиво потрясая своими копьями. До действий, однако, не дошло, и к полудню мы вместе с капитаном спокойно вернулись на борт. Едва мы добрались до корабля, как кто-то из морских пехотинцев, оставшихся на берегу под командой лейтенанта, выстрелил, вызвав смятение среди туземцев. Вскоре они, однако, успокоились и снова появились на берегу. Когда в 3 часа наши люди вернулись на борт пообедать, выяснилось, что сами индейцы были виноваты в переполохе. Один из них разозлил нашего офицера непристойным жестом, который здесь считается вызывающим. Подобное происходило и накануне, поэтому лейтенант, как вчера капитан, ответил зарядом дроби. Дикарь был ранен в ногу и уполз в кусты, за ним последовали и его земляки. Они, наверное, взялись бы за оружие, если бы их вовремя не успокоил миролюбиво настроенный старик.
Вечером мы опять сошли на берег и по пути забросили сеть в надежде на удачный лов. Однако пришло не более полуцентнера рыбы. На месте высадки, где мы поначалу встретили всего несколько человек, скоро собралась довольно большая толпа. Большинство было без оружия, некоторые, откликнувшись на наше требование, бросили оружие в кусты. На закате они опять исчезли; однако несколько человек, к нашему удивлению, все еще оставались с нами. Наконец и они показали, что хотели бы уйти, и, как только поняли намек, что мы то не собираемся их задерживать ни на минуту, ушли все до единого. Было ли в таком поведении что-то церемонное, как будто они считали невежливым оставлять на своей земле чужеземцев без своего общества? Для подобного толкования надо, конечно, предполагать наличие у них таких понятий о поведении и внешних приличиях, которые во всех других отношениях не очень соответствуют весьма низкому уровню цивилизации у этого народа.
На следующее утро доктор Спаррман, мой отец и я опять отправились на берег, к западной стороне гавани, и там поднялись к подножию крутой горы, где группа матросов должна была грузить балласт. В этом месте волны так сильно били о берег, что мы не смогли подойти к нему на шлюпках, а прошли через колосу прибоя вброд. Заниматься сбором новых растений в этом месте тоже было не очень удобно; все время грозила опасность сломать себе шею, и мы действительно не раз скользили по крутому склону горы. Все же помимо многих трав нам удалось найти некоторые породы минералов.
Гора эта по большей части состоит из слоистого глинозема, очень мягкого и легко выветривающегося. В нем содержатся частицы черного песчаника и вещество, напоминающее lapis suillus, а также кусочки мела, иногда совершенно чистые, иногда с вкраплениями железа. В нескольких сотнях шагов к западной оконечности гавани мы обнаружили тропу, которая вела в гору, и пошли по ней, но, увидев, что оттуда спускается толпа вооруженных индейцев, вынуждены были ни с чем вернуться к нашим людям и купили у собравшихся там туземцев сахарный тростник и кокосовые орехи. Они сидели на скалах вокруг нас, и один из них, пользовавшийся, видимо, известным уважением у остальных, спросил имя моего отца, а затем сказал свое. Звали его Умбьеган. Обычай завязывать дружбу, обменявшись именами, распространен на всех островах Южного моря, где мы до сих пор побывали; в нем действительно есть что-то любезное и приятное. Таким образом, жители Танны как бы приняли нас в свою среду, поэтому мы полагали, что можем доверять им теперь гораздо больше, чем до сих пор, и воспользовались этим дружелюбным настроением главным образом для того, чтобы расширить свои познания в здешнем языке.
Островитяне по этому случаю угостили нас фикусовыми листьями, которые завертываются в листы банана и с помощью горячих камней пекутся, или, вернее, тушатся, в земле; они получаются довольно вкусные и напоминают шпинат. Затем нам дали два больших банана дикорастущего вида, так что мы имели удовольствие убедиться, что и для сего народа гостеприимство — отнюдь не чуждая добродетель. Этими лакомствами нас угощали женщины и дети. До сих пор они не отваживались подходить так близко. Правда, они и теперь все еще держались крайне пугливо; стоило нам пристально на них посмотреть, как они убегали прочь, над чем мужчины всякий раз от души смеялись. Но с нас было достаточно пока и того, что они хоть немного преодолели прежнюю робость.
Некоторые из этих женщин были на вид весьма приветливы, но в большинстве своем казались мрачными и печальными. Как и мужчины, они носили в качестве украшения ушные кольца и ожерелья, а замужние женщины — шапочки, плетенные из травы. У большинства в ноздри был воткнут для украшения округло-продолговатый кусок белого камня. Когда мы им дарили стеклянные бусы, гвоздь, ленту или что-либо еще, они не хотели ничего брать руками, а просили, чтобы мы это положили на землю, и лишь потом брали с помощью зеленого листа. Было ли это суеверной причудой, проявлением чистоплотности или какой-то особой вежливостью, сказать не берусь. К полудню все они разошлись по своим домам, расположенным главным образом на горе, а мы с матросами вернулись на борт.
После полудня опять ловили рыбу, однако без особого успеха; после всех попыток поймали всего несколько дюжин. Затем мы вышли на берег, но, поскольку там находились индейцы, не рискнули пойти в лес, а довольствовались лишь тем, что поискали на опушке растения и заодно узнали еще немного здешний язык.
На следующее утро мы еще раз посетили то же самое место, где наши люди грузили балласт. Несмотря на жару, мы несколько часов лазили по скалам, но нашли мало интересного. С вожделением взирали мы на более густой лес вверху, однако, опасаясь индейцев, не решались отправиться туда на поиски ботанических сокровищ. На обратном пути мы обнаружили горячий источник, бивший из скал неподалеку от берега. У нас не было с собой термометра, но на ощупь температура воды показалась довольно высокой; я, например, мог продержать в ней палец не дольше секунды.
Как только мы в полдень вернулись на корабль, туда с места водозабора прибыл капитан, а с ним индеец. Это был тот самый юноша, который еще при нашем прибытии выказал столько хладнокровия и спокойного мужества: он был единственный из более чем двухсот своих соплеменников, кто остался стоять в своем каноэ, когда выстрелили пушки и все остальные от страха попрыгали в воду. Он сказал, что его зовут Фанокко, и пожелал узнать наши имена, после чего попытался, как умел, повторить их и запомнить. Однако, как и всем другим его землякам, его органам речи не хватало той подвижности, которая в столь удивительной степени присуща была малликольцам. Поэтому нам пришлось произнести для него наши имена мягче, как это делали таитяне. У него были приятные черты лица, глаза большие, живые, весь его вид говорил о веселости, бодрости и смышлености.
Последнее можно подтвердить таким примером. Мой отец и капитан Кук, изучая слова здешнего языка, записали совершенно разные выражения, каждое из которых обозначало небо. Чтобы выяснить наконец, какое название правильное, они обратились к Фанокко. Тот, ни секунды не задумываясь, поднял правую руку и назвал одно слово, затеи провел под ней другой рукой и произнес второе спорное слово, дав при этом понять, что верхняя рука означает собственно небо, а другая — облака, которые движутся под ним. Таким же простым и ясным образом он сообщил нам названия окрестных островов. Тот, где капитану Куку так не повезло в общении с туземцами и откуда мы как раз приплыли сюда, он назвал Ирроманга [Эроманга]. Низкий остров, который мы миновали но пути, назывался Иммер [Анива], высокий остров, который мы в это же время видели к востоку от Танны,— Ирронан [Футуна], а третий, лежащий к югу, еще не замеченный нами — Анаттом [Анейтьюм].
Островитяне, должно быть, обеспокоились отсутствием доброго Фанокко, ибо вскорости несколько человек подплыли к кораблю в каноэ и в немалой тревоге спросили про него. Услышав это, он выглянул из окна каюты, крикнул им несколько слов, и они вернулись на берег. Через некоторое время они появились опять и привезли ему петуха, сахарного тростника и кокосовых орехов, которые он, как благодарный гость, подарил хозяину — капитану.
Затем мы сели с ним вместе за стол. Фанокко попробовал свиной солонины, но одного куска оказалось с него довольно. Жареный и вареный ямс пришелся ему больше по вкусу, но вообще он ел очень умеренно. На закуску подали нечто вроде торта, который ему очень понравился, хотя блюдо было приготовлено всего только из печеных, да к тому же зачервивевших сушеных яблок. Мы предложили ему также стакан вина; он хоть и выпил его без отвращения, но второго не захотел. За столом Фанокко держал себя весьма учтиво и достойно. Единственное, что нам не совсем понравилось в его манерах, было обыкновение употреблять в качестве вилки тростниковую палочку, которая была воткнута в его волосы, а потом опять почесывать ею голову. Поскольку у него была изысканнейшая по здешней моде прическа à la porc-épic[474], а голова была намазана маслом и всяческими красками, у нас не могло не вызвать некоторого отвращения, когда он этой палочкой то тыкал в тарелку, то скреб в волосах. Но, разумеется, достойному Фанокко не приходило в голову, что это может быть не совсем прилично.
После еды мы провели его по судну и показали все, что могло быть интересным. Особое внимание его привлекла таитянская собака. Несомненно, этот вид животных был ему до сих пор совершенно неизвестен, потому что он назвал ее «буга» (что на здешнем языке означает «свинья») и очень просил подарить ее. Капитан подарил ему не только кобеля, но и суку. Кроме того, он получил еще и топор, большой кусок таитянской материи, несколько длинных гвоздей, медали, а также разные мелочи, после чего мы отвезли его на берег. Казалось, он был вне себя от радости, получив столько подарков.
На берегу Фанокко и его друзья взяли капитана за руку, как будто хотели повести его к себе домой. Но, видимо, вскоре они передумали и дальше не пошли, а вместо этого послали одного из своих за подарком, который хотели преподнести капитану. Тем временем пришел старый Пао-вьянгом и принес капитану много ямса и кокосовых орехов, их, как напоказ, несли двадцать мужчин, хотя для такого количества хватило бы и двух. Видимо, это шествие должно было придать подарку больше важности. Фанокко и его друзья все еще нетерпеливо ждали возвращения своего посланца, но, поскольку уже стало темнеть, а тот не появлялся, капитан покинул добрых людей, которые казались немного смущенными тем, что не ответили на его подарок.
Между тем мы совершили небольшую прогулку вдоль берега залива и у подножия плоской возвышенности, разыскивая в лесу растения. Лес состоял преимущественно из пальм и фикусовых деревьев, плоды которых величиной с обычную фигу, съедобны. В этих же местах на берегу нам встретилось несколько сараев, где хранились каноэ, защищенные от солнца и дождя. Жилища же видны были только на восточной стороне гавани. Мы уже собирались пойти туда, но не дошли сотни три шагов, как нам навстречу вышла группа индейцев и попросила повернуть обратно. Другие побежали к капитану Куку, показали на нас и потребовали, чтобы он велел нам вернуться обратно. Мы так и сделали, дабы не давать повода для враждебных действий, однако попробовали пройти в глубь острова с другой стороны, от места, где мы брали воду.
С этой целью мы двинулись по тропе, которая поднималась на высокую равнину. Скоро она сквозь густые заросли привела нас к открытому месту, поросшему прекрасной травой, словно самый лучший наш луг, и окруженному лесом. Пока мы поднимались на возвышенность, оттуда спустились трое туземцев и попытались уговорить нас вернуться. Но, увидев, что у нас нет такой охоты, сочли за лучшее по крайней мере сопровождать нас — возможно, чтобы мы не заходили слишком далеко.
Постепенно через небольшой светлый перелесок мы добрались до обширных банановых плантаций, которые сменились полями ямса, и Аruт [таро], а также посадками фикусовых деревьев; вокруг некоторых были каменные, в 2 фута высотой ограды. Мы вскоре поняли, что эта дорога пересекает узкий мыс к юго-востоку от гавани, поскольку уже довольно громко слышен был шум волн с другого берега. Наши провожатые-индейцы также забеспокоились, что мы пойдем дальше, но, когда мы заверили их, что хотим только посмотреть на море, они привели нас на небольшую возвышенность, с которой видно было открытое море. В 8—10 милях виднелся остров, который Фанокко назвал Анаттом. Горы на нем казались довольно высокими, а сам он хоть и был меньше, чем Танна, но все же миль 10—12 в окружности. Осмотревшись, мы той же дорогой вернулись обратно.
Если до сих пор индейцы усердно уговаривали нас не ходить дальше в глубь острова, то теперь они с не меньшим усердием стали приглашать нас пойти туда и предлагали себя в провожатые. Хотя у меня не было оснований приписывать им недобрые намерения, все же полагаться на них не стоило, тем более что они незадолго перед тем куда-то отослали одного из своих товарищей; в этом было что-то подозрительное. Поэтому мы вернулись прямо на берег, хотя только что нашли единственное новое растение, и эта небольшая удача лишь возбудила в нас еще большее желание исследовать остров дальше.
Когда мы пришли, матросы были заняты рыбной ловлей; но улов оказался не таким большим, как в первый раз. Группа индейцев внимательно наблюдала за ними, и по их жестам можно было понять, что наш способ рыбной ловли для них — зрелище совершенно новое. У них рыбу умели добывать только стрелой или копьем (как у нас гарпуном), когда она показывалась у поверхности воды.
При виде чего-то необычного они восклицали: «Хибау!» Это же слово служило им для выражения и страха, и удивления, и отвращения, и даже желания получить какую-то вещь. Что оно каждый раз обозначало, легко можно было понять отчасти по жестикуляции, отчасти по интонации, а иногда и по тому, произносилось ли оно растянуто, часто или несколько раз подряд. Выражая удивление, они обычно щелкали при этом пальцами.
На другой день сразу после завтрака мы отправились к месту, где брали воду. Наши люди, которые приступили к этой работе еще на рассвете, рассказали нам, что видели, как с восточного мыса мимо них прошло много жителей, нагруженных тюками. Они направлялись в глубь страны. Это выглядело как настоящее переселение, словно индейцы нарочно покидали окрестности гавани, чтобы жить где-нибудь в отдаленной части острова спокойно, не боясь нашего оружия. Я, однако, объяснил это иначе. По-моему, жители после первого переполоха, вызванного нашим появлением, собрались у гавани из разных мест, дабы при необходимости совместно защитить остров. Пока не стало ясно, друзья мы или враги, они оставались здесь, и прибывшим издалека пришлось все это время ночевать в лесах. Теперь же, увидев, что нас нечего бояться, они разошлись по своим домам. Это предположение было тем более вероятно, что хижины здесь можно было увидеть лишь возле восточного мыса, и то очень немного. Мы при всяком случае старались развеять их недоверие к нам, и особенно наглядно это действовало, когда мы на пальцах показывали им, что намерены здесь пробыть всего несколько дней.
В связи с этим массовым переселением можно было, между прочим, заметить, что тюки несли только женщины, а мужчины шли рядом с ними налегке. Даже одно это обстоятельство позволяло судить, что жители Танны еще не так цивилизованы, как жители островов Общества и Дружбы, ибо жестокое обращение мужчин с женщинами, на которых возлагается самая грязная и тяжелая работа, всегда свойственно грубым и необразованным народам.
Туземцы действительно ушли в глубь острова, и это чувствовалось и по тому, что на берегу теперь видно было лишь немногих. Мы решили, что теперь можем без опасений пройтись по равнине за местом водозабора, и там нашли несколько больших участков, засаженных Аruт [таро]. Нам встретились также целые леса кокосовых пальм, по которым, однако, почти нигде нельзя было пройти, так все заросло кустарником. Множество птиц оживляли лес; мы заметили прежде всего мухоловок, пищух (Creepers) и попугаев. Здесь была порода орехового дерева[475], которое мы уже встречали на Таити и плоды которого употребляются в пищу. На этих деревьях жили голуби, преимущественно того же вида, что часто ловят и приручают на островах Дружбы. Похоже, что и на Танне с ними поступают так же. Один из наших офицеров подстрелил голубя, к хвосту которого были прикреплены два белых пера, так что он с первого взгляда принял его за какую-то совершенно неизвестную птицу.
Индейцы, встретившиеся по пути, рассказали нам, что один из наших людей убил двух голубей; само по себе это известие было малосущественным, но важно, что индейцы сообщили его нам не на здешнем наречии, а на языке, который в ходу на островах Дружбы. Несомненно, они заметили, что мы в разговоре часто прибегаем к помощи слов из этого языка, и они воспользовались ими, чтобы мы их лучше поняли. Когда мы выразили свое удивление тем, что они говорят на чужом языке, они повторили сказанное по-таннски, то есть на своем родном языке, совершенно непохожем на упомянутый, и добавили, что тот язык употребляется на острове Ирронан[476], лежащем милях в восьми к востоку. Такая общность языков на столь отдаленных друг от друга островах может объясняться двумя причинами. Возможно, какая-то группа коренного населения, обитавшего на островах Дружбы и вообще на всех восточных островах Южного моря, переселилась на Ирронан; или же, возможно, жители этого острова общаются с жителями островов Дружбы, в чем им могут способствовать какие-то расположенные между ними и пока нам неизвестные острова.
После полудня мы опять вышли в путь. На сей раз нам встретилось совсем немного жителей, хотя мы прошли по равнине от моря 3 мили. Каждому встречному мы говорили, что хотим только пострелять птиц; в таких случаях нас обычно пропускали беспрепятственно. Мы и в самом деле подстрелили несколько мелких птиц, по подбирать их нам удавалось редко, потому что они обычно падали в траву, такую высокую и густую, что никак их было не найти. В этих местах имелись ухоженные плантации бананов и сахарного тростника, зато нигде мы не видели хижин; большая часть равнины была не возделана и покрыта где высоким лесом, где низким кустарником.
Мы вышли к длинной и очень просторной долине, с разных мест которой поднимался дым и слышались голоса людей. Но ни самих людей, ни их хижин не было видно, так как тропа, которой мы шли, со всех сторон окружена была густым кустарником, а сама долина покрыта лесом. К тому же приближался вечер, так что мы удовольствовались тем, что обнаружили эту долину, и, решив при следующей возможности узнать о ней побольше, без приключений вернулись на берег.
Всю ночь почти без перерыва лил сильный дождь. Мрак от этого сгустился, но тем более живописной была картина, когда пламя вулкана золотило густой дым, поднимавшийся над вершиной. Извержение совсем как будто прекратилось, и уже много дней не доносилось никаких подземных толчков.
Утром опять прояснело, так что мы смогли сойти на берег, где, как и накануне, было видно лишь несколько туземцев. На западной стороне залива была тропа, по которой мы несколько дней назад пытались немного пройти, а теперь решили попробовать взобраться по ней на саму гору. Она была не так крута, как нам показалось, к тому же дорога шла прекрасным лесом, где цвели дикие деревья и кусты, даря путнику свое благоухание. Разнообразные цветы украшали листву, а самые высокие деревья были увиты, словно плющом, голубыми и пурпурными вьюнками. Птицы вольным пением своим оживляли местность, где, казалось, не было никаких других живых обитателей. И в самом деле, мы не видели кругом даже следа человека или посадок.
Мы поднимались по извилистой тропе все выше и через четверть часа добрались до маленькой открытой лужайки, поросшей нежнейшей травой и окруженной дикими деревьями. Лучи солнца палили тем сильнее, что ветер сюда не достигал; к тому же зной казался еще более гнетущим из-за горячего пара, едкий серный запах которого выдавал его подземное происхождение. Вскоре мы обнаружили, что он поднимается из небольшой кучки беловатой земли между великолепными фикусовыми деревьями. Земля эта не была, как могло показаться на первый взгляд, чем-то вроде известняка; это была настоящая глина, смешанная с самородной серой, на вкус едкая, вяжущая, как квасцы. Если копнуть ее палкой, дым поднимался еще сильнее, а почва была такая горячая, что невозможно было ступить на нее босыми ногами.
Немного повыше дорога привела нас к другой такой же площадке, немного покатой; однако на ней не было ни травы, ни других растений. Земля здесь состояла из красной охры, которой туземцы себя раскрашивают, а в двух местах из небольших кучек поднимался такой же серный дым, однако не столь часто и не с таким сильным запахом. Глина здесь была немного более зеленоватой, что, несомненно, объяснялось содержанием в ней серы. Тем временем вулкан стал беспокойнее, и во время каждого извержения из этих подземных серных ям вырывался, подобно густому белому облаку, пар, более обильный, чем обычно. Это, видимо, свидетельствует о том, что между обоими местами существует либо непосредственная связь, либо о том, что внутренние мощные сотрясения огнедышащей горы каким-то иным, косвенным образом сказываются на этих серных источниках. Сам же вулкан, как мы второй раз сегодня заметили, после дождя становится особенно беспокойным; возможно, дождь каким-то образом влияет на извержения, вызывая реакции каких-то горючих минералов в горе или как-то их усиливая.
Понаблюдав довольно долго за курящимися отверстиями этих сольфатар[477], мы поднялись еще выше и скоро в разных местах леса увидели несколько плантаций. Тропа легко провела нас между густолиственными деревьями до самой вершины, с которой открывался северо-восточный берег моря; по другой стороне горы спускалась узкая, заключенная между двумя тростниковыми изгородями дорога. По этой дороге мы скоро дошли до места, находившегося прямо против вулкана, и отсюда смогли особенно ясно увидеть извержение, хотя до него еще было 2 мили. Нас привела в особенное изумление мощь подземного пламени, которое выбрасывало из недр горы камни величиной иногда с самую большую нашу шлюпку так, словно это были булыжники.
Ободренные удачным до сих пор ходом нашего путешествия и безлюдностью сих мест, мы собирались уже двинуться дальше, как вдруг где-то затрубили в одну или две раковины. Поскольку сей инструмент у всех диких народов, особенно населяющих Южное море, служит сигналом тревоги, мы решили, что выдали себя слишком громким разговором и переполошили туземцев. Вряд ли стоило надеяться на их миролюбие, поэтому мы скорей повернули назад, дошли до верхней сольфатары и лишь там встретили нескольких индейцев. Они поднимались от пруда и, казалось, были удивлены, что мы забрались так далеко. Мы, как обычно, отговорились тем, что вышли только пострелять птиц, и попросили у них попить. По поводу первого они ничего не сказали, да похоже, не обратили внимания и на второе, а просто пошли себе дальше в гору. Но когда мы, задержавшись тут еще примерно на четверть часа, чтобы поискать растения, собрались идти дальше, к нам спустилась целая семья — мужчины, женщины и дети — и подарила нам немного сахарного тростника, а также два или три кокосовых ореха. Мы, чем могли, отдарили за этот неожиданный освежающий подарок, они очень довольные вернулись к себе, а мы со своими ботаническими сокровищами спустились на берег, где шлюпки уже готовились возвращаться на корабль.
Пока нас не было, индейцы начали приносить на продажу ямс, сахарный тростник, кокосовые орехи и бананы, правда еще довольно скупо, но для начала это было неплохо и позволяло в дальнейшем надеяться на большее. Они еще слишком мало знали пользу железных изделий и потому ценили их невысоко, а охотнее брали таитянскую материю, небольшие куски новозеландского зеленого нефрита, перламутр и особенно черепаший панцирь. На него они готовы были обменять самое ценное — свое оружие, поначалу только копья и стрелы, но потом и луки и палицы.
Сразу после еды мы опять отправились на берег и пошли вдоль моря к восточной оконечности гавани, откуда нас несколько дней назад заворотили туземцы. По пути мы встретили нескольких. Они остановились, чтобы с нами поговорить; но тут один из индейцев присел на корточки за деревом, натянул свой лук и прицелился в нас стрелой. Не успели мы оглянуться, как один из наших товарищей прицелился в него из ружья. Парень тотчас бросил в сторону лук и смиренно направился к нам. Возможно, у него не было дурных намерений, но таким шуткам не всегда можно доверять.
Неподалеку от восточного мыса, куда мы вскоре добрались, росли красивые деревья, на которые мы обратили внимание еще при входе в гавань из-за их пылающе-красного цвета. Теперь выяснилось, что это цвела Eugenia или разновидность Jambos[478]. Мы прошли через мыс, когда вдруг дорогу нам загородили пятнадцать-двадцать индейцев и очень серьезно попросили нас вернуться. Увидев, что мы не проявляем к этому никакой охоты, они повторили свою просьбу и наконец жестами дали понять, что их земляки наверняка убьют нас и съедят, если мы пойдем дальше. Нас неприятно поразило, что эти островитяне, коих мы никогда не считали людоедами, сами объявляли себя таковыми. Хотя они и по другим поводам намекали на нечто подобное, все же было бы бессердечно приписывать им такое варварство, не располагая никакими доказательствами. Поэтому мы сделали вид, будто приняли их знаки за предложение чего-нибудь поесть, и, дав понять, что не отказались бы, пошли дальше. Они изо всех сил старались рассеять наше заблуждение и очень ясно знаками же пояснили, как сначала убивают человека, затем разделывают его на части, а потом отделяют мясо от костей. Наконец они зубами прикусили руку, не оставляя у нас ни малейшего сомнения, что здесь действительно едят человеческое мясо.
После такого предостережения мы повернули с мыса и пошли к хижине, располагавшейся шагах в пятидесяти на холме. Увидев, что мы поднимаемся, обитатели ее тотчас вбежали в хижину и достали оружие, вероятно чтобы нас прогнать; должно быть, они полагали, что мы, как враги, хотим их ограбить. Чтобы не усугублять недоверия, мы решили ограничить свою любознательность, которая могла нам дорого стоить. Между тем любопытствовали мы отнюдь не о пустяках. Дело в том, что каждое утро на рассвете мы слышали, как индейцы на этом мысу затягивают медленную торжественную песню, продолжавшуюся обычно более четверти часа и звучавшую как погребальный напев. Нас интересовало, не религиозная ли это церемония, и мы предполагали, что где-то там прячется святилище, тем более что туземцы всегда так усердно старались не допускать нас туда.
Пройдя немного обратно, мы поднялись на высокую равнину в надежде увидеть что-нибудь оттуда, ибо она лежала на 40—50 футов выше мыса. Однако перед нами оказалась просторная плантация, поросшая бананами, а также кокосовыми пальмами и другими высокими деревьями, которые закрывали обзор. К тому же она со всех сторон окружена была плотной тростниковой изгородью, какие мы видели на Тонгатабу [Тонгатапу] и Намокке [Номука]. Индейцы продолжали следовать за нами по пятам. Они опять стали нас предостерегать и наконец начали открыто грозить, что убьют нас и съедят, если мы пойдем дальше. Обычное уверение, что мы хотим просто поохотиться, на сей раз не подействовало; более того, наше сегодняшнее упрямство, казалось, возродило в них былое недоверие. Возможно, не разойтись бы нам мирно, не повстречайся нам старый Пао-вьянгом. С ним они спокойно позволили нам пройти по всей возвышенности до западной оконечности гавани.
Вся эта местность была засажена фикусовыми деревьями, которые разводят ради их съедобных листьев и плодов. Они бывают трех видов; на одном плоды по величине такие же, как наши, но снаружи они пушистые, как персики, а внутри кроваво-красные, как гранаты. Сок у них сладкий, по невкусный. На других высоких деревьях очень густо рос джамбу; этот плод величиной с небольшую грушу, и его приятный кисловатый сок очень хорошо освежает. Кроме того, здесь растут красивые капустные пальмы (Areca oleracea Liпп.)
Миновав плантацию, мы вошли в небольшой перелесок, где цвел разнообразный кустарник. Там оказалась красивая лужайка шириной не менее чем в сотню локтей[479], окруженная со всех сторон высокими и такими густыми деревьями, что сквозь них ничего не было видно. На краю ее стояли три хижины, а в одном углу росло дикое, необычайно большое фикусовое дерево у корня толщиной не меньше чем три локтя, живописно раскинувшее ветви во все стороны на добрых сорок локтей. Под этим величественным деревом, которое было еще в своей лучшей поре, у костра, где пеклись бананы и ямс, собралось небольшое семейство. Увидев нас, они тотчас убежали и хотели спрятаться в хижинах, но Пао-вьянгом крикнул им, чтобы они не боялись, после чего они показались опять. Женщины и девочки оставались, однако, в некотором отдалении и лишь изредка робко выглядывали из-за кустов. Мы сделали вид, будто не замечаем их, и сели возле мужчин, которые с гостеприимством, обычным почти на всех этих островах, пригласили нас разделить с ними трапезу.
Хижины их представляли собой просто большие крыши, стоящие прямо на земле и сходящиеся наверху. С обоих концов они открыты, если не считать маленького заслона, сплетенного из тростника и палок, который ставится перед входом. Высота самой большой хижины не превышает 9—10 футов, расстояние между обоими скатами крыши у земли примерно такое же. Зато длина гораздо больше, она иногда достигает 35—40 футов. Это самое простое устройство жилища. В землю наклонно втыкаются два ряда столбов, сходящихся наверху. Там их скрепляют по два и покрывают эти стропила циновками, пока кровля не становится достаточно плотной, чтобы защищать от ветра и дождя. Внутри мы не обнаружили никакой посуды либо другой утвари, лишь кое-где разостлано было несколько сплетенных из пальмовых листьев циновок, а остальная часть земли уложена сухой травой. В каждой хижине в разных местах разводится огонь, о чем свидетельствуют и боковые стенки, покрытые несколькими слоями сажи.
Посредине площадки стояли один возле другого три высоких шеста, сделанных из стволов кокосовых пальм и соединенных между собой маленькими планками. Сверху, на высоте 10 футов от земли, на этих шестах были поперечно укреплены несколько коротких жердей, увешанных старыми кокосовыми орехами. Поскольку туземцы употребляют масло этих орехов для умащивания, а скорлупу для браслетов и других украшений, их, возможно, вывешивают на открытом воздухе для сушки. Во всяком случае, это не был простой запас, иначе в большой роще диких кокосовых пальм, которую мы видели недалеко от мыса, не валялось бы и не гнило под деревьями столько орехов.
Вокруг лужайки на кустах висели маленькие лоскутки материи, изготовленной из коры фикусового дерева; ее носили в виде пояса. Подарки, полученные от нас Пao-вьянгомом, в том числе шапка с галунами, тоже были выставлены на обозрение как почетный знак. Такая беззаботность неопровержимо доказывала, на мой взгляд, честность, присущую жителям Танны. На Таити всякий вынужден был вешать свое небольшое имущество на крышу, а лестницу на ночь подкладывать под голову вместо подушки, дабы уберечься от воров; здесь же все можно было хранить без опаски на первом попавшемся кусте. Недаром за все время нашего пребывания среди индейцев Танны не было ни единого случая воровства.
Как только обитатели хижины увидели, что мы не намерены причинить зла ни им, ни их жилищу и ничего не забираем, даже не трогаем, они стали очень приветливы. Молодежь, которой еще неведомы недоверие и подозрительность и которая готова считать всех в мире такими же чистосердечными и честными, как и она сама, скоро прониклась к нам доверием. Мальчики от шести до четырнадцати лет, вначале державшиеся поодаль, незаметно приблизились и позволили до себя дотронуться. Мы раздали им медали на шелковых лентах и куски таитянской материи, после чего они окончательно избавились от страха и робости. Мы также спросили, как их зовут, и постарались запомнить их имена. Этой маленькой уловкой удалось полностью завоевать их доверие. Они радовались неописуемо, что мы захотели узнать их имена, и бежали во весь дух, когда мы их подзывали.
Наконец мы поднялись, чтобы вернуться на берег. Наш всегдашний провожатый, старый Пао-вьянгом, на сей раз с нами не пошел, так как уже вечерело, зато дал нам в провожатые трех своих земляков и строго наказал, чтобы они вели нас кратчайшей тропой. На прощание мы еще отблагодарили их подарками за услуги и расстались, весьма довольные друг другом.
Наши провожатые оказались добродушными молодыми людьми. Когда в пути мы пожаловались на жажду и попросили достать несколько орехов с кокосовых пальм, коих много росло на берегу, они тотчас предложили пойти другой дорогой, мимо плантаций. Там стояла группа кокосовых пальм, с которых они сорвали для нас орехов. Попробовав их, мы поняли, почему славные парни повели нас так далеко, хотя под рукой были пальмы на берегу. Здесь плоды были несравненно вкуснее, на берегу же дикие и неухоженные; заботливый уход на плантациях улучшил их качество. В том, что кокосовые пальмы, как и другие плодовые деревья, могут быть немало облагорожены хорошим уходом, нагляднее всего можно убедиться на Яве, где усердные жители благодаря лишь разным методам обработки сумели вывести разнообразные сорта ореха, и все они вкуснее других. На островах Общества тоже есть один очень хороший сорт, обязанный своими достоинствами лишь старательному, уходу. Дикой пальмы я вообще не встречал нигде, кроме Танны и других Новогебридских островов. От культурных сортов отличается она тем, что растет не только на равнинах, но и в горах.
Дав нам возможность как следует освежиться, наши добрые проводники провели нас кратчайшей дорогой вниз к берегу, так что через несколько минут мы уже были возле наших водоносов. Здесь мы рассчитались с провожатыми, как могли, и, поскольку уже приближалась ночь, поспешили на борт.
Сольфатары на горах, расположенных к западу, во всех отношениях заслуживали более близкого изучения. Поэтому на следующее утро мы, теперь в сопровождении художника господина Ходжса, опять отправились туда. Вулкан грохотал весь день, выбрасывая множество тонкого черного пепла, который при ближайшем рассмотрении, как оказалось, состоял из длинных, игольчатых, полупрозрачных частиц шерла. Этим шерловым песком была покрыта земля по всему острову, даже трава и листья, так что срывать их для ботанических коллекций надо было очень осторожно, иначе пепел мог попасть в глаза, причинив сильную боль. Однако вулкан богато возмещал островитянам это небольшое неудобство. Выбрасываемые им шлаки, выветрившись, становятся превосходным удобрением для почвы и способствуют процветанию здешнего растительного мира. Травы и кустарники тут высокие, с более широкими листьями, более крупными цветами и более сильным запахом, чем в других странах. В той или иной мере так бывает везде, где имеются вулканы. В Италии, например, окрестности Везувия считаются самыми плодородными; и действительно, оттуда приходят лучшие итальянские вина. Этна в Сицилии тоже славится плодородием; в Гессене весьма плодородна почва Габихтсвальда, хоть она и расположена в высокой, голой и потому холодной местности. Все парки тамошних ландграфов доказывают это, красуясь, к общему изумлению, всевозможными разновидностями иноземных и местных растений. Все, что мы по этой части видели на разных островах Южного моря, полностью подтверждает правильность сего наблюдения. Острова Общества, Маркизские острова, некоторые из островов Дружбы, где сохранились следы деятельности бывших вулканов, а также Амбррим [Амбрим] и Танна, где еще действуют огнедышащие горы,— на всех этих островах тучные, плодородные почвы, в коих растения достигают царственного роста и восхищают великолепием красок. Даже на совершенно опустошенном позднейшими извержениями острове Пасхи растут всевозможные травы и съедобные коренья, хотя почва там состоит больше из шлаков, обгорелых камней и пемзы, чем из собственно плодоносной земли, к тому же солнце палит так невыносимо, что при полном отсутствии тени уже из-за одного этого, казалось бы, всякая травинка должна была бы засохнуть и увянуть.
Размышляя на такие темы, мы тем временем достигли нижнего из дымящихся отверстий сольфатары, но задержались возле него недолго, так как немного выше показались несколько индейцев. Мы скоро узнали в них тех самых, что накануне так хорошо приняли нас, и увидели, как они отослали нескольких человек, вероятно чтобы принести чего-нибудь прохладительного. Господин Ходжс уселся тут и зарисовал несколько видов, пока мы собирали растения и измеряли температуру сольфатары с помощью термометра Фаренгейта. В половине девятого, когда мы отбыли с корабля, он показывал 78° [25,5°C], а пока мы поднимались в гору, разогрелся в руке до 87° [30,5°С]; повисев пять минут на дереве на открытом воздухе, примерно в 60 футах от сольфатары, он остыл опять до 80° [26,7°С]. Тем временем мы выкопали в глине яму и опустили в нее термометр, подвесив его к поперечно лежащей палке. За тридцать секунд температура подскочила до 170° [76,7°С] и оставалась неизменной в течение всех четырех минут, пока он там находился. Когда мы его вынули, температура сразу упала до 160° [71,1°С], а затем в течение нескольких минут постепенно дошла до 80° [26,7°С]. Отсюда можно себе представить, до чего горяч пар, или, вернее, газ, который вырывается из серного источника.
Увидев, как мы раскапываем землю для сего опыта, индейцы попросили нас не делать этого, потому что мог вырваться огонь и возникнуть ассур (так на их языке называется вулкан). Страх их был совершенно серьезен, ибо каждый раз, как мы начинали копаться в земле, они начинали беспокоиться. Наконец мы поднялись выше в гору и увидели много дымящихся мест, подобных вышеописанному.
Тем временем вернулись посланные индейцы и принесли сахарный тростник, а также кокосовые орехи, которыми, как и накануне утром, угостили нас. Подкрепившись, мы продолжили путь к ближней горе, откуда надеялись получше рассмотреть вулкан. Мы прошли довольно много, как вдруг с одной из плантаций нам навстречу вышли несколько туземцев и показали тропу, которая, по их словам, вела прямо к ассуру, то есть вулкану. Мы прошли по ней несколько миль и, так как тропа все время шла лесом, не могли найти места, чтобы свободно оглядеться, пока против всех ожиданий не оказались на берегу, откуда вышли. Должно быть, индейцы пошли на такую хитрость, дабы вежливо отправить нас подальше от своих хижин, вблизи которых не желали видеть чужеземцев.
Один из них был очень смышленый человек. Мы его спросили, нет ли здесь поблизости островов и как они называются. Он перечислил нам несколько, но, судя по его жестам, они лежали в местах, где мы еще не бывали. При таких расспросах почти невозможно бывает совсем избежать недоразумений. Например, капитан Кук принял множество названий, которые индейцы сообщили ему накануне, за наименование близлежащих островов, тогда как впоследствии выяснилось, что это всего лишь названия отдельных округов, на которые туземцы подразделяют свой остров. Чтобы не впадать в такого рода ошибку, мы спросили индейца, не означают ли и эти названия чего-то подобного. Но он отвечал, что нет, и ясно добавил, что эти земли отделяет друг от друга тасси (море), а когда мы нарисовали ему на бумаге несколько кружочков, обозначавших остров, он показал, что мы совершенно правильно его поняли.
После полудня мы предприняли прогулку к южной стороне плоской возвышенности и сумели найти немало новых растений. Несколько индейцев вызвались провести нас через возвышенность к противоположному берегу. Однако мы скоро заметили, что, как и их земляки накануне, они выбрали дорогу, которая привела бы нас прямиком обратно к месту водозабора. Поэтому мы их оставили и пошли дальше одни между посадками, которые в этом месте были иногда обнесены тростниковой изгородью 5 футов высотой. По пути к нам присоединился еще один индеец, более прямодушный; он честно повел нас к противоположному берегу. Оттуда мы второй раз увидели остров Аннатом, а немного дальше к северу, по словам этого индейца, должен был лежать еще другой остров, Итонга, но он был слишком далеко и потому отсюда не виден. Эти сведения утвердили меня в убеждении, о котором я уже говорил, а именно что жители Танны через посредство неведомых нам островов имели сообщение и связь с обитателями островов Дружбы. Название Итонга весьма напоминает Тонгатабу; более того, жители острова Мидделбург или Эа-Уве [Эуа] обычно сами называют этот остров Итонга-Таббу. Таббу — это вообще слово, которое лишь добавляется к названиям многих островов Южного моря, например Таббуа-ману (остров Сондерс) [Табуаи-Ману] и Таббу-Аи [Тубуаи] — остров, о котором упоминали таитяне. При всем том я не собираюсь утверждать, что жители Танны под Итонгой подразумевают именно Тонгатабу, но, во всяком случае, мне кажется вероятным, что какой-то остров под таким названием лежит между Танной и островами Дружбы, делая возможным для жителей взаимное сообщение между ними[480].
Удовлетворив свое любопытство, мы вернулись к месту водозабора, где матросы за это время сумели поймать два с половиной центнера рыбы. Такой богатый улов позволил капитану еще раз накормить всю команду свежей пищей, которая и была съедена с величайшей охотой. Гавань была необычайно богата рыбой, и кто пожелал бы потратить на это ночь, мог наверняка рассчитывать, что ему на крючок что-нибудь попадется, особенно альбакоры и cavalha. Однажды среди прочего было поймано несколько таких же рыб, коими некоторые из нас отравились в водах Малликолло. Я очень хотел зарисовать и описать этот вид, дабы предостеречь будущих мореплавателей, однако матросы слишком изголодались по свежей провизии, чтобы дать мне для этого время. Не считаясь ни с моим пожеланием, ни с тем, что однажды уже произошло у нас из-за этих рыб, они поскорее разрезали их на куски, натерли солью и перцем и бросили в котел. К счастью, на сей раз все обошлось хорошо. Это может служить еще одним доказательством, что та рыба, которая причинила части нашей команды столько мучений, в тот раз поела ядовитых растений или насекомых и через них приобрела вредные качества, вообще несвойственные ее природе. Собираясь полакомиться сим сомнительным блюдом, наши матросы положились на эксперимент: они бросили в котел серебряную ложку, и та не покрылась никакими пятнами. Но это, по сути, совсем недостаточная проба; ведь, как известно, лишь некоторые виды ядов действуют на металл.
Хотя жители все еще продолжали продавать нам ямс, приходило их очень мало. Черепаший панцирь был единственным товаром, который им нравился, но, к сожалению, на корабле их было всего несколько штук, случайно выменянных на Тонгатабу, к тому же попали они не в самые лучшие руки. Матросы, которым они принадлежали, легкомысленно накупили на них луков и стрел, вместо того чтобы приобрести ямс и улучшить свое и наше питание, состоявшее из отвратительной солонины.
Со сбором ботанической коллекции дело тоже обстояло не особенно хорошо. Мы затратили немало трудов, но новых растений нашли не так много, чтобы для зарисовки и описания их потребовалось бы оставаться целый день на борту. Так что каждый день без исключения мы отправлялись на берег и пытались то в одном, то в другом месте раздобыть материал для новых наблюдений.
13-го мы отправились к возвышенности, расположенной к востоку, чтобы посетить наших друзей, живших близ старого Пао-вьянгома. Как любопытство, так и недоверие к нам островитян за это время заметно ослабли; они уже не показывались на берегу так часто и в таком количестве, как обычно. Поэтому получилось, что по пути от места водозабора до первых плантаций нам на сей раз не встретилось ни одного индейца. Зато мы услышали, как в лесу рубят дрова, и увидели сквозь заросли одного туземца, который был занят тем, что рубил дерево каменным топором. Хотя ствол в поперечнике достигал не более 8 дюймов толщины, видимо, при столь несовершенном инструменте работа эта была весьма трудная. Мы некоторое время наблюдали за ним незаметно, а потом подошли поближе, ибо он был слишком погружен в свою работу, чтобы с нами говорить. Мальчики, знакомые нам по последнему посещению, подбежали, окликнули нас по именам и принесли каждый в подарок по пригоршне плодов фикуса и джамбу. Женщины тоже осмелились подойти и стали разглядывать нас.
Топор, которым работал мужчина, был совершенно такой же, как те, которыми пользуются на островах Дружбы и Общества; камень, образующий лезвие, тоже был такой же черный, напоминавший базальт. Владелец сказал нам, что этот вид камня происходит с соседнего острова Анаттом. Он показал и другой топор, на котором вместо камня был укреплен заостренный кусок раковины[481]. Раковина, судя по всему, относится к так называемой «епископской шляпе» (Voluta mitra Linn.) и, по словам нашего индейца, привезена сюда, на Танну, с низкого острова Иммер (расположенного несколькими милями севернее). Мужчина хотел очистить тот участок, на котором мы его встретили, от деревьев и кустарника, чтобы посадить на нем ямс. Он уже срубил много кустов и сложил в кучи, которые затем собирался сжечь.
Когда мы покинули его, за нами на противоположный берег пошло несколько маленьких мальчиков и два подростка. По дороге мы стреляли птиц и собирали новые травы. В этих местах посадки, казалось, были устроены более тщательно, чем в других, и не только служили для пользы, но и представляли собой в то же время парки. Во всяком случае, мы нашли там несколько кустов и растений, посаженных отчасти из-за красивого вида, отчасти ради запаха. Среди плодовых деревьев выделялась катаппа (Terminalia Catappa), у которой вкусные орехи величиной с миндаль. Поскольку время года было позднее, листва уже опала, но плоды еще держались на ветвях. Наши маленькие спутники разбили орехи между двумя камнями и подали нам ядра на зеленом листе. Они вели себя так же услужливо, как таитяне, но казалось, даже не связывали с этим никаких корыстных ожиданий. Если мы хотели сорвать побольше какой-либо новой травы, то достаточно было им только ее показать, и можно было не сомневаться, что они станут искать ее, пока не найдут. При виде любой птицы они просили нас выстрелить. Как бы высоко она ни сидела, как бы ни пряталась, они ее разыскивали и радовались неописуемо, когда мы попадали.
Возле каждой хижины здесь паслась пара упитанных свиней и гуляло несколько кур. То тут, то там тропу перебегали крысы; они были обычного вида и водились главным образом на плантациях сахарного тростника, где производили большие опустошения. Чтобы избавиться от них, индейцы устраивали по краям полей глубокие ямы, куда крысы часто попадали.
Вернувшись на берег, мы некоторое время продолжали двигаться вдоль моря, чтобы обходным путем пройти с севера к восточной оконечности гавани, поскольку на южной стороне индейцы каждый раз поворачивали нас обратно. Недалеко от берега стояло несколько небольших хижин; судя по их местоположению, это могли быть рыбацкие хижины. Если это так, нам следовало отказаться от предположения, будто жители Танны почти не занимаются рыбной ловлей. В хижине, однако, не оказалось ни людей, ни сетей, ни рыбы — лишь несколько дротиков, которые могли служить в качестве гарпунов.
Увидев, что мы собираемся идти дальше к мысу, наши спутники-индейцы сильно встревожились и не только попросили нас не ходить в эту часть острова, но и скорее стали даже грозить, что если мы их не послушаем, то будем убиты и съедены. Пришлось вернуться. В третий раз они недвусмысленнейшими жестами показали, что являются людоедами; это варварство, видимо, действительно распространено среди них. Обычно причину его видят в крайнем недостатке продовольствия; но что для него могло служить причиной здесь, где плодородная земля дарит живущим на ней изобилие питательных растений и кореньев, да к тому же еще и домашний скот? Гораздо вероятнее и правильнее связывать этот противоестественный обычай с жаждой мести[482]. Несомненно, самосохранение есть первый закон природы, и только затем, чтобы содействовать ему, она поселила в наших сердцах страсти. В буржуазном обществе мы добровольно, посредством известных законов и предписаний, согласились передать лишь нескольким лицам право карать за преступления, особенно противные людям; у дикарей же каждый сам осуществляет правосудие и при малейшей обиде или несправедливости стремится удовлетворить свою жажду мести. Однако такая враждебность по природе свойственна нам не меньше, чем благое чувство любви к ближнему, и, сколь ни противоположны друг другу кажутся сии две страсти, в сущнocти эти два главных движущих колеса, взаимодействие коих поддерживает в постоянном движении всю машину человеческого общества, оберегая ее одновременно от разрушения. Человек, не знающий любви к ближнему, по праву должен был бы называться чудовищем и заслуживал бы отвращения всего рода человеческого; но и тот, кого, напротив, ничто не способно вывести из себя, тоже был бы по-своему достойным презрения беднягой, поскольку его любой мог бы безнаказанно оскорбить и назвать трусом. Народ или семья (ибо дикари редко живут друг с другом в более крупных сообществах), которые часто подвергаются нападениям и терпят ущерб со стороны других, естественно, испытывают непримиримый гнев к своим обидчикам; это и порождает жажду мести, которая в конце концов находит выход в жестокости. Если же одна сторона к тому же прибегнет в ходе враждебных действий к хитрости либо предательским уловкам, то у других это вызовет еще большее недоверие. Таким образом постепенно усугубляются вражда и неприязнь, допускающие в конечном счете любую низость по отношению к своему неприятелю. В таких обстоятельствах дикарю достаточно лишь намека на оскорбление, дабы схватиться за оружие в стремлении уничтожить все, что стоит у него на пути; он полагается на право сильного и нападает на врага с бешенством, которое делает возможной любую, необузданную жестокость.
Напротив, народу, у которого не было ни злых врагов, ни затяжных столкновений с другими или который давно про них забыл, который благодаря земледелию уже достиг известной степени благосостояния, изобилия и нравственности, а заодно приобрел и понятия о любви к ближнему и общественной жизни,— такому народу неведомы вспышки гнева, и его надо разгневать чрезвычайно сильно, чтобы он стал помышлять о мести. В настоящее время жители Танны еще относились к первой группе. По их первоначально недоверчивому поведению, по их обычаю никогда не ходить без оружия можно было с основанием заключить, что среди них часты внутренние распри или они бывают вовлечены в раздоры с соседями, так что гнев и жажда мести постепенно превратили их в каннибалов, каковыми, по их собственным признаниям, они действительно все еще являются.
Проверить это на себе у нас не было ни малейшей охоты, так что пришлось отказаться от попытки выяснить, почему они не хотят разрешить нам осмотреть восточный мыс. Индейцы очень обрадовались, когда мы наконец послушались их и повернули обратно. Они провели нас по тропе, которой мы еще никогда не ходили, через обширные и ухоженные плантации, содержавшиеся в наилучшем порядке. Мальчики бежали впереди, демонстрируя свое искусство во всевозможных воинских упражнениях. Они умели хорошо обращаться не только с пращой, но и с дротиком, вместо которого использовали зеленый тростник или просто крепкий стебель травы. Хотя бросок и тем и другим, казалось бы, должен быть неточен, ибо малейшее дуновение ветра могло отнести такой дротик в сторону, им удавалось метнуть их с такой силой, что даже сии легкие и гибкие предметы попадали точно в цель и вонзались даже в самую твердую древесину иногда довольно глубоко. Особенно примечательно, как они при броске удерживали эти тростинки или стебли в равновесии между указательным и большим пальцем. Мальчики пяти-шести лет уже упражнялись в этом искусстве, готовясь при надобности взяться и за настоящее оружие.
Дорога, виляя, привела нас наконец к хижинам наших дружелюбных провожатых. Там женщины разложили под большим фикусовым деревом костер из маленьких веток и как раз собирались печь на обед клубни ямса и Arum[таро]. При виде нас они вскочили и собирались убежать, но наши спутники крикнули им, чтобы они продолжали заниматься своим делом. Мы сели на бревно, лежавшее возле хижины, и, когда часть индейцев ушла, чтобы принести нам еду, попробовали завести разговор с оставшимися. Они поинтересовались назначением и употреблением нашей одежды, оружия и инструментов, и хотя много рассказать им про это мы не могли, зато по их вопросам выучили несколько новых слов. Туземцы с близлежащих плантаций скоро прослышали о нас и тоже пришли, видимо находя удовольствие в нашем обществе.
Случайно я запел про себя песенку; тут сразу со всех сторон нас стали просить спеть. Хотя петь никто из нас по-настоящему не умел, мы все же попробовали удовлетворить их любопытство и исполнили несколько мелодий. Им очень понравились некоторые немецкие и английские песенки, особенно веселые; но самые большие рукоплескания снискали шведские народные песни, исполненные доктором Спаррманом. Конечно, ни музыкальный вкус, ни способность к критическим суждениям не были самой сильной стороной этих людей. Пропев свое, мы сказали, что теперь очередь за ними. В ответ один затянул очень простую песню, звучавшую довольно гармонично, и, на наш взгляд, более мелодичную, чем любая из тех, что мы слышали под жаркими широтами Южного моря. Она была несравненно богаче разнообразными тонами, нежели напевы таитян и жителей Тонгатабу, отличаясь от них также и серьезностью мелодии. В словах можно было заметить определенный размер, так легко и мягко они сходили с уст. Едва допел один, как начал другой. Его песня по характеру была иной, но столь же серьезной; эта серьезность музыки вполне соответствовала серьезности национального характера в других вещах. В самом деле, их редко увидишь от души смеющимися, редко услышишь от них веселую шутку, как у других, более цивилизованных народов на островах Общества и Дружбы, которые уже знают, как важна в общении радость.
Затем индейцы принесли музыкальный инструмент, состоявший, как и свирель, или флейта Пана, на Тонгатабу, из восьми тростниковых трубочек, с той только разницей, что они здесь ступенчато уменьшались и составляли целую октаву, хотя звук отдельных дудочек был не совсем чистый. Возможно, мы услышали бы, как они играют на таком инструменте, если бы как раз в этот момент не появился индеец с кокосами, сахарным тростником и плодами фикуса, и сей подарок не отвлек наше внимание от музыканта. Жаль, что мой проницательный и добрый друг, сообщивший мне свои наблюдения о музыкальном искусстве жителей островов Дружбы, Таити и Новой Зеландии, не побывал на Танне, где, несомненно, нашел бы материал для многих новых полезных наблюдений[483].
Хотя выше и было упомянуто о недоверчивом и мстительном нраве жителей Танны, я все же не могу отказать им в известной сердечности и доброте. Недоверчивость и мстительность, видимо, не столько природные свойства, сколько последствия беспрестанных войн, которые подвергают их жизнь почти постоянной опасности. Их поведение по отношению к нам утвердило меня в таком предположении. В самом деле, они держались с нами осторожно и сдержанно, покуда не убедились, что мы явились к ним без всяких враждебных намерений. Правда, торговали они с нами не столь много и охотно, как таитяне, однако связано это было с тем, что они не столь богаты; и разве не было гостеприимства в том, что они меняли излишки на что-то необходимое[484]?
Мы отдарили наших друзей-индейцев, чем могли, вернулись на берег и провели там еще некоторое время с туземцами. Среди них было больше женщин, чем мы видели когда-либо до сих пор; большинство, видимо, были замужние, потому что они несли на спине в мешках из циновки детей. Некоторые носили в плетеных корзинах также выводок молодых кур, ямбо или плоды фикуса и предлагали нам все это купить. У одной из них была целая корзина зеленых апельсинов, хотя ни в одну из своих прогулок мы не видели апельсинового дерева. Поэтому нам было приятно хотя бы случайно узнать, что и здесь, как на Малликолло, растут апельсины; это позволяет предположить, что они растут и на других расположенных между ними островах.
В тот день нам особенно везло на такого рода открытия. Так, одна женщина подарила нам паштет или пирог, корочка или тесто которого были приготовлены из бананов и клубней Arum[таро], а начинка — из смеси листьев Hibiscus esculentus с ядром кокосового ореха. Этот паштет был очень вкусный и делал честь поварскому искусству здешних дам. Мы купили также несколько восьмитрубных свирелей, которые они принесли на продажу вместе с луками, стрелами, палицами и копьями, и, полные впечатлений, довольно поздно вернулись на борт.
Поев, мы опять отправились на берег, где наши люди занимались рыбной ловлей. Доктор Спаррман и я пошли к возвышенности, чтобы еще раз побеседовать с жившими там островитянами. На полпути нам повстречалось несколько человек, которые показали нам ближнюю тропу. Едва мы подошли к хижинам и сели рядом с почтенным, благообразным главой семейства средних лет, как наши друзья вновь попросили нас что-нибудь спеть. Мы без долгих отнекиваний доставили им сие удовольствие, и, так как они удивлялись разнообразию наших песен, мы постарались объяснить, что родились в разных странах. Когда это до них дошло, они вызвали из круга слушателей пожилого худого мужчину и сказали, что он тоже из другой страны, а именно с острова Ирроманга [Эроманга], и тоже споет нам что-нибудь. Он запел песню, но производил при этом такие телодвижения и гримасы, что не только все присутствовавшие индейцы, но и мы не могли удержаться от смеха. Впрочем, его песня была не менее благозвучна, чем те, что мы слышали от родившихся на Танне, однако содержание, судя по тону и множеству забавных жестов, было более шутливое и веселое. Язык совершенно отличался от таннского, но был отнюдь не грубый и не лишен благозвучия. Слова также произносились с соблюдением определенного размера, непохожего, однако, на тот медленно-серьезный, что мы слышали утром.
Когда он кончил петь, индейцы заговорили с ним на его языке, поскольку их языка он, видимо, не понимал. Был ли он здесь в гостях или в плену? Этого выяснить не удалось. По сему случаю туземцы рассказали нам, что их лучшие палицы из казуаринового дерева доставляются с Ирроманги. Поэтому вероятно, что они находятся с жителями этого острова в дружеских отношениях и связях. Ни в чертах лица, ни в одежде человека с Ирроманги нельзя было заметить ни малейших национальных отличий, если не считать того, что его короткие и шерстистые волосы не были, как у местных жителей, заплетены в косички. Он выглядел бодро и казался смышленей, чем большинство обитателей Танны.
Покуда он демонстрировал нам свои способности в пении, из хижин потихоньку вышли женщины и смешались со слушателями. По сравнению с мужчинами они были в основном маленького роста и носили косматые юбки, сплетенные из травы и листьев, в зависимости от возраста длиннее или короче. Те, у кого уже были дети и кому было лет тридцать, потеряли всякую красоту, и их юбки доходили до щиколоток. Зато у девушек лет четырнадцати черты лица были не лишены приятности; особенно красила их мягкая улыбка, которая становилась все дружелюбнее по мере того, как у них проходила робость. В большинстве они были очень стройные, с изящными милыми руками, полными грудями и в забавных юбчонках, едва достававших колен. Их волнистые волосы, неподстриженные и неубранные, свободно ниспадали вокруг шеи, служа ей естественным и приятным украшением, а зеленый лист банана, который многие носили как шапочку, красиво контрастировал с черным цветом волос. В ушах они носили серьги из черепахового панциря, и число таких украшений возрастало по мере того, как убывала привлекательность женщин. Самые старые и безобразные носили ожерелья, множество колец в ушах, украшений в носу и браслетов.
Мужчины, по-видимому, не проявляли к женщинам ни намека на уважение; те были покорны малейшему их знаку и, по словам наших матросов, часто выполняли унизительную работу вьючных животных. Видимо, такая тяжелая работа нередко была выше их сил, и в этом крылась причина их маленького роста и слабого сложения. Вообще все нецивилизованные народы отказывают женщинам в общих человеческих правах и обращаются с ними как с существами низшей породы, ибо мысль о том, чтобы искать в объятиях своей спутницы счастье и радость, возникает только на определенной ступени культуры. Покуда человек вынужден беспрестанно заботиться лишь о том, как бы поддержать свое существование, до тех пор в отношениях между обоими полами возможны лишь чувства не слишком утонченные, ограниченные скорее одним животным удовольствием. Точно так же слабость, нежность, терпеливость женщин у дикаря не вызывает желания подбодрить и защитить их, а скорее это поощряет его угнетать и жестоко обращаться с ними, ибо стремление господствовать присуще человеку от рождения и столь сильно, что он, во всяком случае в естественном состоянии, готов наслаждаться им даже за счет беззащитных.
Лишь с ростом населения, когда забота о пропитании перестает тяготить каждого отдельного человека, как бы разделяется между всем обществом, возрастает нравственность, изобилие сменяет нужду и беззаботность позволяет наслаждаться более утонченными радостями жизни, отдыхать и развлекаться, а значит, и узнавать и ценить любезные свойства противоположного пола.
Однако при всем том даже самый грубый дикарь вполне способен на определенную нежность и симпатию. Это наглядно проявляется, покуда он еще бегает мальчиком[485], безмятежным и беззаботным; но когда сгодами ему приходится самому заботиться обо всем необходимом, тогда, конечно, стремление удовлетворить свои потребности вскоре пересиливает и ослабляет менее насущные чувства. Сохраняют силу лишь изначально врожденные страсти, а они одинаковы под всеми широтами. К их числу принадлежит и отцовская любовь, красноречивый пример которой мы наблюдали этим вечером. Маленькая девочка лет восьми попыталась незаметно взглянуть на нас из-за голов сидевших вокруг людей. Но, увидев, что мы ее заметили, она во всю прыть побежала в хижину. Я показал ей кусок таитянской материи и дал знак, что она может его взять; однако девочка все не решалась. Тогда встал ее отец и уговорил ее подойти. Я приветливо взял ее за руку, дал материю и разных мелких украшений и с удовольствием наблюдал, как радость озарила лицо отца, увидевшего счастье своего ребенка, и благодарность лучилась из его глаз.
Мы пробыли у этих добрых индейцев до самого заката, слушая, как они поют, удивляясь их искусству обращаться с оружием. По нашей просьбе они пускали стрелы то вверх, то в цель перед собой. Вверх стрелы летели не особенно высоко, но в цель на небольшие расстояния островитяне стреляли, как уже говорилось, превосходно. Они умели также отражать палицами или боевыми дубинками дротики, примерно таким же образом, как таитяне. Палицы, имевшие с двух сторон выступы (плоские и по форме напоминающие ланцет ветеринаров), попали сюда, по их словам, с низкого острова Иммер. Но изготовляют ли их тамошние жители, или же этот остров необитаем и туда ездят лишь время от времени, чтобы раздобыть раковины или нужную породу дерева, этого мы установить не смогли. Перед нашим уходом женщины разожгли костры, чтобы приготовить ужин, некоторые возле хижин, некоторые внутри, а мужчины и дети пододвинулись к этим кострам, поскольку для них, почти нагих, вечерний воздух был уже довольно холодный. У некоторых верхние веки опухли, должно быть из-за обыкновения сидеть в дыму. Это мешало им смотреть, и, чтобы какой-либо предмет попал в поле зрения, им приходилось откидывать голову назад. Подобные опухоли встречались уже у пяти-шестилетних мальчиков, так что, возможно, это болезнь наследственная.
Когда мы вернулись на берег, большинство туземцев уже ушло спать, и скоро мы оказались совсем одни. Вечерняя прохлада, столь чувствительная для бедных нагих индейцев, нам, одетым, была так приятна, что мы еще некоторое время погуляли по лесу. В сумерки из своих укрытий выбралась масса летучих мышей. Почти из каждого куста навстречу нам вылетала какая-нибудь из них, но подстрелить ни одной не удалось. Дело в том, что их нельзя было видеть заранее и мы не успевали прицеливаться. Тут нам повезло так же мало, как матросам с рыбной ловлей. После долгих стараний они поймали в сети всего дюжины две рыб.
На следующее утро капитан Кук, господин Уолс, господин Паттен, доктор Спаррман, мой отец, я и еще несколько человек, желавших поближе посмотреть на вулкан, отправились с двумя матросами к горе на западной стороне гавани. Погода была туманная, воздух душный, но вулкан был спокоен. Скоро мы добрались до сольфатары, из которой часто поднимался горячий пар. Чтобы узнать его температуру, мы опять повторили свой опыт, но только на сей раз полностью закопали термометр в кучу глинистой земли, из коей поднимался пар. Через минуту он показал 210° [98,9°С], что почти равно температуре кипящей воды, и все пять минут, что он оставался в земле, его показание не менялось. Когда термометр вытащили, он сразу остыл до 95° [35°С], а затем постепенно до 80° [26,7°С], которые показывал перед экспериментом.
Сольфатара, если мерить английскими мерами, расположена примерно в 240 футах по вертикали над уровнем моря. Поднявшись в гору выше, мы увидели лес, вырубленный во многих местах; земля там была подготовлена для посадок. Они в совокупности занимали примерно морген земли, и, как мы заметили ранее, подготовка их стоила индейцам немало времени и трудов. Мы прошли мимо нескольких хижин, но нигде не встретили туземцев, если не считать одного-единственного мужчину, занятого посадкой ямса на весьма ухоженной плантации. Наше внезапное появление нагнало на него немало страху, но, поняв, что мы лишь хотим узнать ближний путь к вулкану, он скоро пришел в себя и показал нам тропу, которая якобы туда вела, а затем опять принялся за работу. Возле хижин мы увидели свободно бегавших свиней и кур. Возможно, жители именно от этих животных обносят изгородями свои участки.
Немного дальше в гору к нам присоединились два индейца из расположенного поблизости бананового огорода. С ними мы дошли до развилки. На одной из дорог, ведущей в глубь острова, стоял с поднятым копьем дикарь, который явно не желал нас пускать дальше. Мы сказали ему, что хотим только подойти к вулкану; он ответил, что нам надо идти другой дорогой, и сам пошел впереди. Пока мы шли, он несколько раз оборачивался и считал, сколько нас. Спустя некоторое время мы вышли на открытое место, откуда было видно далеко вокруг, и тут выяснилось, что он нарочно завел нас не туда. Тогда мы повернули обратно, не обращая внимания на его знаки. Увидев, что его хитрость раскрыта и что сам он не в состоянии помешать нам силой, туземец прибегнул к другому средству. Он затрубил, как в рог, в сложенную горстью ладонь, и как бы в ответ на сигнал с разных сторон горы затрубили в раковины. Услышав это, он во весь голос крикнул своим землякам, сколько нас, вероятно чтобы они собрались в достаточном числе и приготовились защищаться.
Тем временем мы опять сбились с пути и пришли в красивую уединенную, окруженную высокими тенистыми деревьями долину, где было множество голубей и попугаев. Несколько штук мы подстрелили. Звук наших выстрелов привлек нескольких индейцев; среди них были и мальчики, которых мы попытались расположить к себе подарками. Это удалось настолько, что они беспрепятственно позволили нам выйти на тропу, которая, извиваясь, вела через густые, мрачные заросли к открытой поляне, где мы увидели три-четыре домика величиной с хижину старого Пао-вьянгома. Человек десять-двенадцать дикарей, вооруженных луками, стрелами, палицами и копьями, сидели в ряд неподалеку от хижины. При виде нас они тотчас вскочили. Мы знаками дали им понять, что не хотим ничего плохого; но они, видимо, все еще нам не доверяли. Старшие казались настроенными миролюбивее младших, из коих двое-трое, наморщив лбы, всячески потрясали оружием. Нетрудно было увидеть в этом вызов, но поскольку мы никак не хотели столкновения, то попросили их показать нам дорогу к берегу.
Лучшего способа успокоить их нельзя было и придумать. Сразу несколько человек предложили себя в проводники и повели нас по узкой тропинке, поначалу очень крутой, потом ставшей ровнее. Примерно через четверть мили они предложили нам отдохнуть, и, как только мы уселись, нас нагнали их земляки, остававшиеся возле хижин. Они принесли кокосовые орехи, бананы, сахарный тростник. Из-за духоты освежиться всем этим было особенно приятно, и мы выразили свою признательность добрым людям, сделав им всяческие подарки. Теперь мы ясно видели, что они не хотели пускать нас дальше просто из недоверия, а не из враждебных чувств.
Спустя полчаса мы наконец вернулись на то же место, откуда вышли в путь утром. Так, без неприятностей, и закончилось это небольшое путешествие, но, будь мы менее осмотрительны, оно могло дорого обойтись и нам, и туземцам. Конечно, нам не удалось изучить вулкан поближе и, судя по всему, в дальнейшем тоже не приходилось на это рассчитывать, но разум и справедливость требовали ограничить свою любознательность, если ее нельзя было удовлетворить без кровопролития и насилия.
Пока нас не было, команда, воспользовавшись приливом, забросила сети и поймала немного рыбы; среди них была одна неизвестного вида. В водоеме с пресной водой тоже попалась одна новая рыба и много болотных угрей. С этой добычей, а также с растениями, собранными на горе, мы вернулись на борт и остаток дня посвятили их зарисовкам и описанию.
На другое утро мы отправились за растениями. Торг ямсом и оружием все еще продолжался, но черепаший панцирь на корабле стал уже такой редкостью, что нельзя было приобрести много продовольствия. Большим спросом пользовались перламутровые крючки для рыбной ловли с островов Дружбы. Часто за них давали несколько стрел, так как на этих крючках были большей частью наконечники из черепашьего панциря; другие же такие крючки, ничуть не хуже, не пользовались никаким спросом, потому что наконечники там были перламутровые.
Мы прошли лес, покрывавший равнину, подстрелили несколько птиц, разных видов, которых много на этом острове. Мы также нашли несколько ост-индских растений, каких не встречали ни на одном из более восточных островов[486]. Самой ценной находкой был голубь той породы, что часто встречается на островах Дружбы. К клюву у него снаружи приклеилось какое-то красноватое вещество, а когда вскрыли голубя, то в зобе обнаружили два недавно проглоченных мускатных ореха, так что на них еще оставалась пурпурная кожица. Эту кожицу обычно называют мускатным цветом. У нее горький и приятный вкус, но без всякого запаха. Сам орех был гораздо более продолговатым, чем обычный или настоящий мускатный орех, но по вкусу не очень от него отличался. Мы показали его первому же встречному туземцу и предложили ему кусок перламутровой раковины, если он нам покажет дерево, на котором этот орех растет. Тот провел нас полмили в глубь острова и наконец показал молодое дерево. Мы сорвали с него несколько листьев, но плодов не нашли. По его словам, голуби не дают им долго висеть. Орех на его языке называется гуаннатан[487].
Во время беседы мы услышали несколько резких ружейных выстрелов и испугались, что между туземцами и нашими людьми произошла стычка. Индеец, шедший с берега, на ходу сказал нам что-то, чего мы не поняли, но из чего сочли, что наши предположения верны. Поэтому мы поспешили на берег, однако там все было спокойно. Никто из находившихся на берегу индейцев не признал принесенные нами листья за листья мускатного ореха; они назвали его совсем иначе, нежели наш провожатый. Тот, увидев, что мы начинаем догадываться об обмане, дал своим землякам знак, чтобы те назвали эти листья так же, как и он. Но мы сразу дали ему понять, что нам не понравился его обман, и ему пришлось выслушать выговор своих земляков.
После полудня капитан Кук, а с ним лейтенанты Купер и Пикерсгилл, господа Паттен, Ходжс, доктор Спаррман, мой отец и я отправились к расположенной на востоке возвышенности. Через сады и плантации мы вышли к противоположному берегу. Капитан особенно хотел оттуда увидеть остров Аннатом, но он едва ли не весь был окутан густым туманом, так что нам пришлось вернуться почти ни с чем. По пути мы постреляли птиц и незаметно подошли к хижинам наших друзей-индейцев. Отец маленькой девочки, о котором я упоминал выше, принес мне в подарок бананы, сахарный тростник и кокосовые орехи, подтвердив тем самым выгодное впечатление, которое я составил о его характере. Господин Ходжс по пути зарисовал несколько пейзажей, но главным образом эту маленькую усадьбу с ее обитателями обоего пола, сидевшими на траве в густой тени фикусового дерева. По этим наброскам он впоследствии создал картину, где очень похоже изобразил и местность, и туземцев. К заходу солнца мы вернулись на корабль.
Следующим утром мы опять отправились на берег и пошли на равнину в лес. Там было много крупных попугаев с красивым черно-красно-желтым оперением. Но сидели они на верхушках фикусовых деревьев, куда дробь не доставала не только из-за большой высоты, но и из-за густой листвы. Трудно представить, сколь громадны были эти деревья. Их корни по большей части росли над землей на высоте 10—12 футов, как бы продолжая ствол, имевший в поперечнике 9—10 футов и будто состоявший из нескольких сросшихся деревьев, кои образовывали со всех сторон по его длине острые выступы примерно в фут толщиной. В таком виде они поднимались до высоты 30—40 футов, прежде чем начинали делиться на меньшие, так что сама вершина была по крайней мере футах в полутораста от земли. Больше всего этих деревьев было в болоте, или топком месте, в которое переходил разветвлявшийся на множество рукавов пруд, служивший для снабжения экипажа корабля питьевой водой. Заканчивался ли этим прудом поток, стекавший с гор в глубине острова и затем текший по равнине, среди вулканического пепла, к морю, или он был порожден лишь ливнями, выпадавшими в дождливый сезон, этого мы наверняка установить не смогли. Зато мы установили, что там тьма комаров, немало нам докучавших, когда мы подбирались к коростелям и уткам, тоже искавшим себе пропитания в болоте. Жаль только, что мы не смогли к ним приблизиться; они были, кажется, неизвестного вида и заслуживали более близкого изучения.
Поскольку охота не удалась, мы решили пройти по равнине дальше на запад; по пути нам встретилось несколько участков, поросших травой и отгороженных друг от друга диким кустарником — примерно так же, как в Англии, где луга обносятся живыми изгородями. Между этими лужайками иногда располагались большие поля, поросшие только высоким тростником (Saccharum spontaneum Linn.), какой здесь употребляется для стрел, а также изгородей, корзин и прочего плетения. Судя по тому, что мы видели, он рос не дико, не сам по себе, а его специально выращивали для этих потребностей. Далее мы вышли к лесу, где обнаружили, однако, лишь те же виды деревьев, что и на побережье. Зато мы подстрелили голубя новой породы, а также видели множество попугаев, необычайно пугливых, должно быть потому, что туземцы их преследуют в садах.
Наконец мы приблизились к высохшему руслу ручья, которое теперь служило дикарям дорогой. На крутых откосах по сторонам рос мелкий кустарник, даже пальмы, а громадное фикусовое дерево (Ficus religiosa Linn.) того вида, который у сингалезцев и малабаров служит предметом религиозного почитания[488], образовывало над дорогой как бы дугу: корень его разветвлялся надвое, и одно ответвление росло по одну сторону, другое — по другую. Наверху, в кроне, порхало множество мелких птичек, наслаждавшихся изобилием плодов. Мы отдохнули в его густой тени, радуясь тому, что встретившиеся по пути индейцы не высказали ни малейшего недовольства нашим присутствием, ни беспокойства из-за наших выстрелов.
К полудню мы повернули обратно. Хотя было очень жарко, в лесной тени мы этого не ощущали. Возле нашего водоема нам встретился индеец, вырубавший в зарослях тонкие жерди, чтобы сделать из них подпорки для вьющихся ростков ямса (Dioscorea oppositifolia). Его топор выглядел довольно жалко: лезвие было сделано не из обычного твердого камня, а из раковины. Поэтому работа у него двигалась до того медленно, что мы решили помочь ему нашим английским топором и за несколько минут нарубили больше жердей, чем он сумел заготовить за все утро. Все туземцы, шедшие в это время мимо с берега домой, останавливались, удивляясь достоинствам нашего топора. Некоторые тут же предложили за него свои луки и стрелы. Мы подумали, что при таком желании они согласятся дать за него свинью, однако на это предложение они ничего не ответили и пошли своей дорогой. Поросенок, подаренный моему отцу старым Пао-вьянгомом,— все, что мы получили на этом острове.
Когда мы показали одному индейцу дикий мускатный орех, найденный нами в голубином зобе, он принес нам еще три таких ореха, на коих сохранилась наружная кожица, или так называемый мускатный цвет, но дерева, на котором они росли, показать нам не смог. Эти орехи назывались у них по-разному, но дерево — всегда нираш. Когда мы обратились к своим книгам по ботанике, обнаружилось, что этот сорт очень похож на дикий мускатный орех Румпфа и по всему тот же самый, что встречается на Филиппинских островах. Да и голубь, питающийся этими орехами на Танне, очень похож на того, который, по свидетельству Румпфа, способствует распространению настоящего мускатного ореха и на Молуккских островах. По возвращении в Англию мы имели честь вручить ее величеству королеве одного такого голубя живьем.
Среди собравшихся на берегу индейцев мы встретили дряхлого старика, коего прежде никто из нас не видел. Дикари сказали, что это эрики и зовут его Джогаи. Он был высокий, худой, немощный, с почти совершенно лысой головой и с седой бородой. Лицо его выражало доброту и, хотя было морщинисто, все еще хранило следы былой красоты. Подле него сидел другой, коего можно было бы назвать стариком, не будь рядом человека совсем уж преклонных лет. Индейцы сказали, что это старший сын Джогаи, а зовут его Джатта. Он был высок, хорошо сложен, и для жителей Танны его можно назвать даже красивым. Немало способствовал такому впечатлению его взгляд — взгляд умного, обаятельного и дружелюбного к нам, чужеземцам, человека. Украшали его и черные пушисто-курчавые волосы, никак не убранные и сохранившие свой природный вид. По словам островитян, это был их кау-вош — титул, видимо означавший нечто вроде наследника престола, кронпринца или тому подобное[489]. Цвет кожи у этих вождей был такой же черный, как у любого из их подданных; не отличались они ни убранством, ни украшениями, разве что пояс у них был выкрашен попеременно в красный и черный цвета, тогда как у других такие повязки одноцветны — желтые либо коричневые. Но, возможно, и это различие чисто случайное и не было знаком королевского достоинства. Если не считать того, что обоих называли эрики, ни одному не оказывалось и особых почестей; мы также не видели, чтобы они давали какие-либо приказания. Поэтому я думаю, что авторитетом они пользуются лишь во время войны. В этих случаях обычно всякий народ наделяет властью кого-либо из умудренных жизнью старцев, считая их слова законом для себя; в годину бедствий они вручают свою жизнь и судьбу человеку, чья выдающаяся храбрость и многолетний опыт единодушно признаны всем народом. Мы сделали этим вождям небольшие подарки и пригласили их к себе на корабль, однако те отказались, и мы вернулись на борт к обеду одни.
В тот день наши люди доставили с берега много казуариновой древесины; это красивое дерево было спилено на высокой равнине. Дело в том, что в румпеле[490] была обнаружена трещина, а другого на корабле не было. Из этого ствола капитан хотел изготовить новый румпель. Едва наши плотники начали пилить ствол, как к капитану Куку явился с жалобой Пао-вьянгом; он объяснил, что казуарина здесь в очень большой цене и к тому же так редка, что местные жители вынуждены привозить сделанные из нее палицы с острова Ирроманго, где этого дерева много. Капитан тотчас распорядился приостановить работу, но, поскольку ствол был уже надпилен слишком глубоко, чтобы дерево могло выжить, он подарил старику собаку, много таитянской материи и разных вещей, получив взамен от него и от его земляков разрешение взять дерево. В этом и во многих других случаях я мог наглядно убедиться, что Пао-вьянгом пользовался большим влиянием среди людей, живших на востоке залива, но обязан этим он был, видимо, только своему почтенному возрасту, ибо форма правления здесь, как представляется, еще самая примитивная, то есть патриархальная. Каждая семья слушается совета старшего, а тот не решается злоупотребить своим авторитетом и прибегать к жестокости или тирании.
Поев, мы отправились опять на берег, в лес, но не нашли там ничего нового. Удивляться этому не приходилось, поскольку эту местность мы обыскивали едва ли не каждый день со времени своего прибытия. На другое утро мы постарались разыскать где-нибудь мускатный орех. В красивом банановом огороде, расположенном на западном берегу залива, водилось много попугаев, поедавших плоды, но они были до того пугливы, что подкрасться к ним оказалось невозможным. Мы считали, что теперь не следует опасаться враждебности со стороны островитян, и потому нередко отдалялись друг от друга на значительное расстояние. Но хотя и на сей раз все обошлось вполне благополучно, ничего у нас не получилось; пришлось вернуться на берег с пустыми руками. Время было обеденное, и последняя шлюпка собиралась как раз отплыть на корабль, поэтому мы поскорее сели в нее.
На корабле мы увидели старого эрики, то есть короля, Джогаи[491], его сына Джатту и красивого мальчика лет четырнадцати. Его звали Нарепп, и он, видно, был близким родственником обоих вождей. В каюте они сели на пол, и капитан как раз занимался тем, что раздавал им разную мелочишку. Джогаи взял свою долю с приличествовавшим его возрасту безразличием, зато его сын и юный Нарепп не скрывали радости. Тем временем принесли еду, и мы пригласили их сесть с нами. Ямс им очень понравился, как и прошлому нашему гостю, Фанокко, до других же блюд они не пожелали дотронуться. После обеда мы отвезли их обратно на берег. Там они сразу заговорили со своими людьми и наверняка стали рассказывать им, как хорошо мы их принимали, а собравшиеся, видно по всему, слушали с удовольствием.
Теперь на берег редко спускалось более сотни жителей, считая женщин и детей. Обычно они садились группами в тени ближайших деревьев. Иногда кто-нибудь приносил ямс или бананы и менял их на таитянскую материю. Женщины приносили целые корзины ямбо (Eugenia) и продавали за всякую мелочь, такую, как черные стеклянные бусы, кусочки зеленого нефрита и т. п., скорее из расположенности, нежели ради выгоды. Вообще они держались с нами очень любезно. Встретившись с кем-нибудь из нас на узкой тропе, они всегда отходили в сторону. Если они кого-то уже знали, то произносили его имя, причем так дружески и доброжелательно, как мы произносим лишь братские приветствия; если же они нас видели впервые, то обычно справлялись об имени и в следующий раз узнавали. Столь дружеское поведение позволяло нам уже несколько дней не прибегать к такой мере предосторожности, как ограждение запретной зоны вокруг работавших на берегу матросов; вместо этого для безопасности просто выставлялся караул. Черты не переступали даже те, кто приходил на берег из глубины острова впервые и не знал ее назначения. Словом, за тот недолгий срок, что мы здесь пробыли, они стали относиться к нам гораздо лучше, и с каждым днем наши отношения еще более улучшались.
Вскоре наши знатные гости Джогаи, Джатта и Нарепп, а с ними и многие другие покинули берег и лесом вернулись к своим домам, которые, как мы поняли, находились довольно далеко от моря. После их ухода мы с капитаном отправились к расположенным на западе горам, где наши люди грузили балласт. Здесь мы обследовали горячие источники, которые обнаружили в первые же дни своего пребывания на Танне. Термометр Фаренгейта, который мы захватили для опыта, на корабле показывал 78° [25,6°С], тепло руки человека, который его нес, повысило температуру до 83° [28,3°С]. Это он и показывал, когда шарик опустили в горячий источник. За пять минут ртутный столбик поднялся до 191° [88,3°С]. Мы вынули его и сделали небольшое углубление в песке, так что термометр был погружен в воду на несколько дюймов выше шарика. Скоро столбик ртути опять достиг 191° [88,3°С], однако выше не поднимался, хотя мы продержали его в таком положении 10 минут. Несколько маленьких улиток, которых мы бросили в источник, сварились за две-три минуты. Чтобы узнать, разъедает ли эта вода металл, мы положили в нее кусок серебра, однако через полчаса вынули его совершенно чистым и блестящим. Соль винного калия тоже не вызвала в воде никаких заметных перемен, но, поскольку у этой воды был слегка вяжущий вкус, мы наполнили ею бутылку, дабы при возможности поставить с нею другие опыты.
На берегу было много маленьких рыбок дюйма в два длиной, они резвились на мокрых камнях, подобно ящеркам. Грудные плавники заменяли им ноги, а глаза находились как раз посреди затылка, видимо чтобы лучше видеть своих врагов над водой. И действительно, эти маленькие создания были столь осторожны и столь проворны, что поймать их оказалось не так-то просто. Не успеешь оглянуться, как они одним прыжком оказывались более чем в трех футах. Именно этот или, во всяком случае, очень похожий вид рыб капитан Кук встречал во время своего прошлого кругосветного плавания на побережье Новой Голландии [Австралии]. Относятся они к семейству Blenniorum и, между прочим, усердно поглощают целые выводки очень маленьких сверчков (Gryllus achata), которых море вымывает из трещин в скалах.
На следующее утро мы с капитаном опять отправились на берег, дабы исследовать горячие источники также и во время отлива, тогда как все предыдущие наблюдения производились после полудня, в пору прилива. Термометр, на воздухе показывавший 78° [25,6°С], в горячей воде через полторы минуты поднялся до 187° [86,1°С]. Разница между температурой, отмеченной накануне (191°), и сегодняшней показалась нам тем более странной, что источники находились совсем близко от моря и во время прилива морская вода покрывала их. Естественно было предположить, что вода источников, смешавшись во время прилива с морской водой, охладится; но поскольку этого не произошло, видимо, температура воды в источниках зависела совсем от других причин.
Мы еще более утвердились в этом предположении, когда исследовали такой же источник на западной стороне побережья. Он был из черного шерлового песка у подножия отвесной скалы и стекал в море, которое покрывало его во время прилива. Скала же составляла часть большой горы, в которой находилась сольфатара. В этом новом источнике термометр через минуту поднялся до 202 1/2° [94,7°С] и оставался на этой точке несколько минут. Чем была вызвана такая разница в температурах? Возможно, источники под землей проходят вблизи вулкана и могут найти выход лишь у моря. В этом случае их температура зависит от активности горы. А она, как известно, не всегда одинакова, иногда ослабевает в той или иной степени, например в промежутках между извержениями. Кроме того, эта температура неодинакова в разных местах горы. Вода теряет часть своей первоначальной температуры также в зависимости и от того, насколько долгим или коротким бывает ее путь до места выхода. Наконец, вполне возможно, что эти источники как-то связаны с сольфатарами, расположенными на той же самой горе. Вода, более близкая к поверхности, вероятно, превращается в пар, который вверху вырывается из горы через различные щели, тогда как остальной ищет себе дорогу понизу; пройдя сквозь многие слои земли, он охлаждается и, сгущаясь, затем выбивается из горы в жидком состоянии в виде ручья. Но тут возможны были только предположения, ибо вулкан, о влиянии которого можно судить лишь в пору извержения, уже несколько дней оставался спокоен, а без него ничто не могло как следует прояснить сие явление.
Остаток дня мы провели на равнине за местом водозабора, где охотились за цветами неизвестного дерева, кои нельзя было получить иным путем, как только сшибив их пулей. Вечером матросы поймали около двух центнеров рыбы, что опять обеспечило всей команде свежую еду. А до тех пор доктор Спаррман и я еще раз сходили на высокую равнину и там приятно провели полчаса у наших, знакомых индейцев. Уже как бы стало обычаем развлекать их нашими песнями. Так было и на сей раз. Пение наше до того им понравилось, что они наконец показали пальцами на нескольких девушек, предлагая их нам в знак преувеличенного гостеприимства, не столь уж, однако, редкого у диких народов. Едва девушки поняли, о чем речь, как поскорее убежали, не то чтобы испугавшись, но явно недовольные непристойным предложением мужчин. Мужчины, прежде всего молодые, предложили нам догнать ломак. Возможно, и в том и в другом случае они лишь хотели попугать девушек; по крайней мере они не обиделись, когда мы не воспользовались их предложением. На прощание мы подарили им всякую мелочь, в том числе несколько перламутровых рыболовных крючков с черепаховыми наконечниками, а в ответ получили разных плодов.
За время нашего здесь пребывания мы достаточно пополнили запасы питьевой воды, топлива и балласта и решили следующим утром (19-го) поднять паруса. Однако этому помешал ветер, дувший как раз в устье гавани. Поэтому после завтрака мы с капитаном, как обычно, отправились на берег: он — для торга с туземцами, я же — еще раз напоследок осмотреть остров. Каждый выбрал свою дорогу. На той, по которой пошел я, мне встретилось много островитян, спускавшихся к берегу. Среди них не нашлось ни одного, кто бы не посторонился и не уступил бы мне дорогу, хотя они и видели, что я иду совсем один; при этом никто даже не состроил мне гримасу. Ободренный этим, я, конечно, решил пройти дальше и достиг долины у южной стороны высокогорной равнины. Так глубоко я еще не забирался. За густым лесом разглядеть окрестности удавалось лишь изредка, когда то там, то тут открывалось пространство между деревьями. Но тем более чарующее зрелище предстало предо мною потом. Я увидел плантации, занимавшие часть склона холма; туземцы были заняты там работой. Они валили или обрезали деревья, вскапывали землю сухой корягой, заменявшей лопату, и сажали ямс или другие клубни. В одном месте я даже услышал, как индеец поет за работой, и скоро узнал мелодию одной из тех песен, которую они не раз исполняли для нас возле своих хижин.
Местность была изумительно красивая, даже на Таити трудно было найти лучше. Там нигде нет равнины шире 2 английских миль, да и те чаще всего ограничены огромными скалами, отвесные склоны которых грозят вот-вот обрушиться. Здесь же передо мной была гораздо более широкая полоса земли с пологими холмами и просторными долинами, сплошь возделанная. Посадки тоже нигде не заслоняли вида, это были в основном бананы, ямс, Arum[таро] и сахарный тростник, то есть растения все малорослые. Банановые деревья тут не составляют исключения, ствол обычно бывает не выше 6 и редко достигает 10 футов; при столь малой вышине нетрудно смотреть поверх целого леса таких деревьев.
Лишь местами какое-нибудь дерево высоко вздымало свою густолиственную крону, и одно было живописнее другого. Позади взгляд упирался в холм, поросший группами деревьев, над коими возвышались внушительные кроны многочисленных кокосовых пальм.
Лишь тот, кому знакомы те удивительные чувства, что пробуждает в восприимчивом сердце красота природы, может представить себе, каким интересным может оказаться вдруг всякий, даже самый незначительный предмет в мгновения, когда раскрываются сокровенные глубины души, и какими несказанными ощущениями способен озарить нас этот миг. Так может восхитить простой вид вспаханного поля, так можно искренне и задушевно радоваться нежной зелени луга, разнообразным оттенкам листвы, ее обилию, разнообразию величины и форм. Все великолепие красок и все богатство природы как бы открылось передо мной. Различное положение деревьев относительно света придавало пейзажу праздничный колорит. Там листва блестела в золотистых лучах солнца, тут тени благодетельно освежали ослепленный взор. Дым, голубоватыми кольцами поднимавшийся среди деревьев, напоминал мне о нежных радостях домашней жизни; вид обширных банановых рощ с гроздьями золотых плодов, которые могли бы служить символом мира и изобилия, поневоле наполнял меня возвышающими душу мыслями о дружбе и счастье народов, а звучавшая в этот миг песня земледельца была как бы последним мазком, завершавшим картину!
Не менее красив был ландшафт и на западе. Плодородная равнина с этой стороны была замкнута холмами, на коих чередовались леса и сады. Над ними возвышалась гряда гор, по высоте таких же, как на островах Общества; однако они производили впечатление не столь крутых и суровых. Даже уединенное место, откуда я созерцал сию местность, природа не оставила без украшений. Здесь стояла группа прекраснейших деревьев, стволы которых были обвиты благоуханными цветущими лианами и вьюнками. Почва, необычайно жирная, столь благоприятствовала растениям, что иные пальмы, поваленные ветром[492], вновь поднимали над землей свои верхушки и пускали новые зеленеющие ветви. Птицы с пестрым оперением оживляли сие тенистое место, услаждая слух пением, порой неожиданно гармоническим.
Над моей головой было ясное небо, в моих ушах шелестел свежий морской ветер, и я наслаждался безмятежностью и покоем, какими могло одарить лишь сочетание приятных картин. Незаметно я углубился в мысли о пользе, какую принесло островитянам наше здесь пребывание, и сколь же радовало меня успокоительное, но, увы, преждевременное сознание, что мы, к чести человечества, показали себя здесь в самом выгодном свете! Мы провели всего четырнадцать дней среди народа, который вначале повел себя крайне недоверчиво и был полон решимости не оставлять неотмщенным даже малейшее проявление враждебности. Это подозрение, это глубоко укоренившееся недоверие мы сумели преодолеть и устранить спокойным, обдуманным поведением, умеренностью и последовательностью всех своих действий. Они, в своей жизни еще никогда не имевшие дела со столь безвредными, миролюбивыми, но при этом отнюдь не трусливыми или достойными презрения людьми, они, привыкшие доселе в каждом чужеземце видеть коварного, вероломного врага, научились теперь у нас, на нашем примере выше ценить своих ближних! Как только нам удалось смягчить порывы того бурного инстинктивного чувства самосохранения, которое делает всех дикарей столь недоверчивыми, пугливыми и враждебными, мы сразу увидели, как даже в их грубых душах распустились ростки другого, не менее сильного инстинкта — общительности. Едва они убедились, что чужеземцы не собираются силой, как добычу, забирать плоды их земли, они поделились ими добровольно. Они уже позволили нам посетить их тенистые жилища, и мы сидели среди них запросто, как члены семьи. Через несколько дней они начали даже находить удовольствие в нашем присутствии, и тогда их сердца открылись новому, бескорыстному, неземному чувству — чувству дружбы! Сколь драгоценно сознавать, восклицал я, что таким образом ты содействуешь благу целого народа и умножаешь его! Как хорошо принадлежать к цивилизованному обществу, которое наслаждается этим преимуществом и приносит его другим!
Тут мои мысли прервал шум приближающихся шагов. Это был доктор Спаррман. Я показал ему местность и поведал, какие мысли вызвала она у меня. Созвучность его чувств с моими придала им еще большую силу. Но в конце концов надо было оторваться от этого зрелища и возвращаться на корабль, ибо время приближалось к полудню. Первый туземец, которого мы встретили, убежал от нас и спрятался в кустах. Затем у входа на плантацию нам встретилась женщина, которая, судя по всему, тоже рада была бы убежать, но не решалась, ибо мы появились неожиданно и сразу оказались слишком близко. Дрожащими руками, с испуганным лицом она протянула нам корзину, полную ямбо. Озадаченные, мы, однако, приобрели у нее фрукты и пошли дальше. Как на самой плантации, так и рядом с ней в кустах стояло много мужчин; они знаками все время показывали, чтобы мы возвращались на берег.
Едва мы вышли из леса, как загадка сразу объяснилась. Двое мужчин сидели на траве, у них на руках лежал третий. Он был мертв. Они показали нам пулевую рану в боку и сказали с трогательнейшим выражением: «Он убит». На их языке это выражалось несравненно более проникновенно — одним словом: марком. Услышав такую новость, мы поспешили на берег, где обычно находились наши люди, но не нашли там ни одного индейца и узнали, что случилось.
Как обычно, чтобы оградить от индейцев место, нужное нашим людям для работы, был выставлен пост; матросы же переходили разграничительную линию свободно и могли при желании смешиваться с дикарями. Один из индейцев, вероятно ни разу еще за все время нашей стоянки не бывавший на берегу, протиснулся между своими земляками и хотел пройти на свободное место. Но поскольку наши люди считали это лишь своим правом, часовой взял индейца за руку и вытолкал обратно. Тот справедливо счел, что на его собственном острове чужеземец не вправе ему ничего указывать, и опять попытался пройти по этому месту, вероятно просто желая показать, что может ходить где угодно. Часовой вытолкал его вторично, причем с такой злостью, что и менее вспыльчивого человека, нежели дикарь, это бы вывело из себя. Стоит ли удивляться, что, желая отстоять свою свободу, которая оказалась попрана, он вложил в лук стрелу и прицелился в обидчика. Солдат не раздумывая вскинул ружье и уложил индейца на месте.
В тот момент, когда это произошло, капитан как раз вышел на берег и увидел, что все оттуда разбегаются, спасаясь от жестоких, вероломных людей, позволяющих себе такую несправедливость на чужой земле. Желая загладить ошибку, он тотчас отослал арестованного солдата на корабль и постарался успокоить туземцев. Многих из них, особенно живших к востоку, на высокой равнине, действительно удалось уговорить и опять добиться доверия к тем, кто так нарушил главнейшую заповедь гостеприимства. Это поистине трогательное доказательство прирожденной доброты человеческого сердца! Столь же редкостной сдержанностью можно было объяснить, что дикари не причинили ни малейшего вреда доктору Спаррману и мне, хотя могли довольно веско отомстить таким образом за убийство своего земляка.
Затем мы с капитаном вернулись на корабль, беспокоясь, однако, за моего отца, который, не подозревая о случившемся, бродил еще по лесу в сопровождении единственного матроса. Но все обошлось лучше, нежели мы думали; не прошло и четверти часа, как мы увидели его возле поста, который был оставлен на берегу для охраны наших питьевых бочек; целого и невредимого, его тотчас доставили на шлюпке. Дикари, видимо, не собирались мстить за смерть своего собрата; должно быть, у них создалось о нас слишком хорошее впечатление, чтобы преступление одного человека приписывать всем.
Как внезапно и из-за какого гнусного поступка оказались разрушены приятные надежды, коими я льстил себя всего несколько мгновений назад! Что должны были думать о нас дикари? Разве не заслуживали мы величайшего отвращения, проникнув к ним под личиной дружелюбия, чтобы затем так вероломно убить одного из них? Надо сказать, у многих из нашей команды хватило чувства справедливости, чтобы осудить происшедшее, сожалеть об атом несчастье. Такие поспешные действия совершались то и дело и нигде не приносили добра. Даже здесь, на Танне, где мы до самого отъезда вели себя более нравственно и разумно, чем где бы то ни было, сия откровенная жестокость могла свести на нет всю нашу добрую славу!
Капитан хотел примерно наказать солдата, который действовал вопреки категорическому предписанию отвечать на вспыльчивость и дерзость дикарей только мягкостью. Однако за того вступился командовавший на берегу офицер[493]. Он сказал, что не поставил своих людей в известность об этом приказе капитана, напротив, строго внушил им стрелять при малейшей угрозе со стороны дикарей. После такого признания к солдату нельзя было предъявить никаких претензий, но разве мог офицер распоряжаться жизнью туземцев? Дело это замяли[494].
После обеда мы опять отправились на берег, где матросы напоследок попытали счастье в рыбной ловле, и небезуспешно. Туземцев пришло совсем мало, причем большинство без оружия, словно они забыли или, во всяком случае, простили убийство своего земляка. Мой отец, доктор Спаррман и я пошли к равнине пострелять птиц. Там мы тоже увидели одного-единственного индейца. Едва заметив нас, он свернул в сторону и хотел поскорее скрыться. Но мы окликнули его и знаками, поскольку иначе объясниться не могли, постарались заверить его в своем дружелюбии, так что он вернулся. Он приблизился к нам недоверчиво, но мы окончательно успокоили его подарками, расстались добрыми друзьями и довольно поздно вместе со всеми остальными вернулись на борт.
На следующее утро из гавани под парусами отошло несколько каноэ. По форме они напоминают лодки, какие делают на островах Дружбы, разве что здешние сработаны гораздо хуже. У всех выносные поплавки, и в некоторых помещается до двадцати человек. Паруса низкие, сделаны из треугольной циновки, причем широкой стороной обращены кверху, а углом книзу. Дно каноэ составляет ствол, выдолбленный в виде корыта, а борта — это одна-две приставленные друг к другу и соединенные бечевками из кокосового волокна планки. Наружная сторона планок совсем гладкая и ровная, а внутри на некотором расстоянии друг от друга сделаны маленькие выступы, или бугорки; просверленные поперек, они выдаются как крепко ввинченные кольца. Сквозь эти отверстия или кольца протягиваются бечевки, и с их помощью планки плотно привязываются одна к другой так, что снаружи не видно ни отверстий, ни завязок. Весла плохие во всех отношениях — и по форме и по выделке. Возможно, жители Танны отделывают свои каноэ и другие изделия не так тщательно и чисто, как обитатели островов Дружбы, потому что, находясь в состоянии вечной войны, просто не имеют для этого достаточно времени.
Поскольку ветер был теперь попутный, мы снялись с якоря и 20 августа после шестнадцатидневной стоянки вышли в море.
Остров Танна расположен под 19°30' южной широты и 169°38' восточной долготы; окружность его не превышает 24 морских миль. Насколько мы имели возможность исследовать горы, они состоят в основном из глинистой породы с включением частиц мела. Глина эта, почти сплошь коричневого или желтоватого цвета, лежит почти горизонтальными слоями толщиной в 6 дюймов. Кое-где эти слои перемежаются слоями мягкой черной породы, которая состоит из вулканического пепла и шерла, смешанных с глиной или, скорее, с разновидностью трепела[495]. Именно этот вулканический пепел с добавлением хорошего чернозема и создает ту превосходную плодородную почву, в которой прекрасно развиваются растения. Все эти смеси, как почвенные, так и минеральные, в большей или меньшей степени порождены деятельностью вулкана. Например, белая глина, покрывающая сольфатару, содержит самородную серу и обладает при этом вяжущим привкусом, свидетельствующим о наличии квасцов. В тех же местах встречается красный болюс[496], по-видимому содержащий селенит; во всяком случае, украшения, которые здешние жители вдевают в нос, состоят из этой породы. Что касается лавы, то нам встретились лишь отдельные, довольно грубые куски; вероятно, больше разных видов ее можно встретить ближе к вулкану, куда нас не хотели подпустить. Вода в горячих источниках имеет вяжущий вкус и, похоже, содержит минеральные частицы; у нас, однако, не хватило времени, чтобы определить их свойства с помощью химических опытов.
Сам по себе вулкан, в ту пору активный, конечно, дал бы материал для некоторых новых наблюдений, если бы не подозрительность местных жителей, не позволивших обследовать его поближе. Вместо этого нам пришлось довольствоваться созерцанием его издалека, но это дало нам возможность лишь подтвердить уже известное: огнедышащая гора не всегда бывает самой высокой в цепи других гор (как в Перу и Сицилии), иногда извергаются горы второго, более низкого ряда, часто совсем невысокие. Более того, в некоторых местах, например у Азорских островов и в Архипелаге[497], вулканы появляются даже из глубины моря, причем в таких местах, где глубина эта бездонна; посему весьма странно, когда и поныне многие натуралисты слепо вторят графу Бюффону и продолжают считать, «что вулканы возникают лишь на самых высоких горах». Выдвигая такую гипотезу, сей автор исходит из того, что подобный подземный огонь возможен «лишь у поверхности земли». Второе наше наблюдение над вулканом Танны состоит в том, что самые сильные извержения обычно следуют за дождем. Хотя краткость нашей стоянки не позволила нам наблюдать это достаточно часто, чтобы делать общие выводы, опыт других естествоиспытателей уже подтвердил это достаточно надежно.
Растительный мир Танны весьма богат как по количеству, так и по разнообразию видов. В лесах встречается много совершенно неизвестных или же имеющихся лишь на островах Ост-Индии растений; на плантациях возделывается также много растений и кореньев, неизвестных на островах Общества и Дружбы. Таких растений, за которыми по-настоящему ухаживают, можно насчитать более сорока видов. Из дикорастущих особого упоминания заслуживает мускатный орех; Кирос сообщает, что сия пряность произрастает на острове Эспириту-Санто, который, несомненно, принадлежит к этой же группе островов. Есть также апельсины, но растут они в диком виде или разводятся, я сказать не могу, поскольку не видел ни одного дерева, только плоды, которые женщины приносили на продажу.
Не менее богат животный мир, в котором можно отметить несколько прекрасных видов. Здесь много разнообразной рыбы. Мы ловили, иногда сетью, иногда на крючок, разновидность султанок (Mullus), бразильскую щуку, дораду [корифену], Cavalhas, рыбу-попугая, ската ядовитого и беззубого, морского ангела, акул и прилипал, а также разные виды макрели и так называемую кефаль (Mugil). Мало здесь лишь моллюсков, однако туземцы привозят их с соседних островов и всем раковинам предпочитают перламутровые. В лесах водится бесчисленное множество птиц, особенно всевозможных голубей, попугаев и мухоловок. Среди последних есть один вид, распространенный в Новой Зеландии. Встречаются также цейлонская сова, пурпурная лысуха, пищухи и утки. Они обычно очень пугливы — очевидно, жители на них охотятся. Из домашних животных здесь только куры и свиньи, а из четвероногих водятся, как уже упоминалось, крысы да летучие мыши.
Этот остров богато наделен природой, климат его умерен, хоть он и расположен между тропиками, народ же здесь гораздо менее цивилизован, чем обитатели островов Общества и Дружбы, лежащих примерно на одной с ним широте, только восточнее. Население не превышает 20 тысяч человек, но земли для такого числа жителей возделано мало, за исключением высокой равнины к востоку от гавани, которую в этом отношении можно, бесспорно, назвать самым богатым местом из всех, что я видел в Южном море. Может показаться удивительным, что на Танне при столь плодородной, как я уже писал, почве так много пустующих земель. На первый взгляд такое качество земли должно бы весьма облегчить ее обработку; однако, напротив, оно лишь затрудняет ее, по крайней мере вначале. Ведь истребить дикие растения, которые, как известно, распространяются сами по себе (семенами либо корнями), тем труднее, чем больше питания они получают из почвы. И если их совсем не вывести, они грозят заглушить и вытеснить все искусственно выращенные, часто более нежные и слабые растения. Оба эти обстоятельства, вместе взятые, заставляют меня предполагать, что население Танны не столь велико, каким оно могло бы быть, судя по величине острова.
Жители собираются в небольших деревеньках, в каждой из которых живут лишь несколько семей. Их обычай ходить всегда при оружии — явный признак того, что когда-то они вели, а возможно, и теперь ведут постоянные войны как с жителями соседних островов, так и между собой. Внутренние распри, возможно, возникают потому, что на Танну попали представители разных племен, которые спорят из-за собственности. Во всяком случае, на такую мысль наводит то обстоятельство, что нам здесь встретились разные языки; один из них общепринятый и всем понятный, другой совпадает с диалектом, которым пользуются на островах Дружбы, и третий — на котором говорят в основном индейцы, живущие по западную сторону гавани. Что три этих языка совершенно отличны один от другого, мы особенно ясно могли увидеть по названиям чисел, которые в каждом звучали по-разному. В господствующем, или общепринятом, языке мы заметили два-три слова, явно родственные малликольскому наречию, и примерно столько же слов совпадали с малайскими. Но в целом ни один из этих трех языков не имел ничего общего с какими-либо уже известными. Многие слова произносятся с сильным придыханием, в других много горловых звуков, но обилие гласных делает выговор легким, и язык звучит приятно.
Видимо, из-за небольших размеров островов Южного моря и полного отсутствия четвероногих животных первые их обитатели не могли добывать себе пропитание охотой, как большинство других дикарей, и не могли жить одним животноводством, а почти сразу же, попав сюда, вынуждены были заняться земледелием, особенно там, где рыбы было немного. Если бы не эта необходимость возделывать поля, обитатели островов между тропиками наверняка нигде не достигли бы того уровня цивилизации, какой мы обнаружили у них. Но далеко ли ушел народ от других, судить можно лишь по тому, сколько удобств он смог привнести в свою домашнюю жизнь (ибо у всех у них есть прочные постоянные жилища) или насколько искусны их изделия. Если исходить из такого масштаба, то дома их — просто шалаши, построенные без малейшей заботы об удобствах, лишь для того, чтобы иметь укрытие в ненастную погоду. Одежды, по коей тоже можно судить о степени цивилизации, они совершенно не знают. Не заботятся они также о чистоте тела, что всегда служит большой помехой в обиходе. Вместо того чтобы усердно купаться, как это делают таитяне и их соседи, они предпочитают раскрашивать себя всевозможными красками, что чистоты им отнюдь не прибавляет.
Однако при всех этих недостатках они уже и сейчас демонстрируют очевидные способности и склонности к более утонченному образу жизни. Я имею, в частности, в виду поварское искусство их женщин, которому благоприятствует разнообразие здешних съестных припасов. Они умеют, например, печь и сушить ямс и бананы, тушить фикусовые листья и окру (Hibiscus esculentus), печь пудинги, для которых тесто делается из банана и Arum[таро], а начинка — из ядер кокосового ореха и листьев. Различные виды овощей употребляются в пищу и в свежем виде, без готовки. Иногда им перепадает кусок свинины или птица; добывают они пропитание и рыбной ловлей, и охотой на пернатую дичь, но и рыба, и дичь бывают не каждый день, это скорее лакомство. Однако если такой еды у всего народа будет становиться больше, то вскоре разовьются и земледелие, и ремесла, и искусства, определяющие уровень благосостояния: ведь даже самая тяжкая работа кажется нам легкой и увлекательной, когда мы занимаемся ею по собственному желанию или ради удовольствия. А достаточно позаботиться об улучшении нравов в чем-то одном, как скоро это произойдет и во многих областях. Уже и сейчас музыка достигла здесь куда более высокой степени совершенства, чем где бы то ни было в Южном море, а ведь нельзя отрицать, что способность наслаждаться гармоническими звуками предполагает определенную чувствительность, которая пролагает путь нравственности.
Государственное устройство соответствует нынешнему состоянию народа и еще очень несовершенно. Каждая деревня и каждая семья живут сами по себе и объединяются для совместных дел с соседями, лишь когда этого очень требуют общие интересы, например в случае угрозы вражеского нападения. Люди в летах, известные своей храбростью, по-видимому, пользуются в больших группах некоторым уважением, но никакой иерархии здесь не существует. При таком множестве мелких групп их интересы часто бывают слишком противоположны, что служит причиной раздоров, а затем и питательной почвой для недоверия и мстительности. Однако впоследствии, когда народонаселение острова возрастет, этого можно будет избежать, ибо такой рост, более чем что-либо другое, заставит их позаботиться об общих интересах и установить более четкую форму правления. Изготовлением оружия, на которое сейчас уходит большая часть их времени, они станут заниматься только для развлечения на досуге, и такой покой, взаимное доверие и общая безопасность высвободят им много времени; тогда они смогут не меньше, чем жители островов Дружбы, усовершенствоваться во всех искусствах и ремеслах. Насколько способно ускорить наступление таких времен общение с соседними островами, сказать трудно, но не подлежит сомнению, что торговля необычайно способствует прогрессу цивилизации.
О религии жителей Танны мы ничего не можем сказать. Правда, торжественный напев, который почти каждое утро доносился с восточной оконечности гавани, заставил нас предположить, что где-то там, в лесу, находится место для богослужебных собраний, однако установить это с уверенностью мы не могли, так как жители всячески старались не допустить нас туда. Во всем же их остальном поведении нельзя было обнаружить ни признака какой-либо внешней религиозности, почитания богов или хотя бы суеверия. Можно было бы счесть за таковое их привычку брать наши подарки не голыми руками, а посредством зеленого листа; однако и этот обычай соблюдался не всегда; когда же мы мало-мальски познакомились друг с другом, от него и вовсе отказались. Но, конечно, и сей народ не может обходиться совсем без религии, ведь мысль о том, что есть некое высшее существо, знакома даже самому грубому дикарю, и лишь насущные потребности мешают ему глубже задуматься над этим; но если удается удовлетворить их без большого труда и за короткий срок, то мыслительные способности человека довольно скоро получают развитие, приводя его к раздумьям о том, что находится по ту сторону мира телесного. Так, даже прогресс в познании бога зависит от развития цивилизации!
Более точных и существенных наблюдений, не говоря уже о полном описании всех знаний жителей этого острова, от нас, надеюсь, не станет ждать или требовать никто, принимая во внимание краткость нашего здесь пребывания и препятствия, какие поначалу поставило на нашем пути недоверие туземцев. Только это и было причиной того, что многое, особенно повседневные обычаи, осталось нам совершенно неизвестным. По торжественным поводам, таким, как, например, свадьбы, рождения или смерти, у всех народов можно наблюдать особые церемонии; даже если на Танне эти церемонии предельно упрощены, все же они помогли бы нам лучше понять все еще недостаточно изученный характер этого народа[498]. Но если говорить о том, что мы видели сами, нравом они гораздо более серьезны, нежели обитатели островов Общества, даже суровее дикарей Малликолло. Судя но встрече, которую нам оказали семьи, живущие на высокой равнине, им нельзя было бы отказать в гостеприимстве и вообще в человеколюбии, если бы они, озабоченные мыслью о своей безопасности, не старались скрывать сии чувства. Хотя к своим женщинам они относятся не так хорошо, как надо бы, но все-таки не столь сурово и жестоко, как новозеландцы; напротив, похоже, что по кротости нравов в обращении с другим полом они уже приближаются к жителям островов Дружбы и Общества. Свое бесстрашие и храбрость они демонстрируют при всяком случае, но нельзя не признать за ними и великодушие; они проявили его после убийства своего земляка, особенно в отношении к доктору Спаррману и ко мне, когда мы, проходя по лесу, были полностью в их власти. Наконец, им отнюдь нельзя отказать в уме; в этом мы имели достаточно случаев убедиться и даже были восхищены этим.
Таковы их добрые качества; но, с другой стороны, их поведение вначале, равно как привычка никогда не ходить без оружия, свидетельствуют, конечно, об их чрезвычайной недоверчивости. Поскольку же они сами говорили о себе как о людоедах, не будет преувеличением назвать их крайне мстительными и необузданными в своих страстях. Возможно, общение с нами, европейцами, пошло бы им на пользу и помогло росту нравственности, если бы последнее нечаянное происшествие не разрушило бы так быстро их благоприятное впечатление о нас!
Европейские товары ценятся здесь весьма невысоко или вовсе не ценятся. Но, получив от нас некоторое количество гвоздей и топоров, они смогут убедиться в долговечности металла и поймут его цену, тогда, возможно, следующему европейскому судну они согласятся давать в обмен за них продовольствие.
Итак, мы опять были в море и плыли на восток, к острову Ирронан. За время пребывания на Танне мы три-четыре раза поели свежей рыбы и сделали небольшой запас ямса, который, однако, держали для больных. У нескольких матросов как раз началась лихорадка и только им вместо нездоровых сухарей и говяжьей солонины давали маленькие порции ямса. Вечером мы подошли довольно близко к острову Ирронан, лежащему примерно в 12 морских милях к востоку от Танны. Он представляет собой одну высокую плоскую гору. Всю ночь пришлось лавировать, а на следующее утро было определено положение острова Аннатом: 20°3' южной широты и 170°5' восточной долготы. Он немного меньше Танны, но с отдаления мы не могли сказать точно насколько; горы же на обоих островах примерно одинаковой высоты.
Поскольку дальше к югу больше не было видно никакой земли, мы вдоль юго-западного побережья Танны опять пошли на север. С этой стороны остров имел вид очень плодородный, горы и холмы спускались полого и сплошь поросли прекрасным лесом. Свежий ветер так благоприятствовал нам, что уже на следующее утро (22-го) мы подплыли к юго-западному берегу Ирроманго. Капитан Кук намеревался получше исследовать западные берега всех здешних островов и особенно помнил о большом острове, открытом господином Бугенвилем к северу от Малликолло.
Еще до заката мы достигли южного берега острова Сандвич [Эфате]. Отсюда он показался нам гораздо плодороднее и богаче лесами, чем с северной стороны, мимо которой мы проплывали в первый раз. И на этом острове тоже была гавань, вход в которую прикрывали четыре маленьких, низких, но поросших тенистыми деревьями острова и которая была столь же надежна, сколь и красива.
Всю ночь мы плыли так быстро, что утром опять увидели острова Апи [Эпи], Паум [Паама] и Амбррим [Амбрим], а вскоре затем подплыли к юго-западному берегу Малликолло. С этого места гора Паум казалась отделенной от близлежащего острова, но, видимо, это лишь представлялось из-за местоположения судна, и они все-таки соединялись узким перешейком. Красивые леса и на этой стороне Малликолло вызвали у нас приятное восхищение, а дым, поднимавшийся с разных мест, свидетельствовал о многочисленности здешнего населения. Вскоре затем мы увидели большой залив с красивым берегом, и двумя маленькими островами. Местность здесь тоже казалась очень плодородной и густонаселенной. Она была так красива, что мы не могли отвести от нее глаз, а толпа индейцев, собравшихся на берегу, еще более возбуждала наше любопытство.
В полдень от берега отошли два каноэ и поплыли навстречу нам, но вскоре вынуждены были вернуться, так как мы двигались слишком быстро. За северо-западной оконечностью залива берег становился менее приятен, то тут, то там видны были бесплодные места. Тем не менее даже на самых высоких горах можно было увидеть дымы и хижины, а ночью в тех же местах — цепи огней, длиной иногда до полумили.
За ночь мы обогнули северную оконечность Малликолло и на рассвете 24-го находились уже довольно далеко в проливе, который Бугенвиль обнаружил между Малликолло и другим расположенным к северу от него островом. Малликолло вытянут с норд-норд-веста на зюйд-зюйд-ост, северная его оконечность лежит под 15°50' южной широты и 167°23' восточной долготы. Берег на северной стороне пролива выглядит высоким и гористым, у южного берега лежат много мелких островов средней высоты, поросших большими деревьями. Погода на сей раз была более ясная, и мы могли очень хорошо разглядеть красоты этих мест, а удовольствие видеть перед собой столько богатых пейзажей в какой-то мере подслащивало нам дурную пищу, состоявшую и в этот день все из тех же невкусных корабельных запасов.
Земля, которую мы видели на севере, вероятно, была той самой, что открыл опытный мореплаватель Кирос, давший ей название Tierra del Espiritu Santo (Земля святого духа); тогда он принял ее за часть континента или материка. Бухта Сан-Фелипе-и-Сантьяго, где он бросал якорь, вероятно, находилась за маленькими островами, которые мы видели вдоль берега. Там действительно было нечто похожее на залив, но капитан не захотел тратить времени, чтобы исследовать его поближе, а довольствовался тем, что назвал маленькие острова островами Сент-Бартолемью [Мало], в честь дня, когда мы их впервые увидели.
Теперь нам открылись острова Прокаженных [Аоба] и Аврора [Маэвo] оба довольно далеко на востоке; мы плыли вдоль восточного побережья острова Эспириту-Санто прямо на север. Там было много мелких островов, не замеченных Бугенвилем; как и большой остров, они имели плодородный вид и всюду поросли лесом, оттуда во многих местах поднимался дым — верный признак того, что они густо населены. Всю ночь мы лавировали и к рассвету находились против самых северных островов, откуда была заметна и северная оконечность большого острова. Теперь стало видно, что мелкие острова выглядят по большей части почти одинаково: это длинные узкие куски суши, на одном конце крутые, на другом низкие; они имеют вид вытянутых кос. Крутой берег обычно белого цвета, как мел, а среди деревьев мы не увидели пальм; в основном это были казуарины. Самый красивый вид открывался нам, когда мы подплывали к северным берегам сих маленьких островов и они один за другим как бы отделялись от большого острова, так что между всеми ними можно было видеть маленькие проливы.
Наконец мы повернули на запад, и за одним из мысов главного острова (Эспириту-Санто) нам открылся большой залив, шириной у входа не менее 5 морских миль и довольно глубокий. Он вдавался в сушу с обеих сторон по меньшей мере на 7 миль, причем берега почти на всем этом протяжении были параллельны, а в глубине виднелся красивый пляж, коим и кончался залив. Местность на многие мили состояла либо из холмов средней высоты, либо из широких долин и всюду имела вид приятный, плодородный и обжитой. На западном берегу залива было видно, особенно к вечеру, много туземцев. Поглазев на нас вдоволь, несколько человек отплыли от берега на каноэ, напоминавшем по устройству малликольские, и шли на веслах к нам. Мы постарались всеми мыслимыми дружественными знаками заверить их в наилучшем приеме; тем не менее они не решились подойти поближе.
Нас удивило, что гора на этой стороне залива, хотя и была довольно крутой, обильно поросла деревьями и была густо заселена. От ее подножия к заливу шла полоса низкой равнины, шириной 1 — 2 мили; там получалось нечто вроде бухты, где мы не прочь были бы бросить якорь, поскольку как раз установился штиль и начало темнеть. Мы стали опускать в разных местах лот, но он на глубине 130 и 140 саженей не доставал дна. Вскоре совсем стемнело, так что берег можно было различить лишь по мерцающим там и сям огням. Положение наше было довольно ненадежным, и мы уже собирались спускать шлюпки, чтобы отбуксировать корабль, когда поднялся ветерок, с помощью которого мы вошли в залив. Там мы дождались рассвета и затем при слабом ветре прошли по заливу к югу, но ненамного, ибо к полудню ветра опять не стало.
После обеда две шлюпки на веслах отправились в глубину залива, чтобы там найти гавань или реку, которых издали, с корабля, нельзя было увидеть. Тем временем от берега отошли три каноэ с треугольными парусами и довольно быстро стали приближаться к нам. В каждом находилось по пять человек, совершенно нагих, цветом кожи напоминавших малликольцев, но более высоких и более крепкого телосложения.
Волосы их на вид шерстистые, борода курчавая. На макушке у некоторых пучок перьев, у иных на лбу привязана белая раковина, у других вокруг головы, как шапка, повязан лист саговой пальмы. Браслеты их сделаны из раковин и выглядят точно так же, как на Малликолло. Вокруг туловища узкий пояс, от которого сзади и спереди спускаются до колен длинные куски циновки шириной около 5 дюймов.
Лодки, как и на Малликолло, были сделаны плохо, имели выносные поплавки; в них лежало несколько копий с двумя-тремя остриями, несомненно предназначенных для рыбной ловли; другого оружия у этих людей не было.
Когда они подошли достаточно близко, мы спустили им медали, гвозди, таитянскую материю и красную ткань; они ловко все приняли. Особенно их обрадовали гвозди; видимо, они уже были знакомы с этим металлом. Возможно, изделия из железа здесь оставил еще Кирос, и они нравились туземцам своей долговечностью. Посредством, той же бечевки, на которой мы опустили им наши подарки, они послали нам ветку перечного дерева, но кроме этого знака дружбы у них не было ничего. Мы заговаривали с ними на разных языках, и они отвечали, но друг друга никто понять не мог. Наконец я догадался назвать числа на языке островов Дружбы, и едва я начал счет, как они, перебив меня, стали на том же наречии считать дальше до десяти. Затем я показал пальцем на берег и спросил, как называется остров. Они в ответ сказали «фаннуа», что на упомянутом диалекте означает просто «земля». Красивую равнину вокруг залива они назвали Таллаони и таким же образом сообщили наименования разных других мест, но названия всего в целом не сказали, так что мы оставили данное Киросом название земли — Эспириту-Caнто. Языки Малликолло и Танны были этим людям либо неизвестны, либо, во всяком случае, непонятны в нашем произношении. Увидев нашу возвращавшуюся с берега шлюпку, они повернули обратно, тем более что солнце уже клонилось к закату.
Лейтенант Пикерсгилл, командовавший шлюпкой, сообщил, что он нашел хороший грунт для якоря, правда, не ближе чем в двух-трех кабельтовых (кабельтов составляет 100 саженей, в каждой из которых 7 английских футов) от берега. Там же была красивая река, устье которой оказалось достаточно глубоким для шлюпки, поэтому лейтенант вошел в него и высадился на берег, в то время как с другого берега за ним из кустов наблюдало множество жителей. Он подавал им разные дружелюбные знаки и подзывал их, но приблизиться никто не решился, и тогда он возвратился на корабль.
Мы подняли шлюпку и при слабом ветре стали постепенно выходить из залива. Капитан Кук дал ему название Сан-Фелипе-и-Сантьяго, но тот ли он был самый, который наименовал так Кирос, с уверенностью сказать нельзя. Во всяком случае, мы не нашли там гавани Вера-Крус, о которой испанский мореплаватель сообщает, что в ней разместилась бы тысяча кораблей. Восточный мыс у входа в залив мы назвали мысом Кирос; он расположен под 14°55' южной широты и 167° 14' восточной долготы. Западному мысу мы дали название мыс Камберленд[499]; он лежит немного севернее, под 14°38' южной широты и 166°52' восточной долготы. Рано утром мы оказались прямо против него и, выйдя из залива, поплыли на запад вдоль северного побережья, правда очень медленно, потому что ветер был весьма слабым, а иногда вовсе затихал.
Kиpoc не без основания восхвалял красоту и плодородие этой земли; действительно, остров был одним из наиболее прекрасных, когда-либо виденных мною. Естествоиспытателя, без сомнения, ждет там немало великолепных открытий, тем более что этот остров — самый крупный (если не считать Новую Зеландию) из всех встреченных нами; к тому же здесь еще не побывал никто из натуралистов. Но исследование природы в таком путешествии всегда считается делом второстепенным, как будто цель всего предприятия состояла лишь в том, чтобы пройти по Южному полушарию «новым путем»! Хорошо, что хотя бы время от времени потребности команды и польза для науки совпадали, иначе последнюю трудно было бы хоть чем-то обогатить.
После полудня матросы поймали акулу, так что назавтра у нас оказалась свежая еда. На спине акулы сидело маленькое насекомое из семейства Monoculus, очень напоминавшее тот вид, который встречается в челюстях лососей. Когда мы доставали книги из нашей маленькой; библиотеки, то обнаружили там скорпиона, вероятно попавшего на борт на островах Дружбы вместе с бананами. Вечером мы поймали олушу, опустившуюся на большую рею; она относилась к разновидности, которую Линней назвал Pelecanus Fiber.
На следующий день ветер все еще был весьма слабым, и мы приближались к западному побережью земли Эспириту-Санто очень медленно. Вокруг корабля плавали разные рыбы, мы, в частности, поймали двух альбакор, а после нескольких неудачных попыток попали гарпуном в одну корифену. Берег с этой стороны был возвышенный, горы очень крутые, и ночью мы во многих местах видели огни, возможно разведенные для того, чтобы выжечь часть леса для посадок. Кирос тоже видел подобные огни и, как мы поначалу, предположил, что это знак радости по поводу прибытия корабля.
30-го и 31-го ветер стал дуть с юга, так что нам пришлось всячески лавировать, дабы добраться до юго-западной оконечности острова. Мы назвали ее мысом Лисберн[500]; она расположена под 15°35' южной широты и 167° восточной долготы. Оттуда же опять направились к проливу между Малликолло и землей Эспириту-Санто, дабы завершить полный обход последней. Благодаря этому мы смогли увидеть залив, который отметил на своей карте господин Бугенвиль. Вход в него прикрывают некоторые из островов группы Сент-Бартолемью, но он, кажется, не такой большой, как обозначено на этой карте.
Итак, мы достигли поставленной цели: обошли вокруг весь здешний архипелаг. Он состоит из десяти больших и множества мелких островов, самых западных из всех, открытых до сих пор в Южном море; все вместе, в полном объеме они еще не были исследованы ни одним из мореплавателей и не имели общего названия. Его дал им капитан Кук; в честь Гебридских островов у западного побережья Шотландии он назвал их Новые Гебриды.
В 6 часов вечера мы развернули корабль и с юго-восточным пассатом взяли курс от Новых Гебрид на зюйд-зюйд-вест. Эта группа островов, которую мы за 46 дней смогли исследовать лишь поверхностно, несомненно, заслуживает внимания будущих мореплавателей, особенно если они когда-либо отправятся в путешествие с достославным намерением способствовать прогрессу наук. Я не стану, подобно Киросу, утверждать, что здесь можно будет обогатиться серебром и жемчугом. Конечно, ему надо было так говорить, дабы хоть как-то побудить своекорыстный двор поддержать великие одухотворенные замыслы. Сейчас, слава господу, подобные приманки не нужны. Самые могущественные властители Европы уже организовали не одно плавание в отдаленные части земли, дабы способствовать общему благу рода человеческого. Они, кажется, убедились наконец, что за те же деньги, кои обычно тратились на продажных фигляров и льстецов, можно способствовать блистательным успехам, даже подлинной революции в науках, и что учености отныне нужна лишь небольшая поддержка, чтобы преодолеть все препятствия, воздвигаемые на ее пути невежеством, завистью и суеверием.
По-моему, нет нужды говорить о каких-то воображаемых 980 богатствах; уже ради того, что производит природа Новых Гебрид, стоит продолжить их исследование, причем более тщательно, чем на сей раз. Здешние вулканы, здешние растения, обитатели сих островов — все это, без всякого сомнения, даст богатый материал новому Ферберу, новому Соландеру, любому философу, изучающему людей[501]!
Мы держали теперь курс на юг, дабы пересечь Южное море там, где оно шире всего, то есть до оконечности Америки. Как ни далек был сей путь, как ни обессилена была команда, не имевшая долгое время, да к тому же в жарких широтах, никакой другой пищи, кроме солонины, капитан все же решил не делать на этом пути никаких остановок. Мы, несомненно, потеряли бы таким образом немало людей, ибо не все выдержали бы столь долгий пост. На счастье, менее чем через три дня нам встретилась большая земля, которой еще не видал ни один европеец, и последняя часть нашего плавания в Южном море приняла вдруг совсем иной оборот.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Открытие Новой Каледонии,— Рассказ о нашем пребывании там.— Плавание вдоль побережья и отбытие.— Открытие острова Норфолк.— Возвращение в Новую Зеландию
4 сентября в 7 часов утра один мидшипмен[502] увидел с марса на юге довольно высокую землю, простиравшуюся далеко на запад и отчасти на юго-восток. Из-за тумана она казалась весьма отдаленной, но, когда воздух прояснел, мы увидели, что находимся от нее не более чем в 8 милях. Однако, к величайшей нашей досаде, ветер тем временем утих, и мы приближались к этому нежданному берегу очень медленно.
Господни Бугенвиль в книге о своем плавании рассказывает, как однажды при сильном ветре, вздымавшем высокие волны, он внезапно попал в место, где море было совершенно спокойно, хотя ветер продолжал дуть с прежней силой. И там (добавляет он) мимо судна пронесло несколько бревен, а также фрукты, из чего я заключил, что недалеко должен быть берег. Это было действительно так; судя по указанному им положению корабля, он находился как раз к северо-западу от той самой земли, что мы сейчас видели перед собой.
Из-за продолжавшегося штиля мы и после полудня находились довольно далеко от берега, до уже можно было различить, как в некоторых местах поднимается дым, а это значило, что земля обитаема. Находившийся на марсе офицер пробудил в нас надежду исследовать еще один вулкан: ему показалось, что из одной горы вырывается пламя. Но, видимо, это был обман зрения, ибо впоследствии мы не обнаружили на острове никаких следов вулканической деятельности, не говоря о том, что не нашли и самой огнедышащей горы.
Мыс, который мы увидели первыми, находился под 20°30' южной широты и 165°2' восточной долготы; в честь молодого офицера, первым заметившего его, он получил название мыс Колнет; вся же земля, насколько мы видели, весьма обширная, была названа Новой Каледонией[503]. Хотя жители еще не показывались, мы все же не могли удержаться от разных предположений на их счет. Поскольку обитатели Новых Гебрид оказались столь непохожими на новозеландцев и заметно отличались даже друг от друга, нам хотелось надеяться, что мы сможем установить происхождение новозеландцев от жителей Новой Каледонии. Впоследствии оказалось, однако, что эти предположения слишком поспешны и с точностью судить об истории народов, населяющих острова Южного моря, вообще вряд ли возможно.
Еще до темноты от берега к нам отошли три каноэ под парусами. Из-за расстояния туземцы, видимо, приняли наше судно за каноэ и решили, что оно гораздо ближе, но, видно, скоро поняли свою ошибку; во всяком случае, спустя некоторое время они повернули обратно. На западе земля состояла из нескольких островов, а прямо перед нами шла широкая полоса прибоя; мы поэтому предположили, что вся земля на некотором расстоянии от берега окружена кольцом коралловых рифов.
Рано утром со свежим ветром мы приблизились к острову и скоро увидели риф, параллельный берегу, милях в трех от него. Внутри рифа плавали каноэ, каждое с двумя парусами, один позади другого. Люди на них занимались рыбной ловлей. Вскоре от берега отошли еще несколько каноэ. Выйдя за риф, они направились к нам. Когда же подошли достаточно близко, мы окликнули туземцев. Некоторое время они разглядывали нас, а затем как ни в чем не бывало повернули назад.
Между тем мы нашли проход в рифе и спустили две шлюпки, чтобы промерить там глубину. Вскоре наши люди подали знак, что нашли удобный и безопасный проход, и тут же мы увидели с корабля, что они вполне дружелюбно беседуют с островитянами в каноэ. Мы последовали за ними и через канал шириной около мили вошли внутрь рифа, где море было совершенно спокойно. С обеих сторон прохода, особенно у самого узкого места, плавало несколько каноэ, откуда индейцы самым дружеским, доброжелательным образом (что нас очень обрадовало) показали нам, чтобы мы держались середины. Наши шлюпки тем временем прошли на веслах еще дальше вперед и каждый раз, как опускали лот, условными сигналами показывали нам глубину.
Земля отсюда казалась неплодородной и была покрыта беловатой травой. Кустарника не было видно, но на горах росли кое-где отдельные деревья, большей частью с белой корой, очень напоминавшие нашу иву. Когда мы подошли поближе, перед нами открылась узкая равнина у подножия горы, окаймленная зелеными тенистыми деревьями и кустарником, среди них иногда выделялись кокосовая пальма или банан. Мы увидели также несколько хижин, имевших вид конуса и похожих на большие плетеные ульи; вместо дверей в них были просто отверстия. Точно так же выглядели хижины жителей Кокосовых островов и острова Хорн, как они изображены в описаниях путешествий Ле-Мера и Схоутена.
Тем временем вернулся на шлюпке лейтенант Пикерсгилл и рассказал, что индейцы, находившиеся в каноэ, не только отнеслись к ним весьма дружелюбно, но и представили одного из своих земляков по имени Tea-Бума как своего эрики, или короля. Лейтенант подарил eмy медали и кое-какие другие мелочи, а остаток своего запаса разделил между остальными, но те сразу все отдали Tea-Буме. Пикерсгилл привез четыре-пять рыб, которых получил от этих людей в виде ответного подарка; однако они уже начали протухать и были несъедобны.
В гавани находился небольшой остров, окруженный рифами и мелями; неподалеку от него было хорошее дно, и там мы бросили якорь. Тотчас же корабль окружило около двадцати каноэ, каждое имело по два паруса и состояло из двух лодок, соединенных с помощью дощатой платформы. На платформе лежала куча земли, смешанной с золой, и там постоянно горел костер. Много народу сразу же доверчиво поднялось на борт, и один продал нам клубень ямса в обмен на кусочек красной ткани. За обедом взаимное расположение еще больше возросло. К соленой свинине они не пожелали притронуться, как не пожелали и пить вино, зато с удовольствием поели ямс, который мы приобрели на Танне. Жаль только, у нас его было слишком мало, чтобы угостить их как следует. Их внимание привлекало все красное, особенно если это был красный платок или тряпица, но они ничего не предлагали взамен.
Если не считать слова эри и нескольких других, их язык не имел сходства ни с каким другим, слышанным нами до сих пор в Южном море. Поскольку на всех восточных островах этого океана, включая Новую Зеландию, говорят на одном и том же языке (или, во всяком случае, его диалектах), легко представить, сколь озадачивало такое несходство языков, встреченных нами в западной части этого моря. Да и сами люди сильно отличались от всех, кого мы до сих пор видели. Они высокого роста, в основном пропорционально сложены, черты лица мягкие, волосы и борода черные, очень курчавые, у некоторых почти шерстистые, а цвет кожи по всему телу близок к черному или же темно-каштановый, как у жителей Танны.
После полудня мы на двух шлюпках с большими командами, в сопровождении двенадцати хорошо вооруженных морских пехотинцев, отправились на берег и высадились на плоском мысе, где собрались туземцы. Некоторые из них были вооружены, другие безоружны. Хотя никто даже движением не попытался помешать нашей высадке, мы для безопасности все же послали вперед морских пехотинцев, которые стали ходить перед туземцами и просить их, чтобы они освободили немного места. Те сделали это охотно, а потом представительного вида молодой человек по имени Tea-Бума, на которого господин Пикерсгилл указал как на короля, обратился к нам с речью; но прежде другой громкими возгласами потребовал от всех тишины. Речь была, видимо, серьезной, однако звучала очень мягко. Иногда оратор повышал голос, иногда как бы задавал вопрос, во всяком случае останавливался, и старики из толпы каждый раз отвечали. Вся речь продолжалась две-три минуты. Вскоре выступил еще какой-то видный мужчина, должно быть предводитель, и тоже держал речь, а мы уже без опасений смешались с толпой, дабы поближе разглядеть их оружие и украшения.
Прежде всего мы знаками спросили, есть ли здесь пресная вода. В ответ некоторые показали на запад, но большинство — на восток. Все эти индейцы были высокого роста, а больше ничем существенно не отличались от тех, кто уже поднимался к нам на борт. Единственное, чего я прежде не замечал: у многих руки и ноги необычайно распухли и были покрыты какой-то проказой. Одни связывали волосы на затылке в пучок, другие давали им расти свободно, а лишнее обрезали. Некоторые видом напоминали негров, у них были приплюснутые носы и вывернутые губы. Всю их одежду составлял шнур на поясе да еще один на шее. Половые органы мужчин были обернуты в клочок коричневой материи, какая делается из луба фикусовых деревьев, и этот круглый сверточек либо подтянут вверх к шнуру на поясе, либо свободно свисал вниз. Хотя делалось это ради приличия, мы, с нашими европейскими понятиями, усматривали в этом столь же мало воспитанности и благопристойности, как и в подобной же моде малликольцев, ибо то, что надо было спрятать, скорее выставлялось напоказ. В самом деле, обитатель сей страны, подобно жителям Танны или Малликолло, видом напоминал бродячего Приапа[504]. Впрочем, понятия о стыде во всех странах, конечно, различны и меняются со временем. Там, где всякий ходит обнаженным, как в Новой Голландии [Австралии][505], вид голого тела настолько привычен, что вызывает не больше непристойных мыслей, чем у нас, когда мы тщательнейшим образом прикрыты. Наряды, а особенно доспехи, бывшие в моде при всех европейских дворах в XV или XVI веке, сейчас показались бы крайне непристойными; но кто решится но этой причине утверждать, что ныне в мире больше стыдливости, нежели тогда? Или кто станет подвергать сомнению добродетели непобедимых рыцарей, прославивших себя целомудрием, честностью и благородством, только потому, что они носили штаны по тогдашней моде?
Этот кусочек материи, который так отличает новокаледонцев (подобно малликольцам и т. д.) от всех других народов, иногда бывает довольно длинным, так что лишний конец, будучи привязан к поясу, прикрепляется затем и к шнуру на шее. На этом шнуре висит также маленький шарик светло-зеленого нефрита той же разновидности, что встречается и на Танне, напоминает она и новозеландский нефрит. На голове иногда носят высокую круглую шапку, чем-то напоминающую гусарскую (см. гравюру). Она представляет собой кусок грубой черной заскорузлой материи, который свертывается и сшивается так, что низ и верх остаются открытыми. Шапки вождей украшаются небольшими красными перьями, а сверху — крупным пуком петушиных перьев. Как и жители острова Пасхи, они делают большую прорезь в ушной мочке и отверстие растягивают в длину с помощью нескольких колец из черепашьего панциря, которые носят в ушах, как и на Танне. Иногда они вставляют туда и свернутый лист сахарного тростника.
Оружие их — палицы, копья и пращи. Палицы разнообразны по форме и изготовляются из различных пород дерева; но все они короткие, не более 3 футов в длину, и в большинстве напоминают палицы, какие на Танне делают из казуарниы. На комле, то есть в нижнем конце, имеются небольшие выступы или звездчатые зубцы, у других очень короткие рукоятки, а внизу они криво изогнуты, как кирка или коса. Копья имеют в длину от 15 до 20 футов и либо сделаны из черного дерева, либо выкрашены черной краской. У самых красивых посредине выпуклость, она иногда даже украшена резьбой, изображающей человеческое лицо. Метают они эти копья с помощью короткого ремня, имеющего с одного конца узел, с другого кольцо или круглое отверстие; пользуются им таким же образом, как на Танне. Здесь эти ремни для метания намного лучше, они делаются из какой-то красной кожи, которую мы приписали бы неизвестному животному, если бы нам еще прежде не попалась на глаза большая индийская летучая мышь, которой она и принадлежит. Лук и стрелы здесь неизвестны, вместо них пользуются пращой из тонкого шнура или бечевки; на одном конце ее — кисть, на другом и посередине — петля. Для метания берут мягкий жирный мыльный камень (Smectites), которому легко придать любую форму; его делают удлиненным, заостренным по концам и кладут в среднюю петлю пращи. Метатель носит ее в сумке, сплетенной из грубой крепкой травы, которую подвязывают на поясе. По форме эти камни почти напоминают glandes plumbeae римлян[506].
Поскольку капитан Кук первым делом хотел найти пресную воду, он скоро вернулся в шлюпку и поплыл на восток, к зарослям мангровых деревьев, часть которых пустила корни в болотистую почву, а часть — прямо в воду. Едва мы покинули берег, как островитяне тоже ушли оттуда и, вероятно, разошлись по домам. Двое из них направились вдоль моря, но им приходилось тратить невероятно много усилий, чтобы пробиваться через густые мангровые заросли. Увидев, до чего худо приходится беднягам, мы подплыли к ним и взяли в шлюпку. Они были весьма рады такой помощи.
Когда мы проплыли около двух миль, они показали нам проход между мангровыми деревьями, где, видимо, находилось устье реки. Здесь было достаточно глубоко, чтобы шлюпка могла пройти, поэтому мы направились туда. Некоторое время гребли, следуя за извивами реки, и наконец увидели, что сия дорога привела нас к хижинам индейцев. Некоторые стояли тут же на берегу и видели, как я подстрелил утку; большая стая их пролетела над нами. Утку я подарил одному из индейцев, плывших с нами в шлюпке, ибо он выказывал особое желание ее получить. Хотя и видно было, как они изумлены действием огнестрельного оружия, но оно их ничуть не испугало. Это подтвердилось, когда несколько мгновений спустя нам опять представилась возможность подстрелить птицу, а заодно самым простым, безобидным способом показать, как мы превосходим их в силе благодаря огнестрельному оружию.
Наконец мы высадились в месте, где река в ширину достигала едва 12 футов. Берег поднимался над водой лишь фута на 2; уровень в реке был, вероятно, сейчас самый высокий. Здесь жили несколько семейств. Все, и женщины и дети, доверчиво подошли к нам; появление чужих людей не вызвало у них ни малейшей подозрительности или неудовольствия. У большинства женщин кожа была цвета каштана, а у некоторых еще темнее, цвета красного дерева. Мало кто из них был выше среднего роста, но сложения все были крепкого, иногда неуклюжи. Что их обезображивало, так это наряд. Ничего уродливее нельзя придумать. Представьте себе короткую юбку, состоящую из множества соломенных нитей или, скорее, восьмидюймовых шнурков, прикрепленных к длинной бечевке. Эта бечевка несколько раз обертывалась вокруг бедер, так что короткие шнуры налегали друг на друга слоями и таким образом от пояса образовывали как бы плотный соломенный покров, который, однако, прикрывал лишь треть бедер, то есть ровно столько, но не больше, чем нужно, чтобы показать, что это делается из приличия. Сей соломенный покров, как можно себе представить, придавал фигурам женщин вид безобразный и бесформенный. Иногда все шнуры, но чаще лишь наружный их слой, были выкрашены в черный цвет, а остальные имели вид испачканной соломы. Украшения у женщин не отличались от мужских. Они тоже носили раковины, кольца в ушах и маленькие шарики нефрита. У некоторых между нижней губой и подбородком были вытатуированы, на таитянский манер, три черные линии. Черты лица у них грубые, но выражение в высшей мере добродушное. Лоб у большинства высокий, нос снизу широкий, сверху приплюснутый, глаза маленькие. На больших круглых щеках довольно сильно выдавались скулы. Волосы курчавые, иногда коротко подстрижены, как на островах Общества и Дружбы [Toнгa].
Шагах в двадцати от берега на небольшой возвышенности стояли их хижины. Они были 10 футов высотой, конусообразной формы, но сверху не острые. Устроены они были так: вертикальные столбы соединялись плетением, напоминающим нечто вроде камышового плетня, и от пола до крыши увешивались циновками; наверху делалась полукруглая соломенная кровля. Свет мог проникать в хижины только через служившее дверью отверстые высотой всего 4 фута, так что при входе и выходе надо было всякий раз наклоняться. Внутри хижина была полна дыма, у входа лежала куча золы. Похоже, костры жгут здесь главным образом из-за комаров, которых, должно быть, много в сих болотистых местах. Мы, правда, видели мало этих насекомых, но и день сегодня выдался довольно прохладный.
Вокруг хижины высилось несколько кокосовых пальм, но без плодов, росли также сахарный тростник, банановые деревья и корни Arum[таро]. К последнему с помощью маленьких канавок была подведена вода, а некоторые места полностью находились под водой, как это обычно бывает на островах Южного моря. В общем плантация выглядела неважно, вряд ли ее хватало, чтобы прокормить жителей весь год. О разнообразии плодов, какое нам встречалось на островах жарких широт, тут нечего было и помышлять; все напоминало, скорее, о бедности несчастных жителей острова Пасхи, от коих здешние обитатели ушли недалеко.
Мы выделили среди всех находившихся там одного мужчину по имени Хибаи как наиболее знатного и преподнесли ему подарки, затем берегом реки дошли до мангровых зарослей, где нам встретились новые растения. У гор, первые отроги которых начинались примерно в 2 милях отсюда, земля имела вид весьма пустынный. Лишь местами видны были отдельные деревья и небольшие возделанные участки, но они терялись в обширных бесплодных и пустынных окрестных пространствах, чем-то напоминавших наши пустоши.
Перед одной хижиной на куче золы мы увидели глиняный горшок, вмещавший четыре-пять кружек. Он был пузатый, сделан из красноватой глины довольно грубо и как внутри, так и снаружи одинаково покрыт сажей. Из золы выступали три острых камня, которые подпирали горшок с боков так, чтобы огонь мог гореть прямо под ним.
Пробыв немного с этими добрыми людьми, мы вернулись к нашим шлюпкам, убежденные, что нас не угостили здесь ничем только из-за недостатка продовольствия.
На другое утро индейцы в своих каноэ довольно рано подплыли к кораблю. На каждом горел костер; чтобы лодки не загорелись, огонь разводился на куче камня и золы. Среди приплывших были и женщины, однако ни одна из них не изъявила желания подняться на борт; большинство же мужчин, напротив, поднялись без приглашения и стали предлагать свое оружие в обмен на таитянскую материю.
Чтобы найти поближе место, где можно было бы набрать воды, капитан опять послал на берег шлюпку. Мы отправились с ними, высадились там же, где накануне, и встретили нескольких жителей. Мы спросили их про пресную воду, и они показали на запад, где до сих пор мы еще не искали. Следуя сему указанию, мы пошли вдоль песчаного пляжа, от которого начинались красивые дикие заросли, и скоро увидели хижину, а за ней плантацию. Мы хотели посмотреть ее поближе и попробовали немного пройти в глубь острова, но оросительный канал, по которому шла очень соленая вода, заставил нас повернуть обратно.
Тогда мы направились к соседней возвышенности и там огляделись, высматривая пресную воду. Земля здесь была совершенно другая. Если на равнине имелся тонкий слой хорошей, плодоносной почвы, созданной на возделываемых местах с помощью удобрений из размельченных раковин и кораллов, то на возвышенности скалистый грунт состоял из больших кусков кварца и горизонтальных слоев слюды, то есть из основных пород. Росло лишь немного высохшей травы, в основном тонкой и высотой фута три. Отдельные деревья отстояли одно от другого шагов на двадцать-тридцать, корни у них были черные, словно обгорелые, кора голая, белая как снег и длинные, узкие, как у ивы, листья. Эти деревья относились к семейству, которое кавалер фон Линней назвал Melaleucam Leucadendram, а Румпф — Arborem albam. Последний утверждает, что на Молуккских островах из листьев этого дерева делают масло кайепути; листва его действительно очень хорошо пахнет. Мелкого кустарника на холме не было совсем, а редкие деревья нигде не закрывали вида. Что нас больше всего привлекло здесь, так это цепь тенистых деревьев и зеленых кустов, которые тянулись одной линией от моря до горы; ясно было, что они растут вдоль ручья.
Мы не ошиблись в своем предположении. Миновав еще несколько плантаций, мы действительно увидели под этими деревьями то, что тщетно до сих пор искали,— маленькую речку. Шагах в двухстах от моря вода уже не имела соленых примесей, а значит, бочки здесь можно было без особого труда наполнить и доставить на корабль. Нам встретился тут вождь Tea-Бума; мы подарили ему несколько медалей и другие мелочи, а в обмен получили пращу и несколько палиц.
Берега ручья затенены были мангровыми зарослями, за ними тянулась полоса другой растительности шириной 20 футов. На этой узкой полосе был слой хорошего, питательного перегноя; здесь росла зеленая трава, тем более радовавшая взоры, чем сильнее она контрастировала с видом выгоревших гор. Больше всего интересовали нас, натуралистов, те места на берегу, где росли деревья и кустарники. Мы нашли тут много растений, а также новые виды птиц разных классов, в основном совершенно неизвестных.
Но еще больше понравился нам дружелюбный, добрый нрав и миролюбивое поведение жителей. Их было немного, и хижины были рассеяны редко; они стояли по две, по три рядом, обычно под группой высоких фикусовых деревьев, чьи ветви так тесно переплелись, что сквозь листву не видать было неба. Благодаря этому у здешних обитателей имелась не только постоянная прохладная тень, но и другое удовольствие, а именно множество птиц, искавших в густых кронах укрытия от палящих лучей полуденного солнца и не прекращавших ни на мгновение свой концерт. На редкость нежным было пение одного вида пищух; оно не могло не понравиться всякому, кто питал хоть малейшую склонность к гармоническим песням этих лесных певцов. Видимо, и туземцам оно нравилось, ибо они любили сидеть у корней сих благодатных деревьев, которые к тому же привлекли наше внимание необычностью строения. Ствол оканчивается в 10, 15, 20 футах над землей и покоится на длинных корнях, которые с этой высоты совершенно прямо и отвесно уходят в землю; притом они такие круглые, как будто выточены, и эластичны, как натянутая тетива лука. Из луба сих деревьев, вероятно, изготовляются куски коричневой материи, что так обращают на себя внимание в наряде новокаледонцев.
Наши новые знакомые научили нас некоторым словам своего языка. В нем не оказалось ни малейшего сходства с каким-либо другим, и этого уже более чем достаточно, чтобы удержать даже самых крупных и усердных специалистов по генеалогии от слишком поспешных гипотез относительно их происхождения. Что касается характера этих добрых людей, то мы скоро заметили, что их доброта и миролюбие отчасти связаны с природной вялостью. Когда мы выходили на прогулку, они редко следовали за нами; если мы проходили мимо их хижин и не заговаривали сами, они, похоже, могли не обратить на нас никакого внимания. Разве что женщины оказывались немного более любопытными и иногда прятались в кустах, чтобы подсматривать за нами издали; но приближаться к нам они могли только вместе с мужчинами.
Когда мы стреляли птиц, это не вызывало у туземцев ни малейшего внимания или замешательства. Напротив, если мы подходили близко к хижинам, юноши обычно сами высматривали птиц и показывали их нам. Было похоже, что на это время года у них оставалось мало дел; участки уже были обработаны, бананы и корни Аruт [таро] посажены. По той же причине они сейчас меньше, чем в другое время, могли предоставить нам продовольствие, иначе при столь дружелюбном и добром нраве наверняка бы это сделали. Во всяком случае, было бы бессердечно думать о них иначе и отказывать им в гостеприимстве, в столь высокой степени присущем всем другим обитателям Южного моря, за что их так высоко ценят все чужеземцы-мореплаватели.
Мы ходили так до полудня, а затем с запасом пресной воды возвратились на корабль. Охранять на берегу пустые бочки осталось лишь несколько человек, хотя при такой честности туземцев и эта предосторожность была, возможно, излишней. В наше отсутствие господин Уолс установил инструменты на маленьком песчаном острове, дабы наблюдать ожидавшееся в этот день солнечное затмение. Капитан составил ему компанию. Как эти, так и другие наблюдения показали, что упомянутый маленький остров находился под 20°17'39'' южной широты и 164°41'21" восточной долготы. Наблюдать удалось лишь конец затмения, так как в начале солнце было закрыто облаками. Господин Уолс измерил величину затмившейся части с помощью квадранта Хедли, который вообще не был предназначен для таких целей, но, по мнению капитана Кука, обеспечивал большую точность, чем микрометр.
К вечеру мы с капитаном сошли на берег в том месте, где наполнялись водой бочки. У деревьев кайепути (Melaleuca), многие из которых в это время цвели, кора в некоторых местах отошла от ствола, и под ней нашли приют жуки, муравьи, пауки, ящерицы и скорпионы. Погода была приятной, и мы гуляли по окрестным холмам до самого заката; в сумерках нам показалось, будто в сухой траве водятся перепела, но установить это наверняка мы не смогли ни в тот день, ни потом. Нам встретилось лишь несколько туземцев; некоторые из них оказались столь доверчивыми, что захотели продать нам свое оружие. Мы попытались им объяснить, что нам нужно продовольствие, однако все эти намеки остались без ответа, так как им самим явно не хватало еды. В самом деле, почва здесь только в некоторых местах пригодна для земледелия и весьма скудно оплачивает жителям затраченные на нее труды.
Утром 11-го, прежде чем у корабля появились индейцы, мы спустили шлюпку, дабы по морскому обычаю похоронить в море одного из наших людей. Это был корабельный мясник, скончавшийся накануне в результате несчастного случая, происшедшего 5 сентября. В свои шестьдесят лет он оставался трудолюбивым, неутомимым человеком. Он был третий, кого мы потеряли за время плавания; один утонул, другой умер от водянки.
После завтрака мы с капитаном, старшим штурманом, двумя мидшипменами и тремя матросами отправились на берег, чтобы подняться на гору, с которой стекал наш ручей. Подъем был местами очень крутой, но мы нашли удобную тропу. Скалы состояли сплошь из основной породы, то есть смеси кварца и слюды, окрашенной иногда больше, иногда меньше частицами железа. Деревья кайепути росли по всему склону, и внизу и наверху. Чем выше мы поднимались, тем больше нам попадалось разнообразных кустарников; и хотя они стояли довольно редко, но заслуживали всяческого внимания, потому что почти все цвели и были нам неизвестны. Дальше кверху деревья заметно мельчали; лишь в некоторых глубоких расщелинах, куда стекавшей водой нанесло плодородную почву, из нее пробивалось множество свежих, сильных и зеленых растений.
Так мы шли в гору около часа, когда повстречали вдруг более двухсот индейцев, в большинстве вооруженных; они пришли из мест, лежавших в глубине острова, по ту сторону гор, чтобы только посмотреть на нас, чужестранцев. Увидев, что мы идем вверх той же самой дорогой, какой они спускались, некоторые из них повернули и пошли с нами. Недалеко от вершины мы увидели несколько столбов, воткнутых в землю; они были перекрыты сухими ветками, поверх коих лежали пучки травы. Туземцы объяснили нам, что на этой горе они погребают мертвых, а столбы обозначают могилы.
Тем временем капитан со штурманом уже забрались на самую вершину. Отсюда на юг был виден весь остров до самого моря. По словам капитана, море с той стороны было не дальше от гор, чем с этой, и там тоже внизу лежала хорошо орошенная, местами возделанная равнина. В общем южная часть острова существенно не отличалась от северной.
С высоты вид открывался необычайный: извилистые ручьи, плантации, хижины, разбросанные по равнине, разнообразные группы деревьев и леса, переливающиеся краски бездонного моря и песчаные мели в нем — все это вместе создавало прекраснейшую картину!
Туземцы заметили, что мы устали от жары и хотим пить, и принесли нам немного сахарного тростинка. Я только не смог понять, где они его достали; на этой бесплодной вершине не то что увидеть — вообразить, что он где-то может расти, было невозможно. Вершина состояла из той же породы, какую мы видели и внизу; тем более приятно, что в этой стране можно предположить наличие некоторых ценных минералов. Судя по затраченному на восхождение времени и по другим обстоятельствам, гора не особенно высока; она, вероятно, ниже, чем так называемая Столовая гора на мысе Доброй Надежды, а ее высоту аббат ла-Кай оценивает в 3850 рейнских футов.
Вернувшись к месту, где наполнялись водой бочки, мы сразу поспешили на корабль. Там уже собралось множество индейцев. Они заглядывали в каждый уголок и всюду предлагали на продажу палицы, копья и разные украшения. Среди них был один очень высокого роста, в нем было не меньше 6 футов 5 дюймов, а его черная прямая круглая шапка поднималась еще дюймов на 8. Вокруг этих шапок они обычно наматывают свои пращи, так что кисточка на ее конце спускается им на плечи. Они прикрепляют к ней для красоты также пучок папоротника или же, если хотят быть еще более нарядными, пучок перьев цейлонской совы; эта птица водится как здесь, так и на острове Танна. Хотя они высоко ценят такие шапки, нам все же удалось обменять несколько штук на куски таитянской материи. Другое их важное украшение — кольца в ушах; некоторые носят их огромное множество. Так, у одного, например, мы насчитали не менее двадцати таких колец из черепашьего панциря; каждое имело в поперечнике дюйм и в толщину четверть дюйма.
Среди приобретенных в этот день вещей был и музыкальный инструмент, нечто вроде свистка, сделанного из куска дерева длиной около 2 дюймов. Он имел форму колокола, но внутри был не полый и с маленьким шнуром на узком конце. У самой нижней плоской части были два отверстия, а недалеко от шнура — третье; все они внутри сообщались, так что, если подуть в верхнее отверстие, из других вырывался пронзительный звук. Кроме этого свистка, мы не встретили у них инструмента, который хоть в какой-то мере можно было бы назвать музыкальным.
Наши большие гвозди к тому времени стали ходовой монетой. Индейцы вскоре настолько оценили достоинства железных изделий, что проявили большой интерес и к круглым железным болтам, за кои крепились веревки. Капитан Кук предположил, что такие болты могли бы им весьма пригодиться при изготовлении их каноэ: с их помощью можно было бы выжигать в планках отверстия, через которые они стягиваются. Что эти отверстия именно выжигаются, сомнению не подлежит; правда, неизвестно, с помощью какого инструмента это делается, но можно предположить, что с помощью камней. Однако, сколь ни понравились им железные болты, никто не осмелился украсть ни их, ни даже какую-нибудь мелочь; честность островитян была безупречной.
То и дело они удивляли нас своими способностями в плавании. Корабль стоял в доброй миле от берега, тем не менее они подплывали к нам толпами, держали одной рукой над водой куски коричневой материи, а другой гребли. Таким же столь же трудным, сколь и искусным манером они доставляли копья и палицы. Лишь оружие из казуарины оказалось слишком тяжелым, чтобы транспортировать его подобным образом.
После полудня мы опять сели в шлюпку и высадились милях в двух от места, где набиралась вода; там, на западной стороне, залив оканчивался у выступающего мыса. Капитан Кук сделал для пользы будущих мореплавателей несколько чертежей этого пригодного для якорной стоянки места, а мы занялись другими поисками. Неподалеку от берега находилась большая неровная скала не менее 10 футов шириной; она состояла из серого плотнозернистого роговика, усеянного кристаллами граната размером со шляпку гвоздя. Это открытие укрепило нас в предположении, что здесь могут находиться ценные и полезные минералы[507]. Мы убедились также в отсутствии каких бы то ни было продуктов вулканической деятельности, встречавшихся нам на всех других островах Южного моря.
Довольно густые заросли вдоль берега втянули нас в ботаническую экскурсию, в ходе которой мы встретили несколько молодых хлебных деревьев без плодов. Похоже было, что их никак не возделывали и они росли совершенно дико. Неподалеку мы нашли новую разновидность гренадиллы, или пассифлоры, которая привлекла тем большее наше внимание, что все до сих пор известные виды этого многочисленного семейства встречались лишь в Америке[508].
Я потерял своих спутников и вышел к песчаной ложбине, по обеим сторонам поросшей вьюнками и пахучим кустарником; судя по всему, она была высохшим ложем дождевого потока. Эта дорога привела меня к трем хижинам, стоявшим рядом в тени кокосовых пальм. Перед одной из них сидел мужчина средних лет, ему на колени положила голову девочка лет восьми-десяти. Мое появление несколько его смутило, но он скоро пришел в себя и продолжил свое занятие; заключалось оно в том, что он подрезал девочке волосы острым куском красивого прозрачного кварца. Оба очень обрадовались, когда я подарил им несколько бусинок черного стекла, и не проявили ни малейшего беспокойства, когда я прошел к двум соседним хижинам.
Эти хижины стояли очень близко друг от друга; пространство между ними, часть которого была огорожена, не превышало 10 футов. Там я увидел трех женщин, одну средних лет, другую помоложе; они как раз собирались разводить огонь под глиняным горшком, вроде того, о каком я уже рассказывал выше. Увидев меня, они знаками показали, чтобы я уходил; но мне хотелось поближе познакомиться с их способом приготовления пищи, поэтому я, не обращая внимания на знаки, приблизился и увидел в горшке сухую траву и зеленые листья, в кои завернуто несколько клубней ямса. Значит, клубни пеклись в горшке примерно так же, как у таитян под землей, с помощью горячих камней, Они никак не хотели, чтобы я рассмотрел все это как следует, и жестами прогоняли меня. Показав на хижину, они несколько раз провели пальцем возле шеи, как бы давая понять, что их наверняка удавят, если увидят с чужестранцем. Эти знаки показались мне слишком определенными и серьезными, чтобы ими пренебрегать, поэтому я только заглянул в хижины, которые были совершенно пусты, и ушел в лес, где встретил доктора Спаррмана. По его мнению, я неверно истолковал смысл этих знаков и стоило попытаться еще раз. Поэтому мы оба вернулись к хижинам. Женщины были на том же месте. Хотя небольшой подарок в виде стеклянных бусинок их очень обрадовал, они не перестали бояться и делали мне те же знаки. К тому же казалось, будто они с жалобным видом просят сейчас не усугублять их смущение. Мы опять удалились, и я не вижу причин сомневаться в правильности своей первой догадки.
Тем временем нас догнали остальные наши товарищи и сказали, что очень хотят пить. Не стоило рассказывать им историю с женщинами; любопытство наверняка побудило бы их предпринять новую попытку, что для бедных женщин могло окончиться весьма печально. Поэтому мы повели их отсюда к мужчине, который все еще стриг волосы своей дочери, и показали ему, что хотим пить. Он не только сразу понял нас, но и показал на дерево: это должно было означать, что мы там кое-что найдем. Действительно, на нижней ветке висели двенадцать больших кокосовых скорлуп, полных воды. Этот способ хранить воду маленькими порциями свидетельствует, на мой взгляд, о ее нехватке. Тем не менее мы не задумываясь сполна утолили свою жажду и вознаградили его за это куском таитянской материи, чем он был вполне удовлетворен.
После этого мы разбились на две группы, и одна пошла дальше по суше, другая в лодке вернулась к месту, где брали воду. Я присоединился к первой и по пути подстрелил несколько птиц новых видов, коих много на острове. Мы встретили здесь также обыкновенную европейскую ворону.
У места, где брали воду, собралось много индейцев. Некоторые за кусок таитянской материи перенесли наших людей через воду в шлюпку на довольно большое расстояние. Здесь было также несколько женщин, которые, не боясь своих мужей, подходили к нам и, похоже, были довольны, когда матросы с ними любезничали. Обычно они знаками звали их за собой в заросли, но, когда счастливый избранник пытался следовать за какой-нибудь, та убегала, так что ее было не догнать, и храбро смеялась над обманутым Адонисом[509]. В самом деле, за все время, пока мы находились на острове, ни одна женщина не вступила с европейцами в сколь-либо непристойные отношения, а их кажущаяся любезность всякий раз оборачивалась лишь вполне приличной веселой шуткой.
Вскоре после нашего возвращения на борт писец прислал капитану рыбу, которую индеец только что убил копьем и продал за кусок таитянской материи. Это был новый вид, и посему я незамедлительно решил зарисовать ее и описать. Принадлежала она к семейству, которое кавалер фон Линией называет Tetraodon и различные виды которого считаются ядовитыми. Мы не преминули сказать про это капитану, тем более что безобразная внешность ее, особенно толстая голова, не сулила ничего хорошего[510]. Капитан, однако, утверждал, что встречал этот вид ко время прошлого плавания у берегов Новой Голландии и ел без всякого вреда. Поэтому мы заранее радовались, что утром у нас будет свежая пища, а вечером преспокойно сели за стол, чтобы для начала полакомиться печенкой. Она была довольно большая, но с таким маслянистым привкусом, что капитан, мой отец и я съели всего несколько кусочков, доктор же Снаррман не захотел даже попробовать.
Сразу же после еды мы пораньше пошли спать, чтобы с восходом солнца отправиться снова на берег. Однако уже в три часа ночи мой отец проснулся от очень неприятного ощущения; руки и ноги у него как бы онемели, а когда он попытался встать, то из-за сильного головокружения едва мог удержаться на ногах. Он выполз еле-еле, чтобы пожаловаться на недомогание доктору Спаррману, который спал в рулевой рубке. Каюта капитана Кука была отделена от нее лишь тонкой перегородкой. Тот проснулся тоже, почувствовал такой же приступ, как и мой отец, и, когда поднялся с кровати, ему пришлось за что-то держаться, чтобы устоять на ногах. Мне было ничуть не лучше, но я продолжал спать, потеряв сознание. Моего отца это встревожило, он подошел к моей постели, силой привел меня в чувство, и лишь тут я ощутил, до чего мне худо. Мы добрались до большой каюты и послали за нашим врачом господином Паттеном. Он нашел нас действительно в плачевном состоянии: мертвенно-бледных, крайне слабых; грудь тяжко теснило, все члены онемели, будто совсем лишились чувствительности. Первым делом были применены рвотные средства. Мне и моему отцу они помогли, на капитана же Кука почти не подействовали. Затем мы приняли потогонное и снова легли в постель.
В 8 часов мы встали, все еще чувствуя головокружение и тяжесть. Сам я, однако, решил, что уже достаточно пришел в себя и могу все утро провести за своими занятиями. Я зарисовал 6 пли 8 растений, а также птиц, которых мы принесли с последней прогулки. Доктор Спаррман тем временем отправился на берег, чтобы набрать их побольше. В полдень мой отец попробовал выйти из каюты па свежий воздух и поговорить с индейцами, которые прибыли па корабль. Увидев рыбу, висевшую над палубой, они знаками сразу дали понять, что она причиняет боли в животе; они также, закрыв глаза, положили голову на ладонь, показывая, что она вызывает сон, онемение и, наконец, даже смерть. Хотя все это совпадало с нашим опытом, было все же не исключено, что они нарочно рисуют дело в мрачных красках, дабы выманить у нас рыбу. Мы предложили им ее, однако они отказались с крайним отвращением: выставили перед собой ладони и откинули назад головы. Они даже попросили нас поскорее бросить ее в море. Мы, однако, решили, что лучше будет сохранить ее в спирте.
Днем мне пришлось пожалеть, что, не посчитавшись с болезнью, проработал все утро. Я вдруг почувствовал себя плохо до обморока и поскорее лег в постель. Мне серьезно помогли потогонные средства, но все-таки яд оказался слишком коварным, чтобы с ним справиться сразу. Хуже всего были не боли, одолевавшие нас, не тревога о том, как скажется яд на нашем здоровье, а мысль, что мы не сможем больше исследовать эту землю и ее природу, которые столько нам сулили!
На следующее утро лейтенант Пикерсгилл с двумя шлюпками был послан к острову, лежавшему примерно в 8 милях к западу и называвшемуся Балабиа, дабы исследовать положение и очертания побережья. Можно себе представить, с какой горькой завистью мы провожали с корабля взглядами эти лодки. Трудно было ходить или даже просто стоять на ногах больше пяти минут, иначе ничто не помешало бы нам принять участие в сей экспедиции. Яд, причинивший столько неприятностей людям, проявил свое действие и на нескольких собаках, которых мы везли с островов Общества. Они накинулись на остатки печени и заболели; симптомы были те же, что и у собак, отравившихся подобным же образом близ Малликолло. Единственный поросенок, которого мы получили на Танне, ужасно распух и после сильнейших судорог вынужден был распрощаться с жизнью только потому, что поел рыбьих потрохов.
Туземцы, приходившие на корабль, все больше убеждались в ценности наших железных изделий, они охотно брали гвозди, ножи и топоры. Вождь Tea-Бума послал капитану Куку в подарок сахарного тростника и клубней ямса; при здешней бедности это был поистине королевский подарок. В ответ он получил топор, сверло и пару таитянских собак, которые были здесь чем-то совершенно новым и неизвестным. Мы воспользовались случаем, чтобы попытаться узнать название большого острова, но тщетно. Нам все время сообщали только названия отдельных местностей. Так, часть суши, лежавшую прямо против корабля, они называли Баладд, остров, где находилась обсерватория,— Пусуэ, местность по ту сторону гор у юго-западного побережья — Теа-Бума и т. д. Имя эрики, верховного правителя, также было Теа-Бума, что дало нам повод к различным предположениям, но какой тут был на самом деле смысл, мы из-за недостаточного знания языка узнать не смогли[511]. В конце концов мы удовлетворились общим названием Новая Каледония, тем более что и добрый прав жителей, и свойства почвы вполне соответствовали такому имени.
Хоть мы и чувствовали еще сильную слабость, все же на другое утро решились опять отправиться на берег. Мы высадились восточнее того места, где брали воду, и пересекли часть равнины, на которой совсем не было возделанных участков, всюду лишь тонкая сухая трава. Тропа привела нас прямо к горе. Там был красивый лес, где оказалось множество новых растений, птиц и насекомых; но вся окрестная местность имела вид совершенно пустынный. Напрасно было искать хотя бы следы жилья в горах, как и на всей равнине, через которую мы прошли! Вообще число жителей Новой Каледонии весьма невелико; в горах землю возделывать нельзя, а равнина либо слишком узка, либо по большей части бесплодна и пустынна.
Между тем мы прошли дальше к востоку и наконец увидели среди болот несколько хижин. Некоторые из живших там индейцев приветливо вышли к нам, чтобы показать места, где мы смогли бы пройти, не боясь утонуть. Хижины их были не только покрыты циновками из кокосовых листьев, но и завешаны иногда внутри корой дерева кайепути. Перед некоторыми хижинами сидели индейцы за скудной трапезой из вареных листьев; другие сосали сок из подсушенной над огнем коры Hibiscus tiliaceus. Мы попробовали это блюдо, но оно показалось нам невкусным, даже противным; да, видно, и не очень оно было питательным. Похоже, что в определенное время года добрым людям приходится довольно туго. Хуже всего весной, когда за зиму были съедены запасы, а новые плоды еще не поспели. Видимо, единственное, чем здесь можно перебиваться, так это рыбой; благодаря обширному рифу, окружающему остров, у жителей в ней нет недостатка, просто тогда они вынуждены были обходиться без нее, потому что со времени нашего прибытия погода была слишком бурной для рыбной ловли. Махеине когда-то не раз рассказывал нам, что даже жителям островов Общества, обеспеченным пищей несравненно лучше, нежели новокаледонцы, иногда доводится терпеть последствия засушливых или неурожайных годов, когда они в течение месяцев вынуждены обходиться лишь корнями папоротника, древесной корой и дикими плодами.
Возле упомянутых хижин было довольно много домашних кур, крупных, с красивым оперением; но это были единственные домашние животные, которых мы видели у туземцев. Там же лежали большие кучи раковин моллюсков, коих они собирают на рифах. В общем люди эти были вялые и равнодушные по характеру, почти лишенные всякого любопытства. Порой они даже не поднимались с места, когда мы проходили мимо их хижин, столь же редко разговаривали, а если говорили, то всегда серьезным тоном. Только женщины были немного повеселей, хотя они настолько зависели от мужчин, что, казалось, им не до веселья. Замужним приходилось, в частности, всюду таскать своих детей на спине в своего рода мешке, и уже одно это выглядело не особенно весело!
После обеда мы продолжили свои исследования, но оставались на равнине, так как в кустах близ моря обитало больше птиц, чем дальше от берега, где у них было меньше тени и меньше пищи. Во время этой прогулки мы подошли к другой, расположенной у самого берега группе хижин. Возле них индейцы готовили моллюсков в большом глиняном горшке, который держали у огня. В руке у одного из них был топор необычного вида и выделки. Он представлял собой кривую ветку или кусок дерева с тупым крюком и короткой, около 6 дюймов, рукояткой. Крюк на конце был расщеплен, и в щель вставлен черный камень, закрепленный повязкой из коры. Люди нам объяснили, что такие топоры используются для обработки земли. Это был первый такого рода инструмент, который мы видели; он привлек наше внимание, потому мы приобрели его, а также палицы, ремни для метания и метательные копья. Как здесь этими копьями пользуются, мне несколько раз продемонстрировали молодые люди, и мы имели возможность восхититься их искусством в сих упражнениях.
Вскоре мы вышли к ограде из жердей. Она окружала небольшой холм или кучу земли высотой около 4 футов. Внутри ограды стояли другие шесты, вбитые в землю, а на них надеты были большие раковины Buccina Tritonis. Из объяснений мы узнали, что это место погребения здешнего вождя, а на горах много других могил. Видимо, здесь повсеместно принято погребать мертвых в земле, что, конечно, разумнее, чем это делают таитяне, оставляя их на земле, покуда вся плоть не истлеет. Если бы на их счастливом острове вдруг началась сильная смертность, сей обычай обернулся бы весьма печальными последствиями и повлек за собой страшные эпидемии.
Яд изрядно испортил нам кровь; осталась, в частности, сильная слабость во всем теле. К вечеру она до того возросла, что нам то и дело приходилось садиться, чтобы отдохнуть. Да и голова постоянно кружилась, поэтому мы просто не в состоянии были заниматься какими-либо исследованиями, ибо эти приступы не только отнимали у нас память, но и лишали способности думать и даже чувствовать. Не могу, упоминая сей несчастный случай, не посетовать еще раз, что произошел он с нами в новооткрытой земле, где нам особенно нужны были полное здоровье и величайшая внимательность, дабы сполна использовать краткие мгновения, проведенные среди этого народа, который так отличался от всех других, виденных нами до сих пор!
Мы вернулись на корабль засветло, а вскоре и находившиеся на борту индейцы возвратились на берег. Лишь у немногих были каноэ, ибо весь день дул такой ветер, что большинство предпочло добраться до судна вплавь; таким же образом они и покинули нас. Сорок-пятьдесят человек разом прыгнули в море и, несмотря на высокие волны, поплыли небольшими группами к берегу. На следующее утро, однако, штормило так, что ни один индеец, ни в лодке, ни без нее, не рискнул отправиться на корабль.
Нам же ветер не помешал снова отправиться на берег, хоть мы изрядно и промокли из-за волн. Мы совершили прогулку на запад и были вознаграждены за свои труды разными новыми видами птиц, кои приятно дополнили наше собрание. Несомненно, сей остров оказался столь богат животными и растениями во многом благодаря соседству Новой Голландии. Капитан Кук и все другие, посетившие ее во время прошлого плавания на «Индевре», единодушно свидетельствовали, что эта земля внешне и во многом другом весьма напоминает Новую Каледонию. Отличие только в том, что там много мест с плодородной почвой, верхний слой которой состоит из жирного чернозема. Но высота деревьев, сухой и как бы выгоревший вид земли в обеих странах совершенно одинаковы; и тут и там нет подлеска или низкого кустарника.
Мы останавливались возле индейских хижин, расположившихся в тени деревьев. Обитатели их сидели прямо на земле и ничем не были заняты; тем не менее при виде нас никто не поднялся, кроме молодых людей, которые всюду бывают самыми любопытными и живыми. Среди них мы увидели в этот день мужчину с совершенно светлыми волосами и удивительно белой кожей, все лицо его было в пятнах и волдырях. Известно, что такие единичные люди, отличающиеся от других цветом кожи и волос, встречаются также среди африканских негров, среди американцев, обитателей Молуккских островов и индейцев островов Южного моря. Поскольку они бывают по большей части слабого сложения, а взгляд их выражает особую тупость, многие путешественники склонялись к мнению, что это отклонение в цвете кожи и волос наследственное, то есть связанное с болезнью родителей. Однако у мужчины, которого мы встретили здесь, не было ни малейших признаков телесной слабости и никаких следов вырождения в чертах лица. Должно быть, его кожа и волосы обесцветились по какой-либо другой, более безобидной причине[512]. Ввиду редкости сего явления мы отрезали по пряди волос у него и у другого, обычного индейца. Эта операция им, видимо, не понравилась, но так как мы проделали это быстрее, нежели они успели опомниться, а тем более помешать нам, то с помощью подарков их удалось потом успокоить. Их леность и добродушие вообще не позволяют им долго сердиться, а тем более из-за мелочей.
От этих хижин каждый из нас пошел своим путем. Доктор Спаррман и мой отец решили подняться на горы, я же остался на болотистой равнине и, как умел, поговорил с индейцами. Они сообщили мне названия различных областей страны. Некоторые из них были нам еще неизвестны, но воспользоваться этими сведениями мы никак не могли, поскольку не знали, где эти местности находятся.
Я заметил много людей, у которых рука или нога были необычайно толстыми. У одного одинаково распухли даже обе ноги. Я осмотрел эту опухоль, она оказалась очень твердой; однако кожа на пораненном месте у таких больных не всегда бывает одинаково ломкой и шелушащейся. Вообще эта безобразная толщина рук или ног как будто не мешает им, не доставляет неприятностей и, если я правильно понял, почти не причиняет боли. Лишь у немногих шелушится кожа, а также бывают пятна, что позволяет предположить большую едкость лимфы и большую злокачественность болезни. Проказа, разновидностью которой, по мнению врачей, является эта слоновость, или громадный отек, видимо, встречается преимущественно в жарких и сухих странах. Чаще всего ее наблюдают на Малабарском побережье, в Египте, Палестине и Африке, а именно в этих странах много сухих и жарких песчаных пустынь. Я не хочу этим сказать, что проказа — необходимое следствие условий жизни в сухих широтах, но думаю, что жара и сухость способствуют этой болезни и предрасполагают к ней.
Я все чаще замечал, а в этот день особенно, что мужчины здесь относятся к женщинам еще с меньшим уважением, чем на Танне. Обычно женщины держатся на некотором отдалении и всегда как будто боятся не понравиться мужчинам взглядом или выражением лица. Они одни должны таскать на своей спине топливо и все необходимое, тогда как бесчувственный супруг не соизволит даже оглянуться на них. Он не шевельнется даже когда его бедная жена захочет иной раз повеселиться вместе с другими, что так свойственно их полу. Так мужчины повсюду, во всех землях склонны к властолюбивой тирании, и даже самый бедный индеец, не ведающий никаких других потребностей, кроме естественных, уже знает, что должен сделать из своей более слабой спутницы рабыню только для того, чтобы избавить себя от необходимости удовлетворять сии потребности собственными стараниями! Если эта глубокая покорность женщин является все еще следствием проклятия, поразившего некогда Еву, то, слава богу, оно остается теперь в силе только среди самых диких народов! Поистине можно удивляться, что при таком унизительном угнетении слабого пола человеческий род все еще не прекратился! Но что получилось бы, если бы глубокая мудрость творца не вселила столько терпения и кротости в женское сердце, которое выносит все оскорбления, учит женщину все принимать и не бежать от насилия жестокого своего тирана!
После полудня мы опять съехали на берег, и нам посчастливилось встретить совершенно новую и еще неизвестную породу попугая. Мы подстрелили эту птицу на плантации, которая превосходила все виденные нами до сих пор в Новой Каледонии. Она была большая, там росло много разнообразных растений, которые находились в самом лучшем цветущем состоянии. Настоящие аллеи бананов чередовались с полями ямса и Arum[таро], с посадками сахарного тростника и разновидностью дерева ямбо (Eugenia), которое мы здесь не ожидали увидеть. Некоторые поля были отделены друг от друга удобными тропинками и вообще содержались в наилучшем порядке. Стало быть, и среди этого ленивого народа есть прилежные, трудолюбивые люди. Это важно знать тем мореплавателям, которые когда-нибудь найдут случай и желание сделать дикарям действительное добро и завезут им домашний скот. Так вот желательно было бы, чтобы они всякий раз оказывали такие благодеяния лишь тем, кто, подобно неведомому владельцу сей плантации, проявил себя особенно хорошим хозяином, а значит, способен будет особенно хорошо ими воспользоваться.
Чтобы доставить индейцам удовольствие, мы постреляли в цель, для чего они воткнули в землю свои палицы. Мы представлялись им большими мастерами, хотя вообще-то были не бог весть какие стрелки. Вечером, когда мы вернулись на борт, пришли и обе шлюпки, с которыми лейтенант Пикерсгилл был послан на запад. Встречный ветер помешал ему вернуться раньше. Мы с удовольствием услышали от этого внимательного офицера такой рассказ.
Во время отплытия он увидел в нескольких морских милях от корабля плававших в воде черепах, но слишком высокие волны помешали ему поймать хоть одну. У северо-западной оконечности острова он приблизился к берегу и высадился. Земля там напоминала местность против нашей стоянки, но была более плодородной и возделанной; там росло много кокосовых пальм. Индейцы отнеслись к нему, как всегда, дружелюбно и приветливо. Двое из них, уже побывавшие на корабле, услышали, что наши люди хотят перебраться дальше, на расположенный к северу остров Балабиа, и отправились с ними.
Один из них, по имени Бубик, был веселый малый, чем весьма отличался от других своих земляков. Вначале он много болтал с нашими матросами и сообщил им свое имя, которое они со своей всегдашней шутливостью переиначили в Буби, что значит «олуша». Добрый дурачок обрадовался, услышав, что его так величают, и это больше всего забавляло матросов. Но когда некоторое время спустя море так разошлось, что волны стали заплескивать в шлюпку, он притих, точно мышонок, и закутался в плащ, чтобы не промокнуть и укрыться от ветра, который для его голой кожи стал весьма неприятен. Ко всему он еще и проголодался, а так как своей еды у него не было, он с великой благодарностью принял все, что ему дали наши матросы.
Однако сие удовольствие обернулось общей бедой. Шлюпка стала сильно протекать, и, как ни вычерпывали воду руками, шапками и чем угодно, ее набиралось все больше. Пришлось выбросить за борт бочку с питьевой водой и многое другое, но и это не помогло. Наконец выбросили часть груза и, к счастью, обнаружили течь, что позволило заткнуть ее и благополучно продолжить путь к Балабиа.
По пути господин Пикерсгилл, находившийся в меньшей шлюпке, встретил каноэ, в котором плыли индейцы от этого острова. Они как раз возвращались с рыбной ловли и отдали нашим людям довольно большую часть своей добычи в обмен на некоторые изделия из железа. Было уже довольно поздно, когда моряки пристали к острову. Жители его не отличались от новокаледонцев, они были такие же добродушные и не только легко отдавали свое оружие и изделия в обмен на железо и таитянскую материю, но и снабдили Пикерсгилла пресной водой. Вечером наши люди расположились близ кустарника, разожгли большой костер, испекли рыбу и поужинали.
Сразу же после высадки их окружило много индейцев, которые оставались с ними и во время их трапезы. Они оказались отчасти разговорчивее, чем жители Новой Каледонии. Между прочим, они рассказали о большой земле на севере, которую называли Минга. Жители ее были: очень воинственны и враждовали с ними. Показав на один из холмов, они пояснили, что под ним погребен их вождь, павший в сражении с жителями Минги.
Большая говяжья кость, которую наши люди извлекли под конец ужина из привезенного с собой провианта, чтобы обглодать с нее остаток солонины, внезапно прервала их дружескую беседу. При виде этой кости индейцы вдруг громко и серьезно заговорили друг с другом, поглядывая на наших людей с изумлением и явным отвращением; наконец они даже отошли прочь и знаками показали, что считают своих чужеземных гостей людоедами. Офицер попытался отвести от себя и своих товарищей столь ужасные подозрения, однако при столь малом знании языка ему это не удалось. Да и кто знает, возможно ли вообще простыми уверениями развеять заблуждение людей, никогда не видавших четвероногого животного?
На другое утро матросы занялись починкой и оставили свою мокрую одежду сушиться на солнце. Вокруг них собралось столько индейцев со всех концов острова, что господин Пикерсгилл ради сохранности одежды счел необходимым провести на песке черту, которую никто из дикарей не должен был переступать. Они поняли, что она означает, и соблюдали ее беспрекословно. Нашелся среди них один, выразивший при этом большее удивление, нежели другие. Спустя некоторое время он, как бы проказничая, начертил вокруг себя палкой круг и со всякими потешными гримасами стал показывать присутствующим, чтобы они к нему тоже нe приближались. При всегдашней серьезности зрителей эта юмористическая выходка была довольно необычной и примечательной.
Весь день наши люди занимались починкой шлюпки и обследованием острова, а на рассвете следующего дня пустились в обратный путь. На беду, щель оказалась заделана плохо; поэтому, высадившись уже в шесть утра на ближайшем мысу Новой Каледонии, они, дабы облегчить шлюпку, оставили в ней только гребцов, остальным же пришлось весь обратный путь проделать по берегу пешком до места нашей якорной стоянки.
Один помощник лекаря нашел во время поездки на Балабиа множество новых моллюсков и растений, которых мы не встречали ранее; однако он не захотел их нам отдать. Это еще раз заставило нас пожалеть, что отрава и болезнь помешали нам разделить как удовольствия, так и опасности сей маленькой экскурсии!
На другое утро мы сопровождали капитана Кука к находившейся на востоке реке. Капитан хотел подарить своему другу Хибаи пару свиней и таким образом дать домашних животных этому народу, который своим добрым, миролюбивым характером всячески заслуживал такого подарка. Мы нашли Хибаи с семейством в тех же самых хижинах, где встретили его впервые. Капитан передал ему свиней, а мы все, каждый в меру своих слабых знаний языка, попытались объяснить доброму Хибаи, что размножение этих животных со временем обеспечит ему обильную пищу, так что надо сохранить им жизнь и заботливо за ними ухаживать. Поначалу, увидев сии странные существа, и он, и его семейство пришли в крайнее удивление; вид их выражал чрезвычайный испуг и отвращение; они знаками попросили нас забрать это с собой. Мы удвоили старания, чтобы лучше им все объяснить, и наконец убедили их оставить животных у себя. Нас их отвращение не удивило; свинью никак не назовешь красивой, и людям, видевшим ее впервые, она вполне может не понравиться. Несомненно, поначалу лишь нужда вынудила человека питаться мясом; ведь лишать жизни божью тварь— это насилие, и только насущная необходимость могла превратить его в хладнокровную привычку. Но если бы у первых людей, которые стали питаться мясом, имелся выбор, они, конечно, вначале принялись бы не за уродливых свиней; надо было как следует наголодаться и натерпеться, дабы признать, что, несмотря на отвратительный вид, мясо у свиньи не хуже, чем у овцы или коровы. Бедные обитатели Новой Каледонии никогда до сих пор не пробовали иного мяса, кроме рыбьего и птичьего; поэтому четвероногое животное и впрямь должно было показаться им чем-то странным и удивительным.
Решив, что главная цель нашего визита выполнена, мы отправились собирать растения среди болот и плантации и подошли к уединенно расположенной хижине, окруженной изгородью из жердей; позади нее стоял ряд деревянных столбов. Каждый столб имел примерно фут в поперечнике и 9 футов в высоту; верхняя часть его представляла собой резную человеческую голову. В этой хижине жил один-единственный старик, знаками показавший нам, что столбы означают его могилу! Пожалуй, во всей истории рода человеческого нет ничего более странного, чем встречающийся почти у всех народов обычай заранее ставить себе какие-то надмогильные памятники! Если бы кто-то захотел и смог понять и по-настоящему исследовать первоначальные побудительные причины сего обычая у разных народов (а это действительно было бы примечательное и важное исследование), то, возможно, он пришел бы к выводу, что у всех народов есть общее понятие о будущем существовании!
От этого столь необычного в своем роде места мы прошли мимо плантации, где группа туземцев, по большей части женщин, перекапывала и очищала болотистый участок, вероятно чтобы посадить здесь ямс и корни Аruт [таро]. Для этой работы они пользовались, орудием наподобие деревянного крюка с длинным, кривым и острым концом. Это же орудие служит им и оружием, разные виды которого я упоминал выше. Почва здесь, по-видимому, бедна и требует большей обработки, нежели в других местах, чтобы давать хоть мало-мальский урожай. Ни на одном из других островов Южного моря я не видел, чтобы землю так вскапывали и разрыхляли. Мы подстрелили здесь нескольких новых красивых птиц, а затем возвратились на корабль, где уже все было приготовлено к отплытию.
После обеда мы еще раз высадились у места, где брали воду. Там, возле ручья, капитан Кук велел выдолбить на толстом раскидистом дереве такую надпись: «His Britannic Majesty's Ship „Resolution". Sept. 1774» ['Корабль его величества „Резолюшн". Сент. 1774]. Мы тем временем напоследок прошли вдоль ручья, обновив свой запас питьевой воды, и нашли по пути еще несколько растений, каких прежде не видели, а затем попрощались с этим большим островом, для изучения которого хорошо было бы иметь здоровье получше да времени побольше.
На рассвете следующего дня был поднят якорь. Вскоре мы вышли за пределы рифа и поплыли к северо-западному побережью. Пробыли мы в этой гавани всего лишь семь с половиной дней, причем на третий день уже отравились и потому не могли использовать остальное время так, как нам этого хотелось. Даже к отплытию мы не совсем выздоровели и долго еще ощущали боли в голове и болезненные судороги во всем теле, при коих на губах выступала сыпь. Вообще сил наших теперь едва хватало на менее значительные дела, какими обычно занимались в открытом море, и отсутствие свежей пищи, конечно, нельзя было назвать лучшим средством, способным нас вылечить.
Итак, мы удалились теперь от острова, который лежал в западной части Южного океана менее чем в 12° от Новой Голландии и был населен людьми, весьма отличными от всех народов, виденных нами в Южном море. Соседство с Новой Голландией могло бы навести на мысль, что они одного происхождения с тамошними обитателями, однако, по свидетельствам многих путешественников, посетивших Новую Голландию до нас, между жителями этих двух земель нет ни малейшего сходства, что достаточно подтверждает и совершенное различие их языков. В этом последнем обстоятельстве мы могли тем более удостовериться, что капитан Кук снабдил нас словарем новоголландского языка.
Число жителей Новой Каледонии, видимо, невелико; если судить по тому, что мы видели во время плавания у северных берегов, то всего их на побережье протяженностью 200 морских миль не более 50 тысяч. В большинстве мест земля не возделана. Узкая равнина между горами и морем очень болотиста и заросла мангровыми деревьями, так что стоит большого труда осушить какой-нибудь участок с помощью канав и приспособить его для земледелия. Остальная часть равнины лежит несколько выше, но она, напротив, такая сухая, что и там приходится копать канавы и проводить воду, чтобы оросить почву. Дальше в глубь острова на горах и холмах имеется лишь тонкий слой выгоревшей, бесплодной почвы, на которой произрастает разве что кое-какая скудная трава, дерево кайепути да местами кусты. На более высоких горах порой не найти даже слоя почвы толщиной в дюйм — только голые куски кварца да железистой слюды. Такая почва, конечно, мало благоприятствует растениям, стоит скорее удивляться, что мы их там видели так много; правда, все они были сухие и имели жалкий вид. Лишь в лесах да кое-где в долинах есть кусты, лианы, красивые цветы и толстые, раскидистые деревья. Легко себе представить, каким резким показался нам контраст между Новой Каледонией и Новыми Гебридами, которые мы видели только что во всем великолепии их растительного царства!
Столь же значительным и очевидным было различие и в характерах туземцев. Все обитатели островов Южного моря, за исключением разве что тех, которых Тасман встретил на Тонгатабу [Тонгатапу] и Намокке [Номука], делали попытки прогнать чужеземных гостей. Напротив, жители Новой Каледонии, едва увидев нас, уже отнеслись к нам как к друзьям. Без малейшей робости или недоверия они поднимались на борт корабля и не мешали нам бродить по их стране, где мы только хотели. Шерстистыми волосами и цветом кожи они напоминают больше всего жителей Танны, однако они более высокого роста и крепкого сложения; в чертах их лиц тоже больше мягкости, открытости и дружелюбия.
В их изделиях также есть кое-что общее с таннскими, особенно в форме и характере оружия, метательных ремней и украшений, о коих я уже упоминал. Напротив, язык, который при подобного рода сравнениях особенно важен, совершенно отличен от таннского. Столь же различно и устройство их домов, несхожи их нравы, обычаи, вообще весь образ жизни. Но сравнению с обитателями Новой Каледонии жителей Танны можно считать богатыми. Их плантации дают им много растений, а если тех не хватит, на побережье достаточно кокосовых пальм. В Новой Каледонии урожай, напротив, довольно скуден, и вся обширная дикая страна, насколько мы ее обследовали, не может обеспечить их нужд. Зато новокаледонцы гораздо более умелы в рыбной ловле, и рифы вдоль их побережья на редкость для этого удобны. В определенные времена года на рифах можно также встретить черепах.
Если учесть, сколь скудно наделила природа сей остров своими дарами, тем более достойно удивления, что жители его не так дики, недоверчивы и воинственны, как на Танне; они гораздо миролюбивее и добрее. Примечательно и то, что при всей засушливости страны и при скудости растительной пищи они все же крупнее и мускулистее обитателей Танны. Возможно, разницу в телосложении разных народов следует объяснять не столько различием в питании, сколько неодинаковым происхождением, расовыми различиями.
Поведение новокаледонцев по отношению к нам представляло в самом выгодном свете их характер. Это единственный народ в Южном море, не имеющий причины быть недовольным нашим пребыванием. К сожалению, достаточно известно, с какой легкостью моряки в раздражении могут лишить индейца жизни; и если здешние обитатели не навлекли на себя ни малейших неприятностей, не говоря уже о том, что дело не дошло до смертоубийства, то причина только в их редкостной кротости и миролюбии. Философы, которые объясняют нравы, обычаи, и дух народов исключительно климатом, наверняка окажутся в немалом затруднении, если попробуют таким же образом понять миролюбивый характер жителей Новой Каледонии. Если они скажут, что недоверие чуждо им только потому, что у них почти нечего терять, тогда я спрошу, как получается, что жители Новой Голландии, живущие под теми же широтами, на такой же скудной земле и еще более бедные, чем здешние обитатели, напротив, в высшей степени дики и нелюдимы? Значит, различие в характере народов зависит от многих всевозможных причин, кои в течение, определенного времени постоянно действуют на них.
Добродушие новокаледонцев связано, разумеется, не с тем, что война и распри совершенно им неизвестны — ведь у них много разнообразного оружия! К тому же они сами признают, что у них есть враги и что жители острова Минга совсем непохожи на них характером! Я как-то находился в шлюпке с капитаном Куком и господином Уолсом, когда один из туземцев очень вразумительными знаками показал, что у них есть враги, употребляющие в пищу человеческое мясо. Поведение индейцев на Балабиа (принявших солонину, которую наши люди ели при них, за человеческое мясо) тоже достаточно показывает, что им подобный обычай известен и что они считают его страшным и отвратительным. В этом отношении они утонченнее своих более богатых соседей, зато еще не столь цивилизованны и просвещенны, чтобы, подобно им, отказаться от несправедливого презрения к другому полу. Они слишком серьезны, чтобы плениться женскими ласками, и слишком равнодушны, чтобы цeнить более тонкие радости жизни.
Хоть им и приходилось иногда немало трудиться, добывая себе пропитание, но, как только становится возможным об этом не заботиться, они проводят свои свободные часы просто в безделье, без игр и забав, которые приносят столько радости людям и делают такими веселыми и живыми обитателей островов Общества и Дружбы! Кроме упомянутых мною маленьких свистулек, мы не встречали у них ни одного музыкального инструмента. Мы также не знаем, есть ли у них танцы и пение, и если да, то какие. Судя но тому, что мы могли наблюдать во время своего краткого здесь пребывания, даже смех у них — немалая редкость; на разговор они и то скупы. Нелегко было встретить человека, склонного поговорить! В подобных обстоятельствах неудивительно, что их язык оказался очень неразвитым. Возможно, из-за недостатка в упражнении выговор их столь неясен, что разные словари, кои многие составляли у нас на корабле, существенно отличались друг от друга. У них мало твердых согласных, зато много горловых и носовых звуков, которые трудно было воспринимать и еще труднее повторять, особенно тем из нас, кто не знал никакого языка, кроме английского. Вероятно, они отвыкли от разговора просто потому, что их жилища находятся так далеко друг от друга; иначе, думается мне, они больше интересовались бы и наслаждались общением.
Поскольку почва здесь малопригодна для земледелия, то, возможно, развитию их цивилизации больше всего способствовало бы, если бы к ним завезли животных, которых легко прокормить, например свиней, коих они могли бы держать возле хижин, или коз, коих можно было бы выпустить на волю. К этому сухому климату, козы, пожалуй, могли бы приспособиться лучше всего и принести этим людям наибольшую пользу.
Простоте домашнего быта островитян, видимо, соответствует и простота их общественного устройства. Tea-Бума считался вождем области, лежавшей против нашего места стоянки, однако в такой бедной стране он не мог претендовать на какие-либо преимущества, и, поскольку здесь не знают никакой роскоши, он наверняка жил не лучше других своих сограждан. Да и внешне ему не оказывалось каких-либо серьезных знаков почтения. Единственное, что могло свидетельствовать о некоторой его власти, было то, что все подарки, которые господин Пикерсгилл вручил туземцам при первой встрече, они передали ему. Само имя его, возможно, представляло собой нечто вроде отличия, во всяком случае слово «теа», видимо, титул, который они прибавляют к имени любого знатного человека. Когда, например, Хибаи желал оказать честь капитану, он называл его Tea-Кук. Соседние области не подчиняются Теа-Буме, у них, наверное, свои вожди или, скорее, каждая семья образует свое собственное государство, коим по патриархальному образцу правит старейший, что является обычным для детского состояния любого человеческого общества[513].
О религии мы сказать ничего не можем; за восемь дней об этом и нельзя было много узнать. Мы даже не заметили следа религиозных обычаев, а тем более каких-то настоящих церемоний или других проявлений суеверия. Возможно, простота их понятий соответствует простоте характера. Впрочем, кто знает? Немногочисленные надгробные памятники указывают, видимо, на существование каких-то погребальных церемоний. Во всяком случае, смерть — зрелище всегда особое для человека, и остающиеся в живых обычно проявляют свое почтение к ней определенными поступками, необузданным проявлением траура.
Какие здесь имеются серьезные болезни и какова от них смертность, нам неизвестно. Единственное заболевание, которое мы наблюдали, была слоновость, весьма тут распространенная. Однако я ни разу не видел, чтобы она достигала степени, угрожающей жизни больного. Обычно многие болезни являются лишь следствием распутства и излишеств. Но у столь бедных и грубых людей, как здешние жители, их быть не могло. Седые волосы и морщины, обычные спутники преклонных лет, были здесь нередки, но спросить местных жителей о столь отвлеченном понятии, как возраст, не было никакой возможности. Да если бы даже мы и могли об этом спросить, вопрос еще, умели ли они считать свои годы? Ведь даже у таитян невозможно было выяснить продолжительность их жизни, хотя мы и знали их язык несравненно лучше здешнего, из коего нам были известны лишь отдельные слова.
Однако пора вернуться к рассказу о нашем плавании. Теперь мы держали курс на северо-запад вдоль рифа, окружающего здесь Новую Каледонию. Надо было определить расположение берега, тянувшегося в указанном направлении. Близ острова Балабиа риф поворачивал на север и в некоторых местах был удален от берега на 6 морских миль. Вокруг корабля летали фрегаты, олуши и фаэтоны.
15-го мы обнаружили у западной оконечности Новой Каледонии, к северу от нее, три острова; но поскольку далеко в море к востоку от них тянулся риф и мы не нашли через него прохода, не было возможности определить их форму и величину. Похоже, что самый крупный имел в длину 7 миль[514]. 15-го, когда мы находились в 4 милях от рифа, наступил штиль, и очень сильные волны понесли нас на скалы. Опасность была настолько велика, что капитан приказал спустить две шлюпки, и матросы с большим трудом постарались нас отбуксировать. Слабый ветерок, поднявшийся к вечеру, позволил нам немного передохнуть, но в полночь матросам опять пришлось взяться за весла, то и дело сменяя друг друга. На другое утро было полное безветрие, и мы в маленькой шлюпке отправились пострелять птиц, но без особого успеха. Наконец к вечеру поднялся свежий ветер. Поскольку здесь, у северной оконечности, мы не смогли найти прохода внутрь рифа, капитан приказал сделать разворот и плыть обратно, дабы обойти вокруг юго-восточной оконечности Новой Каледонии. Самая северная часть этой земли, которую мы видели, расположена под 19°37' южной широты и под 163°40' восточной долготы.
На следующее утро мы опять проплыли мимо области Балладд, где стояли на якоре. Из-за частого безветрия плавание становилось ужасно скучным и томительным. За два дня мы продвинулись не более чем на 20 миль, а так как земля, казалось, тянулась довольно далеко на юг, мы начали опасаться, что слишком поздно доберемся до Новой Зеландии, откуда, по слухам, должны были в последний раз отправиться к Южному полюсу. Но раз дело начато, надо его закончить. Между тем нас все сильнее сносило к востоку, так слаб и редок был ветер.
Вечером 22-го мы увидели выступающий тупой мыс и, поскольку был день коронации, назвали его мысом Коронейшн[515]. Риф, тянувшийся вдоль северного побережья, сюда не доходил, тем не менее из осторожности мы постоянно держались от берега милях в 4—5 и потому плохо различали его. Мы только ясно увидели, что цепь гор в глубине острова всюду имеет такую же высоту, как и горы, которые мы видели с места нашей якорной стоянки.
Утром оказалось, что над участком не меньше чем в полмили длиной поднимается густой дым. Поблизости от этого места на берегу стояло множество очень высоких фигур в виде колонн. Через подзорную трубу их можно было рассмотреть вполне отчетливо. Некоторые стояли уединенно и далеко друг от друга, но большинство располагалось большими группами. Мы приняли их за базальтовые столбы, наподобие тех, что встречаются вo многих частях света[516]. Такое предположение казалось нам тем более допустимым, что в этой части Южного моря мы совсем недавно видели несколько вулканов, в том числе один на Танне, а, по мнению наиболее проницательных и опытных минералогов, базальт — продукт вулканической деятельности. К вечеру мы обошли мыс Коронейшн и заметили множество таких столбов на плоском мысе, который вдавался далеко в море[517].
Утром 24-го мы увидели мыс, образующий восточную оконечность Новой Каледонии. Он был крутой, но не очень высокий и казался сверху совершенно плоским. На нем стояло множество упомянутых колонн, что не очень соответствовало предположению, будто это базальтовые камни. Этот мыс, названный капитаном Куком мысом Королевы Шарлотты, расположен под 22° 15' южной широты и под 167° 15' восточной долготы. Вечером в 7 часов с марса заметили далеко на юге еще один остров, а на следующее утро между этим островом и Новой Каледонией открылось еще много маленьких островов. Но из-за непостоянства ветра нам не удалось их как следует рассмотреть. Мы только заметили, что они окружены большим рифом, и, так как сквозь него не было прохода, вам пришлось повернуть на восток, чтобы корабль не выбросило на берег.
Это плавание было вдвойне неприятно тем, что совсем рядом находилась земля, где, возможно, имелась свежая еда, но добраться до нее мы не могли. Ямса у нас оставалось очень мало, и он подавался как лакомство лишь офицерам, тогда как простые матросы после Намокки ничего свежего не получили. Близость земли делала для них пост еще более чувствительным, да и нам надоело вместо открытий, кои мы могли бы сделать на суше, бездеятельно плавать вдоль однообразных пустынных рифов! Однако ветру не было дела до нашего нетерпения, он едва дул до вечера 26-го; тогда он немного усилился и помог нам обойти больший из лежавших перед нами островов.
Этот остров весь состоял из одной горы, не такой высокой, как горы в Новой Каледонии, и с более пологими склонами. Ее окружала равнина с бесчисленным множеством колонн. Мы некоторое время лавировали милях в двух от берега и наконец благодаря таким маневрам сумели подойти к берегу достаточно близко, чтобы наши грезы относительно мнимых базальтовых колонн совершенно развеялись. Это были просто-напросто деревья с прямыми длинными стволами и короткими тонкими ветвями, чего мы издали не смогли разглядеть.
28-го на рассвете мы обошли восточную оконечность этого острова и окружающий риф и поплыли к его южной стороне. Капитан Кук назвал его островом Сосен [Пен, или Куние], полагая, что колоннообразные деревья относятся к этому семейству. В окружности он имеет около 18 миль, и центр его находится под 22°40' южной широты и 167°40' восточной долготы.
Теперь дул свежий юго-восточный ветер, охладивший воздух настолько, что температура упала до 68° [20°С]. Столь резкий перепад температур оказался весьма чувствительным для нас, так долго терпевших постоянную жару. На другой день мы обнаружили проход между рифами и сумели стать на якорь возле маленького острова, не более 2 миль в окружности, песчаного и плоского, но при всем том поросшего колоннообразными деревьями. Южная оконечность Новой Каледонии удалена от этого острова не более чем на 6 миль, а южное побережье ее, видимо, идет параллельно северному, так что Новая Каледония — земля узкая. Упомянутая южная оконечность получила название мыса Принца Уэльского[518]. Он расположен под 20°30' южной широты и под 166°58' восточной долготы.
Не успели мы бросить якорь, как уже плыли в шлюпке к маленькому-острову, ближний берег которого находился от нас примерно в полутора милях. Он был окружен небольшим рифом, в коем мы отыскали узкий проход и благополучно миновали выступавшие из воды скалы.
Как только мы вышли на берег, все наше внимание привлекли к себе высокие стройные деревья. Это оказалась разновидность кипарисов. Красивые стволы поднимались прямо на 90—100 футов. Ветви, отходившие кругом от ствола, редко бывали длиннее 10 футов и сравнительно со стволом были очень тонкие. Между этими деревьями-колоннами росло много других разных деревьев, а также низкий кустарник, сделавший сей маленький клочок земли чудным прибежищем для массы птиц. Мы нашли здесь немного ложечницы, а также тетрагонию, которую во время своего последнего пребывания в Новой Зеландии нередко использовали как приправу к супу.
Немного оглядевшись здесь, мы вернулись на корабль, а после еды опять отправились на берег рубить деревья для плотников и собирать съедобные травы. Во время этого второго посещения мы нашли множество растений, и если учесть, что все это на столь небольшой площади, то оставалось лишь удивляться их разнообразию. На берегу то и дело встречались в песке следы костров, а возле них остатки черепах. Собирая растения, мы подстрелили ястреба, обыкновенного Falco haliaetos, а также мухоловку совершенно неизвестного вида. Кроме того, здесь было много красивых больших голубей, столь пугливых, однако, что подстрелить не удалось ни одного. Наконец у берега мы увидели множество плоскохвостых морских змей (Anguis platura).
Кипарис дает хорошую строительную древесину; молодые стволы очень эластичны и потому годятся на мачты. Мы пробыли на этом маленьком острове до заката солнца, а потом отправились обратно на корабль; на рассвете же следующего дня снялись с якоря и поплыли медленно и осторожно, покуда не вышли за пределы рифа. Капитан назвал этот остров Ботаническим (Ботани-айленд), ибо, невзирая на его небольшие размеры, здесь имелась флора почти тридцати видов, в том числе несколько совсем новых. Он лежит под 22°28' южной широты и 167°16' восточной долготы. Берег песчаный, но дальше есть хорошая, плодородная земля.
Пока мы стояли там на якоре, первый лейтенант поймал такую же рыбу, какой отравились капитан Кук, мой отец и я. И хотя он был очевидцем бедствия, какое причинила нам эта еда, а его товарищи по столу серьезно его предостерегали, он все-таки настоял, чтобы рыбу приготовили. Ему ее действительно принесли, и у друзей не оставалось другого способа удержать его от еды, как только высмеять сие безумное намерение. Это наконец подействовало больше, чем все разумные уговоры. Молодая собака, на свою беду поевшая внутренностей этой рыбы, несколько дней потом мучилась так невыносимо, что какой-то милосердный матрос решил положить этому конец, выбросив собаку за борт.
Сей случай показывает, насколько изголодались наши люди по свежей пище, если ради еды готовы были даже пренебречь опасностью отравиться! Все наши офицеры, многие из которых не впервые плавали вокруг света и немало повидали, единодушно свидетельствовали, что тяготы и невзгоды прошлых путешествий не идут ни в какое сравнение с этим и что никогда убогая корабельная пища так им не приедалась! Капитан Кук взял в плавание запас копченых окороков, но они за это время совсем испортились и стали невкусными. Жир превратился в прогорклое масло, а сало — в большие комки, похожие на винный камень. Но когда и эту почти сгнившую ветчину подавали на капитанский стол (а такое бывало лишь раз в неделю), все младшие офицеры (которые ели не с нами) смотрели на сие лакомство завистливыми взглядами и считали тех, кому оно доставалось, счастливчиками. Даже дикарям это было бы тяжко — что же говорить о нас, людях более чувствительных! В том, что цинга не разошлась сильнее, заслуга одной лишь квашеной капусты, которая имелась на борту; но и без цинги дела наши были довольно плохи и плачевны.
Вечером, прежде чем мы успели пройти между рифами, нас застиг шторм. Это было весьма опасно, ибо прилив и течение несли корабль на скалы, а мы ничего не могли с этим поделать, потому что даже на глубине 150 саженей лот не достигал дна! Находясь в таком затруднительном положении, мы в половине восьмого увидели на севере огненный шар, величиной и блеском напоминавший солнце, хотя свет его был более бледным. Спустя несколько мгновений он разорвался, оставив множество ярких искр, самые крупные из которых были продолговато-круглые; не успели мы оглянуться, как они уже опустились за горизонт. Голубоватое пламя протянулось как след за этим огненным шаром, и, пока он падал, некоторые будто бы слышали шипение. Покуда мы размышляли над причинами и воздействием этого метеора, среди матросов уже раздались радостные возгласы, что скоро поднимется свежий ветер. Случайность ли это, или между этим явлением и состоянием атмосферы действительно есть какая-то природная связь — но той же ночью предсказание исполнилось. Поднялся сильный ветер, наутро он перешел в южный и позволил нам отойти от Новой Каледонии к востоку и юго-востоку.
Это самый крупный остров среди всех, открытых до сих пор в Южном море между тропиками. Южная его сторона оставалась совсем необследованной, да и что касается северной, то за короткое время, что мы пробыли здесь, удалось изучить лишь расположение и внешний вид побережья. Животные, растения, минералы этой земли оставались почти неизученными и предоставляют будущим естествоиспытателям широкий простор для открытий. Кипарисы мы видели только на восточной оконечности острова; возможно, в этом месте почва и минералы имеют совершенно другие свойства, нежели в области Балад, где корабль восемь дней стоял на якоре. Увиденное нами на маленьком песчаном Ботаническом острове также позволяет предположить, что в южной части этой земли встречаются совсем другие растения и больше неизвестных птиц, чем в лесах северных областей.
Вообще на долю будущих исследователей остается еще достаточно открытий в Южном море, и, если у них окажется больше времени, чем у нас, они смогут найти здесь много неизвестного. Хотя в Тихом океане плавали уже немало, целые обширные области его остались совершенно необследованными, например пространство между 10° и 24° южной широты и 140° и 160° западной долготы, между 30° и 20° южной широты и 140° и 175° западной долготы, равно как пространство между самыми южными из островов Дружбы и Новой Каледонией, а также между Новой Каледонией и Новой Голландией — все эти места еще никем не изучены. Курс, которым прошел господин Сюрвиль, как я уже упоминал,— единственный, проложенный между двумя названными землями. Новая Гвинея, Новая Британия и земли, расположенные вокруг, тоже заслуживают еще более тщательного изучения, и тому, кто не пожалеет на это усилий, они, без сомнения, дадут материалы для многих новых и важных наблюдений. Когда все упомянутые выше области Южного моря будут исследованы, останется еще часть к северу от экватора, которая тоже потребует много экспедиций, прежде чем она будет достаточно изучена.
Ветер, коим мы, как считали матросы, обязаны были огненному шару, скоро снова утих; 2-го опять наступил штиль. Но нет худа без добра; так было и на сей раз. Пока не было ветра, нам удалось поймать акулу. Их много плавало возле судна. В мгновение ока она была разделена среди команды, и, хотя мясо имело маслянистый привкус, каждый съел свою долю с превеликим аппетитом. Да и кто в наших условиях стал бы привередничать? Наконец, к общему удовольствию, установился свежий западный ветер, с помощью которого мы, миновав тропик Козерога, смогли продолжить свой путь на зюйд-зюйд-ост.
5-го пополудни между 26° и 27° южной широты мы увидели двух альбатросов. Офицеры воспользовались наступившим на другой день штилем и отправились в шлюпке на охоту. Однако после всех трудов они вернулись лишь с двумя буревестниками да двумя альбатросами. Мы находились теперь опять у границы восточного пассата, который в это время года (то есть уже перед самым солнцеворотом) был переменчивым в области тропиков. 7-го после полудня подул хороший ветер, и мы поплыли на юго-запад. Капитан Кук хотел подойти прямо к западной стороне Новой Зеландии, дабы не проходить пролив Кука, что нам стоило столько времени и трудов в прошлом году. Вечером 8-го мимо корабля проплыло большое стадо морских свиней, они очень бодро резвились вокруг и временами выпрыгивали из воды. В одного из этих животных удалось попасть гарпуном, и он увлек за собой довольно большой конец каната, прежде чем мы успели спустить шлюпку, откуда его и прикончили пятью ружейными выстрелами. Животное принадлежало к виду, который уже древние называли дельфин [Delfis Aristot.— Delphinus Delphis. Linn.]; как и обычные морские свиньи, он встречается во всех морях. Он был 6 футов в длину, и в сосках у него было молоко, поскольку это животное, как известно, принадлежит к классу млекопитающих (Mammalia). На другое утро его раздали команде. Мясо было совершенно черное, то есть на вид не особенно привлекательное, но, когда с него срезали жир, на вкус оно оказалось не хуже вяленой говядины. Мы полакомились им также в обед и были весьма довольны уловом.
Утром в 8 часов с марса увидели землю. Это был небольшой остров средней высоты. Как и на Ботаническом острове, здесь всюду росли кипарисы. Уже на изрядном расстоянии от берега море было довольно мелким; глубина его менялась, но не превышала 20 саженей. Через час, подойдя к острову достаточно близко, чтобы оценить его длину (2—3 мили), мы увидели, что он очень крутой, почти весь покрыт лесом и, вероятно, необитаем. Это предположение подтверждалось множеством водоплавающих птиц, стаями летавших у берега и суливших нам новую свежую трапезу. Обед был подан раньше и съеден быстрее обычного, так как нам не терпелось поскорее на берег. Капитан приказал спустить две шлюпки, и мы пошли в них среди скал и утесов, которые уходили от острова далеко в море, к маленькой бухте, так защищенной скалами, что шлюпка спокойно смогла там стать на якорь.
На пляже лежали большие каменные глыбы; дальше берег был очень крутой, а местами вообще отвесный. Между двумя холмами сквозь расщелину пробивался небольшой ручей, вдоль берега мы поднялись вверх и с большим трудом углубились в лес. Доступ в него был затруднен густым переплетением лиан, но немного дальше лес стал более проходимым, а дорога — удобнее. Скалы здесь состояли из обычной желтоватой глинистой породы, знакомой нам по Новой Зеландии. То и дело попадались небольшие куски красноватой губчатой лавы, уже выветрившейся, но заставлявшей предполагать, что здесь когда-то действовал вулкан. Земля была такая жирная, какой она может быть, если столетиями удобряется гниющей древесиной и другими остатками растений. В такой земле, конечно, все должно процветать.
Большинство видов растений были нам известны — те же, что в Новой Зеландии, только роскошнее благодаря более мягкому климату и лучшей почве. Так, новозеландский лен (Phormiumtenax) достигал здесь высоты 9—10 футов, и цветы его были крупнее и светлее, чем в проливе Королевы Шарлотты [пролив Кука]. Дары природы Новой Зеландии соседствуют здесь с растениями, которые встречаются на Новогебридских островах, а также в Новой Каледонии. В частности, здесь прекрасно растут рядом кипарисы (как на последнем) и капустные пальмы (как на первом)! Оба эти дерева были одинаково нам желанны. Кипарисы плотники использовали для изготовления небольших брамстеньг, рей и тому подобного, а пальмы давали приятнейшую и вкуснейшую еду. Мы срубили их изрядное количество и взяли с собой запас верхушечных почек. Они, собственно, и дали дереву такое название, хотя вкусом напоминают скорее миндаль, нежели капусту.
Животные и растения были здесь по большей части такие же, как на Новой Зеландии. Разве что оперение у больших и малых попугаев было более светлое и блестящее, голуби же вообще ничем не отличались от новозеландских. Кроме того, нам встретилось много мелких птиц, иногда с очень красивым оперением. На берегу росли разные богатые соком растения, например Tetragonia и Mesembryanthemum; изрядный запас их мы взяли с собой на корабль, чтобы заправлять суп. Бодрое пение птиц оживляло сие уединенное место, которому только малая величина мешает стать наилучшим местом для европейской колонии. (Более того, по словам капитана Кука, если не считать Новой Зеландии, нигде, кроме этого острова, во всем Южном море нет пригодных для мачт деревьев[519].)
Лишь поздно вечером мы возвратились на корабль, сожалея только о том, что не сообразили оставить здесь пару свиней. В столь плодородных и диких краях они наверняка размножались бы без помех, и за несколько лет остров мог бы превратиться в великолепное пристанище для отдыха будущих мореплавателей. Сему приятному клочку суши капитан Кук дал название остров Норфолк[520]. Он лежит под 59°2'30" южной широты и 168° 16' восточной долготы.
Покуда мы ходили по лесу, матросы на шлюпке занялись рыбной ловлей, и им посчастливилось напасть на лужу, в которую во время прилива попала рыба. Лов был довольно удачный, и эта рыба, а также птицы, которых мы подстрелили, и верхушечные почки капустных пальм в течение двух дней служили нам сытной и вкусной пищей.
На другое утро мы прошли мимо южной оконечности этого острова и увидали неподалеку уединенный утес. Все утро мы усердно опускали лот, который в 8—9 милях от земли показывал глубину от 30 до 40 саженей. Вокруг летало много олуш и буревестников. То и дело эти птицы одна за другой стремглав опускались к поверхности воды и каждый раз подхватывали по рыбе. Очевидно, в этом месте была богатая рыбой отмель. В час пополудни мы миновали ее, и теперь лот не доставал дна. Свежий ветер понес нас прямо к берегам Новой Зеландии, где мы рассчитывали запастись как следует разнообразной едой. После столь долгого пребывания в жарком климате это было нам необходимо, потому что силы команды, питавшейся полуиспорченными корабельными запасами, были почти на исходе, да и мы, равно как и офицеры, сильно сдали после отравления рыбой.
Сопровождаемые пинтадо, буревестниками и альбатросами, мы шли при попутном ветре так быстро, что уже утром 17-го увидели перед собой берег Новой Зеландии. Уже две ночи мы замечали сильную вечернюю росу, что всегда служит верным признаком близости земли. Место, которое мы теперь видели, называлось гора Эгмонт; это был очень высокий пик, расположенный с северной стороны у входа в пролив Кука. От вершины и почти до середины гора была покрыта снегом и льдом. Вершина проглядывала лишь изредка, обычно же она была покрыта облаками. Вся гора имела вид величественный, другие горы рядом с ней казались небольшими холмами. Она стоит посреди широкой равнины, или, вернее, постепенно переходит в нее; сама же вершина заканчивается очень тонким острием. Судя по пространству, занимаемому там снегом, высотой она почти с пик Тенериф.
Ветер, который все еще дул несильно, вдруг перешел в такой шторм, что за час мы покрыли более 8 миль. Одновременно похолодало, температура упала до 58° [14,4°C] Как мы радовались, что сей шторм застиг нас у западного побережья Новой Зеландии и был нам на пользу, тогда как у восточного побережья он оказался бы крайне опасным, в чем мы достаточно убедились в прошлом году! На следующее утро он пронес нас мимо острова Стефенс, мимо залива Адмиралти и мыса Пойнт-Джексон, покуда мы не достигли пролива Королевы Шарлотты, где горы уже служили нам некоторой защитой.
Так наконец мы в третий раз за время нашего плавания благополучно достигли места своей прежней стоянки в бухте Шип-Коув [Моретото]. Вид всякого знакомого предмета, сколь ни было здесь дико и пустынно, казался нам приятен, а надежда подкрепить свои ослабевшие силы вызывала у всех на корабле необычайную радость.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ Третья и последняя стоянка в проливе Королевы Шарлотты (Новая Зеландия)
Берега Новой Зеландии встретили нас проливным дождем и сильным, шквалистым ветром. Такой прием никак нельзя было назвать дружелюбным. Вообще время года под этими суровыми широтами опять оказалось для нас малоприятным. Часть деревьев еще стояла в печальном убранстве минувшей осени, и нигде не видно было даже примет вернувшейся весны!
После полудня мы отправились на берег к тому месту, где ставили палатки оба прошлых раза. Нам хотелось первым делом посмотреть, на месте ли бутылка с письмом капитану Фюрно, которую мы закопали под деревом. Высадившись, мы увидели бакланов, свивших гнездо на дереве, склоненном над водой. Это показалось нам не особенно хорошим знаком; мы подумали, что бухту давно никто не навещал, во всяком случае никто из европейцев. Что касается дикарей, то сие было вполне вероятно, поскольку зимой они обычно держались в глубине залива, куда в это время года перемещалась рыба, главный вид их продовольствия. Мы спугнули бакланов, а нескольких птенцов, у которых не хватило ума улететь, поймали руками и пошли по берегу.
И тут внезапно мнение наше переменилось: не прошли мы и десяти шагов, как обнаружили явные признаки того, что со времени нашего отплытия в прошлом ноябре здесь побывал европейский корабль. Мы увидели, что многие деревья, еще росшие при нашем отплытии, теперь были частью спилены, частью повалены с помощью орудий, незнакомых индейцам. Бутылки не оказалось на месте; словом, целый ряд признаков, несомненно, указывал на то, что здесь побывали европейцы. Оставленные нами огороды были почти полностью разорены, растения вырваны или заглушены сорняками, которые буйно разрослись на рыхлой, плодородной почве.
Покуда мы все это рассматривали, матросы занялись рыбной ловлей, но без особого успеха. Больше повезло тем, кто ловил на удочку с корабля; среди прочего они поймали красивого морского карася (Sparus pagrus)[521] весом 11 фунтов.
На закате капитан приказал выстрелить из пушки, дабы известить о нашем прибытии туземцев, если, конечно, они находились достаточно близко, чтобы услышать выстрел. Мы уже знали по опыту, как нуждаемся в них, ибо наши люди не могли с ними равняться в ловле рыбы, да и без того у них было по горло дел на судне.
На рассвете мы завели корабль глубже в бухту и в 9 часов очень удобно поставили его у самого берега. Так как погода в этот день была немного мягче, мы сошли на берег и разбили палатки на том же самом месте, что и в прошлый раз. Молодые птицы, родившиеся в прошлом году и еще незнакомые с нашими коварными ружьями, без опаски приближались к нам на такое расстояние, что даже самому неумелому стрелку трудно было бы промазать. Мы, конечно, не упустили столь благоприятной возможности пополнить как зоологические коллекции, так и продовольственный запас. Пищухи и другие мелкие птицы могут считаться таким же лакомством, как и наши овсянки; вообще почти любая новозеландская птица, за исключением разве что ястреба, сделает честь любому европейскому столу.
После полудня мы с капитаном Куком отправились в бухту Каннибал-Коув, граничившую на севере с нашей бухтой (Шип-Коув). Там на берегу растет много сельдерея и ложечницы, а капитан взял за непременное правило собирать эти целебные травы для команды всюду, где только они встретятся. Пока матросы занимались этой работой, мы походили по лесу и нашли настоящую капустную пальму (Areca oleracea) того же вида, что встречали на острове Норфолк. Столь неожиданная находка в этой сравнительно холодной стране одновременно показала нам, что капустная пальма, видимо, гораздо выносливее, нежели все другие виды пальм. К вечеру мы вернулись на корабль в шлюпке, доверху нагруженной противоцинготными травами, которые очень нужны были всем нам, особенно же тем, кто был отравлен. Эти надеялись, что кровоочищающие средства наилучшим образом помогут выправить их здоровье и силы. На закате был произведен еще один выстрел из пушки, поскольку никто из жителей до сих пор не появился.
На другой день поднялся сильный ветер, и похолодало тем более, что задуло со стороны высоких заснеженных гор. Вечером пошел проливной дождь и с перерывами, сопровождаемый сильным туманом, лил целых двадцать четыре часа. Затем подул северо-западный ветер, и скоро опять прояснилось.
22-го солнце сияло на безоблачных небесах во всем своем великолепии; впервые со времени нашего прибытия отовсюду слышался птичий хор, предвещая хороший весенний день. Наши офицеры пошли на охоту, мы же с капитаном Куком отправились в лодке вдоль берега к мысу Пойнт-Джексон, выходя в некоторых маленьких бухтах на берег. После полудня мы добрались до скалы, где находилась хиппа, и зажгли там костер в надежде, что туземцы увидят этот сигнал. Затем мы посетили наш огород, разбитый когда-то на Моту-Аро, но все растения там завяли, а семена по большей части расклевали птицы. Вечером вернулись на борт офицеры после весьма удачной охоты. Матросы тем временем тоже не сидели без дела, они принесли на корабль изрядный запас свежих растений и довольно много рыбы. Удачу решили отметить чем-то вроде праздника, и моряки вдруг беззаботно позабыли все недавние тяготы.
Прождав напрасно еще целый день, не появятся ли индейцы, мы уже собрались сами отправиться на их поиски в расположенную южнее бухту. Однако рано утром 24-го у входа в бухту Шаг-Коув показались два каноэ под парусами. Мы решили, что островитяне приплыли ради нас, но, увидев корабль, они убрали паруса и на веслах уплыли поскорее прочь. Эта непривычная для них пугливость усилила наше естественное желание поговорить с ними, чтобы узнать причину их недоверия. С этой целью мы с капитаном Куком отправились в его шлюпке в Шаг-Коув. Нам удалось подстрелить довольно много устрицеловок, которых там огромное множество; но нигде не видно было даже следа индейцев, коих мы надеялись встретить.
Мы уже собирались возвращаться, когда услышали голоса на южном берегу и, присмотревшись, увидели на более высоких горах людей. Еще трое или четверо стояли на небольшом лесистом холме. Неподалеку среди деревьев располагалось несколько хижин, а внизу лежали вытащенные на берег каноэ. Возле каноэ мы и высадились и знаками пригласили индейцев спуститься к нам. Они некоторое время колебались. Наконец один из них решился. Едва он, по здешним обычаям, потерся в знак дружбы своим носом о наши, как за ним последовали его земляки, включая и тех, кто находился на более высоких горах.
На всех них были старые, поношенные накидки из соломы, волосы космами свисали с головы, и пахло от них так, что чувствовалось на расстоянии. Лишь трое или четверо из всех были нам знакомы, но, поздоровавшись, мы вспомнили других старых знакомых и справились, как они поживают. Последовал такой путаный ответ, что мы не совсем его поняли; было лишь ясно, что они говорят о каком-то сражении и называют имена своих земляков, которые тогда погибли. Одновременно они один за другим стали спрашивать, не держим ли мы на них зла и искренни ли наши знаки дружбы. Как их речи, так и очевидное смущение заставили нас не без оснований предположить, что у них произошло печальное столкновение с командой какого-то европейского корабля; естественно, мы сразу подумали о наших спутниках с «Адвенчера». Но пока мы не хотели, чтобы они это заметили, и попытались вновь завоевать их доверие. Нам это удалось, когда мы перевели разговор на другую тему и дали понять, что хотели приобрести рыбы. Мысль о возможной выгоде сразу расположила их к нам. Они побежали к своим каноэ, сняли покрывавшие их циновки и показали много рыбы, выловленной, должно быть, этим утром. За несколько гвоздей, медалей, кусочков красного полотна и таитянской материи они отдали нам столько, что хватило бы на обед для всей команды.
Какой-то мужчина средних лет, на вид самый знатный среди них, сказал нам затем, что его зовут Питерре. Он держался особенно дружелюбно. Скоро товарищи последовали его примеру и наконец настолько прониклись к нам доверием, что обещали завтра утром все прибыть на корабль. На этом мы попрощались, не без восхищения перед характером этих людей, которые, как некогда в бухте Даски, не захотели «прятаться от врага». Несмотря на всю свою тревогу и наше превосходство, они решили сами к нам выйти! Из последующего рассказа будет видно, что у них при этом было достаточно причин опасаться нашей мести.
Питерре и его спутники сдержали слово; на рассвете следующего дня они приплыли на пяти каноэ и продали нам много вкусной рыбы, благодаря чему наш стол вдруг опять стал изобильным. Окончив торговлю рыбой, они принесли разные изделия из зеленого нефрита: резцы и украшения, которые стали обменивать на таитянскую ткань, английские платки или железные изделия, а когда увидели, что это уже никого больше не интересует, возвратились на берег. Часть нашей команды занималась там пополнением запасов воды, топлива и тому подобными работами. Там же устроил свою обсерваторию господин Уолс. На берегу они снова стали предлагать свои товары, а затем тут же неподалеку, у моря, и заночевали.
На следующее утро они вновь отправились ловить для нас рыбу и день за днем обильно нас ею снабжали, так что мы всегда имели свежий запас. Больше и охотнее всего они общались с работавшими на берегу. Многие, особенно некоторые из морских пехотинцев, развлекались долгими разговорами с ними, насколько им позволяло знание местного языка. Столь доверительные отношения скоро расположили индейцев к такой откровенности, что они поведали своим новым друзьям-европейцам историю, которая привлекла наше особенное внимание. Некоторое время тому назад, рассказывали они, здесь бросил якорь чужеземный корабль, вся команда которого была в стычке убита и съедена местными жителями! Это сообщение было достаточно зловещим, чтобы встревожить нас, тем более что мы боялись, не «Адвенчер» ли это. Дабы прояснить дело, мы стали расспрашивать дикарей о разных подробностях, и то одна из них, то другая подтверждали наше опасение. Наконец они заметили, что нас эта история очень волнует, ибо мы не переставали об этом расспрашивать; тогда они вдруг отказались об этом говорить и угрозами заткнули рты землякам, которые собирались рассказать нам все еще раз связно.
Капитану Куку все более хотелось узнать что-нибудь достоверное о судьбе «Адвенчера», поэтому он позвал Питерре и еще одного дикаря к себе в каюту и попытался, как мог, объясниться с ними. Однако оба отрицали, что европейцам здесь было причинено хоть малейшее зло. Оставалось, правда, еще неясно, правильно ли они поняли, что мы хотим от них узнать, и не можем ли мы им яснее и нагляднее растолковать смысл наших вопросов. Для этого мы вырезали из бумаги два корабля; один изображал «Резолюшн», другой — «Адвенчер». Затем на листе бумаги побольше мы нарисовали план гавани и проводили корабли в гавань и обратно столько раз, сколько мы в действительности становились здесь на якорь и отбывали, вплоть до нашего последнего отплытия в ноябре. Затем мы помедлили некоторое время и опять начали вводить наш корабль в гавань. Но тут дикари остановили нас, отодвинув наш корабль, и опять ввели бумажку, изображавшую «Адвенчер», в гавань и обратно, одновременно показав на пальцах, сколько лун тому назад сей корабль отплыл. Таким образом, мы были удовлетворены вдвойне, узнав не только о том, что наши прежние спутники наверняка отплыли отсюда, но и о том, что местные жители наделены смышленостью, которую образованием можно развить еще более. Загадочным во всей этой истории оставалось лишь одно: насколько их первое сообщение о стычке между индейцами и европейцами согласуется с их последним заверением в том, что нашим землякам не было причинено никакого вреда и что «Адвенчер» благополучно отбыл отсюда. Но поскольку людям свойственно надеяться на то, чего они хотят, мы наконец успокоились на том, что неправильно поняли первую часть рассказа.
И действительно, достоверные сведения обо всем происшедшем мы сумели получить только по возвращении на мыс Доброй Надежды. Там нам рассказали, что во время последнего своего пребывания в Новой Зеландии «Адвенчер» потерял шлюпку с десятью моряками. Полагаю, что моим читателям захочется узнать подробнее о сем прискорбном случае; постараюсь поэтому связать то, что я узнал, вернувшись в Англию, от людей с «Адвенчера», с тем, что я услышал про это в Новой Зеландии.
Потеряв нас в бурю и туман, капитан Фюрно был вынужден 9 ноября 1773 года стать на якорь у Северного острова Новой Зеландии, а именно в заливе Толага. Оттуда он отбыл 16-го, а 30-го, то есть спустя несколько дней после нашего отплытия, добрался до пролива Королевы Шарлотты [пролив Кука]. О-Маи (индеец с острова Раиетеа, находившийся на борту «Адвенчера») рассказал мне, что он первый обнаружил надпись на дереве, под которым была зарыта бутылка с известием о нашем отплытии. Он показал надпись капитану, который тотчас приказал копать и нашел бутылку с письмом. Следуя ему, он незамедлительно начал готовиться к отплытию. Уже были подняты паруса, когда он послал еще одну шлюпку в бухту Грас-Коув, дабы набрать запас ложечницы и сельдерея.
Командование этим маленьким отрядом было поручено некоему господину Pay. Сей несчастный молодой человек всем был хорош, но еще не вполне освободился от некоторых предрассудков, свойственных морякам. Так, на всех обитателей Южного моря он смотрел с презрением и считал себя вправе распоряжаться их жизнью, как это делали в варварские столетия испанцы с американскими дикарями. Его люди высадились в бухте Грас-Коув и стали рвать растения. По-видимому, ради удобства они сняли свои мундиры; во всяком случае, судя по рассказам индейцев в заливе Королевы Шарлотты, стычка началась из-за того, что кто-то из их земляков стащил куртку. Ввиду такого воровства по ним тотчас открыли огонь и продолжали стрелять, покуда у матросов не кончился порох. Увидев это, туземцы бросились на европейцев и перебили их всех до единого.
Мне помнится, господин Pay любил говорить, что, если дело когда-нибудь дойдет до стычки, новозеландцы не смогут выдержать нашего ружейного огня. Возможно, он воспользовался случаем, чтобы это проверить. Еще в заливе Толага он выказал большую охоту стрелять но туземцам, когда они стащили как-то небольшой бочонок водки, но в тот раз он согласился последовать доброму и умному совету лейтенанта Барни.
Капитан Фюрно два дня ждал возвращения шлюпки, после чего послал на ее поиски еще одну, с большой хорошо вооруженной командой, которую возглавлял упомянутый лейтенант Барни. У входа в бухту Ист-Бей тот увидел большое каноэ, полное индейцев; те, едва увидев лодку с «Адвенчера», изо всех сил стали грести прочь. Наши моряки храбро пустились вдогонку. Однако индейцы, почувствовав, что их догоняют, попрыгали в воду и поплыли к берегу. Такой необычный страх дикарей показался господину Барни крайне подозрительным. Он наконец настиг пустое каноэ, и, увы, со всей ясностью понял, что произошло. В лодке лежали растерзанные части тел его товарищей и кое-что из их одежды. Сделав сие горестное открытие, они еще некоторое время шли на веслах, но нигде не встретили индейцев, пока не достигли бухты Грас-Коув, где высадились несчастные моряки.
Там собралось множество индейцев. При виде европейцев они вопреки обыкновению тотчас приняли воинственные позы. Гора неподалеку вся кишела людьми, и во многих местах поднимался дым: должно быть, мясо убитых европейцев уже было приготовлено для праздничной трапезы! Даже самых загрубелых матросов сия мысль наполнила ужасом, и кровь застыла у них в жилах; но в следующее мгновение их охватила жажда мести, и сей могучий инстинкт пересилил рассудок. Они открыли огонь и убили множество дикарей; наконец не без труда прогнали их с берега и разбили в щепки их каноэ.
Почувствовав себя увереннее, они вышли на берег и обыскали хижины. Они нашли несколько связок ложечницы, которую, видимо, уже успели собрать несчастные их товарищи, увидели несколько корзин с растерзанными членами, среди которых узнали и руку бедного Pay. Между тем новозеландские собаки на берегу пожирали валявшиеся кругом внутренности! От корабельной шлюпки удалось найти лишь несколько частей; из этого господин Барни сделал вывод, что дикари, видимо, просто разбили ее, дабы извлечь гвозди. Возможно, несчастные, кои погибли здесь, оставив шлюпку, не рассчитывали, что во время отлива она окажется на суше, и тем самым лишили себя последнего средства, которое помогло бы им бежать от своей печальной судьбы[522].
Для капитана Фюрно сия потеря была тем более чувствительна, что господин Pay был его родственником. 22 декабря он покинул пролив Королевы Шарлотты, прошел мимо мыса Горн, нигде не становясь на якорь, покуда 19 марта 1774 года не достиг мыса Доброй Надежды. Оттуда он возвратился в Англию и 15 июля достиг Спитхеда — как раз в то самое время, когда мы в другом полушарии заняты были открытием Новогебридских островов.
Новозеландцы издавна были опасными врагами для всех, кто попадал в их страну. Голландец Абель Янсен Тасман, открывший сию землю, потерял четырех матросов в месте якорной стоянки, которое он в память об этом назвал бухтой Убийц (вероятно, это тот самый залив, который капитан Кук назвал заливом Блинд-Бей). Одного из убитых матросов туземцы захватили с собой, так что они уже с 1642 года, без сомнения, знали, каково на вкус мясо европейца. С англичанами они обошлись еще более сурово, как явствует из рассказанной только что истории. Но хуже всех пришлось у них французам: в экспедиции Марион-Дюфрена они убили и съели двадцать восемь человек! Мсье Крозе, капитан французской службы, который на пути в Ост-Индию как раз стоял на якоре у мыса Доброй Надежды, когда по пути домой туда прибыли и мы, рассказал мне о горестной судьбе Марион-Дюфрена.
Господин Крозе командовал королевским судном «Маскарен» в качестве второго офицера, будучи в подчинении у упомянутого Мариона, и вместе с другим сопровождавшим их кораблем стал на якорь в заливе Островов [Бей-оф-Айлендс] в северной части Новой Зеландии. До этого шторм на его корабле сломал мачты, поэтому ему понадобилось найти в лесу новые. Он действительно нашел несколько пригодных для этой цели деревьев, но было почти невозможно спустить их с гор к воде. Однако нужда всему научит. Крозе пришлось взяться за трудную работу: прорубать сквозь густой лес путь длиной в 3 мили до места, где решили спилить годные на мачты деревья. Работа была нескорая. Тем временем часть команды разбила на одном из островов палатки, дабы со всеми удобствами запастись водой, другая отправилась за топливом. За этими занятиями они провели уже 39 дней и до такой степени завоевали доверие туземцев, что те даже стали весьма настойчиво предлагать им своих девушек.
Однажды господин Марион-Дюфрен и с ним еще несколько человек отправились на берег посмотреть, как идут работы. Сначала он посетил тех, кто наполнял бочки водой, а оттуда хотел пойти к плотникам, работавшим в лесу под началом Крозе, но сперва по обыкновению заглянул в хиппу, то есть укрепление индейцев, мимо которого лежал путь. Видимо, там он со всеми своими спутниками и был убит, поскольку больше о них ничего не слышали.
Лейтенант, в отсутствие Марион-Дюфрена взявший на себя командование кораблем, хотя и был удивлен, когда тот к вечеру не возвратился на борт, но успокаивал себя, что, вероятно, обстоятельства вынудили его заночевать на берегу, тем более что там, в палатках, имелись для этого все удобства. Думая так, он на следующее утро совершенно беззаботно послал группу матросов рубить дрова, и те сошли на берег по другую сторону мыса, обозначенного на карте капитана Кука. Дикари, видимо устроившие там засаду после случившегося накануне в хиппе, улучили момент, когда все лесорубы были заняты работой, напали на них и убили всех, кроме единственного матроса, который убежал от них через мыс, бросился в море и, несмотря на то что несколько раз был ранен копьями, поплыл к кораблю. Ему повезло: с судна его заметили и помогли подняться на борт, где его рассказ вызвал у всех ужас.
Между тем господин Крозе с плотниками все еще не вернулись из леса; стало быть, существовала опасность, что дикари обойдутся с ним не лучше, нежели со злосчастными его товарищами. Дабы предостеречь его, тотчас был снаряжен капрал с четырьмя морскими пехотинцами; одновременно были посланы шлюпки дожидаться Крозе возле палаток с больными. Капрал сумел благополучно добраться до господина Крозе, а затем вместе с ним выйти к месту, где их ждали корабельные шлюпки. Крозе уже казалось, что он совсем ушел от дикарей, когда вдруг увидел большую толпу во главе с несколькими предводителями. Все были в полном великолепии своих украшений[523].
Тут все зависело от решительности, а ее господину Крозе, к счастью, было не занимать. Он приказал своим четверым морским пехотинцам все время держать мушкеты на изготовку и по первому его знаку стрелять без промаха. Затем он велел снимать палатки и вместе с плотницким инструментом грузить в шлюпки. Наконец туда же сели и работники. Сам он с четырьмя стрелками тем временем подошел к самому знатному из туземных вождей. Тот сразу ему рассказал, что убил их вождя, как он называл Марион-Дюфрена. Вместо ответа капитан Крозе схватил кол, с силой воткнул его в землю у самых ног дикаря и сказал, чтоб тот не приближался ни на шаг. Смелость сего поступка явно привела в замешательство как вождя, так и весь его отряд, и господин Крозе сумел хорошо воспользоваться этим замешательством. Он приказал всем им сесть на землю, что они и сделали беспрекословно. Затем он стал расхаживать мимо новозеландцев туда и обратно, покуда все его люди не погрузились в шлюпки; за ними последовали стрелки, и наконец вошел в шлюпку он сам. Едва они отплыли от берега, как все новозеландцы вскочили, запели воинственную песню и стали бросать им вслед камни, однако матросы гребли так быстро, что скоро оказались вне их досягаемости, и таким образом благополучно вернулись на корабль.
После этого новозеландцы еще не раз предпринимали попытки уничтожить французов. Например, однажды ночью они отважились напасть на матросов, работавших на маленьком острове, и тех наверняка постигла бы участь их товарищей, не позаботься они об охране. В другой раз множество новозеландцев более чем на ста каноэ устроили настоящую комбинированную атаку на оба корабля, которая, однако, окончилась для них весьма плачевно: жестокий пушечный огонь заставил их отступить. Такие непрекращающиеся враждебные действия наконец убедили господина Крозе, что корабль останется без мачт, покуда не удастся вытеснить жителей из их большой, хорошо укрепленной хиппы. И вот однажды он выступил в поход с крупным отрядом. Туземцы уже приготовились к встрече; множество их спряталось за укрепленной оградой, которую капитан Кук описал в истории своего первого плавания. Французы открыли по ним беглый огонь, произведший сильное впечатление. Вскоре новозеландцы попрыгали со своих боевых постов и укрылись за палисадами. Чтобы выбить их оттуда, плотникам пришлось сделать в одном палисаде брешь. Едва они проделали первое отверстие, как в нем появился вождь и попытался копьем остановить плотников. Но господин Крозе уже отобрал несколько добрых стрелков, которые тотчас подстрелили индейца. Его сразу сменил другой, он встал на труп своего предшественника и приготовился к защите. Но и этот пал жертвой собственного бесстрашия; таким образом, на этом опасном и почетном посту остались лежать один за другим восемь вождей. Остальные при виде столь скорой гибели своих предводителей ударились в бегство и, преследуемые победителями, потеряли еще много людей.
Господин Крозе назначил 50 талеров за живого новозеландца, но французам не удалось поймать живым ни одного. Один солдат, стремившийся получить награду, захватил дряхлого старика и попробовал дотащить его до капитана. Однако старик, не имея другого оружия, укусил француза в руку, да так больно, что тот в приступе ярости заколол его штыком. В захваченной хиппе было найдено много ткани, оружия, инструментов и сырого льна, а также изрядный запас сушеной рыбы и кореньев, которые, видимо, хранились здесь для предстоящей зимы. Сие кровавое сражение нагнало на индейцев такого страху что господин Крозе сумел теперь без помех отремонтировать свой корабль и, проведя в заливе Островов шестьдесят четыре дня, отплыл отсюда[524].
Это столкновение с французами представляет новозеландцев в весьма невыгодном свете, если только не предположить, что ему предшествовало что-то еще, обидевшее и разгневавшее их. Ведь в других случаях, встречаясь с европейцами, они не показали себя ни коварными, ни злобными. Почему же нам не предположить, что французы, может быть сами того не зная или не замечая, сделали что-то, после чего те сочли себя вправе отомстить, да так, как на это способны только грубые дикари? У нас было тем больше оснований поверить рассказу жителей пролива Королевы Шарлотты, что они сами не стали умалчивать о воровстве своих земляков. Но в то же время они ясно дали понять, что наши люди слишком поспешили, сразу ответив на такое воровство стрельбой, да еще, видимо, без разбору, в толпу, ранив индейцев и вызвав у них жажду мести.
Мы рождаемся, дабы провести на земле назначенный нам срок, и ежели кто-то хочет положить конец нашему земному существованию до истечения сего срока, то мы воспринимаем это как нарушение законов, установленных самим творцом. Ибо он наделил нас страстями, служащими для защиты, и создал чувство мести прежде всего для того, чтобы не допускать насилия и угнетения. Дикарь чувствует это и сам присваивает себе право мстить за оскорбление, тогда как в гражданском обществе власть и в то же время обязанность карать всякую несправедливость доверяется лишь определенным лицам. Однако такой способ осуществлять правосудие не всегда и не во всех случаях оказывается достаточным даже в цивилизованных европейских странах. Если, например, хранитель общественного спокойствия, этот общий мститель за несправедливость, сам поднимает руку на священные права простого человека — разве не теряют тогда силу все гражданские обязательства, разве не должен тогда каждый сам защищать свои естественные права и разве не обретают вновь силу изначальные прирожденные средства самосохранения? Да и в частной жизни немало случаев, когда чувство мести можно в какой-то мере извинить. Разве не наносятся нам то и дело обиды, оскорбления, ущерб, от которых нет защиты? Или разве не бывает сплошь и рядом так, что у сильных мира сего оказывается достаточно власти и влияния, дабы извратить законы и злоупотребить ими против беззащитных, несчастных бедняков? Несомненно, такое случалось бы гораздо чаще и скоро переросло бы в крайнюю степень насилия, если бы не страх, что обиженный наконец сам возьмет на себя право (которое он доверил другим) защищать себя и свою собственность, поскольку он увидит, что те, кто должны были бы это сделать, столь постыдно пренебрегли своим долгом. Если разбойник покусится на мое имущество, я не могу бежать к судье; во многих случаях я могу сам на месте покарать злодея; и разве палка и шпага не способны внушить страх и почтение иным негодяям, собиравшимся преступить закон?
Chi fa sua vendetta, oltra che offende Chi l'offeso ha, da molti si difende. Ariost[525]Продолжу теперь свой рассказ. Слова и недвусмысленные знаки Питерре теперь вполне успокоили нас и убедили, что «Адвенчер» благополучно отсюда отбыл. Однажды ясным днем капитан предпринял поездку в глубь бухты Уэст-Бей — посмотреть, есть ли хоть какая-то вероятность, что свиньи и куры, которых мы в прошлом году оставили в этом необитаемом месте, остались живы и размножились, так что можно надеяться на появление многочисленных стад. Мы вышли на берег в том же месте, где высадились когда-то, однако у моря нигде не было видно не только следа животных, но и вообще признаков живой души. У нас были основания полагать, что животные ушли далеко в лес и могут там беспрепятственно размножаться. На обратном пути на другом берегу залива мы встретили несколько индейских семейств, которые обильно снабдили нас рыбой.
После этой небольшой поездки погода все время была такой ветреной и дождливой, что снова попасть на берег нам удалось не ранее 2 ноября. Мы отправились в бухту Грас-Коув. Ничуть не подозревая о горестных событиях, ареной которых стала сия бухта, мы заходили во все окрестные маленькие бухты и поодиночке, беззаботно уходили далеко от берега. В лесу в горах пересекалось множество тропинок, но индейцев не было и следа. Во время этой прогулки мы подстрелили более тридцати птиц, в том числе дюжину диких голубей, которые здесь питаются листьями и семенами красивого большого дерева Sophora microphylla.
В 8 вечера мы возвратились на борт, куда тем временем явилось с визитом множество дикарей. Вместо рыбы, которую доставила нам группа Питерре, эти принесли с собой на продажу лишь одежду, оружие и другие предметы. Но поскольку такая торговля могла оказаться в ущерб другой, более нужной нам, капитан запретил брать подобные товары. На следующее утро они пришли попытать счастья еще раз; однако капитан стоял на своем, и им пришлось уйти ни с чем.
Такая твердость была тем более полезной и похвальной, что ни самые разумные объяснения, ни собственный пример капитана не могли убедить упрямых матросов, какой ущерб наносят они своему здоровью, покупая такие безделушки, ведь индейцы перестали приносить на продажу рыбу, как только увидели, что за камни, оружие, украшения и тому подобное платят больше. Жадность, с какой наша команда приобретала эти вещи, в самом деле достигла степени едва ли не безумия, и они готовы были удовлетворить ее даже самыми низкими средствами. Одна группа, которую как-то послали с боцманом заготовить метлы, не постыдилась даже ограбить бедного дикаря в его собственной хижине. Они забрали у него его вещи, заставив взамен взять несколько гвоздей, дабы придать своему насилию хотя бы видимость торговли. К счастью, у туземцев хватило храбрости пожаловаться на это капитану, который приказал по заслугам наказать виновных.
В большей или меньшей степени такое бывает во всех подобных плаваниях. Например, команда «Индевра»[526] в этом смысле вела себя ничуть не лучше. На Таити они обокрали супругу Тубораи Тамаиде, а в Новой Зеландии прямо заявляли, что все имущество дикарей по божьим установлениям и по праву принадлежит им. Да и откуда матросам быть другими при столь однообразной жизни? Их души становятся почти такими же загрубелыми и бесчувственными, как их тела, и собственные их командиры сплошь и рядом сетуют на их бесчеловечность, видя, как они бывают готовы по малейшему поводу убить миролюбивых индейцев.
Увидев, что мы больше не интересуемся их красивыми вещами, 4 ноября все новозеландцы покинули нас, за исключением нескольких бедных семейств, которые в последние два дня из-за бурной погоды не могли ловить рыбу не только для нас, но и для себя. Мы встретили их в так называемой Индейской бухте [Индиан-Коув]; они обедали невкусными папоротниковыми кореньями, коими за неимением лучшей еды пытались, утолить голод. В каждой хижине горел костер, наполняя все жилище дымом. Конечно, люди чувствовали это, и потому обычно лежали на земле. Я же просто не мог вытерпеть здесь ни минуты, хотя другие европейцы не задумываясь входили в хижины ради ласк уродливых женщин. Можно бы подумать, что лишь грубые матросы не в состоянии были противиться этому животному инстинкту, однако сей тиранической стихии оказались в равной степени подвластны и офицеры и матросы; в этом отношении она, казалось, сняла между ними всякие различия; а коли уж человек однажды зайдет так далеко, что перестанет сдерживать всякое возникшее, да еще столь дикое желание, он в конце концов наверняка постарается удовлетворить его во что бы то ни стало. Племена, которые мы посетили до этого на Новогебридских островах и в Новой Каледонии, разумно оберегли себя от всякой непристойной близости; с тем большей настойчивостью господа теперь обратили свою страсть на безобразных красавиц в грязных и дымных новозеландских хижинах!
5-го наконец выдался хороший день. Капитан воспользовался этим и вместе с нами отправился в конец бухты, который нужно было зарисовать для пользы мореплавания. Пройдя некоторое время на веслах, мы заметили вдали несколько рыбацких каноэ. Но люди в них, едва увидев нас, перестали ловить рыбу и поскорее поплыли прочь. Нам хотелось расспросить этих индейцев, есть ли на южной оконечности пролива выход в открытое море, поэтому наши матросы старались изо всех сил догнать их. Скоро нам это удалось. Мы узнали среди этих индейцев нескольких человек, еще недавно побывавших у нас на корабле. Они повели себя весьма дружелюбно и дали нам рыбы, которую только что выловили. Но насчет самого главного, то есть наличия прохода, они, казалось, нас не поняли, и скоро мы с ними расстались, дабы выяснить все без них.
Слева мы увидели рукав этого большого пролива, справа находились многочисленные заливы и бухты. Наконец нам встретилось еще одно каноэ. Мы окликнули находившихся в нем индейцев и спросили о проходе. Они показали на рукав, который мы только что миновали, и дали нам понять, что крайняя южная часть его закапчивается заливом, окруженным со всех сторон горами. Выяснив это, мы отправились в ту сторону и действительно добрались до большого залива, берег которого по правую руку кишел людьми. Мы высадились там, где их было больше всего, и приветствовали, потеревшись носами, их вождей, а также некоторых других, выступивших из толпы вперед и тем самым показавших, что они здесь самые знатные.
Их начальник или вождь сказал нам, что его зовут Тринго-Бухи.[527] Это был маленького роста мужчина, уже в летах, но еще весьма бодрый. Он держался с нами очень дружелюбно. Лицо его было сплошь покрыто татуировкой в виде спиральных линий, и это выделяло его среди прочих собравшихся тут индейцев, у коих было гораздо меньше подобных украшений. Женщины и девушки сидели перед хижинами, и мы вспомнили, что видели некоторых на корабле. Казалось, эти были гораздо лучше обеспечены всем необходимым, чем несколько отдельных семейств, находившихся в соседстве с нашим кораблем; во всяком случае, одежды у них были новые и чистые, а черты лица у иных гораздо более приятные, чем обычно бывают у людей этого племени. Но, вероятно, такое отличие объяснялось прежде всего тем, что они сейчас не были раскрашены ни сажей, ни чем-либо другим.
Скоро эти люди заметили, что мы очень интересуемся рыбой; поскольку они ничуть не меньше хотели ее сбыть, число продавцов росло с каждой минутой. Однако Тринго-Бухи, по-видимому, был недоволен прибытием все новых людей, ибо цена за рыбу, которую хотел продавать он сам, понижалась по мере того, как этого товара становилось все больше. Некоторые предлагали нам также свои оружие и одежду, но большинство были нагие, лишь с маленьким куском циновки вокруг бедер. В тот день столь легкого одеяния было вполне достаточно, поскольку погода держалась очень мягкая, а залив со всех сторон был защищен от ветра.
Пробыв здесь около четверти часа и увидев, что дикарей становится все больше, и что все вновь прибывшие имели оружие, мы сочли благоразумным вернуться в шлюпку. Это было тем более правильно, что всего собралось уже свыше 200 человек, то есть больше, чем жителей в бухтах у пролива Королевы Шарлотты, вместе взятых. Мы уже оттолкнули шлюпку от берега, когда один матрос сказал капитану, что купил у дикаря рыбу, но не уплатил ему. Тогда капитан кликнул этого новозеландца и бросил ему единственный гвоздь, который у него еще остался. Гвоздь упал у самых его ног. Тот счел это за оскорбление или, может, даже за нападение, схватил камень и со всей силой швырнул в шлюпку, но, к счастью, никого не задел. Мы крикнули ему еще раз и показали на гвоздь, который предназначался ему. Лишь тут он увидел, в чем дело, поднял его и засмеялся над собственным гневом, одновременно выражая большое удовлетворение нашим поступком. Поспеши немного наши матросы, и дело легко дошло бы до стычки с туземцами, а это наверняка имело бы очень опасные последствия. Как мы могли бы счесть за обиду, что малый швырнул в нас камнем, так и новозеландцы могли вступиться за своего земляка, и в конце концов нам пришлось бы худо; ведь до корабля было 5 или 6 морских миль, то есть на помощь надеяться не приходилось.
К счастью, мы тогда ничего не знали о судьбе Pay и его спутников, иначе неожиданное появление такого множества туземцев еще более испугало бы нас, ведь, судя по местности, возможно, именно они принимали участие в том ужасном кровопролитии. Размышляя о том, как просто было новозеландцам расправиться с нами, когда, например, мы находились далеко от шлюпки или когда поодиночке лазили по горам и бродили по лесам, высаживались в самых густонаселенных местах и ходили там безоружными, я все более прихожу к убеждению, что их можно совершенно не опасаться, только надо самим никого не трогать и не злить нарочно. Именно поэтому мне представляется более чем вероятным, что матросы с «Адвенчера» не пострадали бы, если бы они первыми не обошлись с новозеландцами так грубо. Как бы то ни было, мы могли считать, что нам повезло, поскольку ни разу за время своих поездок или прогулок не встретили ни одного индейца или семьи, которые не склонны были бы завязать с нами мирные и дружественные отношения, как мы им предлагали.
Обитатели этого залива, как и те, кто были в каноэ, заверили нас, что рукав, в котором мы находились, заканчивается в море. Поэтому мы продолжали свой путь и после нескольких поворотов поняли, что идем севернее бухт Грас-Коув и Ист-Бей. Всюду здесь были бухты разной величины, на берегах которых росли противоцинготные травы, имелись источники воды и множество дикой птицы. Вода здесь была совершенно тихая, неподвижная, горы покрыты прекрасным лесом, так что местность не лишена была живописности.
Примерно в 3 морских милях от места, где жил Тринго-Бухи (там было много хижин; туземцы называли это место Ко-Хэги-нуи), мы увидели нескольких бакланов с двойным пучком перьев на голове. Эта птица всюду считается вестником близости открытого моря, ибо она всегда гнездится неподалеку от него. Так было и на сей раз. Вскоре мы увидели вдалеке высокие волны — они могли идти только с моря. Слева за бухтой Грас-Коув мы обнаружили хиппу на высокой скале, которая возвышалась над красивой равниной, как остров посреди моря. Все укрепление, обнесенное высокими столбами, на вид было в хорошем состоянии; но так как берег здесь изгибался, мы не могли подойти достаточно близко, чтобы рассмотреть его получше. К тому же нас больше всего интересовала главная цель поездки, и мы теперь увидели, как этот рукав соединяется с морем. Он вливался в пролив Кука. Устье его довольно мелкое, не глубже 14 саженей, и очень узкое, а рядом много высоких и опасных скал, о которые с большой силой разбивались волны, так что внутри возникало сильное течение. Отсюда отчетливо был виден Северный остров Новой Зеландии по другую сторону пролива Кука.
Было около четырех часов, когда мы все это установили. Если бы мы теперь могли обойти под парусом мыс Коамару, то легко и быстро достигли бы места, где стоял на якоре наш корабль. Однако из-за встречного ветра это представлялось невозможным. Точно так же мы не могли рискнуть остаться ночевать на берегу, поскольку местность была густонаселенная, а здешних обитателей мы знали еще недостаточно. Не оставалось ничего другого, как только вернуться тем же путем, каким мы сюда приплыли, хотя эта дорога была долгая и тяжелая.
Проплыв мимо хиппы и деревни Ко-Хэги-нуи, мы к 10 часам вечера благополучно вернулись на корабль, хоть и очень усталые и измученные. Никто из нас не предполагал, что поездка окажется столь долгой, поэтому мы не захватили с собой ничего, кроме небольшого количества вина и водки, так что поздний ужин был первой и единственной нашей трапезой в этот день. На карте пролива, которую капитан Кук начертил во время прошлого плавания, этот новый морской рукав был обозначен как залив, ибо тогда никто не знал, что он сообщается с упомянутым проливом.
Следующий день оказался непогожим, туманным; однако это не помешало достойному Питерре явиться к нам со своими спутниками. Капитан Кук решил отблагодарить его за важные оказанные нам услуги. Он пригласил индейца в каюту и с ног до головы одел в европейское платье. Питерре очень обрадовался своему новому наряду; было видно, как он горд нашим расположением. Однако он считал себя настолько вознагражденным за все таким подарком, что не решался попросить чего-либо еще, а это здесь можно было считать редкой степенью сдержанности. В таком необычном наряде мы взяли его с собой на охоту на остров Лонг-Айленд, а оттуда опять на борт пообедать. Для грубого дикаря он вел себя за столом необычайно чинно и пристойно. Мне кажется, он по-настоящему чувствовал превосходство наших знаний, искусств, ремесел и образа жизни; ему явно нравилось в нашем обществе. Тем не менее он ни разу не выразил желания отправиться с нами, напротив, когда мы ему это предложили, отказался. Конечно, может показаться странным, что, полностью сознавая наши преимущества, он предпочел бедный, беспокойный образ жизни своих соплеменников, хотя имел возможность и вкусить наших благ, и ожидать в будущем еще большего. Но я уже отмечал выше, что дикари сплошь и рядом поступают именно так; сейчас я хотел бы добавить, что и цивилизованные народы мыслят так же. Власть привычки ни в чем не проявляется отчетливее, чем в случаях, когда она одна перевешивает все удобства цивилизованной жизни.
Вечером Питерре и его спутники возвратились на берег; однако своим успехом он не возгордился и на следующее утро, как и накануне, явился к нам со свежепойманной рыбой. Мы не раз слышали, как он со своими товарищами поет на берегу, иногда они забавляли нас песнями и на борту. В Новой Зеландии музыкальное искусство развито несравненно сильнее, чем на островах Общества и Дружбы [Тонга]; среди обитателей Южного моря наиболее способны к музыке, по-моему, кроме новозеландцев жители Танны.
Тот же добрый и рассудительпый друг, который сообщил мне образцы музыки на Тонга-Табу [Тонгатапу], передал мне и некоторые напевы новозеландцев, по коим можно в какой-то мере судить о вкусах этого народа[528]. На Танне он не бывал, ибо находился на «Адвенчере», корабле капитана Фюрно, так что я не знаю, насколько совпало бы с моим его мнение о тамошних напевах. Что до новозеландских мелодий, то, по его словам, они свидетельствуют об одаренности и заметно превосходят как убогое гудение таитян, так и ограниченные четырьмя нотами напевы островов Дружбы.
Два первых такта этой мелодии они поют, покуда не кончатся слова, а затем идет последний. Иногда они исполняют ее в два голоса, в терцию, до последних двух нот, которые поются в унисон.
Тот же друг, которому я обязан приведенными выше замечаниями, слышал также траурную или похоронную песню о смерти Тупайи. Обитатели залива Толога в северной части Новой Зеландии, особенно ценившие Тупайю, сымпровизировали эту песню, когда команда «Адвенчера» сообщила им о смерти сего таитянина. Слова крайне примитивные, но, судя по всему, звучали они ритмично и располагались так, что их медлительное движение выражало чувство скорби.
Ушел, мертв! О горе! Тупайя!
Можно записать это иначе: «Он покинул нас и умер, бедный Тупайя!».
Первое излияние горя, как известно, бывает немногословно; единственное, что можно выразить,— сказать о понесенной потере, а это всегда приобретает форму жалобы. Насколько мелодия соответствует выразительной простоте этого текста, судить лучше знатокам музыки, нежели мне.
Под конец звук падает со среднего си до первой октавы, как если бы палец скользил по грифу скрипки. Прежде чем закончить эту тему, не могу не заметить, что большая, нежели у других обитателей Южного моря, любовь новозеландцев к музыке неизбежно делает их сердца и более способными к мягким и добрым чувствам, как бы ни отрицали сие красноречивые кабинетные философы. Я признаю, что они бывают весьма несдержанны в своих страстях — но кто станет или сможет утверждать, что сильные страсти всегда ведут лишь к вредным или даже бесчеловечным крайностям?
Со времени нашей последней поездки и до 9 ноября мы предприняли еще несколько небольших прогулок вдоль берега и побывали на островах, расположенных в заливе. Это принесло нам больше находок, ценных для изучения растительного и животного мира страны, чем мы могли ожидать в столь раннее время года и после такого множества предыдущих исследований. Так, мы нашли десять-двенадцать видов растений и четыре-пять разновидностей птиц, до сих пор нам неизвестных. Матросы тем временем пополняли наши запасы питьевой воды, доставили на борт много топлива, починили снасти и вообще привели корабль в состояние, позволяющее ему снова противостоять неистовым ветрам южных широт.
За время нашего здесь пребывания дикари столь обильно снабжали нас рыбой, что мы засолили ее несколько бочек, а остаток могли взять на Огненную Землю. Приготовленная таким образом, она хорошо сохранялась и была превосходна на вкус. Кроме того, незадолго до нашего отплытия капитан приказал настрелять побольше бакланов и другой птицы, чтобы нам как можно дольше хватило в пути свежей провизии.
9-го после полудня были закончены последние приготовления к отплытию, и на следующее утро в 4 часа мы в третий и последний раз покинули Новую Зеландию. Каждый раз, как мы бросали здесь якорь, обилие, разнообразие и целительные свойства свежей еды позволяли нам очень быстро оправиться от всех болезней и неприятных последствий морской жизни, прежде всего от цинги. Вкусные антицинготные растения очищали и улучшали кровь, а рыба, еда легкая и хорошо перевариваемая, давала необходимые питательные соки. Сам воздух, который здесь, даже в самые лучшие дни, довольно холоден, способствовал нашему выздоровлению, наполняя новой силой и энергией расслабившиеся в жарких краях клетки. Наконец, необходимость сильных движений во многих отношениях также была на пользу телу. Поэтому не приходится удивляться, что мы, прибывшие сюда столь бледными и изможденными, переменив образ жизни, очень скоро обрели свежий, здоровый цвет лица. Конечно, наш внешний вид, возможно, был столь же обманчив, как у нашего корабля. Когда мы после ремонта вышли на нем в море, он, казалось, был в довольно хорошем состоянии, но долгое плавание и суровые испытания, разумеется, причинили ему немало скрытого вреда.
Все, что в Новой Зеландии на пользу нам — здоровый воздух, простой образ жизни, а главное, изобилие хорошей и легкой пищи,— конечно, сказывалось и на туземцах; недаром они были такими рослыми, стройными (за исключением ног, искривленных и некрасивых) и крепкого сложения. Живут они преимущественно рыбной ловлей, а она у здешних берегов большую часть года такая богатая, что им хватает пищи и зимой; во всяком случае, и господин Крозе, и мы сами видели в разных местах большие запасы сушеной рыбы.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Плавание от Новой Зеландии к Огненной Земле,— Стоянка в заливе Рождества
Barbara praeruptis inclusa est (insula) saxis:
Horrida, desertis undique vatsa locis.
Umbrarum nullo ver est laetabile foetu,
Nullaque in infausto nascitur herba solo
Seneca[529]10 ноября пополудни мы прошли через пролив Кука [Королевы Шарлотты], мимо устья недавно открытого рукава и благополучно вышли в открытое море. Весь следующий день было безветренно, и лишь к вечеру поднялся ветерок. 12-го рано утром берег уже пропал из виду; теперь наш путь лежал на юго-восток, к Огненной Земле. На сей раз мы покидали Новую Зеландию в гораздо лучшем настроении, чем оба прошлых раза, когда наш путь лежал к Южному полюсу. Мы ведь знали, что теперь плавание не будет ни таким долгим, ни таким трудным, как предыдущие, и не только потому, что все путешествие уже близилось к концу, но и потому, что западный ветер, дующий в этих широтах и в это время года, постоянно сулил нам хорошее, быстрое плавание, наконец, потому, что в местах, кои нам предстояло исследовать, не ожидалось никаких неизвестных, во всяком случае больших, земель, изучение которых могло бы задержать наше возвращение в любезную Европу! Одним словом, мы могли с полным правом надеяться, что все тяготы и опасности нашего кругосветного путешествия скоро останутся позади, и это как бы вселило в нас новые силы и энергию.
Надеялись мы не напрасно. Успех в известной мере превзошел наши ожидания: на пути от Новой Зеландии к Огненной Земле мы в среднем проделывали за день 40 английских морских миль. Это было очень много для такого корабля, как наш, чья осадка и вообще устройство рассчитаны на не слишком большую скорость.
12-го мы видели кита с продолговатой тупой головой с двумя продольными бороздами и столькими же круглыми выпуклостями. Он был около 12 футов в длину с белыми пятнами по всему телу, с маленькими глазами и двумя отверстиями в форме полумесяца, через которые выбрызгивалась вода. Позади головы имелись два плавника, на спине же ни одного. Этот вид до сих пор, кажется, совершенно неизвестен.
14-го оказалось, что на корабле после нашего отплытия из пролива Королевы Шарлотты появилась течь, но нас это не обеспокоило, ибо за 8 часов воды в трюме набиралось не больше 5—6 дюймов. Западный ветер дул с редкостной силой, и, как ни просторен был в этих местах океан, волны подымались ужасающей высоты, длиной же от 600 до 700 футов. Корабль качало иногда очень неприятно, особенно при попутном ветре. Обычно считается, что наибольший наклон к поверхности воды, который может выдержать судно под парусом, никогда не превышает 20 градусов; но здесь море волновалось так, что наш корабль отклонялся от перпендикулярной линии больше чем на 30, а иногда и на 40 градусов! Господин Уолс однажды взял на себя труд измерить это математически и обнаружил, что наибольший угол крена при качке достигал 38 градусов, хотя корабль в этот день качало не самым сильным образом; напротив, при курсе бейдевинд под парусами с двумя рифами[530] крен не превышал 18 градусов.
Почти каждый день вокруг корабля видны были птицы: альбатросы, буревестники и пингвины; причем, что самое удивительное, больше всего их встречалось на полпути между Америкой и Новой Зеландией, хотя расстояние между ними 1500 английских морских лиг (то есть 725 немецких миль)! 27-го ветер дул с такой силой, что мы, по расчетам, за 24 часа покрыли путь в 184 английские мили (то есть около 40 немецких миль) — гораздо больше, чем когда-либо до сих пор[531].
2 декабря после недолгого затишья вновь поднялся ветер и дул не переставая, иногда сильнее, иногда слабее, покуда мы 18-го вскоре после полуночи не увидели землю. Это был мыс Десеадо [Пилар], расположенный у Магелланова пролива на западном острове Огненной Земли[532].
До сих пор, то есть всю дорогу от одной земли до другой, у нас оставался запас соленой новозеландской рыбы, которая нравилась нам больше, нежели соленая говядина или свинина. Эта солонина до того всем опротивела, что даже капитан Кук, настоящий моряк во всех отношениях, опасался, что никогда больше не сможет ее есть! Оставалась еще квашеная капуста, сохранившая хороший вкус; она, как и свежее сусло, служила предупредительным средством против цинги. Жаль, что большая часть солодового настоя потеряла свою силу, поскольку он был помещен в свежие, недостаточно просушенные бочки и оттого испортился. Я пил его много, но тем не менее ноги мои время от времени распухали и довольно чувствительно болели.
Печально выглядела часть Америки, открывшаяся перед нами! В 3 часа утра мы приблизились к берегу, почти сплошь окутанному густым туманом. Ближе к нам находился, по-видимому, небольшой остров, состоявший из невысоких, но совершенно бесплодных черных скал. За ними видны были более высокие и крупные горы, от вершины и почти до самого подножия покрытые снегом. Из живых существ на этих пустынных берегах водились только стаи бакланов, буревестников, поморников и прочих птиц, которые могли нам, во всяком случае, компенсировать бесплодность сей земли, если бы удалось найти гавань, где мог бы укрыться наш корабль. Действительно, за все наше кругосветное плавание редко встречалась нам земля, где не было бы никакой пищи, ни растительной, ни животной, которая помогла бы нам уберечься хотя бы от крайней степени цинги и других подобных болезней!
В 11 часов мы прошли мимо мыса, выдававшегося далеко в море. Капитан Кук назвал его мыс Глостер[533]. После полудня мы проплыли около острова, на котором, согласно описанию Фрезье, находится мыс Нуар. Гравюра в его книге, изображающая этот мыс, совершенно соответствует истине. На северо-востоке в глубь суши, видимо, уходит длинный морской рукав; это, несомненно, так называемый пролив Санта-Барбара. Уже на самых старых испанских картах можно найти эту часть Огненной Земли, разделенную в соответствии с истиной проливами на множество островов; все они были открыты и наименованы старыми испанскими мореплавателями. Одна из лучших таких карт приложена к испанскому переводу описания кругосветного плавания Байрона, сделанному д-ром Казимиром Гомесом Ортега. По этой карте мы установили, что земля от того места, где мы ее впервые увидели, до мыса Нуар состоит из множества островов, и мы, вероятно, увидели бы их гораздо больше, если бы не туман.
По другую сторону от мыса Нуар, который расположен под 54°30' южной широты и 37°33' западной долготы, лежит, очевидно, более сплошная земля. На другое утро мы убедились, что берег здесь нигде не разделен. Горы уже близко к морю были гораздо выше, чем до сих пор, и сплошь покрыты снегом. Ветер постепенно слабел и к полудню утих совершенно, а воздух при ясном небе был довольно теплый. Всевозможные птицы летали вокруг корабля, а в воде резвились тюлени. После полудня показалась группа примерно из тридцати китов (Grampus), они плыли преимущественно парами и, видимо, тоже наслаждались хорошей погодой[534].
К вечеру поднялся восточный ветер, державшийся всю ночь, но на другой день он совершенно стих. У этого опасного мыса, само название которого со времен Ансона наводит страх на всех моряков, мы ожидали сильнейших штормов, но никак не столь мягкой погоды. Тем более было нам приятно убедиться в противоположном и положить конец заблуждению, ибо ученые и вообще род человеческий бесконечно много выиграют, избавившись от укоренившихся предрассудков и ошибок.
Термометр в этот день показывал 48° [8,9°С]; если учесть соседство снежных масс, это была довольно мягкая температура. Первые путешественники, открывшие сей берег, назвали его Берег Запустения (Десолейшн), и это название подобает ему по праву. Нигде не видно было ничего, кроме громадных гор с острыми, покрытыми снегом вершинами! Снег лежал даже на скалах у самого моря, что делало пейзаж, лишенный травы и кустарников, еще более мертвым и бесплодным. То и дело в бухтах встречались маленькие, поросшие зеленью острова. В одну из таких бухт мы вошли к вечеру с помощью слабого восточного ветра. У входа на западной стороне возвышалась громадная отвесная стена скал, которую капитан Кук назвал Йорк-Минстер (Йоркский Собор), ибо она напоминала ему готическую постройку[535]. Это место находится под 55°30' южной широты и 70°28' западной долготы.
Как только мы приблизились к берегу, капитан приказал все время опускать лот, и глубина регулярно то увеличивалась, то уменьшалась, смотря по тому, дальше или ближе находились мы от берега. Лишь у входа в гавань лот на 150 саженях не достал дна. Подобное было когда-то в бухте Даски. Увидев перед собой очень просторную гавань, мы спокойно поплыли в глубь нее между пустынных островов, многие из которых до самых высоких вершин были покрыты снегом. Мой отец воспользовался наступившим безветрием и вместе с лейтенантами отправился на шлюпке пострелять птиц; но их старания оказались напрасными, и они вернулись на борт с одной-единственной птицей.
В девять вечера при слабом ветре мы наконец вошли в маленькую бухту, которая, хотя и плохо была защищена от ветра и волн, все же на ночь могла при необходимости дать укрытие. Здесь впервые после сорока одного дня пути, за время которого мы так быстро и благополучно пересекли все Южное море, корабль опять стал на якорь!
На другое утро капитан Кук в сопровождении нескольких офицеров, моего отца, доктора Спаррмана и меня отправился на шлюпке поискать более надежное и удобное место для стоянки. За первым же мысом острова, возле которого временно стояло наше судно, нашлась красивая бухта, окруженная горами, а значит, укрытая от ветра; к тому же там был небольшой ручей и кое-какой кустарник. В этих кустах, к нашему удивлению, слышно было пение птиц, явно радовавшихся погоде, для здешних широт, несомненно, довольно мягкой. В нескольких небольших расщелинах мы нашли тонкий слой влажной земли, из которой пробивались жалкие кустики, с обеих сторон закрытые скалами; эти скалы заслоняли их от ветра и отражали лучи солнца, способствуя росту зелени.
Вообще же остров представлял собой как будто одну скалу, сложенную из грубого гранита, полевого шпата, кварца и черной слюды. В большинстве мест она была совершенно голая, лишена почвы и какой-либо растительности. Лишь кое-где дожди и тающий снег наносят иногда песок; на таких местах появляется лужайка из маленьких, напоминающих мох растений толщиной около дюйма. Они легко выскальзывают из-под ног, потому что не могут крепко держаться на скалах. Чем больше такие места защищены от разрушительных ветров, тем чаще среди этого мха появляются другие виды растительности, и так накапливается достаточно почвы, на которой постепенно разрастается небольшая рощица. К числу здешних растений принадлежит и порода дерева, чья кора оказалась превосходной пряностью, ее впервые завез в Европу капитан Уинтер, и в честь него она получила название коры Уинтера. Ее нередко путают с Canella alba, но ту привозят с Ямайки и получают совсем из другого растения[536]. Дерево, с которого берут кору Уинтера, на берегах Магелланова пролива, а также на восточном побережье Огненной Земли, достигает иногда довольно значительной высоты; однако на том необжитом побережье, где мы сейчас находились, оно бывает высотой не выше 10 футов, да так и остается обычно кривым, невзрачным кустарником.
Как ни бесплодны казались эти скалы, почти каждое здешнее растение было для нас новым; некоторые из них даже украшали красивые, благоуханные цветы. На камнях, лежавших в самой воде, росло невероятно много морской травы, листья которой покрывали поверхность воды, а стаи устрицеловок, бакланов и гусей оживляли безлюдный берег.
Как только мы вернулись, матросы начали заводить корабль в новую бухту и после полудня благополучно с этой работой справились. В упомянутых выше водорослях водилась рыба из семейства тресковых; мы поймали несколько штук, но для настоящей еды их не хватило.
Рано утром капитан Кук отправился зарисовать план этих мест, а мы сопровождали его, дабы выяснить, чем богата эта земля. Гавань здесь очень просторна и как с востока, так и с запада защищена несколькими грядами гор, возвышающимися одна над другой. Горы были покрыты снегом, который, должно быть, никогда не таял. В самом заливе находилось несколько гористых островов, но высотой они не могли равняться с большой землей, и потому снег лежал только на их вершинах. Еще более низким и совершенно лишенным снега был остров, возле которого стоял на якоре наш корабль; на взгляд он поднимался над водой не более чем на сотню футов. Помимо этих гористых островов в северной части залива было несколько других, возвышавшихся над водой всего на 30—60 футов и издалека казавшихся покрытыми зеленой растительностью. К самому ближнему из этих плоских островов мы и направились. Мох и кустарник там в некоторых местах были выжжены, и видно было, что земля состоит из желтоватого сланца, лежащего горизонтальными слоями, а сверху покрытого слоем почвы, более толстым, нежели на соседних островах. Здесь оказалось несколько новых растений, а также разновидность мухоловки, которая питалась червями и моллюсками и клюв у которой был сильнее, чем у других птиц этого вида.
Обогнув оконечность этого маленького острова, мы увидели на другом мысу небольшую рощицу или лесок, в тени которого стояло несколько необитаемых хижин. Описание и зарисовки такой деревни, которые можно найти в опубликованном описании первого кругосветного путешествия капитана Кука, совершенно точно передают их вид; только здешние хижины не были покрыты тюленьими шкурами. Возможно, такая кровля не всегда нужна, а возможно, переселяясь на новое место, дикари увозят их с собой как непременную часть любого жилища. Здесь оставался только остов хижины, сделанный из нескольких веток, на большинстве которых еще были зеленые листья; очевидно, их использовали совсем недавно. Когда мы впервые увидели сию пустынную, суровую местность, нам показалось невозможным, чтобы здесь кто-нибудь жил. Мы поняли, что дикари должны обитать разве что на восточном побережье Огненной Земли и на берегах Магелланова пролива. Однако, если судить по этим хижинам, род человеческий способен выдержать любые погодные условия и жить как в раскаленных африканских пустынях, так и на обоих ледяных концах Земли.
Мы высадились еще на нескольких островах. Обилие снега всем им придавало зимний вид, дикий и вселявший трепет. В этих краях как раз начиналось лето, немногие местные растения стояли в цвету, и птицы кормили свои выводки. Если даже сейчас солнце не имело достаточно сил, чтобы растопить снег, то можно себе представить, как мертво и печально должно было все это выглядеть зимой! Чем дальше мы углублялись в бухту, тем больше снега оказывалось на горах. Кое-где по этому белому покрову текли вниз ручьи и потоки; больше всего их было в тех местах, где скалы усиливали воздействие солнечных лучей.
Довольно долго пройдя на веслах, мы наконец нашли на редкость красивую гавань. Она имела форму круглого бассейна, с гладкой, как зеркало, и совершенно прозрачной водой. По берегу до самого моря стояли деревья, более высокие и красивые, чем в других местах. Между ними пенилось множество небольших ручьев, предлагая мореплавателю удобнейшую возможность наполнить водой бочки. Но более всего поразил нас гомон множества мелких птичек, собравшихся в сей тенистой глуши, под ласковыми лучами солнца. Они были разных пород и, совсем не зная людей, прыгали рядом с нами. Если бы при нас оказалась не такая крупная дробь, сия доверчивость дорого бы им обошлась!
Среди деревьев пробивался различных видов мох, папоротник, разные вьющиеся растения, так что здесь непросто было пройти; к радости ботаника, в этом лесу были и цветы. Словом, тут можно было найти, во всяком случае, подобие лета. Но стоило обратить взор к горам на заднем плане — и со всех сторон высились только стены скал, покрытых снегом и льдом, который в зависимости от возраста был то голубой, то желтый, как на альпийских глетчерах, где бывают так же смешаны и как бы переплетены времена года. Правда, здешние горы были не так высоки, но сходны видом остроконечных вершин, промежутки между которыми заполнял снег.
От этой гавани мы пешком пошли к другой, защищенной от всех ветров несколькими низкими островами у входа. Там водились разные породы диких уток; одна из них была величиной с гуся. Они одновременно били по воде лапами и крыльями и плыли с удивительной быстротой.
Fugit illa per undas, Ocyor et jaculo, et ventos acquante sagitta. Virg[537]Этот способ движения позволял им развивать такую невероятную скорость, что мы заранее поняли, насколько бесполезно стрелять в них, если не суметь незаметно прицелиться. Позднее нам это удалось, и мы подстрелили несколько штук. От других уток они отличались лишь величиной и особенно короткими крыльями. На крыльях было несколько белых маховых перьев, а на суставе у выступа крыла два больших голых хряща желтого цвета. Клюв и лапы тоже были желтые, само же оперение серое[538]. Из-за удивительной скорости наши матросы назвали эту птицу «рысаком»; на Фолклендских же островах англичане называют их loggerhead-duck, то есть «большеголовые утки».
На одном из соседних островов мы обнаружили много больших поморников или больших чаек, которые гнездились в сухой траве. Третий остров сплошь зарос кустами с очень вкусными ягодами — разновидность земляничного дерева величиной с небольшую вишню[539]. На одном из этих островов скалы вдоль берега были усеяны крупными моллюсками (Mytilus edulus), чье мясо показалось нам вкуснее, нежели у самых лучших устриц. Так эти голые скалы, на первый взгляд ничего не сулившие живому существу, снабдили нас едой, которую после наших сухарей и солонины в этих краях можно было бы назвать великолепной! На обратном пути мы на еще одном плоском острове обнаружили прекрасный сельдерей, правда мельче новозеландского, зато гораздо более сочный, возможно потому, что на скалистой почве соки концентрируются лучше. Мы нагрузили им полную шлюпку и наконец, совершенно промокшие под не раз начинавшимся дождем, вернулись на корабль.
По возвращении мы почувствовали, что в месте нашей стоянки заметно теплее, чем в северной части залива, где воздух сильно охлаждался из-за близости заснеженных гор. Почти одновременно с нами вернулся и один из наших лейтенантов, которого капитан Кук послал снять план северо-западной части залива.
На следующий день погода оказалась так хороша, что многие из нашей команды отправились на остров, возле которого стоял корабль, пострелять птиц, и охота оказалась весьма удачной. Господин Ходжс тем временем зарисовал вид залива сверху, откуда он выглядел особенно красиво. На гравюре, сделанной по этому рисунку в Англии, на переднем плане видна птица; она, вероятно, должна изображать сокола, которого мы встретили на Огненной Земле. На шее и на плечах этого сокола серые и коричневые полосы, а голова совершенно коричневая и украшена пучком черных перьев. По гравюре можно решить, что он необычайной величины, на самом же деле он не крупнее обычного сокола (Falco gentilis).
Вместо того чтобы пойти с младшими офицерами на охоту, мы составили компанию капитану, решившему утром обойти на шлюпке остров, у которого мы стояли; лейтенант Пикерсгилл для подобного же исследования отправился в другую часть залива. Поездкой мы были довольны, поскольку сумели добыть много бакланов, тысячи которых гнездились на утесах. Следуя инстинкту, они устраивали свои гнезда лишь в таких местах, где скалы либо нависают вперед, либо по крайней мере отвесны — несомненно, для того, чтобы птенцы могли упасть только в воду, не причинив себе вреда. Сланец, из которого состояли эти утесы, не очень твердый, но все же можно только удивляться, как птицы пробивали в них углубления; даже если такие углубления существовали от природы, как они могли расширить их для птенцов? Когда мы после выстрела стали снова заряжать свои ружья, бакланы уже опять сидели на гнездах; да, при их нерасторопности в них нетрудно было попасть и на лету. Они действительно так мало обращали внимания на очевидную опасность, что французы, останавливавшиеся на Фолклендских островах, не без основания называли их nigauds, то есть дурни[540].
Помимо этой добычи мы привезли из своей поездки еще трех гусей, которые привлекли наше внимание своим оперением, совершенно разным у самцов и самок. Гусаки, за исключением черного клюва и желтых лап, совершенно белые, величиной поменьше домашнего гуся. Гусыня же, наоборот, вся черная с небольшими белыми поперечными полосками, голова серая, на крыльях несколько маховых перьев зеленых и несколько белых. Возможно, природа устроила такое различие, мудро заботясь о потомстве: чтобы гусыня со своим более темным оперением была не так заметна для соколов и других хищных птиц. Но это всего только предположение, нуждающееся в дальнейшем изучении и подтверждении. Разум смертных, увы, слишком слаб, чтобы всегда понимать намерения мудрого творца в делах природы, особенно когда опираешься на столь скудные наблюдения, как в данном случае.
Едва мы возвратились на борт, как вернулся и лейтенант Пикерсгилл. Он нашел в восточной части залива бухту, где водилось множество диких гусей. Капитан Кук хотел обеспечить своих людей свежей провизией, дабы как можно приятнее встретить предстоящее рождество. Поскольку открытие лейтенанта Пикерсгилла весьма благоприятствовало сему намерению, было решено, что следующим утром он отправится на охоту, а мы прибудем туда же другой дорогой. Мой отец, доктор Снаррман, один из лейтенантов и я вместе с капитаном отправились вдоль острова, расположенного к востоку, между кораблем и так называемой Гусиной бухтой (Гуз-Коув), где было условлено встретиться. Нам не пришлось раскаиваться, что мы выбрали такой путь, так как по всему южному берегу этого острова длиной не менее 4 миль водилось бессчетное множество гусей, которых из-за их неопытности, а также потому, что они меняли оперение, было очень легко подстрелить. У них еще не было больших маховых перьев, так что они едва могли летать. Учти мы это сразу, наша добыча стала бы еще больше. Тем не менее к закату набралось шестьдесят три штуки; этого было достаточно на обед для всей команды.
Охота была столь же богатая, сколь и приятная. Правда, мне как натуралисту полагалось бы в таких случаях больше интересоваться разнообразием, нежели количеством, добычи, однако у нас не хватало хладнокровия или рассудительности пренебречь свежей пищей, когда она сама шла в руки. В скалах на берегу были большие расщелины, или пещеры, иногда 80—90 футов высотой и нередко 150 футов глубиной. Поскольку море было довольно спокойно, мы могли входить на шлюпке под эти подземные своды, причем выходили не без изрядного количества гусей. У входа обычно гнездились бакланы, которых на сей раз мы, однако, оставили в покое. Другое обстоятельство, облегчившее нам охоту на гусей, заключалось в том, что в сланцевых скалах имелись большие трещины; птицы, у которых еще не отросли заново крылья, редко могли через них перебраться и обычно падали в расщелину, откуда матросы их доставали живьем.
Лишь поздно вечером мы вернулись на корабль. Господин Пикерсгилл успел добраться туда еще раньше и привез с маленького, населенного одними морскими ласточками острова более трех сотен яиц, которые оказались по большей части съедобными и вкусными.
Во время нашего отсутствия около корабля показались четыре маленьких каноэ с местными жителями. Их описали нам как жалких, бедных, но и безобидных созданий, которые отдавали свои копья, тюленьи шкуры и тому подобное не только добровольно, но и бесплатно. Мы пожалели, что не увидели их, однако это оказалось делом поправимым, так как уже на следующее утро они, невзирая на дождь, появились снова. Их каноэ были сделаны из древесной коры. Деревья с такой корой, судя по величине, едва ли могли расти в этой гавани. Кора держалась на нескольких небольших жердочках, которые составляли остов, расширявшийся в середине. На борту с каждой стороны имелась длинная жердь, на которую кора накручивалась и крепко пришивалась. В каноэ лежали несколько камней и куча земли; на ней дикари постоянно поддерживали огонь. Это было тем более необходимо, что они не старались согреться очень быстрой греблей. Весла были маленькие и плохие. В каждом каноэ сидело по пять-восемь человек, в том числе дети. Но если другие обитатели Южного моря обычно приближались с громкими приветствиями или, во всяком случае, с радостными возгласами, то у этих все совершалось в глубочайшем молчании. Даже у самого корабля, когда мы ожидали, что они обратятся к нам с приветствиями, они произнесли только единственное слово: «Пессерэ!» Туземцы, которых господин Бугенвиль видел в Магеллановом проливе недалеко от нашего теперешнего местопребывания, почти постоянно произносили именно это слово, и потому всему этому народу он дал название «пешерэ»[541].
После многократных знаков с нашей стороны некоторые из прибывших людей поднялись на корабль, не проявив, однако, ни малейшего признака радости; казалось, они совершенно были лишены любопытства. Они небольшого роста, меньше 5 футов 6 дюймов, с большими толстыми головами, широкими лицами, очень приплюснутыми носами и выступающими скулами; глаза карие, но маленькие и тусклые, волосы черные, совершенно прямые, смазанные ворванью и свисающие вокруг головы дикими космами. Вместо бороды на подбородках у них растут лишь жидкие волоски, а от носа к безобразному, постоянно разинутому рту всегда стекает струйка. Сии черты в целом откровенно и красноречиво свидетельствуют о глубокой нужде, в какой проживает это несчастное людское племя. Господин Ходжс очень точно зарисовал две такие характерные физиономии. Плечи и грудь у них широкие и хорошо развитые, нижняя же часть тела очень худая и как бы уменьшенная, так что даже не верилось, что она относится к этой верхней части. Ноги тонкие и кривые, а колени слишком большие.
Вся их жалкая одежда состоит из старой небольшой тюленьей шкуры, укрепляющейся при помощи шнура вокруг шеи. В остальном они совершенно нагие и не обращают ни малейшего внимания на то, что не допускает наша благопристойность и скромность. Цвет кожи у них оливковый с медно-красным оттенком и у многих разнообразился полосами, нанесенными красной и белой охрой. Очевидно, стремление украшать себя — более древнее и глубоко укоренившееся, нежели представления о благопристойности и стыдливости!
Женщины выглядят почти так же, как мужчины, только они меньше ростом, лица же у них не менее безобразны и отвратительны. Одеждой они тоже не отличаются. У некоторых, правда, кроме шкуры, прикрывавшей плечи, имеется еще маленькая тряпица, свисавшая спереди со шнура, повязанного вокруг бедер. Кожаная лента с ракушками украшает шею, а на голове у них нечто вроде убора из нескольких длинных гусиных перьев, торчащих обычно прямо вверх и напоминавших фонтанж[542] прошлого столетия. Лишь единственный мужчина удлинил свою тюленью шкуру, пришив к ней кусочек шкуры гуанако[543] и тем обеспечив себе лучшую защиту от холода. Дети же совершенно голые, они сидят рядом с матерями вокруг костра, горящего в лодке, но тем не менее все время дрожат от холода.
Трудно было услышать от них какое-нибудь другое слово, кроме «пессерэ», а оно звучало иногда ласково, чаще же всего в печальном, жалобном тоне! От поднявшихся на борт мы услышали еще несколько слов, в которых было множество гортанных согласных. Часто слышалось сочетание «чл», характерное в Англии для уроженцев Уэльса; все они сильно шепелявили, и это делало их произношение совершенно непонятным. Стеклянные бусинки и прочие мелочи они приняли с тем же безразличием и равнодушием, с каким отдавали и свое оружие, даже свои ветхие тюленьи шкуры — задаром или за первое, что им предлагали. Вообще характер их представлял странную смесь глупости, безразличия и вялости!
Единственное их оружие — луки и стрелы. Луки очень маленькие, бесформенные и сделаны из барбарисовой древесины[544], а стрелы — из другой породы. Длиной стрелы 2—3 фута, с оперением на одном конце, на другом же конце тупые. Наконечники вставляются, лишь когда стрелу нужно использовать, для чего стрелок носит их при себе в маленьком кожаном мешочке. Ими туземцы дорожили и не захотели нам отдать более одного такого наконечника, представляющего собой плохо обработанный треугольный кусочек сланца. У них есть также копья, но они служат только для рыбной ловли. Древко копья длиной 10 футов и почти одинаковой толщины вверху и внизу. В нижнем конце оно расщеплено, и туда при надобности вставляется, а затем привязывается заостренная кость длиной дюймов 12, снабженная зазубринами. Именно это орудие они употребляют, видимо, как о том рассказано в описании прошлого путешествия капитана Кука, чтобы отколупывать под водой от скал раковины.
Наш язык знаков, помогавший всюду, с этими людьми оказывался бессильным. Жесты, смысл которых понял бы самый простой и темный обитатель какого-нибудь тихоокеанского острова, здесь были недоступны самому смышленому. Точно так же они не проявили ни малейшего желания научить нас своему языку. Поскольку ничто на корабле не возбуждало их любопытства или желания, им было безразлично, понимаем мы их или нет.
Те из наших спутников, которые участвовали в первом кругосветном плавании капитана Кука, в один голос утверждали, что обитатели бухты Саксес-Бей [Буэн-Сусесо] были гораздо толковее этих жалких изгоев. Кто пожелает заглянуть в описание названного плавания, увидит сам, что «пессерэ» в бухте Саксес-Бей можно назвать гораздо более цивилизованными (если это слово вообще здесь применимо), нежели живущих в этой местности. Те были крупнее, у них имелась обувь, дабы защищать ноги от холода, и они, видимо, способны были понять ценность европейских товаров. Держались они более общительно, им не чужды даже понятия о церемониях и вежливости[545]! Наши же были слишком глупы, слишком ленивы или слишком лишены подручных средств, чтобы хотя бы защищаться от холода, заставлявшего их так мучиться. Казалось, они даже не сознавали нашего превосходства и наших преимуществ, ибо ни разу ни малейшим жестом не проявили удивления, какое обычно вызывал корабль и находившиеся на нем диковинные предметы у всех других дикарей! Между тем можно ли найти людей, более близких к зверям и более несчастных, нежели те, кому даже при самых неприятных телесных ощущениях холода и наготы не хватает разума и рассудительности придумать средства, способные от них защитить, кто не умеет связать понятия и хотя бы сравнить собственное жалкое положение со счастливым состоянием других?
И если вспомнить о худшего рода софистике, которая противопоставляет гражданскому устройству преимущества первобытной, дикой жизни, то достаточно указать на беспомощное и плачевное состояние сих пессерэ, дабы убедиться, насколько мы счастливее при своем цивилизованном устройстве! Покуда не может быть доказано, что человек, постоянно подверженный неприятному воздействию суровой погоды, тем не менее счастлив, до тех пор я не соглашусь ни с одним из этих красноречивых философов, которые либо наблюдали человеческую природу не во всех ее проявлениях, либо, во всяком случае, сами не испытали того, что видели[546]. Если бы только сознание великого преимущества, которое даровали нам небеса перед столькими нашими собратьями, использовалось всегда лишь для улучшения нравов и для более строгого выполнения наших моральных обязательств! Но, увы, это не так. Наши цивилизованные народы слишком запятнаны пороками, неведомыми даже несчастному дикарю, который едва отличается от неразумного животного. Какой стыд, что более высокая степень знаний и способности мыслить не привела нас к чему-то лучшему[547]!
Эти несчастные обитатели бесплодных скал едят сырое полупротухшее тюленье мясо, издающее крайне неприятный запах. Больше всего они любят отвратительный жир, напоминающий ворвань, и предлагали его попробовать морякам. Возможно, инстинкт заставляет их есть прогорклый жир, потому что он помогает им лучше переносить холода; недаром все народы, живущие в холодных краях, считают его лакомством. Естественным следствием такого питания был невыносимо тухлый запах, распространявшийся от их тел и пропитавший все, к чему они прикасались. Сие зловоние было до того противно, что мы не могли долго находиться возле них. С закрытыми глазами их можно было почуять еще издалека. Кто знаком с моряками и знает, насколько они вообще-то не брезгливы, едва ли поверит, что из-за этого невыносимого зловония им даже в голову не пришло завести знакомство со здешними женщинами, между тем так оно и было. Матросы дали им солонину и заплесневелые сухари, но они ничуть ими не заинтересовались и даже не попробовали. Подсказывал ли им инстинкт, что эта еда, возможно, еще вреднее для здоровья, нежели их прогорклая тюленина?
Мы не заметили среди них никакого деления на сословия. Весь их образ жизни был ближе к животному, чем у какого-либо другого народа. Мне поэтому представляется весьма вероятным, что они не образуют особого народа, а могут рассматриваться лишь как отдельные, отколовшиеся от соседних племен семьи, которые благодаря жизни в самых пустынных и бесплодных местах Огненной Земли потеряли почти всякие представления, не связанные непосредственно с их насущными потребностями. В поисках пропитания они бродят из одной бухты в другую, и так как эта гавань, очевидно, сообщается с другими, то они зимой избирают для стоянки ту, где пребывание наиболее терпимо.
Наблюдения над температурой на соседних Фолклендских островах, лежащих на той же широте, позволяют предположить, что зимние холода здесь сравнительно не слишком суровы; тем не менее сим бедным, беспомощным созданиям приходится нелегко. Голландские мореплаватели, особенно Якоб л'Эрмите, под командой которого насауский флот плавал в 1624 году в Южном море, утверждают, что индейцы, обитающие на южном побережье Огненной Земли, являются настоящими людоедами, кои убивают друг друга не только из-за голода, но и просто, когда им хочется хорошо поесть[548]. Если сей ужасный обычай где-то имеет место действительно из нужды в пропитании, то он мог возникнуть лишь у малочисленной группы несчастных людей, которые были вытеснены из своей плодородной родины в крайне пустынные уголки земли. Но такое племя не смогло бы просуществовать долго.
Бедные пессерэ покинули нас в полдень и ушли на веслах прочь так же медленно и безмолвно, как и прибыли. Моряки, очень обрадованные тем, что корабль надежно стоял на якоре, уже накануне вечером начали праздновать рождество и продолжали пировать два дня без перерыва. Они до того разошлись, что капитан Кук наконец приказал погрузить большую их часть в шлюпки и высадить на берег, дабы они немного протрезвились на свежем воздухе.
Утром 27-го капитан Кук набрал команду из этих полупьяных матросов и вместе с моим отцом и доктором Спаррманом отправился на тот самый остров, где так удачно поохотился 24-го. Вечером он привез оттуда много гусей и другой птицы, которые были зажарены и оставлены храниться до нашего отплытия.
Тем временем на корабль опять явились туземцы, однако они пробыли у нас недолго, так как из-за их невыносимого запаха мы не могли иметь с ними никаких дел. Они несколько раз повторили свое любимое слово «пессерэ» так жалобно и так протяжно, что нам показалось, они что-то просят, но когда мы решили сие проверить, то не нашли ни малейшего подтверждения этой догадке; их бессмысленные взгляды не выражали ничего, кроме глубочайшей тупости.
Погрузив запас свежей воды и топлива, мы взяли на борт также палатки и утром в 8 часов 28-го отплыли к мысу Горн. Гавань, которую мы теперь покидали, получила название гавань Рождества (Кристмас-Саунд)[549]. Она очень удобна для кораблей, совершающих плавание в Южное море и обратно. Наличие там свежей пищи позволяет рекомендовать ее как хорошее место для якорной стоянки. Здесь много подходящих бухт и деревьев, пригодных если не для плотницких работ, то для топлива. Вода чистая и вкусная, а воздух хотя довольно холодный, но здоровый.
Во время нашей стоянки здесь один морской пехотинец утонул. Когда его хватились, выяснилось, что он захотел справить нужду и в пьяном виде перелез через перила, да и упал в воду. Это был тот самый человек, что однажды уже чуть не утонул близ Ирроманги [Эроманга], а на острове Танна убил туземца. То была четвертая и последняя наша потеря за все время плавания.
После полудня мы проплыли мимо островов Сан-Ильденфонсо; название им, по-видимому, дали испанские мореплаватели. Дальше мы шли, покуда было светло, на восток, а ночью лавировали в разных направлениях. На следующее утро в 6 часов мы покинули мыс Горн, или большой южный скалистый мыс острова, названного в честь его первооткрывателя островом Эрмитэ[550]. Географическое положение этого знаменитого мыса до сих пор всегда указывалось неверно, но теперь на основании, наблюдений, которые произвел капитан Кук во время обоих плаваний, мы смогли точно установить, что он расположен под 55°58' южной широты и 67°46' западной долготы[551]. Покинув, таким образом, окончательно Южное море, мы пошли к проливу Ле-Мер между Огненной Землей и островом Статен [Эстадос]. Вечером мы находились достаточно близко от берега, чтобы заметить, насколько вид Огненной Земли здесь лучше, чем в окрестностях гавани Рождества. Горы тут были не такие крутые, они полого и широко спускались к морю, образуя плоские лесистые выступы. Снега не было совсем, или же он виднелся лишь на самых отдаленных западных отрогах.
На следующее утро мы достигли пролива, но из-за безветрия задержались там на целый день. Прямо перед нами находилась бухта Саксес-Бей, просторные берега ее выглядели такими плодородными и красивыми, что нам хотелось выйти там на берег.
В 2 часа пополудни, во время обеда, капитан Кук послал шлюпку посмотреть, не останавливался ли в этом заливе «Адвенчер» и не оставил ли здесь какого-нибудь известия о себе. Корабль лавировал при очень слабом ветре, дабы не слишком удаляться от шлюпки. Десятка три больших китов и множество тюленей резвились вокруг. Киты плавали по большей части парами — видимо, у них была пора спаривания. Когда они оказывались с надветренной стороны от корабля и выпускали фонтан, каждый раз мы чувствовали невыносимо гнилой и нездоровый запах, который держался три-четыре минуты. Иногда они переворачивались на спину и своими длинными грудными плавниками били по воде, производя звук, напоминавший выстрел из полуфунтовой пушки. Возможно, сия игра породила рассказы моряков о поединках китов с рыбой-молотом. Рыбу-молот обычно представляют в виде длинной рыбы, которая выпрыгивает из воды и наносит киту крепкий удар. Часто сюда примешивают и рыбу-меч, которая якобы пользуется случаем, чтобы вспороть брюхо бедному киту. Поскольку эти рыбы [киты] находились близко от нас, мы могли при повторявшемся движении плавников ясно видеть, что внутренняя их сторона белого цвета, как само брюхо, а остальная часть черная. У одного, кружившего менее чем в 200 футах от корабля, мы увидели на брюхе несколько продольных складок или бороздок; по этому признаку можно было установить, что он принадлежит к семейству, которое кавалер Линней называет Balaena Boops. Несмотря на их величину — длина их бывает не менее 40 футов, а в поперечнике 10 футов,— они иногда совсем выпрыгивают из воды, а затем с сильным шумом падают обратно, так что вода вокруг них пенится. Поразительная сила, потребная, чтобы эти громадные животные могли подняться из воды, равно как и прочие удивительные особенности их устройства, дает богатую пищу для исследования.
В 6 часов вечера вернулась посланная в бухту Саксес-Бей шлюпка. Лейтенант рассказал, что до самой бухты за ним следовало множество тюленей, а в бухте было так много китов, что шлюпка едва не натыкалась на них. В месте, где капитан Кук набирал воду во время своего первого кругосветного плавания, не оказалось ни малейшего признака недавнего пребывания здесь какого-либо европейского судна. Выйдя на берег, лейтенант встретил нескольких жителей, одетых в шкуры гуанако и длинные плащи из тюленьих шкур. Они держались вполне дружелюбно, а на вид были гораздо оживленнее и довольнее тех несчастных, что мы встретили в гавани Рождества. У некоторых имелись даже браслеты из тростника, оплетенные серебряной проволокой, и они часто показывали на них, произнося слово «пессерэ». На все, что предлагали им наши люди, они смотрели равнодушно и без всякой жадности. Браслеты они, должно быть, получили либо от проплывавших здесь испанцев, либо через чужие руки от племен, живших дальше к северу. Наши люди пробыли с ними не более 2—3 минут, а затем сели опять в шлюпку, поскольку им надо было возвращаться на борт.
Мы же продолжили свой путь через пролив Ле-Мер и на следующее утро прошли вдоль берегов Земли Статен, окутанной густым туманом. Днем погода прояснилась, так что мы смогли разглядеть землю отчетливее. Она весьма напоминала западное побережье Огненной Земли, во всяком случае скалистые горы были так же круты и бесплодны, но не так высоки и потому меньше покрыты снегом. В отдалении от берега лежало несколько островов, поднимавшихся над водой футов на 90 и, похоже, до самого верха поросших травой. Всюду было множество тюленей, и, так как их жир годится вместо ворвани, капитан Кук решил стать на якорь, дабы запастись этим жиром. Патер Фейе к описанию своего путешествия приложил карту этих островов, которую мы, однако, нашли весьма неточной[552]. Пройдя между этими островами и Землей Статен, мы обнаружили на последней хорошую гавань. Однако капитан не решался в нее войти, опасаясь, что будет заперт там встречным ветром. Более надежным показалось ему стать с подветренной стороны возле одного из низких островов. Поскольку по морскому счислению в полдень закончилось 31 декабря, мы назвали эту островную группу Новогодними островами (Нью-Ийрс), а гавань на Земле Статен — Новогодней гаванью (Нью-Ийрс-Харбор).
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Стоянка на Новогодних островах.— Открытие новых земель на юге.— Возвращение на мыс Доброй Надежды
Сразу после обеда мы сели в шлюпки и поплыли к острову, находившемуся в миле от корабля. Скалы вдоль берега были сплошь усыпаны бесчисленным множеством тюленей. Среди них были животные с длинными косматыми гривами, получившие название морских львов[553] задолго до тех гладких животных, которых назвал так лорд Ансон на острове Хуан Фернандес. Именно здешнему виду дали это название более старые мореплаватели, коих сейчас мало читают[554]. Для охоты на морских львов мы облюбовали бухту, укрытую скалами от морских волн, и скоро убедились, что эти животные были на вид свирепее, чем на самом деле. При первых же выстрелах они бросились в воду и попытались спастись бегством. Лишь самые крупные и беспомощные остались на месте; не переставая реветь, они приняли свою смерть. Ливень на время охладил наш пыл, но, как только прояснело, охота разгорелась заново, и мы добыли много отменно жирных морских львов. Матросы расправлялись с ними легко, они просто били их палками по голове, тащили в шлюпки и везли на корабль, где из жира варилась ворвань. Старые львы были почти все на редкость жирны и длиной 10—12 английских футов. Львицы были постройнее и в длину имели 6—8 футов. Самые крупные морские львы весили от 1200 до 1500 фунтов; один, средней величины, без шкуры, внутренностей и жира, потянул на 550 фунтов.
Голова у самцов действительно имеет сходство со львиной и цветом почти такая же, только немного темнее. Длинные щетинистые волосы вокруг шеи и на затылке совершенно напоминают гриву настоящего льва; они грубые и жесткие. Все остальное туловище покрыто короткими плотными волосами, образующими красивый, ровный, блестящий мех. Львица отличается от льва тем, что у нее все туловище гладкое. Что же касается ног, или, скорее, ласт, то они у тех и у других совершенно одинаковые. Ласты на груди представляют собой просто большие куски черной крепкой кожи, как бы с несколькими почти незаметными наростами вместо когтей. Задние ласты больше похожи на лапы, они тоже черные, кожистые, но разделены на пять длинных долей, на каждой из которых есть по маленькому коготку. Хотя когти сравнительно невелики, животные могут чесать ими все тело, что мы неоднократно наблюдали. Хвост очень короткий и прячется между двумя близко расположенными задними ластами. Задняя часть тела, или кострец, особенно велика, закруглена и словно бы налита жиром.
В зависимости от возраста и пола они издают разные звуки, иногда такие пронзительные, что у нас звенело в ушах. Старые самцы фырчат и рычат, как львы или дикие буйволы, самки мычат, как телята, а детеныши, коих на берегу было множество, блеют, как ягнята. Как раз был сезон, когда они появляются на свет. Одной львице пришлось особенно худо: она окотилась в тот самый миг, когда матрос ударил ее дубиной по голове.
Живут они большими стадами. Лишь самые старые и жирные самцы лежат особняком; каждый облюбовывает себе какой-нибудь большой камень, к которому не может уже приблизиться никто другой, если не желает кровавой драки. Я часто видел, как в подобных случаях они набрасывались друг на друга с неописуемой яростью и грызлись жестоко. Несомненно, по этой причине на спинах у многих были глубокие шрамы. Морские львы помоложе и порезвее лежали мирно вместе с самками и детенышами. Во время охоты они обычно дожидались первого выстрела; лишь когда некоторые уже были убиты, другие в сильнейшем замешательстве обращались в бегство. Иные самки уносили своих детенышей в зубах, а более перепуганные бросали их. Если им казалось, что их никто не видит, они нежнейшим образом ласкались, и морды их соприкасались, как будто в поцелуе.
Профессор Стеллер встречал этих животных на острове Беринга, вблизи Камчатки, где он потерпел кораблекрушение, и его описания, первые и наилучшие из всех существующих на эту тему, совершенно совпали с нашими[555]. Пернети также упоминает их в книге о своем путешествии на Фолклендские острова, однако гравюра на меди, которая к ней приложена, как и остальные его рисунки и большинство описаний, относящихся к сей теме, совершенно не соответствует действительности[556]. Господин Бугенвиль также встречал их во время своего кругосветного путешествия.
В этих безлюдных местах они выходят на берег, дабы произвести потомство, и все время, пока находятся на суше, ничего не едят, хоть это и длится порой несколько недель. Вместо еды они глотают камни, чтобы хоть чем-то заполнить желудок, и, конечно, успевают сильно исхудать. У некоторых желудок оказался совершенно пустым, у других же — заполнен десятком или дюжиной круглых тяжелых камней, каждый величиной с пару кулаков[557].
Когда на берегу не осталось ни одного морского льва, мы поднялись на верхнюю равнину, которая вся была словно усеяна маленькими холмиками, точно поле, полное кротовьих кучек. На каждом из этих холмиков распустился большой толстый пучок травы (Dactylis). Углубления или промежутки между холмиками были полны испражнений, так что нам приходилось все время перепрыгивать с кочки на кочку. Здесь устроила лежбище другая разновидность тюленей; несомненно, это они, выходя из моря, так испоганили всю землю. Это были собственно морские котики, подобные тем, что мы уже встречали в бухте Даски, хотя там их было не так много и они были не столь крупные. То, что говорит о них Стеллер, вполне соответствует действительности. Они несколько мельче морских львов. Самцы редко бывают больше 8—10 футов в длину и сравнительно толстые. Мех темно-коричневый, чуть-чуть с серым и гораздо длиннее, чем у морских львов; однако гривы у них нет. В основном же очертания туловища и вид ласт у тех и у других одинаковы. Они ведут себя гораздо более свирепо, нежели морские львы; особенно проявляют готовность защищать своих детенышей самки; и они скорее погибнут с ними, чем их покинут[558].
На острове водилось также много грифов (Valtur aura), которых матросы называли воронами-стервятниками и которые, вероятно, питались погибшими или похищенными детенышами морских котиков и морских львов. Встречались здесь и ястребы, а также того же вида гуси, что так пришлись нам по вкусу в гавани Кристмас-Саунд. Наконец, там были и пингвины неизвестного нам до сих пор вида, серые буревестники величиной с альбатросов, которых испанцы называют кебрантауэсос, то есть костоломы, и бакланы[559].
Новый год начался свежим ветром и холодным воздухом при ясном, солнечном дне. Дабы не оставить совсем неизученной соседнюю Новогоднюю гавань, была послана шлюпка зарисовать план берега и измерить глубину в месте якорной стоянки. Мы с удовольствием отправились бы с ними, но лейтенант Пикерсгилл, командовавший шлюпкой, получил приказ не выходить на берег; поэтому мы предпочли составить компанию капитану, который еще раз поехал к соседнему острову. Земля там состояла из желтой глинистой породы, а в других местах — из серого сланца; твердость у них была разная. На складах, несмотря на понесенный накануне урон, опять лежали целые стада морских котиков и морских львов. На сей раз мы их, однако, не стали трогать, так как на охоту была послана другая группа. Странно, что, хотя оба эти вида находятся в близком родстве, они никогда не смешиваются, но всегда держатся друг от друга обособленно. Сильный запах позволяет чуять их, как и прочих тюленей, уже издалека. Это их свойство, равно как и их леность и сонливость в пору, когда они находятся на суше, была известна еще во времена Гомера:
...Тюлени хвостоногие, дети младой Алосинды, Стаей ложатся и спят, и, покрытые тиной соленой, Смрад отвратительный моря на всю изливают окрестность. Гомер[560]Продвигаясь вдоль берега, мы достигли места, где на уже упоминавшихся маленьких земляных кочках, поросших травой, гнездились многие тысячи бакланов. Мы не могли упустить случая обеспечить обедом всю команду. Птицы настолько еще были незнакомы с человеком, что матросы за короткое время убили дубинками несколько сот штук. Мы при этом обнаружили одну птицу совершенно нового вида. Она принадлежала к семейству прибрежных водяных птиц, пальцы у нее были наполовину соединены подобием перепонки, а глаза у основания клюва окружены белыми железами, или сосками. Мы решили, что она хороша на вкус, однако мясо издавало невыносимую вонь, так что никто не осмелился попробовать, хотя мы тогда были отнюдь не привередливы.
Капитан Кук определил широту на восточной оконечности острова, состоявшего из голых скал и сплошь усеянного полчищами тюленей, чаек, бакланов и т. д. Пообедав на корабле, мы опять отправились на берег поохотиться. Случай подарил нам несколько гусей, один из которых был нового вида, и целой стае пингвинов, коих мы встретили, пришлось не лучше, чем бакланам до обеда. Величиной они напоминали гусей, в остальном же были того вида, который часто встречается в окрестностях Магелланова пролива; на Фолклендских островах англичане прозвали их «Джек-скакун». Они необычайно крепко спят. На одного из них как-то наткнулся господин Спаррман и оттащил на несколько шагов; несмотря на столь невежливое обращение, тот даже не проснулся — для этого пришлось его еще основательно встряхнуть. Если напасть на целую группу, они пробуют защищаться, начинают прыгать и кусать людей за ноги. Вообще они очень живучи; так, многие пингвины, которых мы оставили лежать, сочтя мертвыми, встали, прежде чем мы успели оглянуться, и весьма чинно заковыляли прочь[561]. Морских котиков и морских львов тоже непросто было убить с первого удара, но у них был крайне чувствительный кончик носа, удара по которому они не выносили.
С одним старым морским котиком доктору Спаррману и мне чуть было не пришлось туго. Он лежал на скале среди нескольких сотен других, которые, казалось, лишь дожидались исхода нашей стычки. Случилось так, что господин Спаррман подстрелил птицу, но, когда захотел ее поднять, старый котик, мимо которого ему надо было пройти, начал рычать и как будто приготовился на него напасть. Увидев это, я тотчас вскинул ружье и, как только он разинул на меня пасть, уложил великана наповал. Все стадо, едва увидев, что их первый боец упал, убежало в море. Некоторые так спешили, что сначала 30—40 футов просто падали на острые скалы, но как будто не причинили себе никакого вреда; вероятно, толстая, прочная шкура и жир способны были смягчить столь сильные удары и достаточно их защищали.
Насколько матросам доставляла удовольствие охота на этих морских зверей, настолько нам, натуралистам, приятно было наблюдать за ними и изучать особенности сих общительных животных! Они находились здесь в естественном для них климате и не ощущали суровой погоды, ибо морские котики и львы были хорошо защищены от нее жиром, а бакланы и пингвины — плотным оперением.
Теперь капитан достиг своей цели, он набрал достаточный запас жира, который постепенно весь был выварен и помещен в бочки. За сие приобретение нам пришлось, однако, расплачиваться ужасным тухлым запахом, который чувствовался на всем корабле еще несколько дней после нашего отплытия с Новогодних островов. Вечером вернулись наши люди из Новогодней гавани, расположенной на Земле Статен [Эстадос]. Она показалась им весьма удобной и надежной. Они принесли несколько чаек, около пяти уток с короткими крыльями, так называемых рысаков. Каждая такая утка весила 16 фунтов, но мясо их издавало такой отвратительный запах, что есть их было невозможно.
2 января, как и 1-е, мы провели в различных исследованиях на берегу. Хотя остров сей невелик, он так богат птицами, что мы и в этот раз встретили несколько новых видов, в том числе очень красивого серого кроншнепа с желтой шеей[562].
Растениями остров был гораздо беднее. Вся его флора, включая несколько мелких, 3 футов высотой, кустарников, составляла не более восьми видов, и лишь один среди них был новым. Почти весь остров зарос кустистой травой (Dactylis).
Вечером мы подняли на борт шлюпки и на следующее утро, в 3 часа, обогнув северо-восточный выступ Земли Статен, который патер Фейе назвал мысом Св. Иоанна [Сент-Джон], вышли в открытое море. Во время стоянки у Новогодних островов мы заметили, что здесь необычайно сильное течение; скорость его достигает 4—5 английских миль в час. В этом нет ничего удивительного, поскольку в Магеллановом проливе и у южных берегов Америки течения вообще быстрые.
Новогодние острова, от которых мы теперь удалялись, лежат под 54°46' южной широты и 64°30' западной долготы. Самый большой из них, возле которого мы стояли на якоре, и тот, что расположен рядом с ним к западу, примерно такой же величины и имеют в окружности 3—4 морские мили. Мы можем рекомендовать их мореплавателям как лучшие места для отдыха, какие только можно найти в этих краях. Конечно, мясо пингвинов и тюленей отнюдь не лакомство, но и то и другое, бесспорно, более полезная для здоровья пища, нежели обычная солонина. Кроме того, во время прогулок мы встречали здесь сельдерей и ложечницу, а поскольку островов тут много, на каком-нибудь из них всегда найдется в достатке этих трав, чтобы готовить из них для команды очищающие кровь супы. Птицы здесь так много, что в иные дни наши матросы ели только мясо молодых пингвинов и бакланов; последнее, по их словам, на вкус почти не отличается от курятины. Морскими котиками тоже пренебрегать не следует. Правда, у совсем молодых мясо дрябловатое и потому неприятное. Но у взрослых оно вкуснее, примерно такое, как говядина, хоть и не самая лучшая; зато мясо совсем старых котиков и львов вообще нельзя было есть по причине отвратительного запаха.
До самой темноты мы шли мимо восточного и южного побережий Земли Статен, затем взяли курс на ост-зюйд-ост, предприняв новую, третью в этом полушарии попытку продвинуться к югу. Ветер скоро так усилился, что сломал нам большую брам-стеньгу, но, поскольку он был попутный, мы не обратили на эту поломку внимания.
5-го вокруг солнца появился круг, или ореол, довольно большой в диаметре. Внутреннее поле было темнее, ободок ярче; и по самой крайней линии со слабым радужным оттенком. Матросы сочли это явление предвестником скорого шторма, однако ветер еще несколько дней оставался умеренным — новое доказательство, что подобным приметам не всегда следует верить.
Самые новейшие составленные в Англии и Франции карты указывают между 40° и 53° западной долготы и 54° и 58° южной широты большой берег. Он изображен на карте Ортелия 1586 года и даже на карте Меркатора 1569 года. Название Golfo de San Sebastiano (залив Св. Себастьяна), которое приведено на упомянутых картах, видимо, свидетельствует, что открыли его испанцы. (Здесь можно обратиться к Memoir of a Chart of the Southern Ocean господина Дальримпля и приложенным к нему картам. Это образцы великолепного энтузиазма, с каким сей ученый трудился в области географии.) Мы прошли часть местности, где должен был бы находиться западный берег этого залива, но нигде не встретили никакой земли. Капитан Фюрно в минувшем году по пути к мысу Доброй Надежды тоже пересек весь район предполагаемого залива, сначала на широте 60°, затем 58°, между 60° и 40° западной долготы, но тоже не увидел никакой земли. Так что либо этого залива никогда не существовало, либо его местоположение, во всяком случае, указано неверно; последнее представляется мне более вероятным, ибо с чего стали бы придумывать такие вещи[563]?
Пройдя за 58° и не встретив льда, мы 6-го вечером переменили курс и направились к северо-западу. В отношении льдов год на год не приходится; так, в 1700 году, как раз в это же время года, доктор Галлей[564] встретил обширные льды под 52°. 8-го выпала обильная вечерняя роса — верный признак близости, земли, и матросы такое предположение сочли тем более вероятным, что со времени нашего отплытия от Земли Статен мы часто видели буревестников, альбатросов и тюленей. Дойдя до 54° широты, мы опять переменили курс и снова пошли к востоку, дабы найти землю, которую обнаружил господин Дюкло Гийо, возвращаясь из Перу в феврале 1756 года на испанском корабле «Леон»; названный мореплаватель вышел из Кальяо и в середине зимы миновал мыс Горн[565].
По-прежнему попадались морские птицы, а иногда и пингвины и водоросли, когда 14-го офицер, несший утром вахту, доложил капитану, что вдали показался ледяной остров. Мы весь день плыли к нему, но вечером увидели, что приняли за лед настоящую землю, причём весьма высокую и почти, всю покрытую снегом. Судя по всему, это был тот самый остров, который мы искали и который господин Гийо назвал островом Св. Петра; южную оконечность его сей мореплаватель открыл в июне 1756 года. В его дневнике указана долгота 38° 10' к западу от Гринвича; это точно совпадает с нашими наблюдениями, произведенными на северо-западной оконечности. Юго-восточная оконечность, по нашим измерениям, находилась лишь в 30—40 милях западнее. Несмотря на столь полное совпадение, иные из наших спутников все еще не желали видеть в острове Гийо ничего, кроме массы льда.
Следующий день был такой туманный, что остров совсем пропал из виду, при этом было очень ветрено и холодно. Термометр показывал 34 1/2°[1,4°С], и на палубе лежал глубокий снег. Рано утром 16-го погода опять прояснилась, и мы снова увидели землю. Горы были на удивление высокие и, кроме нескольких черных голых утесов, а также нависавших над морем скал с пещерами, все до самой кромки берега покрыты снегом и льдом. Недалеко от южной оконечности находилось несколько низких островов, похожих на Новогодние и как будто поросших зеленью, почему мы и назвали их Зелеными островами [Грин-Айлендс]. Поскольку главной задачей нашего плавания было исследовать море в высоких южных широтах, мой отец предложил капитану назвать эту землю именем монарха, чьим повелением было предпринято исключительно для блага науки сие плавание, дабы это имя славилось среди потомков в обоих полушариях:
— Tua soctus orbis Nomina ducet! Horatius[566]Это было встречено рукоплесканиями, и земля была названа Южной Георгией. Честь носить такое имя возмещала недостаток плодородия и суровость вида.
После полудня мы увидели у северной оконечности Южной Георгии два скалистых острова, удаленных друг от друга примерно на морскую милю и имевших крайне пустынный и бесплодный вид. Тем не менее мы подплыли к ним я в 5 часов прошли между обоими. Северный остров состоял из крутых, почти отвесных скал, где гнездились тысячи бакланов. Он расположен под 54° южной широты и 38°25' западной долготы. Мы назвали его островом Уиллис[567]. Южный был с запада не такой отвесный, но круто спускался к морю; в этом месте на нем росла трава и собралось множество птиц разных видов — от крупных альбатросов до самых маленьких выпорхов. Этот остров получил название Птичьего [Берд-Айленд].
Вокруг корабля кружились большие стаи бакланов, пингвинов, ныряющих буревестников и других птиц. Иногда они опускались на воду и вообще в этих студеных краях чувствовали себя как дома. Мы видели также много морских свиней и тюленей; последние, должно быть, посещали сей пустынный берег, дабы произвести здесь потомство.
Пока не стемнело, мы продолжали свой путь вдоль северо-восточного берега, но с наступлением ночи легли в дрейф и лишь в 3 часа утра снова подняли паруса. Земля имела вид чрезвычайно суровый и пустынный. Горы такие крутые, отвесные, каких мы не видели еще нигде; вершины зубчатые, а промежутки между ними заполнены снегом. Через несколько часов мы миновали залив, где находилось много мелких зеленых островов, поэтому мы назвали его Залив Островов [Бей-оф-Айлс]. Вскоре показался другой залив, к которому мы тотчас направились, тем более что в 2—3 милях от берега всюду удавалось найти дно.
В 9 часов капитан приказал спустить в море шлюпку и вместе с одним мидшипменом, моим отцом, доктором Спаррманом и мной отправился в залив. В устье даже самые крупные суда могут не опасаться сесть на мель, так как лот на 34 саженях не доставал там дна. Внутри залива мы нашли массу твердого, плотного льда, подобного тому, что встречается в бухтах Шпицбергена[568]. Эти ледяные глыбы имели большое сходство с плавучими островами, которых так много в высоких южных широтах. Берег у самого моря был свободен от снега, но совершенно пустынный и бесплодный, во многих местах отвесный.
Между тем мы обнаружили длинный мыс, где можно было причалить шлюпку, не опасаясь волн. Тут мы и высадились. Берег был очень каменистый, полон тюленей, среди которых лежал зверь невиданной величины. Издалека мы приняли его за кусок скалы, а когда подошли поближе, оказалось, что это ансоновский морской лев. Он как раз спал, и наш юный мидшипмен без труда смог пустить пулю ему в голову. Неподалеку лежал еще один такой же зверь, но помоложе, туловище у него было темно-серое с оливковым отливом, как у тюленей в Северном полушарии; они похожи также и тем, что передние конечности у них меньше напоминают ласты, чем задние, а на голове нет внешних, признаков ушей. Конец носа далеко выступает над пастью и покрыт морщинистой кожей, которая, видимо, раздувается, когда животное сердится. В некоторых случаях она, возможно, принимает вид своеобразного гребня, как это показано на гравюре в описании путешествия Ансона. Животное, у которого мы все это наблюдали, было 30 футов в длину, но не такое массивное, как гривастый морской лев на Земле Статен[569].
В этих же местах нам встретилась группа более чем в два десятка необычайно крупных пингвинов. Они весили не меньше 40 фунтов при длине 39 английских дюймов; большое брюхо было словно налито жиром. С каждой стороны головы у них имелось по овальному пятну лимонно-желтого цвета с черной каемкой. Вся верхняя часть туловища была покрыта черными перьями, но внизу, спереди и даже под лапами оперение было белое как снег. Эти птицы до того были не пугливы, что вначале даже не убегали от нас, хотя мы одного за другим валили на землю ударами палки. Когда мы вернулись на борт, выяснилось, что этот вид уже был описан Пеннантом в «Философских трудах» под именем патагонского пингвина; вероятно, этот же самый вид на Фолклендских островах называется желтый, или королевский, пингвин[570].
Здешние тюлени были куда свирепее, чем на Новогодних островах. Они не только не убегали; напротив, даже самые маленькие детеныши начинали реветь на нас и преследовали, стараясь укусить. Все это были так называемые морские котики, но ни одного морского льва с гривой мы тут не встретили.
Чтобы получше осмотреться, мы поднялись на небольшой, в 24 фута высотой, холм, на котором росли два вида трав: столь распространенный на Новогодних островах Dactytis и Ancistrum. Капитан Кук приказал водрузить здесь британский флаг и с положенной торжественностью провозгласил сии бесплодные скалы владениями его великобританского величества. Два-три ружейных выстрела закрепили церемонию. Скалы откликнулись эхом, а тюлени и пингвины, обитатели сих новых владений, затрепетали от страха и изумления! Так вставляют в корону простую гальку вместо выпавшего драгоценного камня[571].
Скалы здесь состояли из голубовато-серого сланца, залегавшего горизонтальными слоями, но у берега разрушенного. Насколько мы могли исследовать эту породу, в ней не содержалось никаких других минералов, так что и с этой точки зрения земля не способна была принести никакой пользы; словом, ее можно назвать во всех отношениях пустынной и дикой. Пробыв здесь немного, мы с добытыми тюленями, пингвинами и бакланами возвратились на корабль. Залив получил название бухта Позешн-Бей; расположена она под 54° 15' южной широты и под 37° 15' западной долготы. Находясь здесь, мы видели, как отсюда в море выносило небольшие глыбы льда, и слышали сильный треск более крупных масс, которые, видно, раскалывались в глубине бухты.
Два следующих дня мы продолжали плавать вдоль берегов и открыли ряд заливов и мысов, получивших названия в следующем порядке: бухта Камберленд, мыс Георга, бухта Ройял-Бей, мыс Шарлотты и бухта Сандвич. Земля всюду выглядела одинаково, горы в южной части были очень высокие, и вершины делились на множество длинных скалистых пиков, напоминавших языки пламени. Господин Ходжс совершенно мастерски зарисовал сей пейзаж!
19-го мы достигли юго-восточной оконечности Южной Георгии и определили, что длина острова от 50 до 60 морских миль. Недалеко от этой оконечности, под 54°52' южной широты и 35°50' западной долготы находился утес, названный нами островом Купера[572]. Вскоре в 14 морских милях дальше к юго-востоку мы обнаружили еще одну землю, величину которой трудно было определить.
Утром 20-го мы прошли вдоль южной оконечности Георгии, покуда снова не увидели открытые 16-го Зеленые острова, и поплыли в сторону новой земли. Уже четыре дня погода стояла очень ясная и благоприятствовала открытиям; ветер был умеренный и не холодный. Однако едва мы отошли от берега, как начался туман, дождь и такой сильный ветер, что нам пришлось убрать верхние паруса. К счастью, шторм длился недолго, и к полуночи ветер стих. Новую землю, к которой мы плыли, закрывал туман, и мы из осторожности три дня лавировали.
Ненастная погода с ветром держалась и 23-го, так что для безопасности мы плыли в сторону моря, когда в 11 часов лейтенант Клерк вдруг заметил прибой едва в полумиле перед кораблем. Одновременно он увидел бакланов, которые редко заплывают дальше чем на полмили от берега. Лишь тут мы обнаружили, что в тумане незаметно обогнули землю и нам грозило кораблекрушение. В этот самый миг корабль как раз повернул от берега, в чем мы увидели хранившую нас руку провидения, тем более что туман все еще держался и ветер утих.
К вечеру погода наконец прояснилась, снова хорошо стало видно и Южную Георгию, и ту землю, которую мы обогнули. Это был небольшой остров, но окруженный множеством одиноких скал. Всю группу этих опасных скал мы назвали скалами Клерка, по имени того, кто их обнаружил. Они лежат под 55° южной широты и 34°50' западной долготы. Утром 25-го мы поплыли на восток, а затем немного южнее, чтобы наконец продвинуться на юг, прежде чем вернуться в более умеренные широты.
Считается, что всякая суша, даже самая пустынная и дикая, может служить местом пребывания человека. Покуда мы не побывали на острове [Южная] Георгия, мы ничего не могли возразить против сего мнения, ибо даже ледяные берега Огненной Земли заселены племенем людей, которые хоть чем-то, пусть и не очень сильно, превосходят неразумных животных. Однако по сравнению с Южной Георгией климат Огненной Земли можно назвать мягким, во всяком случае термометр показал разницу в 10°. К тому же там можно найти достаточно дров и кустарника, чтобы при надобности защититься от суровой погоды, обогреть себя и приготовить пищу. В Новой Георгии же совершенно нет ни деревьев, ни какого-либо другого топлива, поэтому мне представляется невозможным, чтобы люди, и не только глупые, отупевшие пессерэ, но даже самые опытные, располагающие необходимыми средствами европейцы, смогли бы там долго выдержать. Даже летом на этом острове столь ужасающе холодно, что термометр, пока мы там находились, не поднимался выше десяти делений над точкой замерзания; можно, конечно, предположить, что зимой холод здесь усиливается не в такой степени, как в нашем полушарии, но все равно разница должна составить не меньше 20—30°. Так что человек здесь может выдержать разве что летом, но зимняя стужа, если не иметь никаких средств от нее защищаться, кроме тех, что предоставляет эта земля, оказалась бы для него, без сомнения, гибельной.
Мало того, что Южная Георгия не приспособлена для жизни и по этой причине необитаема; она, видимо, и не производит ничего, способного побудить европейские корабли хоть изредка заходить туда. Морских котиков и львов, чья ворвань является предметом торговли, гораздо больше у диких берегов Южной Америки, на Фолклендских и Новогодних островах, и во всех этих местах добыча сопряжена с меньшими опасностями. Если киты нашего Северного Ледовитого океана в результате непрекращающейся охоты окажутся совершенно истреблены, то наступит время искать их в другом полушарии, где их, как известно, много. Но и с этой точки зрения бесполезно будет устремляться к Южной Георгии, покуда их можно встретить в таком большом количестве у берегов Южной Америки вплоть до Фолклендских островов. Португальцы и даже североамериканцы уже несколько лет заходят в эти места для охоты на китов. Так что если Южная Георгия когда-нибудь и понадобится роду человеческому, то сие будет еще не очень скоро, во всяком случае не раньше, чем Патагония и Огненная Земля окажутся столь густо заселены и цивилизованы, как сейчас в Северном полушарии Шотландия или Швеция.
26-го при свежем ветре и довольно ясной для здешних мест погоде мы поплыли на юг. Последние пингвины, которых мы добыли на Южной Георгии, были уже съедены, и нам пришлось опять приняться за всегдашнюю солонину. Однако мысль о скором возвращении на мыс Доброй Надежды во многом скрашивала сии тяготы. 27-го в полдень мы находились под 59 1/2° южной широты и видели много глупышей (Рrоcellaria glacialis), которые в этих высоких широтах обычно являются предвестниками льда. И действительно, между 6 и 7 часами мы встретили несколько ледяных островов и много битого льда. Туманная, сырая погода в этот день помешала нам продвигаться на юг так же прямо, как до сих пор.
На другое утро мы оказались окружены большой массой льда, после полудня натолкнулись на несколько прочных ледяных полей и на массу битого льда, что, к искренней радости всех, заставило нас повернуть обратно. Команда в самом деле была по горло сыта этим суровым климатом: необходимость быть все время настороже, напряжение и работа, потребные, чтобы избегать многочисленных и порой внезапных опасностей,— все это невероятно измотало и изнурило людей. Мы прошли всего несколько миль за 60° южной широты и опять, насколько позволяли ветер, туман и льды, постепенно начали забирать к северу. У многих матросов от постоянного переохлаждения начались ревматические боли. Другие иногда надолго теряли сознание; да и как могло быть иначе, если при столь нездоровой и непитательной пище расход жизненных сил не восполнялся в должной мере? Термометр в этом месте показывал 35° [1,7°C]; такой холод наряду со снежной крупой и влажным, туманным воздухом сильно задерживал выздоровление больных.
Поскольку мы теперь опять продвигались на север, можно было надеяться впереди на более мягкий климат; во всяком случае, никому не приходило на ум, что новые заминки подвергнут испытанию наше терпение. Однако должно было случиться так, что мы опять ошиблись в своих расчетах. На сей раз мы встретили еще одну заледенелую землю.
Dark and wild, beat with perpetual storms Of whirlwind and dire hail; which on firm land Thaws not, but gathers heap, and ruin seems Of ancient pile. Milton[573]Это открытие было сделано 31 января, в 7 часов утра, при таком тумане, когда видно не далее чем на 5 миль в окружности. Мы шли к берегу около часа, покуда не оказались в полумиле от скал. Они были черные, со множеством пещер, при этом отвесны и удивительно высоки. Наверху обитало много бакланов, а у подножия бушевали волны. Плотные облака покрывали вершины, лишь один могучий, покрытый плотным снегом пик выдавался высоко из облаков. На вид он казался не меньше 2 миль в высоту. Недалеко от берега лот показал 170 саженей глубины. Затем мы повернули на юг, дабы обогнуть западную оконечность новооткрытой земли. Мы прошли в этом направлении не более часа, когда примерно в 5 морских милях на зюйд-зюйд-ост увидели высокую гору, мимо которой, видимо, прошли прошлой ночью. Поскольку это была самая южная здесь оконечность земли, мой отец назвал ее Южной Туле, и капитан Кук утвердил сие название[574]. Она расположена под 59°30 южной широты и 27°30' западной долготы.
В час пополудни мы еще раз повернули корабль и поплыли на север вокруг мыса, который открыли первым. Теперь ясно было видно стоящую особняком скалу вблизи большого мыса. Матрос-немец по имени Фризлебен первым увидел эту скалу, поэтому капитан Кук назвал ее пиком Фризленд. Она расположена под 58°55' южной широты и 27° западной долготы. Соседний мыс получил название мыс Бристоль[575]; он, видимо, связан с Южной Туле. Дальше к востоку мы увидели нечто напоминавшее просторную бухту, похоже было, что в сушу там глубоко вдавался залив; капитан Кук обозначил его на своей карте как залив Форстера.
Капитан Кук не хотел терять времени на более тщательное исследование этого берега, поскольку, если бы подул западный ветер, корабль подвергся бы здесь немалой опасности. Он предпочел поэтому обойти северное побережье острова, как во всех отношениях более важное для мореплавателей. Ветер дул слабый, мы держались в 2—3 морских милях от берега, который всюду был крутым и неприступным. Горы были на редкость высокие, вершины их все время покрыты облаками, а нижняя часть — снегом, так что даже трудно было бы решить, лед перед нами или суша, если бы мы не видели наклонных пещер в скалах, нависавших над самым морем.
На другое утро мы прошли мимо еще одного мыса, который капитан Кук назвал мысом Монтегю[576]. Между ним и мысом Бристоль, судя по всему, лежал залив, но оба они принадлежали к одному острову. Дальше к северу мы заметили еще один мыс, но, когда подошли поближе, оказалось, что это отдельный остров. Его назвали островом Саундерс[577].
Он был ниже, чем гористый берег на юге, и тоже покрыт льдом и снегом. Находится он под 57°48' южной широты и 26°35' западной долготы.
Ночь была безветренной, а на рассвете мы поплыли на восток, чтобы обойти остров Саундерс. По пути к северу от себя мы обнаружили два маленьких острова, которые в честь дня, когда они были открыты, получили название Кандлмас (Сретенья). Встречный ветер не давал их обойти, и нам пришлось лавировать. В ходе этих маневров мы подошли так близко к берегу, что на одной плоской вершине, которая выдавалась далеко в море, различили большое нагромождение сланцевых глыб, а за ними островерхие скалы и горные хребты. Вообще земля имела вид самый пустынный и устрашающий, какой только можно вообразить. Не было ни следа зелени и даже бесформенных амфибий, каких мы встречали на Южной Георгии. Поневоле вспоминались слова Плиния:
Pars mundi damnata a rerum natura, et densa mersa caligine[578].
На следующий день ветер позволил нам подойти поближе к островам Сретенья; расположены они под 57° 10' южной широты и 27°6' западной долготы. Поскольку лежащей к югу земли, северную оконечность которой мы обогнули, больше не было видно, мы опять повернули на восток. Первоначально капитан Кук дал ей имя Снежная, но затем передумал и назвал ее Землей Сандвича. Я склонен полагать, что именно эту землю старые мореплаватели знали под именем залив Св. Себастьяна и остров Крессалина. Пока осталось неизвестным, составляют ли западные мысы, [Южная] Туле, мыс Бристоль и мыс Монтегю, единую землю или представляют собой обособленные острова. Возможно, это останется неизвестным и в ближайшие столетия, поскольку мореплавание в сих пустынных областях не только опасно, но и не сулит никаких выгод роду человеческому[579].
Целью нашего опасного плавания было обследовать Южное полушарие до 60° широты и установить, есть ли там, в умеренных областях, большой материк или нет. Однако несколько наших маршрутов, предпринятых с этой целью, убедительно показали, что в южной умеренной зоне нет большого материка; более того, поскольку мы прошли в глубь ледового пояса до 71° южной широты, стало возможно со значительной долей вероятности заключить, что и пространство по ту сторону антарктического полярного круга не все заполнено землей. Самые серьезные ученые нашего века предполагали, что вокруг Южного полюса должен существовать материк. Конечно, наш опыт сильно подорвал сию точку зрения; однако их за это не следует упрекать, ведь в их распоряжении было слишком мало фактов. Даже не зная, является ли Земля Сандвича частью более крупного континента, можно не без оснований заметить, что один из доводов, выдвигавшихся в пользу существования континента, был опровергнут новым опытом. Обычно считалось, что бескрайние массы льда, плавающие в этом море, возникают на суше из снега и пресной воды; однако теперь доказано, что морская вода тоже замерзает и что лед, который таким образом образуется, не содержит частичек соли, если не считать той, что имеется в воде, попадающей между частицами льда[580].
Теперь капитан Кук прекратил дальнейшее обследование побережья и приказал плыть на восток. К такому решению его побудил главным образом пустынный вид сей земли, уже становившиеся короче дни, приближение более суровой погоды в этих широтах, наконец, сознание, что до ближайшего места, где можно будет подкрепить силы, лежит еще долгий путь, а продовольствия у нас уже оставалось немного. Мы шли таким образом вдоль 58° южной широты. То и дело шла снежная крупа, и каждый день мы видели много ледяных островов. Северные ветры здесь, вопреки нашему прошлому опыту, холоднее, чем южные, и это свидетельствует в пользу мнения, что там, на юге, нет никакой земли.
Квашеная капуста, прекрасная противоцинготная пища, которой мы взяли с собой из Англии 60 тонн, была теперь вся съедена, и каждый, от капитана до последнего матроса, сожалел, что нет больше этого овоща, который помогал нам съедать солонину, хоть немного заглушая ее тухлый, полугнилой вкус. Теперь все мы мечтали о здоровой пище, и каждый сетовал на то, что мы еще остаемся на широте 58° и 57°.
15-го мы пересекли Гринвичский меридиан и взяли курс на север. В полдень 17-го мы достигли широты, на которой господин Буве указывал открытый им мыс Сирконсисьон, и по этой же параллели двинулись затем на восток, дабы не пропустить эту землю. К тому времени мы находились на долготе 6°33' к востоку от Гринвича. Погода благоприятствовала нашим замыслам, ветер был попутный и позволял нам развивать скорость до 8—10 больших морских миль в час.
Утром 19-го мы прошли место, где господин Буве де Лозье указывал этот мыс в своем дневнике. Однако мы не нашли даже малейшего признака земли и за целый день не увидели вокруг ничего, кроме четырех-пяти ледовых полей. 22-го мы неуклонно держались на этой параллели и, чтобы не оставалось никаких сомнений, прошли еще на 6° долготы к западу и примерно на 7° к востоку от земли, о которой писал господин Буве. Капитан Фюрно во время своего возвращения также пересек все пространство, где карты указывали залив Св. Себастьяна, прошел между открытыми нами островами Георгия и Землей Сандвича до широты 54° к югу по меридиану мыса Сирконсисьон, не встретив никакой земли. Поэтому весьма вероятно, что господин Буве де Лозье видел просто большое ледяное поле с гигантскими нагромождениями глыб[581], подобно тому, какое видели мы после отплытия с мыса Доброй Надежды 14 декабря 1772 года. Тогда некоторые наши офицеры были твердо убеждены, что видели землю, ибо издалека лед действительно очень похож на нее; он мог таким же образом обмануть и французского капитана. Дабы не оставить никаких сомнений, есть ли в местах, где мы видели тогда лед, земля или нет, капитан Кук еще раз поплыл туда, не встретив никаких препятствий, но не увидел даже льдины в том месте, где два года и два месяца назад море было покрыто бескрайними плавучими массами.
Удостоверившись теперь наверняка, что в этой части Мирового океана нет значительной земли, мы поплыли на север, дабы по возможности скорее увидеть мыс Доброй Надежды.
Сильный северо-западный ветер заставил нас отклониться на восток, и лишь 1 марта мы смогли взять курс прямо к мысу Доброй Надежды. Этот ветер натолкнул было капитана Кука на мысль уточнить положение островов, открытых французским мореплавателем Кергеленом на меридиане острова Маврикия[582], но так как запас продовольствия у нас уже иссякал и два трудных месяца, которые потребовались бы для сего исследования, могли бы оказаться пагубными для нашего здоровья, то было сочтено благоразумным не задерживаться более в море.
Северо-западный ветер задувал то и дело. Это раздражало моряков, как никогда ждавших перемен к лучшему, и усиливало их нетерпение. Никогда они еще не вглядывались столь внимательно в облака, пытаясь найти предвестия попутного ветра. Трудно описать владевшее всеми беспокойство. Прошло уже двадцать семь месяцев с тех пор, как мы покинули мыс Доброй Надежды. За это время мы не заходили ни в одну европейскую гавань и питались преимущественно солониной. Если сложить все дни, которые мы за сей долгий срок провели на берегу, то их набралось бы не более ста восьмидесяти, то есть менее полугода. Это было единственное время, когда мы могли подкрепить свои силы, да и то даже в такие дни мы не всегда получали свежую пищу; так было, например, во время наших последних открытий в Тихом море. Путь от Новой Зеландии до мыса Доброй Надежды был самым долгим и трудным из всех, ибо той немногой провизии, которой мы запаслись в гавани Рождества и на Новогодних островах, хватило не больше чем на четыре-пять обедов для всей команды. Если добавить к этому отсутствие такой здоровой еды, какой была для нас кислая капуста, а также что солонина постепенно все сильнее портилась, то не приходится удивляться, что тяготы нашего неестественного положения к концу путешествия угнетали нас все больше. По мере того как мы приближались к месту, связанному с Европой, нас все сильнее беспокоили разные мысли. Кто оставил дома родных, отца или мать, боялся, не умерли ли они за это время; было слишком вероятно, что столь долгое отсутствие нарушило многие наши драгоценные связи, уменьшило число наших друзей и лишило нас утешения и радости от общения с ними.
Хотя ветер переменился, плавание шло столь хорошо, что ужо 15-го нам пришлось снять теплую одежду, так как мы находились тогда уже под 35—36° южной широты. На следующее утро мы увидели по ветру корабль, а спустя три часа — еще один. Каждый во все глаза смотрел на сии приятные предметы — верное доказательство того, как мы все мечтали о встрече с европейцами, хоть и подавляли до сих пор самые свои сердечные желания. Но теперь стало уже невозможно молчать, каждый заговорил о задушевном; всем хотелось только услышать звук чужой речи, взойти на борт другого корабля и т. д. Мы показали голландский флаг, и чужой корабль поднял такой же. Тогда мы подняли британский флаг и выстрелили из пушки[583]; однако чужой корабль оставил только первый флаг.
Поскольку мы теперь находились в водах, где часто можно встретить европейские корабли, капитан Кук созвал всех офицеров и матросов и от имени Адмиралтейств-коллегий потребовал сдать все дневники — они были запакованы и опечатаны. К лицам, которые не являлись военными (господин Уолс, господин Ходжс, мой отец и я), сие распоряжение не относилось, и бумаги их остались при них, однако их попросили до прибытия в Англию не разглашать какие бы то ни было сведения о наших открытиях. Стремление британского правительства способствовать прогрессу наук всегда побуждало его делать достоянием гласности, открытия, совершенные по его приказанию, и было бы желательно, чтобы и другие морские державы последовали сему примеру, вместо того чтобы втихомолку плавать по Южному морю, словно стыдясь признаться, что они там побывали.
Иностранный корабль, как мы поняли, был голландским; он возвращался из Индии и некоторое время шел вместе с нами. Постепенно мы приблизились к нему. Утром 17-го мы бросили лот, и дно оказалось на 50 саженях; очевидно, мы попали на мелководье, которое тянется вокруг южной оконечности Африки. Сразу забросили удочки и поймали сайду (Gadus pollachius).
Вечером мы увидели берег Африки, состоящий в этих местах из невысоких песчаных холмов, на которых было множество огней. Утром мы спустили в море шлюпку и послали ее на борт голландца, который находился примерно в 5 милях от нас. Через несколько часов наши люди вернулись с приятным известием, что в Европе царит мир. Удовольствие, которое мы испытали при этом, было, однако, омрачено сообщением о судьбе некоторых наших друзей с «Адвенчера»[584].
Голландский капитан шел из Бенгалии и находился в море так долго, что не смог уделить нам никакой провизии.
После полудня при хорошей погоде и свежем ветре мы увидели два шведских, одно датское и одно английское судна, которые на всех парусах, с развевающимися флагами легко скользили по воде. Для нашего взора это было одно из самых прекраснейших зрелищ за долгое время. На следующее утро к нам приблизился английский корабль, и лейтенант Клерк вместе с моим отцом и одним мичманом отправились туда на борт. После полудня поднялся сильный ветер, наша шлюпка вернулась, после чего тот корабль тотчас ушел, а мы продолжали наш путь, пока не подошли близко к земле. Встреченный нами корабль принадлежал английской Ост-Индской компании и назывался «Тру Бритон»; капитана звали Бродли; он возвращался в Европу из Китая. Наши люди не могли не нахвалиться гостеприимством этого капитана, который пригласил их на небольшой (как сам он это называл) обед. Мои читатели могут представить себе жадность, с какой три изголодавшихся мореплавателя, обошедшие вокруг света и шесть недель не видевшие свежего мяса, набросились на миску жирных китайских перепелок и на превосходного гуся, коих добрый хозяин считал плохим угощением. Но когда они рассказали, как давно не были ни в одной европейской колонии, как долго питались солониной и как часто считали лакомством тюленей, альбатросов и пингвинов, капитан и его штурманы положили свои ножи и от сочувствия к гостям не захотели больше есть. На прощание капитан Бродли подарил им жирную свинью и нескольких гусей, коими мы наслаждались два следующих дня.
20-го мы прошли мыс Игольный. Сильная буря едва не пронесла нас мимо мыса Доброй Надежды, но, на свое счастье, рано утром 21-го мы сквозь туман увидели землю. Мы направились к ней и рискнули поставить больше парусов, чем за все время плавания решались поставить при таком ветре. Утром 22-го мы благополучно бросили якорь в Столовой бухте. Тут, однако, было еще 21-е, так как мы, проплыв вокруг света с запада на восток, выиграли целый день. Теперь с еще большим правом можно было отнести к нам слова, сказанные Вергилием об Энее и его спутниках:
Errabant acti fatis maria omnia circum.
Virg[585]ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ Вторая стоянка у мыса Доброй Надежды.— Плавание оттуда до острова Св. Елены и острова Вознесения
В Столовой бухте мы увидели много кораблей, в том числе судно «Сириз» Британской Ост-Индской компании под командованием капитана Ньюта. Едва мы достигли входа в залив и капитан Ньют узнал нас по выцветшим снастям и потрепанному виду, как он послал нам шлюпку со свежей провизией и предложил свои услуги, если наша команда больна. Нас, пробывших столь долго в море, тронуло такое благородное поведение, и мы заново почувствовали, какое величайшее удовольствие общаться с людьми[586].
Вскоре мы сошли на берег, нанесли визит губернатору, наиболее видным служащим компании и наконец направились к господину Бранду, где были встречены с той искренностью, при которой забываешь о всяких национальных различиях и учишься понимать, что подлинное благородство не ограничивается определенными областями земли и народами. Погода была на удивление жаркая, за все путешествие мы еще не испытывали такой жары. Тем не менее отобедали мы по голландскому обычаю в час дня, как раз когда жара была особенно немилосердной, и жадность, с какой мы ели, свидетельствовала о нашем долгом посте и всех перенесенных нами тяготах больше, чем самое лучшее их описание. Но поскольку для наших изголодавшихся слабых желудков так много есть могло оказаться вредно, мы решили отойти от стола, все еще до конца не насытившись. Довольно скоро мы убедились, что такая осторожность пошла нам на пользу, и за время пребывания на мысе Доброй Надежды мы заметно поздоровели, посвежели и окрепли.
На следующий день офицеры тоже получили квартиры в городе. Они, однако, не остереглись и сразу наелись не в меру, из-за чего испортили себе желудки и получили отвращение ко всякой еде; это поистине их сделало несчастными. Двух или трех страдавших цингой капитан Кук отправил в госпиталь. Кроме них, все остальные наши люди могли выполнять свою работу, и за короткий срок, постоянно получая свежую пищу (особенно полезны оказались всевозможные овощи и свежий хлеб), быстро набрались сил.
Как описать удовольствие, какое мы испытали, вскрывая полученные нами письма от родных и друзей? Может ли кто-нибудь себе представить, как общение с европейцами после столь тягостного путешествия помогло нам забыть все перенесенное и вновь вернуть жизнерадостность, угнетенную до сих пор разными обстоятельствами? Мы очень приятно проводили время и собирали из всех старых газет сведения о происшедшем за те годы, пока мы, так сказать, были отлучены от мира. Поскольку осенью и весной у мыса Доброй Надежды стояли корабли всех наций, это место показалось нам более цветущим, чем во время первого нашего пребывания здесь в 1772 году. Наряду с большой флотилией кораблей Голландской Ост-Индской компании мы увидели здесь несколько французских кораблей с острова Маврикия (Иль-де-Франс) и один из Европы, которым командовал как раз господин Крозе, побывавший в Новой Зеландии. В Столовой бухте находилось также несколько датских и два шведских ост-индских корабля. Несколько дней здесь стояло португальское военное судно. Три испанских фрегата, один из которых возвращался из Манилы, а два других направлялись туда, тоже находились здесь несколько недель.
Для нас были совершенно неожиданными и новыми важные замечательные события, которые произошли за время нашего отсутствия в Европе. Юный герой, руководимый духом Густава Вазы, освободил Швецию от гнета аристократической тирании! Мрачное варварство, сумевшее удержаться на востоке Европы и в Азии, даже вопреки геркулесовым усилиям Петра, не устояло перед повелительницей, чье явление, словно чудо на северном небосклоне, превратило своим сиянием ночь в день! Наконец после жестокой гражданской войны и анархии великие державы в Европе объединились, дабы восстановить столь долгожданный мир в Польше, а Фридрих Великий отдыхал от своих побед и в тени лавров приносил жертвы музам, вызывая восхищение и любовь даже былых своих врагов[587]! Нам вдруг открылись великие, неожиданные перспективы, сулившие счастье человечеству и предвещавшие времена, когда людской род предстанет в сиянии благородства, превосходящего все известное до сих пор!
Во время пребывания на мысе Доброй Надежды мы предприняли небольшую поездку в бухту Фальзе, куда Голландская Ост-Индская компания назначила комендантом господина Бранда. Из-за летней жары зелень всюду поблекла, а многочисленные африканские кустарники и травянистые растения как будто почти выгорели. Тем не менее довольно многие разновидности растений процветали, и мы пополнили ими свою коллекцию. Дороги на мысе Доброй Надежды ужасно плохие, то и дело теряются в глубоком песке, а недалеко от бухты Фальзе покрыты кучами камней. Там и тут мы видели большие стаи куропаток особой разновидности, которых голландцы здесь неверно называют фазанами. Они не очень дикие, и их легко поймать и приручить. Голландцы придумали способ, как приучать этих птиц к местам, где они обычно не водятся. Они берут пару-другую ручных куропаток, окунают их в воду, посыпают золой и в таком виде, засунув голову под крыло, оставляют в кустах, откуда те больше не улетают. Многие читатели, возможно, усомнятся в достоверности сего эксперимента; могу, однако, заверить, что слышал про это на мысе Доброй Надежды от вполне заслуживающих внимания людей.
Окрестности бухты Фальзе еще более пустынны, чем места вокруг Столовой бухты. Они совершенно безлюдны, если не считать дома коменданта, двух-трех частных домов и нескольких складов и контор компании. Но горы здесь не такого темного, меланхоличного цвета; есть много разных растений и птиц; часто встречаются также антилопы. Некоторые обитают в недоступных скалах, другие, напротив, на равнинах, покрытых травой и мелким кустарником. Мы целый день лазали по горам и возвратились, весьма утомленные жарой. В горах мы видели несколько нависающих скал, которые образовали небольшие пещеры; там иногда устраивались на ночлег голландцы, охотившиеся на антилоп.
Часть бухты Фальзе, лучше всего защищенная от порывов зимнего норд-веста, называется Симонс-Бей. Мол, выступающий в море неподалеку от комендантского дома, делает погрузку на корабли воды и всевозможных товаров столь же удобной для моряков, как и в Столовой бухте. Здесь часто вылавливают рыбу хороших, вкусных сортов, а всевозможную провизию без труда можно завезти с плантаций на перешейке или из Капстада [Кейптаун], который находится отсюда всего в 12 милях. Прибытие кораблей привлекает в бухту Фальзе множество городских жителей. Они скорее смирятся с неудобством и теснотой жилья, нежели откажутся от удовольствия пообщаться с иностранцами. Эти особые обстоятельства способствуют возникновению многих более тесных связей, которые иностранцы не упускают, тем более что здешним женщинам нельзя отказать ни в темпераменте, ни в привлекательности.
Через три дня мы возвратились в город, где знакомились с животными в зоологическом саду Компании и заходили ко всем торговцам мехами, дабы заполучить коллекцию шкурок антилопы. Нам показали также живого орангутанга, или яванскую обезьяну, которому многие философы оказывают честь считать нашим близким родственником. Животное это имеет в длину примерно 2 фута 6 дюймов и предпочитает ползать на четвереньках, хотя умеет сидеть и ходить на задних лапах. Пальцы на его конечностях были довольно длинные, а большой палец весьма короткий, брюхо толстое, морда самая безобразная, какую только можно представить, нос похож на человеческий немного больше, чем у других пород обезьян. Зверя этого, как я узнал, везли в Гаагу, в зверинец принца Оранского[588].
Во время нашего здесь пребывания мы познакомились с капитаном Крозе, который по приглашению капитана Кука и нашему обедал у нас со всеми офицерами и рассказал о подробностях своего недавнего путешествия. Мы также познакомились с испанскими офицерами, среди которых были умелые и умные люди, делающие честь своему сословию. Они нанесли визит нашему астроному господину Уолсу и были восхищены долготными хронометрами, которые у него хранились. В то же время они жаловались на неправильность всех астрономических инструментов, полученных из Лондона. Господин Уолс подарил им превосходный секстан Хедли, поскольку наше плавание можно было считать, по существу, законченным. Однако капитан Кук не желал с ними встречаться и всячески избегал общения. Причины этого никто не мог понять.
Достоинства их фрегатов наши офицеры оценили весьма высоко. Тот, что направлялся в Испанию, назывался «Хуно», командовал им дон Хуан Арраос, другие именовались «Астрея» (капитан дон Антонио Альборнос) и «Венера» (капитан дон Габриэль Гуарна). Голландцы когда-то не допускали испанцев высаживаться на мысе Доброй Надежды и затрудняли им тут стоянку. Можно было подумать, что такое нерасположение связано с папской буллой, которая определяла границы судоходства и делила мир между Португалией и Испанией[589]. С тех пор они стали мыслить, однако, более протестантски, а с некоторых пор, должно быть, и вовсе позабыли о своей неприязни к испанцам, поскольку им понравилось загребать пиастры, коими те богаты.
Наша команда хорошо подкрепилась, все теперь были здоровы, сам корабль отремонтирован и заново выкрашен. Мы уже взяли на борт провизию на обратный путь и приготовились отплыть с первым же попутным ветром. Утром 27 апреля мы поднялись на корабль, попрощавшись до этого со всеми своими друзьями, особенно с доктором Спаррманом, который вместе с нами вынес все опасности и тяготы путешествия и чье сердце полюбили все, знавшие его[590].
В полдень поднял паруса и отошел корабль английской компании «Даттон» под командованием капитана Райса, и мы, отсалютовав крепости, последовали его примеру. Испанский фрегат «Хуно» приветствовал нас девятью пушечными выстрелами, а наши медлительные констебли ответили на сию неожиданную вежливость лишь четверть часа спустя. Капитан датского корабля Хансен приветствовал нас одиннадцатью выстрелами. Оба корабля шли на всех парусах и скоро оставили нас далеко позади.
Мы плыли на север между материком и Пингвиньим островом, или Роббен-Айленд, как называется он на английских морских картах. Это бесплодный песчаный холм, где под стражей содержатся по приказу Голландской Ост-Индской компании убийцы и другие преступники. Среди них есть и несчастные жертвы этих жестоких, честолюбивых торговцев пряностями. Достаточно назвать хотя бы короля Мадуры, который был лишен своего царства и обречен на страшную участь — влачить в отчаянии горестную жизнь простого раба.
Не стану пересказывать страшную историю сего несчастного монарха, которая вечным позором ложится на его бесчеловечных палачей. Полное и прочувствованное описание ее можно найти в малоизвестной книге под названием: A Voyage to the East Indies in 1747 and 1748 containing an account of St. Helena, Java, Batavia, the Dutch Government etc. Amboina! Amboina[591]!
...escape who can When man's great foe assumes the shape of man. Cumberland[592]Утром 28-го в нашем трюме был найден спрятавшийся там человек. При дознании выяснилось, что несколько дней назад его привел сюда один из боцманов, который делился с ним своей дневной порцией. Доброту его вознаградили дюжиной ударов, и бедный чужак в знак гостеприимства тоже получил свою дюжину. Это был добропорядочный ганноверец, которого обманом похитил некий торговец людьми (Ziel-verkooper) и заставил служить у голландцев. На мысе Доброй Надежды он обращался к капитану Куку, прося у него защиты. Однако в этой защите, которая по праву распространяется на всех английских подданных, ему, немцу, было начисто отказано; потому и пришлось ему пробраться на борт тайком, спасаясь от жестокой службы, к коей его принудили незаконно. Скоро он показал себя одним из прилежнейших людей на корабле, его полюбила вся команда, не верившая до сих пор, что ганноверец может оказаться толковым, не хуже других малым.
Отдалившись от берега в районе Столовой бухты, мы сразу взяли курс на остров Св. Елены. Английский корабль «Даттон» шел вместе с нами, ибо его капитан полагался на большую точность наших вычислений. Ведь обычно корабли [Ост-Индской] компании добираются лишь до широты острова, а затем ищут его на западе.
Утром 15 мая мы увидели остров прямо перед собой и в полночь бросили якорь в заливе Джеймс-Бей, обычном месте стоянки. Северный берег, мимо которого мы плыли, оказался довольно высоким, он состоял из отвесных, ноздреватых, черно-коричневых скал, подмытых там и тут постоянным напором волн.
На следующее утро нас спозаранку приветствовал Форт-Джеймс — главная крепость в заливе. Мы тотчас ответили, а вслед за нами откликнулся на приветствие и «Даттон». Город перед нами лежал в узкой долине, со всех сторон окруженной крутыми пустынными горами, которые казались выгоревшими и убогими едва ли не больше, нежели остров Пасхи. За долиной были видны еще зеленые горы, а в самом городе росло несколько кокосовых пальм.
Позавтракав, мы сошли на берег по недавно сооруженной лестнице, которая из-за высоких приливов была здесь крайне необходима. Мы прошли между высокой нависающей скалой и стеной парапета вдоль моря к воротам с подъемным мостом, который защищали несколько маленьких батарей. По нему мы направились к крупной батарее перед эспланадой и к тенистой аллее баньяновых деревьев [Ficus religiosa]. Губернатор, господин Скоттови, встретил капитана Кука с величайшим почетом и приказал приветствовать его тринадцатью выстрелами.
Вскоре нанесли визит губернатору и пассажиры «Даттона»[593]. Сей достойный бравый человек, который, служа своему отечеству, состарился и стал калекой, не упускал ни малейшей возможности сделать приятным наше пребывание на острове и особенно облегчить нам натуралистические исследования.
В тот же день мы познакомились с наиболее видными офицерами Компании, которые встретили нас с самой непринужденной вежливостью. В губернаторском доме есть несколько просторных, удобных комнат, в этом жарком климате они особенно приятны потому, что высоки. Снаружи дом лишен каких-либо украшений, как и все другие городские здания. Не составляет исключения и новая церковь, построенная недавно из известняка, добываемого здесь, на острове. В маленьком саду за домом губернатора есть несколько тенистых аллей; там можно встретить кое-какие редкие ост-индские деревья, в том числе баррингтонию. Казармы гарнизона, которые содержит здесь Ост-Индская компания, лежат немного выше в долине. Там же можно увидеть и госпиталь с садом и огородом, где прогуливаются больные. В той же долине находится еще несколько принадлежащих Компании зданий.
Несмотря на морской ветер, жара здесь бывает почти невыносимая, поскольку с одной стороны долина прикрыта высокой горой, что временами делает жизнь в городе не только мрачной, но и крайне неприятной. Самые видные жители сдают иностранцам, которые останавливаются здесь проездом на торговых и прочих судах, несколько комнат на время пребывания. Цены почти такие же, как на мысе Доброй Надежды, однако на столь маленьком острове, как Св. Елена, производится недостаточно съестных припасов, чтобы жизнь здесь была такой же хорошей, как в этой голландской колонии, которая недаром славится во всем мире.
Мы поселились у господина Мезона, достойного старого человека, остров может считать его одним из лучших и любезнейших своих жителей. Вместе с ним мы отправились на прием к губернатору. Разговор пошел оживленный, сразу легко было заметить, что здесь не упускают ни малейшей возможности почерпнуть полезные знания из хороших книг. Сделанное Хауксуортом описание первого плавания капитана Кука вокруг света на «Индевре» дошло сюда уже совсем недавно. Его прочли здесь с великим любопытством. Там было несколько мест, относившихся к этой колонии, о чем теперь и зашел веселый и шутливый, но при всем том приятный разговор. Кое-что в этом описании сочли здесь особенно обидным: место, где здешних жителей обвиняли в плохом обращении со своими рабами, и замечание, что на всем острове нельзя было найти ни одной тачки[594]. От капитана Кука потребовали объяснения. Мадам Скоттови, супруга губернатора и одновременно самая темпераментная дама на острове Св. Елены, весьма удачно шутила на сей счет, и у капитана Кука не нашлось другой отговорки, как только сказать, что, сии замечания были взяты не из его дневника, а вписаны спутником-философом[595].
Рано следующим утром господин Стюарт, капитан Кук и я отправились на верховую прогулку. Мы поднялись на гору, которая лежит на западе и называется Лестничной горой (Leiterberg). Недавно устроенная дорога поднимается на нее зигзагом и весьма удобна. Она 9 футов шириной и со стороны долины огорожена трехфутовой стеной из того же самого камня, из коего состоит вся гора. А состоит она из нагромождений лавы, которая кое-где выветрилась и превратилась в коричневую пыль, но во многих местах образует большие скопления черного ноздреватого шлака, который иногда кажется словно бы остекленевшим. Местами эти скалы нависают над дорогой и временами к ужасу жителей и с большой опасностью для них обваливаются; виной тому обычно бывают пасущиеся в горах козы. Солдатам гарнизона приказано стрелять во всех коз, появляющихся на этих высоких утесах, а поскольку убитые козы им же и достаются, они охотно сей приказ выполняют.
По гребню горы мы прошли в глубь острова, и через полмили нашим взорам открылся прекраснейший вид. Перед нами лежало несколько красивых холмов, покрытых великолепной зеленью и разделенных плодоносными долинами, в коих находились сады и прочие посадки. Некоторые пастбища были обнесены каменными оградами, за которыми пасся рогатый скот мелкой, но красивой породы, а также английские овцы. В каждой долине протекал небольшой ручей: многие из них, видимо, брали начало на двух высоких горах, что возвышались посреди острова, окутанные облаками.
Мы прошли по горам дальше, и перед нами открылся залив Санди-Бей — небольшая бухта на другой стороне острова, охраняемая батареей. Вид здесь был необычайно романтический; горы до самых вершин были покрыты густыми лесами, и некоторые, особенно пик Дианы, имели очень красивые очертания. Скалы и камни на этой возвышенности были совсем иного рода, чем ниже в долинах. Внизу имелись бесспорные признаки давней вулканической деятельности; здесь же, наверху, все состояло из темно-серых глинистых, лежавших слоями камней; иногда это был известняк, а кое-где жирный и мягкий мыльный камень[596]. Земля, покрывающая эти слои, состоит во многих местах из жирной почвы толщиной от 6 до 10 дюймов, что благоприятствует великому многообразию превосходно развивающихся растений, среди которых я заметил несколько кустарников, не встречавшихся мне ни в какой другой части света. Среди них можно увидеть капустные деревья, каучуковые деревья и красное дерево, как его называют местные жители. Первые растут на влажной почве, последние же — в горах, где земля очень сухая. Такое разнообразие растений связано отнюдь не с различием климата в разных частях острова, как полагает в своей книге Хауксуорт, поскольку все эти растения я встречал рядом друг с другом, да и вообще весь остров не так уж велик и не так уж особенно высок, чтобы климат в отдельных его частях слишком отличался. Капустное дерево растет дико, у него довольно большие листья; вскоре выяснилось, что его здесь употребляют только на топливо и даже не задумываются, почему же оно называется капустным. Его никак не следует путать с капустным деревом, которое растет в Америке, Индии и Южном море и которое относится к семейству пальмовых.
Не один раз мы попадали под сильный ливень и изрядно промокли, но за несколько минут солнце высушивало нас опять. В пути мы расспрашивали каждого из рабов, которые шли впереди нас, как с ними обращаются хозяева. Нам хотелось выяснить, можно ли доверять печатавшимся сведениям о жестокости здешних жителей. В общем и целом ответы рабов были благоприятными для их господ, они вполне освобождали живущих здесь европейцев от упреков в жестокости. Конечно, некоторые жаловались на то, что их очень скудно кормят и строго содержат; однако мне достоверно рассказывали, что и сами хозяева их порой бывали вынуждены питаться солониной. Хуже всего, кажется, приходится солдатам, из года в год ничего не получающим, кроме солонины, которую Ост-Индская компания к тому же выделяет весьма скупо. Жалованье у них также маленькое и проходит по пути из Англии через слишком многие руки. Нетрудно догадаться, что при этом оно не становится больше. Самые усердные иногда получают разрешение работать на местных жителей и доставлять в город дрова с гор. Мы видели несколько стариков, занятых этим делом, они казались веселыми и довольными, покуда мы не сумели вызвать их на откровенность и они не рассказали нам, что им, конечно, приходится нелегко. Но все были единодушны в своей любви к губернатору, который пользуется на острове всеобщим уважением и немало печется об их благополучии.
По склону горы с другой стороны долины мы вернулись обратно в город, чувствуя, что прогулка нас освежила. Лошадей сюда завозят главным образом с мыса Доброй Надежды, но теперь в небольшом количестве выращивают и на самом острове. Они небольшого роста, но хорошо приспособлены для поездок по горам.
На следующий день губернатор пригласил к себе в загородный дом большое общество, состоявшее из пассажиров нашего корабля и «Даттона». Мы миновали ту же самую гору, на которую поднимались вчера, и в трех милях от города нашли этот дом. Приняли нас там прекрасно. Дом невелик, но очень приятно расположен посреди большого сада, где мы встретили различные европейские, африканские и американские растения; особенно много было роз, лилий, миртов и лавровых деревьев. Персиковые деревья на аллеях отягощены были плодами, превосходными на вкус и непохожими на наши. У всех других европейских деревьев был жалкий вид; если я не ошибаюсь, они никогда не плодоносили. Виноград здесь в разное время сажали, но из-за климата он развивался плохо. Капуста и прочие овощи росли здесь превосходно, но по большей части пожирались гусеницами.
Мы совершили прогулку по окрестным горам и увидели несколько участков, засеянных ячменем, который, однако, как и другие высеваемые здесь зерновые, почти сплошь поедают крысы; их на острове несметное множество, так что земля тут покрыта лишь травами, чей прекрасный зеленый вид удивителен для краев, лежащих между тропиками.
Нам сказали, что остров мог бы прокормить 3 тысячи голов крупного рогатого скота, но пока на нем водилось 2600 голов. Судя по площади неиспользованной земли, здесь можно было бы содержать гораздо больше, но нам объяснили, что потравленная скотом трава до зимы снова не вырастет, поэтому некоторые пастбища приходится беречь для зимы. Говядина здесь сочная, вкусная и очень жирная. Так как потребность в ней велика, мясо никогда не успевает стать жестким.
Обычный европейский колючий дрок (Ulex Europaeus), который наши земляки с большим трудом пытаются искоренить, был здесь посажен и теперь разросся по всем пастбищам. На острове нашли способ использовать сей кустарник, который всюду в других местах считают бесполезным и вредным. Ведь здешний пейзаж не всегда был таким привлекательным, как теперь; еще недавно земля совершенно выгорала от ужасной жары, трава и прочая зелень едва росли. Одни лишь ввезенные сюда кусты дрока разрастались, несмотря на солнце, и сохраняли в земле хоть немного влаги. В их тени стала расти трава, и постепенно вся земля оделась превосходнейшими лугами. Теперь дрок стал уже не нужен, его с немалым трудом выкорчевывают и используют как топливо, которого на острове мало и которое нигде не расходуют бережливее, чем здесь и на мысе Доброй Надежды. В самом деле, можно только удивляться тому, как на мысе Доброй Надежды ухитряются приготовить множество кушаний на небольшом огне, на котором английская кухарка смогла бы разве что вскипятить чайник.
На обратном пути мы увидели стаи куропаток. Они здесь мелкие, красноногие; этот вид распространен на африканском побережье. Мы заметили также несколько красивых фазанов, коих наряду с цесарками и кроликами завез сюда нынешний губернатор. Еще недавно за убийство фазана платили штраф 5 фунтов; но теперь они так сильно размножились, что подобное ограничение охоты стало уже излишним. Сюда можно ввезти еще много полезного. Можно сеять клевер и люцерну, что даст скоту более богатую пищу, нежели обычная трава, разведение же таких бобовых культур, как фасоль и бобы (Dolichos sinensis et Phaseolus mungo), из которых в североамериканской колонии Джорджии изготовляется саго[597], здесь особенно не стоит рекомендовать. Терпение и усердие позволят в конце концов искоренить крыс и гусениц, больше всего мешающих развитию здешнего земледелия. Из Сенегала стоит завезти ослов; по сообщению господина Адансона[598], они там превосходной породы. Сие весьма облегчило бы перевозку тяжелых грузов, а использование пустующих участков земли под пастбища позволит обеспечить кормом этот вид вьючных животных, весьма неприхотливых по части питания.
Следующий день мы провели в загородном доме господина Мезона в 4—6 милях от города. Во время верховой прогулки мы сделали крюк, чтобы подняться на гору близ пика Дианы, где в довольно дождливую погоду мы нашли несколько редких растений. Во время прогулки мы также обнаружили маленького сизого голубя; для него, как и для красноногих куропаток, это родные места. А вот рисовую птицу (Loxiae oryzivorае) завезли сюда из Ост-Индии.
Примерно в четверти мили от нас остался небольшой хутор, где содержались два брамина, которых обвиняли в том, что они пытались вредить Компании в Индии. Действительно ли они были в чем-то повинны или нет, сказать трудно, но на их примере можно было увидеть разницу в отношении к пленным между голландцами и англичанами. Король Мадуры был заперт в тюрьме на острове Роббен, браминам же на острове Св. Елены было позволено прогуливаться, у них были свой дом и сад, а также необходимый запас продовольствия и прочие удобства, в том числе несколько рабов для услуг.
Вечером мы вернулись в город, где господин Грэм дал жителям бал. Войдя в комнату, я был приятно поражен при виде множества красивых, со вкусом одетых женщин. Мне показалось, будто я ненароком попал в одну из самых блистательных столиц Европы. Черты лица у них были правильные, фигуры привлекательные, цвет кожи ослепительно хорош. К тому же их отличали непринужденность манер, свободный нрав, приятная живость и немалое остроумие, которое они умели весьма удачно применить в разговоре. На следующий вечер то же самое общество собралось еще на одном балу, и мы тем более могли восхищаться живостью и неутомимостью женщин, что времени для отдыха у них было немного. Их было гораздо больше, чем мужчин, хотя тут присутствовало много офицеров и пассажиров с обоих кораблей. Нам в связи с этим рассказали, что на этом острове, как и на мысе Доброй Надежды, рождается гораздо больше девочек, нежели мальчиков. В самом деле, интересно было бы толком выяснить, не стало ли сие общим явлением для теплых стран, ведь отсюда могут быть сделаны важные выводы относительно законов о браке у разных народов. Соотношение рождаемости мужчин и женщин в самой Европе тоже не вполне выяснено и не засвидетельствовано. Во Франции и Англии рождается больше мальчиков, в Швеции же — больше девочек.
Число жителей Св. Елены не превышает 2 тысяч человек, считая около 500 солдат и 600 рабов. Остров имеет в окружности приблизительно 20 миль и 8 в месте наибольшей длины. Ост-индские суда, которые здесь останавливаются и забирают на борт провизию для своих команд, снабжают жителей всякими индийскими изделиями. Компания посылает также одно-два судна каждый год по пути в Индию на Св. Елену, дабы доставить туда необходимый запас европейских товаров и продовольствия. Много рабов постоянно занимается ловлей рыбы, которой довольно много у скалистых берегов острова; ею жители кормятся круглый год. Рогатый скот, птица, различные коренья, заменяющие хлеб, иногда английская солонина дают им достаточно разнообразное пропитание. Таким образом, похоже, их жизнь течет здесь в покое и довольстве, свободная от многочисленных забот, которые мучают их соотечественников в Англии.
То же самое общество, что вечером присутствовало на балу, рано утром отправилось в церковь. Господин Карр, достойный молодой человек, произнес серьезную, рассчитанную на прихожан проповедь и произвел на нас самое благоприятное впечатление. Затем мы еще раз отобедали у губернатора и, попрощавшись с нашими новыми знакомыми, которые за недолгое время нашего здесь пребывания показали себя достойнейшими самого высокого уважения, возвратились на корабль.
Отплытие капитана Кука, как и его прибытие, было отмечено салютом с крепости. Вечером мы подняли якорь и отправились на север вместе с «Даттоном». Недавно Ост-Индская компания послала приказ своим кораблям на Св. Елену, запрещая им впредь приставать к острову Ассеншн [Вознесения], на котором они обычно прежде ловили черепах[599]. Капитану Куку хотелось посетить этот остров, и вечером 24-го он распрощался с «Даттоном»; до этого мы пообедали на борту сего корабля, где нас очень любезно приняли капитан Райс и пассажиры.
Рано утром 28-го мы увидели землю и шли к ней весь день до 5 часов вечера, когда стали на якорь в заливе Крестовом [Кросс-Бей]. Этот остров впервые открыл в 1501 году португалец Жуан да Нова Гальегу, который назвал его Ильа-да-Консейсан. Тот же самый адмирал открыл на обратном пути в 1502 году остров Св. Елены, названный так в честь дня, когда его заметили[600]. Остров Вознесения был вторично открыт в 1503 году Альфонсо д'Альбукерком, который дал ему его нынешнее название[601]. Однако уже тогда он находился в жалком диком состоянии, в коем пребывает и сейчас[602].
Мы сразу послали на берег несколько групп наших людей, дабы наловить черепах, когда они ночью выйдут из воды откладывать в песок яйца. Пустынный вид этого острова был столь жуток, что мы не могли сравнить с ним даже остров Пасхи; Огненная Земля с ее заснеженными вершинами и та выглядела приятнее. Это было дикое нагромождение скал, в большинстве своем, насколько можно было видеть с корабля, опаленных вулканическим пламенем. Почти посредине острова возвышалась большая гора белого цвета, на ней через подзорные трубы мы различили что-то зеленое, способное хоть как-то оправдать название Зеленая гора.
Рано утром мы высадились на скалах, так как прибой у пляжа был на редкость высокий. Этот пляж покрыт был глубоким сухим ракушечным песком, состоящим по большей части из крошечных, белых как снег частиц, при ярком солнечном свете он слепил глаза. Мы поднялись наверх среди нагромождений черных ноздреватых камней, совершенно таких же, как самые распространенные лавы на Везувии и в Исландии. Некоторые высились чудовищными глыбами и казались творениями рук человеческих. Вероятно, они приобрели такой вид из-за быстрого остывания потоков лавы. Поднявшись на 12—15 локтей над поверхностью моря, мы оказались на большой равнине, 6—8 миль в окружности; в разных местах ее возвышались большие конусообразные холмы красноватого цвета, стоявшие совершенно обособленно. Часть равнины была покрыта нагромождениями камней из такой же застывшей лавы, какую мы видели на берегу; если два куска стукнуть друг о друга, они издавали стеклянный звон. Земля между двумя соседними камнями была твердая, черного цвета, но за пределами этих нагромождений представляла собой просто красную пыль, такую сухую и сыпучую, что ветер взметал во все стороны целые тучи.
Конусообразные холмы состояли из совсем другой породы лавы; она была красной и такой мягкой, что ее без труда можно было растереть в порошок. Один из холмов поднимался прямо посредине перед заливом; на вершине его стоял деревянный крест, по которому залив получил свое название. Холм этот со всех сторон очень крутой, но на него поднимается такая извилистая тропа, что достигает в длину без четверти милю.
Долго и внимательно рассматривая сию странную местность, мы пришли к выводу, что равнина, где мы стояли, скорее всего, когда-то представляла собой кратер. Здесь прежде находился вулкан, из пемзы и пепла, которые он выбрасывал, возникли конусообразные холмы, потоки же лавы, имевшие теперь вид отдельных нагромождений, возможно, постепенно покрылись пеплом, а дождевые потоки, стекавшие с гор из глубины острова, смывали все на своем пути в кратер, который со временем совершенно заполнился.
В черных скалах гнездились бесчисленные фрегаты и олуши. Они подпускали к себе совсем близко. Большинство фрегатов имели под клювом большой ярко-красный мешок, или зоб, который они умели раздувать так, что он становился величиной с кулак. Он очень похож на мешок пеликана и, возможно, предназначен для той же надобности. На всем этом большом участке скалистой земли нам встретилось не больше десятка отдельных полузасохших растений; все они были только двух сортов: разновидность молочая (Euphorbia origanoides) и вьюнок (Convolvulus pes Caprae).
В полдень мы возвратились на судно и увидели там всего шесть пойманных ночью черепах. Мы почти упустили сезон, когда они откладывают яйца. Офицер, посланный осмотреть восточную часть острова, обнаружил там остатки потерпевшего крушение корабля. Часть их обгорела; вероятно, команда вытащила обломки на берег для собственного спасения. Мысль о бедствиях, кои должны были претерпеть эти люди на столь пустынном острове, прежде нежели их смог подобрать другой корабль, вызвала сострадание даже у наших матросов. Для нас их несчастье, однако, обернулось выгодой; поскольку у нас был недостаток в топливе, капитан Кук послал шлюпки, дабы забрать оставшиеся части этого корабля.
В восемь часов вечера, когда уже совсем стемнело, в залив вошло маленькое суденышко и стало на якорь между нами и берегом. Капитан Кук несколько раз запросил прибывших, кто они, и наконец получил ответ, что шлюп из Нью-Йорка под названием «Лукреция» идет с африканского побережья от Сьерра-Леоне, дабы наловить черепах и продать их на Антильских островах. Один из наших лейтенантов был послан на это судно и услышал от шкипера, что тот принял наш корабль за судно Французской Ост-Индской компании. Он был весьма не прочь торговать с нашими ост-индскими кораблями, так что новое распоряжение Компании опрокинуло все его расчеты. На другой день он отобедал с нашими офицерами, а 31-го на рассвете поднял паруса.
Рано утром 30-го мы еще раз съехали на берег, пересекли равнину и достигли громаднейшего участка лавы. В ней были промыты каналы глубиной от 6 до 8 локтей; явные признаки свидетельствовали, что это работа мощных дождевых потоков, которые теперь, когда солнце находилось в Северном полушарии, совсем высохли. В сих углублениях мы нашли небольшое количество земли, состоявшей из черной вулканической породы, смешанной с частицами белого твердого песка. В этой сухой почве росло немного портулака и трава Panicum sanguineum.
С большим трудом перебравшись через сей мощный лавовый поток, мы достигли подножия Зеленой горы, которая, как мы уже видели из гавани с корабля, состояла из совсем других пород, нежели остальная земля. На частицах лавы здесь на редкость обильно разросся портулак, а также отдельные кусты папоротника Lonchitis ascensionis, кои давали пищу стадам диких коз. Внизу гора разделена большими расщелинами как бы на множество корней, вверху они, однако, соединяются. Вся гора довольно высокая и состоит из песчаного пористого или туфообразного известняка, который не был затронут вулканом и, вероятно, существовал еще до извержения. Склоны ее всюду обильно поросли травой, характерной именно для этой горы; кавалер фон Линней дал ей название Аristidа ascensionis. Мы увидели также несколько козьих стад; козы были, однако, дикие и пугливые, они с громадной скоростью убегали от нас по ужаснейшим обрывам, так что преследовать их было невозможно.
Шкипер нью-йоркского судна заверил нас, что на этой горе есть источник пресной воды, падающий с высокой крутой скалы и теряющийся в песках. Я, со своей стороны, твердо убежден, что остров Вознесения без труда можно было бы заселить. Если, например, высадить тут кусты колючего европейского дрока (Ulex europaeus) и другие подобные растения, которые хорошо развиваются на сухой почве, то почему бы им не произвести здесь такого же хорошего воздействия, как на острове Св. Елены, тем более что благодаря их свойствам козы и крысы, единственные здешние четвероногие обитатели, не могут их тронуть? Влага, стекающая с высоких гор в центре острова, не будет тогда больше испаряться под жаркими солнечными лучами, а соберется в мелкие ручьи и постепенно обводнит весь остров. Через некоторое время всюду появятся красивые луга, отчего слой плодородной земли с каждым годом будет становиться все толще, покуда здесь не смогут развиваться более полезные растения.
Медленно, под палящим полуденным солнцем мы возвратились через равнину к Крестовому, заливу, и, так как надо было пройти более 5 миль, мы достигли берега к трем часам, совершенно измученные, с обожженными лицами, затылками и ступнями. Мы искупались в маленькой бухте между скалами, а затем с корабля на наш сигнал пришла шлюпка, которая и доставила нас на борт.
Утром следующего дня мы еще раз вместе с капитаном Куком совершили прогулку к Зеленой горе, но ни у кого не хватило сил до нее добраться. На сей раз не удалось сделать никаких новых наблюдений. Берега этого острова всюду неописуемо пустынны и бесплодны. После полудня мы забрали все свои шлюпки и подняли паруса. На борту у нас было двадцать четыре черепахи, каждая из которых весила 3—4 центнера. Три недели они служили нам пищей. Каждый день мы забивали одну, иногда две, и команда получала столько вкусного, здорового мяса, сколько могла съесть.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ Путь от острова Вознесения через остров Фернандо-да-Норонья к Азорским островам.— Стоянка в Файале.— Возвращение в Англию
Покинув остров Вознесения, мы ушли далеко на запад и 9 июня в час пополудни увидели остров Фернандо-да-Норонья [Фернанду-ди-Норонья] недалеко от побережья Бразилии. Поскольку астрономическое положение острова еще не совсем точно определено, капитан Кук направился сюда, дабы уточнить его координаты.
Этот остров открыл еще в 1502 году во время своего четвертого плавания Америго Веспуччи, чье имя носит сия часть света и одним из первооткрывателей которой он является; но неизвестно, как он получил свое теперешнее название[603]. В 1733 году здесь основала небольшую колонию Французская Ост-Индская компания; однако вскоре на остров заявили свои претензии португальцы, которые и завладели им в 1739 году.[604] По данным французских карт, внутренняя часть острова состоит преимущественно из замкнутых между прибрежными холмами равнин[605]. Мы подошли к нему с востока и обошли Крысиный остров, лежащий у его северо-восточной оконечности. Там мы увидели залив Байя-де-Ремедиоc, защищенный пятью батареями, часть которых расположена на самом Фернандо-да-Норонья, часть — на скале у северо-восточной оконечности. Весь остров порос лесом, и некоторые горы имели вид вулканов, хотя теперь были богато покрыты зеленью; никаких следов построек на них мы не увидели. На пяти укреплениях тотчас были подняты флаги, и с одного из них выстрелила пушка. Мы тоже подняли флаг, выстрелили и тотчас повернули корабль на север.
11-го мы снова пересекли экватор, проведя в Южном полушарии два года и девять месяцев. Обычные для здешних мест штили задержали нас прежде, чем мы достигли 4° северной широты. Ветра не было с 14-го по 18-е, после чего подул северо-восточный пассат. За это время команда поймала несколько акул и одну морскую свинью, коих мы с аппетитом съели. Почти половина из богатой коллекции животных, за большую цену купленных моим отцом на мысе Доброй Надежды, издохла. Повинны в этом были матросы, коварно погубившие многих, и, чтобы сохранить жизнь оставшимся, отцу пришлось пойти на новые расходы.
За двенадцать дней пассат вынес нас из жаркого пояса земли и продолжался после этого еще пять дней, покуда солнце, от положения которого в эклиптике зависят границы сего ветра, еще находилось в области северных знаков. 4 июля шквалистые ветры перемежались затишьем, а на другой день наступил полный штиль, продолжавшийся два дня, и еще два дня он чередовался с легким ветерком. Моряки, много плававшие по океану между Европой и Америкой, называют широты, где чаще всего встречаются такие штили, «лошадиными широтами», потому что последние губительно сказываются на лошадях и прочем скоте, который везут в Америку. Бывает, что такое безветрие тянется целый месяц и за это время не подует даже слабенький ветерок.
9-го поднялся попутный ветер, который позволил нам продолжить наш путь к Азорским, или так называемым Западным, островам. 13-го в 4 часа пополудни мы уже увидели остров Файал [Фаял]. На следующее утро мы приблизились к берегу и увидели высокий остров Пико [Пику], берег которого весь был одет в зелень и казался усеянным домами. В 7 часов мы вошли на рейд, или в гавань, Файала, где обычно бросают якорь корабли. Португальский обер-лоцман вышел нам навстречу в шлюпке, чтобы показать надежное место в гавани, где уже стояли на якоре три корабля. Он рассказал по-французски, что один из этих кораблей, французский, недавно пришел сюда из Пара [Белен] в Бразилии, проскочив место своего назначения, острова Зеленого Мыса. На другом, маленьком судне не видно было никакого флага, а шло оно из Северной Америки. Третьим был французский фрегат «Пурвуайёз», капитан которого мосье д'Эстей весьма любезно прислал капитану Куку своего лейтенанта с предложением услуг.
После того как мы стали на якорь, к коменданту крепости был послан офицер с обычным запросом относительно приветствия, его продержали несколько часов и отпустили, сказав, что крепость в любом случае ответит двумя выстрелами меньше, чем мы; поэтому мы вообще не стали ее приветствовать. Американское судно после полудня отплыло, поскольку его шкипер не ждал от нас ничего хорошего, хотя на самом деле мы искали со всеми мира.
Вид города со стороны моря напомнил нам Фуншал на Мадере [Мадейре]. Он расположен вдоль побережья залива на пологих склонах холма, образующих как бы амфитеатр. Церкви, монастыри, крепости и дома с плоскими крышами большей частью белого цвета и имеют весьма живописный вид. Холмы над городом относятся к числу самых красивых из созданных когда-либо природой и трудом. Теперь они были покрыты полями спелых хлебов, садами, парками и всевозможными зданиями, кои свидетельствовали о большом числе жителей и благосостоянии. Два форта, по одному с каждой стороны города, служили для защиты и одновременно простреливали рейд. Самый крупный из них — южный.
Сразу после полудня капитан Кук вместе с моим отцом и мной отправился на берег к южному форту. Едва мы ступили на сушу, как поняли, почему португальцы не хотели отвечать на наш салют выстрелом на выстрел. Пушки лежали на дряхлых лафетах, и, конечно, не стоило подвергать их сильному сотрясению, открывая огонь. Большая часть их стояла на валу, который был слишком узок, чтобы его принимать всерьез. Более того, нас заверяли, что нынешний португальский министр экономики считал излишним расходовать для таких случаев порох.
Мы прошли через часть города, который называется Вилла-да-Орта. Он тянется на милю с четвертью и состоит из одной главной улицы, которую пересекают несколько переулков. Дома построены так же, как на Мадере, имеют выступающий эркер (балкон), который сверху прикрыт крышей, а по бокам оснащен подвижными решетками, заменяющими здесь окна. Мы посетили епархиальную церковь, которая, как и все здесь, построена на готический манер и выглядит мрачно, как на Мадере. Затем нас провели к английскому вице-консулу господину Депту, который встретил нас очень любезно и предложил господам Уолсу, Ходжсу, а также моему отцу и мне в распоряжение свой дом на время нашего здесь пребывания.
Потом он сводил нас в несколько монастырей. Один принадлежит францисканцам, в нем двадцать монахов и несколько мирян, которые, по их собственным словам, преподают здешней молодежи риторику, философию и теологию. Другой монастырь расположен на возвышенности, в нем двенадцать кармелитов и также миряне. Третий принадлежит двенадцати капуцинам и нескольким мирянам, он расположен на холме над городом. Четвертый стоит в самой лучшей, красивой части города; это бывший иезуитский монастырь, теперь, однако, в нем помещается суд, за исключением одного крыла, где устроена общественная школа. Трудно было ожидать, что в сих мрачных кельях сможет процветать ученость. У монахов здесь нет ни малейшего побуждения учиться, они предпочитают просто пожить приятно и спокойно, потому не особенно заботятся об учении.
Затем мы посетили два женских монастыря. Один из них посвящен св. Иоанну, в нем живут 150 монахинь ордена св. Клары и примерно столько же служанок. Они носят длинное платье из темно-коричневой саржи поверх другого, из белого ситца. Во втором монастыре живут восемьдесят-девяносто монахинь ордена Nossa Senhora de Conceiçao, при них столько же прислужниц. Они надевают белые платья, а на грудь — кусок голубого шелка с образом святой девы на серебряной пластине. В обоих местах нас очень любезно встретили у решетки, но, поскольку никто из нас не понимал языка друг друга, пришлось этим и ограничиться. Произношение у них мягкое, певучее, вначале оно казалось нам жеманным, пока мы не услышали, что так говорят здесь все. Выглядели некоторые из них очень приятно, и цвет кожи у них не такой темный, как мы ожидали, а у большинства бледный и безжизненный. При всем том религия не настолько владеет их помыслами, чтобы в сердцах их не осталось ни искры иного огня. Их красивые глаза все еще были верны природе, и если поверить хотя бы в сотую долю того, что рассказывают на Файале, то, видимо, бог любви безраздельно царит и в их кельях.
До заката солнца мы гуляли по городу и по окрестным холмам и наконец вернулись в дом консула Дента. Там мы познакомились с португальским священником, который говорил по-латыни немного лучше, нежели монахи во всех трех монастырях. Это был рассудительный, много знающий человек, который благодаря похвальной жажде знаний освободился от многих обычных предрассудков своих земляков. Он показал нам испанский литературно-политический журнал, который сейчас читают по всей Португалии, где премьер-министр запретил печатать любые газеты и публичные сообщения. Разумеется, такое предписание содействовало распространению во всем королевстве глубочайшего невежества, а это главная основа тиранического режима[606].
На следующее утро мы наведались к офицерам французского фрегата, жившим в доме некой вдовы-англичанки мадам Милтон. Сия добрая женщина прослезилась, услышав, что мы проплыли вокруг света, это напомнило ей о погибшем сыне, который плавал с капитаном Фюрно и принял ужаснейшую смерть от новозеландцев вместе с несчастным Pay. Обстоятельства этой смерти казались в силу привитых нам воспитанием понятий гораздо страшней любых других и должны были тем более ранить сердце несчастной скорбящей матери. Глубина ее тоски не могла не вызвать сострадание в каждом чувствительном сердце и напомнила нам, как много матерей и в Европе, и на островах Южного моря имели причины оплакивать безвременную смерть своих сыновей, проклиная дух человеческой предприимчивости. Зрело взвесив превратности, выпавшие ей на долю, мадам Милтон решила обеспечить своей дочери покой и счастье и послать ее в один из здешних монастырей, не подумав при этом, что на четырнадцатом году мирская жизнь имеет столько прелести и привлекательности, сколько не будет иметь на пятидесятом. Дочь была так хороша собой, что могла бы поспорить красотой с любой португальской дамой на Файале. Один из наших офицеров проникся к ней сочувствием и пытался отговорить мадам Милтон от ее намерений; в самых неуклюжих выражениях, на какие только способен грубый моряк, он стал уверять ее, что она не только не делает достойное дело, но, напротив, навлечет и на себя вечное проклятие господа. Пусть читатель решит, способны ли увещевания моряка, да еще в таком тоне, произвести большое впечатление, однако дама выслушала их благосклонно, а в ходе дальнейшего разговора выяснилось, что, собираясь сделать из своей дочери монахиню, она руководствовалась отнюдь не одним лишь благочестием, но, скорее, личными соображениями.
Затем мы совершили прогулку на холм, возвышавшийся над городом. Он был сильно застроен, а все поля обнесены оградами, камни которых местами скреплены раствором, а местами лишь проложены мхом. Жители возделывают в основном пшеницу с щетинистыми длинными колосьями и короткими стеблями. У них есть также немного ячменя, который был уже убран, а также маиса, или турецкого зерна; он высевается между каштанами, кои очень украшают страну. Если же его высевают в открытом поле, то по большей части смешивают с фасолью. Вокруг домов или хижин мы нашли несколько полей с огурцами, тыквами, дынями и арбузами, а также сафлором[607], коим португальцы пользуются, дабы придать своим блюдам желтый цвет. В их садах растут лимоны, апельсины, сливы, абрикосы, фиги, груши и яблоки. Капусты они сажают мало, а желтая репа и морковь здесь вырождаются, так что им ежегодно приходится получать новые семена из Европы. Правительство настоятельно рекомендовало сажать картофель, однако народ ест его неохотно, и потому он продается дешево. Португальцы выращивают много сладкого лука и чеснока, которые особенно любят, наряду с так называемыми помидорами (Solaпит lycopersicon Linn.), или томатами, и земляникой. Есть также несколько виноградников, но их немного, и вино из здешнего винограда плохое.
Волы здесь маленькие, но мясо у них вкусное, хотя их тут запрягают не только в плуг, но и в повозки. Овцы, мясо коих очень вкусное, также мелкой породы; свиньи и козы весьма длинноноги. Домашнюю птицу можно встретить любую. Лошади у них маленькие и плохие; ослы, и мулы красивы, их много, и в здешней местности они очень нужны. Дороги устроены гораздо лучше, чем на Мадере, и вообще все свидетельствует о большом трудолюбии жителей. Повозки, однако, производят невыносимый шум, что связано с их плохой конструкцией. Колеса состоят из трех больших неуклюжих кусков дерева, обитых железом, и закреплены на осях жестко, так что те движутся вместе с ними, вращаясь в круглом отверстии, которое проделано под повозкой в специально укрепленном там четырехугольном брусе.
Хижины простонародья сооружены из глины и покрыты соломой, они хоть и маленькие, зато прохладные и чистые. Цвет кожи у здешних жителей в общем более светлый, чем на Мадере. Черты их мягче, хотя чувствуется сходство национального типа.
Их одежда лучше, она состоит из грубых полотняных рубах и штанов, синих или коричневых курток и сапог. Женщины бывают не лишены приятности; носят короткую юбку и кофту, а волосы сзади завязывают в узел. Отправляясь в город, они надевают накидку, которая закрывает голову, оставляя лишь небольшое отверстие для глаз, и подвязывается вокруг тела. Мужчины в таких случаях надевают большую шляпу с загнутыми полями и накидывают плащ. Мы обычно видели их за работой, как в поле, так и дома, но не встретили ни одного бездельничающего попрошайки, что заметно отличает сей остров от Мадеры.
Мы побывали в лесах и рощах, раскинувшихся на холмах, где нашли много миртов, дико росших под высокими осинами, а также кусты семейства восковниковых. Последние на здешнем языке называются файа, отсюда, видимо, и произошло название Файал.
Вид с этой высоты необыкновенно красив. Город и рейд лежали у нас под ногами, а дальше, на расстоянии 2—3 миль, виден был остров Пико. Отовсюду доносились голоса множества канареек, дроздов и других певчих птиц. Сей концерт был нам тем более приятен, что напомнил о европейских театрах, коих мы так давно не посещали. Весь остров был вообще богат всевозможными птицами, среди которых мы заметили, в частности, множество обычных перепелов, несколько американских вальдшнепов и разновидность небольшого ястреба. По имени этих ястребов сии острова получили название Азорских, так как по-португальски ястреб называется Аçоr [Азор].
Жара заставила нас к полудню возвратиться в город и искать прибежища в высоких, прохладных покоях консульского дома. Но местность слишком нравилась мне, чтобы я весь день оставался в городе. Поэтому вместе с господами Уолсом, Паттеном, Ходжсом и Гилбертом мы предприняли еще одну прогулку. Мы поднялись на холм мимо капуцинского монастыря св. Антония, взяв себе в проводники двух бойких ребятишек, так как нам хотелось увидеть ручей или речку, кои, естественно, украсили бы ландшафт. Миновав несколько романтических холмов и лесов, где господин Ходжс сделал ряд зарисовок, мы увидели перед собой красивую плодородную равнину, всю покрытую нивами и лугами. Там, в леске из осин и буков, лежала деревня Носса Сеньора де ла Луц. В этом месте мы разделились, и лишь господа Паттен и Ходжс пошли со мной к ручью, который мы так долго искали.
Поначалу мы были несколько разочарованы в своих ожиданиях, ибо увидели широкое и глубокое русло, по одной стороне которого среди камней и гальки протекал маленький невзрачный ручей. Однако, к удовольствию наших маленьких проводников, мы наконец спустились вниз и скоро пришли к источнику, где несколько девушек набирали воду. Среди них мы заметили одну, чья одежда и белая кожа выделяли ее среди других как персону более высокого ранга. Ее и называли все время «сеньорой», что, однако, не давало ей никаких привилегий, и она наполняла свои ведра наравне с другими. Нам доставил немало удовольствия такой пережиток патриархальной простоты, особенно примечательный в цивилизованной стране, где гордость и праздность считаются отличительным признаком высшего сословия.
Мы прошли по руслу ручья, которое, как нас заверили, зимой бывает все заполнено водой, ибо в это время года обычны сильные ливни. Как раз сейчас жители ожидали дождя и потому положили в сухое ложе реки много связок льна, дабы его замочить. Этот лен был длинный и на вид превосходного качества; здесь же на острове из него ткут грубое полотно.
Изрядно усталые, мы возвратились в город, когда уже начинало темнеть. По пути остановились у хижины крестьянина, где отведали обычного местного вина, немного терпкого, а в общем хорошего и здорового. Дождь, которого все ожидали, и в самом деле полил, едва мы добрались до дома. Нам сказали, что в это время года он поистине бесценен, ибо наполняет соком грозди винограда, который обычно бывает не крупнее смородины. В наше отсутствие отец поговорил с несколькими португальцами, особенно с упомянутым священником, сообщившими ему различные сведения об Азорских островах и их теперешнем состоянии. Это дает мне возможность рассказать читателям следующее.
Впервые Азорские острова открыли в 1439 году фламандские корабли[608]. Несколько фламандских семей тогда же обосновались на Файале, где и сейчас один приход называется Фламингос. По той же причине некоторые старые географы называли Азоры Фламандскими островами. В 1447 году португальцы открыли остров Санта-Мария, самый восточный в этой группе, затем остров Сан-Мигел (Св. Михаила) и третий — Терсейру. Дон Гонзалу Велью Кабрал в 1449 году высадился на Терсейре и заложил город Ангра. Один за другим были открыты и объявлены владениями Португалии острова Св. Георга [Сан-Жоржи], Грасьоза, Пико и Файал. Наконец обнаружили и два западных острова этой группы, которые были назвапы Флорес [Флориш] и Корво [Корву]: первый — из-за обилия росших там цветов, второй — из-за множества ворон, которых там увидели[609].
Все это плодородные острова, населенные трудолюбивыми жителями; подчиняются они генерал-губернатору, пребывавшему в Ангре на Терсейре. Имя нынешнего губернатора дон Антон де Алмада; о нем все отзываются с похвалой как о доброжелательном, ненавидящем всякое угнетение человеке. Свой доходный пост он использует не для собственного обогащения, наоборот, вкладывает свои деньги, дабы способствовать процветанию островов. Недаром его оставляли на этом посту шесть лет, то есть вдвое больше обычного срока. Его преемника дона Луиша де Тал Пилатуша сейчас ожидали со дня на день из Лиссабона вместе с новым епископом Ангры. Епархия этого прелата распространялась на все Азоры, капитул включал еще двенадцать каноников. Доходы ему начислялись пшеницей и составляли около 300 муи [мойо], каждый 24 шеффеля (английских)[610]. Каждый мойо стоит не менее четырех фунтов стерлингов, так что он ежегодно получает 1200 фунтов стерлингов. На каждом острове есть капитан, или комендант, осуществляющий надзор за полицейскими делами, над милицией и доходами. На каждом острове Juiz, или судья, следит за соблюдением гражданских законов; апелляции от него направляются в высший суд на Терсейре, а оттуда в Лиссабон, в верховный суд. Жители, видимо, весьма склонны к спорам, так что у адвокатов много работы.
На острове Корво, самом маленьком из Азорских островов, едва ли наберется шестьсот жителей, которые по большей части сеют пшеницу и откармливают свиней, получая каждый год немного сала.
Остров Флорес чуть больше, плодороднее и населеннее, он дает около 600 муи пшеницы и некоторое количество сала. Однако, поскольку на обоих островах не производят вина, их снабжает вином Файал. Много лет назад у берегов Флореса разбился большой, богато нагруженный испанский военный корабль. Команда и груз были, однако, спасены. Эти испанцы завезли на остров венерические болезни, коих тут прежде не знали, и, так как женщины не могли устоять перед богатыми подарками, за короткий срок все без исключения жители оказались заражены. Чтобы хоть как-то искупить сей грех, они за большие деньги построили церковь, которая сейчас считается самым красивым зданием на Азорах. Зараза между тем, как это было и в Перу, и в некоторых местах Сибири, распространилась на этом острове так, что никому не было пощады.
Файал — один из самых крупных островов, с востока на запад он тянется на 9 больших морских миль (лиг), а в ширину на 4. Нынешнего коменданта, или капитан-мора, зовут сеньор Томаш Франсишку Брун де Силвейра. Он слывет жадным и корыстолюбивым; нам говорили, что он постоянно живет за городом лишь для того, чтобы не общаться с иностранцами и местными жителями. Судью ожидали на Файале вместе с новым генерал-губернатором из Португалии. Главного представителя духовенства на этом острове называли лишь oviedor(аудитор); он был священником в главной городской церкви.
Что до образования, то на него не обращают на Файале никакого внимания, как и вообще на Азорских островах, да и в самой Португалии. Господину Флерье и французскому астроному господину Пингре[611], некоторое время назад испытывавшим долготный хронометр господина Ле-Руа, на Терсейре запретили вынести их инструменты на берег из суеверного опасения, что это принесет острову несчастье[612].
Уже больше двух лет каждая канари вина, изготовляющегося на Файале и Пико, облагается сбором в 2 рея[613]. Этот сбор, составляющий для каждой бочки примерно шиллинг стерлингов и ежегодно достигающий тысячу фунтов стерлингов, хотели употребить на содержание трех профессоров [преподавателей], которых намеревались выписать из Лиссабона. Однако, к несчастью для науки и вообще для жителей этих островов, не успели еще собрать этих денег, как ими уже распорядились по-другому. Теперь на них содержится гарнизон, который, по утверждениям, состоит из ста человек, на самом деле насчитывает лишь сорок, причем никак не обученных, не знающих порядка и не обеспеченных достаточным количеством оружия. Результатом является полное отсутствие общественных воспитательных заведений. Поэтому лишь те из жителей, кто в состоянии платить, может чему-нибудь научить своих детей. Правда, здесь есть один сдавший необходимые экзамены профессор, однако жалованья для него не нашлось, и ему приходится зарабатывать свой горький хлеб преподаванием латыни.
Налог на вино не единственный, который так плохо используется. Другой, гораздо более важный, состоит из двух процентов со всего экспорта и должен идти на поддержание крепостных сооружений. Однако вал разрушился, батареи пришли в негодность, деньги же посылаются в Терсейру и там с выгодой идут в дело. Десятая часть всего, что производят Азорские острова, идет королю; табак считается монополией короны и приносит большие суммы. Так что владение этими островами, сколь они ни малы, не безразлично для португальского двора.
Пшеница и маис, или турецкое зерно,— главное, что производит Файал; в хорошие годы в Лиссабон уходит несколько кораблей с пшеницей. Выращивают также немного льна. Однако вино, которое продается под названием Файальского, изготавливается только на острове Пико, расположенном как раз напротив и не имеющем гавани. Число жителей Файала достигает 15 тысяч, они разделены на двенадцать церковных приходов. Третья часть живет в городе Вилла-де-Орта [Орта], в котором три церковных прихода. Рейд, или залив, летом защищен довольно надежно, зимой же подвержен южным и юго-восточным ветрам, которые, как мне говорили, в это время года очень сильны. Но так как дно здесь хорошее, песчаное, то американские торговые суда держались на трех-четырех якорях даже в самую плохую погоду. Большую часть производимого на острове Пико вина вывозят в Северную Америку и Бразилию.
Остров Пико получил свое название по находящемуся там высокому пику, или остроконечной горе, которая часто закрыта облаками и заменяет жителям Файала барометр. Пико — не самый большой, но наиболее населенный из Азорских островов, на нем 30 тысяч жителей. Нив там нет, зато весь остров покрыт прекраснейшими виноградниками, которые создают восхитительный вид на пологих холмах у подножия пика. Зерно и прочее продовольствие завозятся здешним жителям с Файала, самые знатные семейства которого владеют обширными землями на прилегающей к этому острову западной стороне Пико.
Время сбора винограда — всегда радостный праздник. Четверть, а то и треть всех жителей Файала перебирается тогда всеми семьями, даже с собаками и кошками, на Пико. Винограду съедается столько, что из него можно было бы сделать 3 тысячи бочек вина. Каждому хочется насладиться сим вкусным плодом, хотя вообще португальцы могут считаться образцом умеренности. Когда-то ежегодно делалось 30 тысяч, а то и 37 тысяч бочек вина; однако несколько лет назад на лозы напала какая-то болезнь, из-за которой листья до времени опадали, так что приходилось чаще всего закрывать грозди от солнца[614]. Лишь недавно виноградники выздоровели, и теперь они дают от 18 до 20 тысяч бочек. Лучшее вино, получаемое в виноградниках на западном берегу, принадлежит жителям Файала. Из винограда, который растет на восточной стороне, делают водку: на меру водки идет четыре меры вина. Лучшее вино острое, очень приятное и крепкое, и, чем дольше его хранить, тем оно становится лучше. Одна пипа (два оксофта)[615] стоит здесь от 4 до 5 фунтов стерлингов. На Пико изготовляется также небольшое количество сладкого вина, называемого паcсада; бочка его стоит от 8 до 10 фунтов стерлингов.
Остров Св. Георга — маленький, узкий, довольно высокий и очень крутой. На нем 5 тысяч жителей, которые выращивают много пшеницы, но совсем или почти совсем не занимаются виноградарством.
Грасьоза — остров не такой крутой, но тоже маленький; производит он главным образом пшеницу, которую выращивают 3 тысячи жителей. Выделывают также немного плохого вина; его тотчас перегоняют в водку, бочка которой содержит спирта столько, сколько шесть бочек вина. На Грасьозе и Св. Георга также много пастбищ, и жители их изготовляют на вывоз сыр и масло.
Терсейра — следующий по величине после Пико среди Азорских островов. На нем много полей пшеницы; делается также плохое вино. Являясь резиденцией генерал-губернатора, высшего суда и епископа, он имеет несколько большее значение, чем другие. Число жителей достигает 20 тысяч, пшеница вывозится в Лиссабон.
Остров Сан-Мигел также значительных размеров, очень плодороден, число жителей около 25 тысяч. Здесь не производят вина, но возделывают в большом количестве пшеницу и лен. Из льна здешние жители вырабатывают так много грубого полотна, что ежегодно могут отправлять в Бразилию три корабля. Это полотно шириной примерно в локоть; самый худший сорт его продается по полтора английских шиллинга, или около 10 грошей за вару (португальский локоть), что, вообще говоря, очень дорого. Главное поселение на острове — город, называемый Понте дель Гада [Понта-Делгада].
Самый юго-восточный среди Азорских островов — Санта-Мария, на нем выращивают много пшеницы. Жителей около 5 тысяч, некоторые из них заняты изготовлением глиняной посуды, которой снабжают все эти острова. Недавно у них появились два небольших корабля, на постройку которых пошли деревья, растущие на этом острове.
Надеюсь, что, хотя приведенные выше сведения и не дают полного описания Азорских островов, все же читателям они будут приятны, ибо эти не так уж далеко расположенные от нас острова малоизвестны и редко посещаются европейцами.
В воскресенье мы осмотрели несколько церквей и после полудня вместе с нашим капитаном отправились в монастыри. Каждый имеет собственную церковь, где обычно можно увидеть две стоящие одна против другой кафедры. Иногда здесь принято предоставлять чёрту возможность для защиты. Тогда он поднимается на кафедру, а с другой звучат в его адрес обвинения и проклятия. Можно себе представить, что, даже если его противником окажется самый глупый монах, какого только тут можно найти, бедный чёрт все равно остался бы в проигрыше. Алтари по большей части сделаны здесь из кедрового дерева, оно распространяет по всей церкви приятный запах. Вечером мы видели большое шествие, на коем присутствовали священники всего города и самые знатные из жителей в черных плащах. Нетерпимость, в которой иногда упрекают римскую церковь в других странах, здесь, кажется, заметно ослаблена благодаря постоянному общению и торговле с Северной Америкой. Если кто-то пропускает причастие, его не обвиняют в безбожии. В этом отношении особенно иностранцы могут воздать должное хорошему обращению, коего напрасно было бы ждать в любезной, но рабской столице Франции.
На следующее утро мы прошли к горе, лежащей к северу от города. Там много красивых пейзажей. Дорога по обеим сторонам была усажена высокими тенистыми деревьями и окружена нивами, садами и огородами. Мы могли увидеть всю равнину с деревней Nossa Senhora de la Luz, а за ней горную гряду, образующую самую высокую часть острова. По словам местных жителей, на вершине одной из гор примерно в 9 английских милях от города есть глубокая круглая долина. Эта впадина имеет в окружности более 2 больших морских миль и со всех сторон пологие склоны, одетые красивой травой. Жители пасут там большие стада овец, которые становятся почти совсем дикими. Там много кроликов и перепелов. Посредине озеро пресной воды, на нем водится бесчисленное множество диких уток. Вода нигде не бывает глубже 4—5 футов. Впадина, из-за своей формы получившая название Ла-Калдейра (котел), видимо, представляет собой кратер потухшего вулкана; это тем более вероятно, что на Азорских островах, как известно, есть несколько вулканов. Странная гора, которая поднялась в 1638 году неподалеку от острова Сан-Мигел, образовав новый остров, несомненно, вызвана была действием мощного вулкана, и хотя она вскоре потом снова исчезла, все же ее короткого появления достаточно, дабы опровергнуть мнение, что лишь самые высокие вершины могут обладать внутренним пламенем. Таков же был и остров, обнаруженный в ноябре 1720 года между Терсейрой и Сан-Мигелом, что подтверждает сказанное выше[616]. Из высокой горы на Пико постоянно поднимается дым, о чем нам говорил португальский капитан Шавьер, с большим трудом взобравшийся туда. В очень ясную погоду этот дым можно рано утром видеть на Файале. Землетрясения на всех Азорских островах — вещь весьма обычная; всего за три недели до нашего прибытия на Файале ощущались толчки. Таким образом, почти все острова Атлантического океана, подобно островам Южного моря, представляют собой остатки былых вулканов или имеют еще теперь огнедышащие горы.
До возвращения в город мы еще побывали в загородном доме и в саду одного из самых знатных здешних жителей и обнаружили тут больше вкуса, чем ожидали. Хотя мы только что покинули жаркий пояс земли, зной очень тяготил нас. Однако климат на Азорских островах по большей части очень счастливый, здоровый и умеренный. Зима здесь никогда не бывает суровой; правда, в это время года усиливаются ветры и чаще идут дожди, однако мороз и снег бывают лишь на самой вершине пика. Весна, осень и большая часть лета, видимо, бывают здесь очень приятны благодаря свежему морскому ветру, который обычно охлаждает воздух настолько, что жара становится необременительной.
После полудня за мной зашел французский консул господин Эстри и повел меня в монастырь св. Клары. Там были две его сестры-монашки; проведать их пришла вся семья. Даже женщин не допускали за решетку, как это делается в других странах. Монахини обычно предлагают своим гостям какие-нибудь сладости; на сей раз они выставили целое угощение из разных сладких и жирных блюд. Конечно, трудно предположить, что дух может оставаться спокойным и склонным к размышлениям и молитве, покуда тело ослаблено и истощено постами и бдениями. Однако можно ли считать соответствующим сей главной цели монастырского уединения противоположный образ жизни, когда в изобилии вкушаются все лакомства роскошного стола? Это тоже, разумеется, вызывает обоснованные сомнения.
На следующее утро мы попрощались со всеми нашими знакомыми и в полдень вместе с консулом и несколькими другими португальцами отправились на корабль. Послеполуденное время пролетело приятно и незаметно; наши гости были непринужденны и веселы в общении, чем заметно отличались от португальской знати на Мадере, которой присуще невежественное высокомерие. Вечером они вернулись на берег, а мы наутро снялись с якоря и отправились в путь при попутном ветре.
Мы миновали острова Св. Георга и Грасьозу, а к полудню увидели остров Терсейру. В три часа пополудни мы прошли вдоль его северного берега, где видны были обильные нивы и окруженные зеленью деревни. К вечеру мы уже удалялись от него; курс наш лежал к Английскому каналу [Лa-Манш]. 29-го в 4 часа пополудни мы увидели Старт-Пойнт и маяк на Эддистоуне, последнем месте английского побережья, которое мы видели в начале нашего путешествия. На другое утро мы прошли мимо Игольных скал (Needls)[617], между островами Уайт и плодородными берегами Гэмпшира, пока в полдень наконец не бросили якорь в Спитхеде.
Итак, преодолев бесчисленные опасности и трудности, мы завершили плавание, длившееся 3 года и 18 дней. За это время мы покрыли больше миль, чем какой-либо другой корабль до нас. Если сложить в одну линию весь наш путь, то она более чем трижды опояшет земной шар. Нам достаточно повезло: мы потеряли всего четырех человек, из них трое погибли случайно, а четвертый умер от болезни, которая наверняка свела бы его в могилу, даже если бы он оставался в Англии[618].
Главная задача нашего путешествия была выполнена: мы выяснили, что в умеренном поясе Южного полушария нет никакого материка. Мы даже исследовали Ледовое море по ту сторону антарктического круга, не встретив таких значительных земель, какие предполагались там. В то же время мы сделали важное для науки открытие, что в великом Мировом океане природа образует ледовые глыбы, совершенно лишенные частиц соли и содержащие чистую и здоровую воду. В другие времена года, проплыв в Тихом океане между тропиками, мы нашли там для географов новые острова, для натуралистов — новые растения и новых птиц, в особенности же для друзей человечества — неизвестные до сих пор разновидности рода людского. В одном уголке земли мы не без сострадания наблюдали бедных дикарей Огненной Земли, полуголодных, отупевших, бездумных, неспособных защитить себя от суровой непогоды и опустившихся почти до грани, где кончается человеческая природа и начинается неразумное животное. В другом месте мы видели счастливые племена островов Общества — людей красивых, живущих в превосходном климате, способном удовлетворить все их желания и потребности. Им уже известны были преимущества общительности, мы нашли у них человеколюбие и дружелюбие, но они же привыкли давать волю распутству. Для всякого непредубежденного человека, повидавшего столь разные народы, станут несомненны и очевидны выгоды и преимущества, кои нравственность и религия принесли в нашу часть света. С благодарным сердцем осознает он сии неоценимые блага, без всякой его заслуги даровавшие ему великое превосходство над столькими другими людьми, кои слепо подчиняются своим влечениям и чувствам, не ведая даже слова «добродетель», и коим еще не дано постичь общую гармонию мирового устройства настолько, чтобы принять волю творца. Впрочем, куда важнее понимание, что, как ни велик вклад, внесенный нашим путешествием в сокровищницу человеческих знаний, цена его невелика в сравнении с тем, что еще скрыто от нас. Нет счета тому неизведанному, что мы при всей нашей ограниченности еще способны познать. Не одно столетие перед нами будут открываться новые, бескрайние перспективы, и дело только за тем, чтобы обратить все силы нашего духа, все его величие и блеск на служение общему благу.
Vedi insieme l'uno e l'altro polo, Le stelle vaghe, e lor viaggio torto; E vedi, 'l veder nostro quanto è corto! Petrarca[619]ВОКРУГ СВЕТА С КАПИТАНОМ КУКОМ
Книга Г. Форстера «Путешествие вокруг света» занимает важное место в истории страноведения и народоведения. «С него начинается новая эра научных путешествий, предпринимаемых с целью сравнительного изучения стран и народов».— писал об авторе этой книги выдающийся географ и естествоиспытатель прошлого столетия Александр Гумбольдт. Но значение труда Форстера не исчерпывается его научной ценностью. Уникальность книги заключается в том, что перед нами одновременно и волнующий человеческий документ, и яркое художественное произведение, созданное высокоодаренным писателем. Можно смело утверждать, что Форстер явился родоначальником нового жанра в литературе — жанра научно-художественного описания путешествий. Но и это еще не все. Книга пронизана просветительскими, гуманистическими идеями, в ней затрагиваются многие общественные, культурные, нравственные проблемы, волновавшие европейскую читающую публику накануне Великой французской революции.
Когда Форстер закончил работу над первым изданием «Путешествия вокруг света», ему едва исполнилось 22 года. Как сумел молодой автор создать столь глубокое и разностороннее, можно сказать, эпическое произведение? Каковы те жизненные дороги и перекрестки, которые привели его на борт «Резолюшн», сделали спутником и сподвижником прославленного Кука?
26 ноября 1754 г. в деревне Нассенгубен, расположенной близ Данцига (Гданьска), у молодого местного пастора Иоганна Рейнгольда Форстера родился первенец, нареченный Иоганном Георгом Адамом. Когда мальчик подрос, он всегда подписывался одним именем — Георг, и так мы будем его называть. Предки Георга со стороны отца были шотландского происхождения. Однако, прожив несколько поколений в немецкой среде, семья онемечилась,
Иоганн Рейнгольд сделался пастором вопреки своим склонностям, по настоянию отца. Но еще в годы учебы в университете он наряду с теологией изучал древние языки и естественные науки; его библией стали труды великих естествоиспытателей Линнея и Бюффона. Обосновавшись в Нассенгубене, Иоганн Рейнгольд уделял мало внимания своим пасторским обязанностям, зато усиленно занимался самообразованием и вел оживленную переписку со многими видными учеными. Со временем он превратился в известного эрудита, владевшего едва ли не всеми науками того времени, в своего рода «ходячую энциклопедию», выучился читать и писать на 17 языках. Однако в повседневной жизни он был очень сложным человеком. Высоко оценивая научные заслуги отца, Георг впоследствии неоднократно писал о его упорстве, вспыльчивости и раздражительности, непрактичности в делах, неумении разбираться в людях. Впрочем, некоторые недостатки Форстера-старшего были как бы продолжением его достоинств. Так, Иоганн Рейнгольд упорно отстаивал свои взгляды и тогда, когда они были неугодны власть имущим, и это принесло немало неприятностей ему и его семье.
Георг рос болезненным, но не по годам развитым и любознательным ребенком: Очень рано проявился у него интерес к живой природе, стремление постичь ее тайны. Заметив необыкновенные способности сына, Иоганн Рейнгольд принялся деятельно и настойчиво, хотя и не всегда систематично, их развивать. Он обучал мальчика иностранным языкам, рассказывал ему о научных открытиях и путешествиях, а во время частых экскурсии по полям и лесам учил его на практике применять классификацию животных и растений, разработанную Линнеем.
Форстера-старшего тяготила жизнь сельского пастора, ему становилось все труднее содержать свою многодетную семью. Поэтому он охотно принял предложение правительства Екатерины II обследовать немецкие поселения, основанные в то время на Волге, и представить доклад о положении колонистов и перспективах дальнейшего заселения волжского края. В качестве помощника он взял с собой одиннадцатилетнего Георга.
Весной 1765 г. Форстеры прибыли в Петербург и вскоре отправились в путешествие на нижнюю Волгу и в заволжские степи. Не ограничиваясь исполнением возложенного на него поручения, Иоганн Рейнгольд ревностно изучал фауну и флору этого тогда еще малоисследованного края, памятники старины, языки и культуру коренного населения, проводил метеорологические наблюдения. Георг не только помогал отцу, но и самостоятельно собирал растения для гербария. Слушая рассуждения отца, участвуя в его разносторонних изысканиях, мальчик начал задумываться о соотношении человека и природы, об условиях жизни людей и путях ее улучшения.
Через 6 месяцев Форстеры вернулись в Петербург, и Иоганн Рейнгольд приступил к составлению подробного доклада о путешествии, а также проекта административного устройства волжских поселений. В своей докладной записке он прямо и откровенно рассказал о тяжелом положении колонистов, о произволе и хищениях саратовского воеводы и других местных властей. Доклад не понравился царским сановникам, и его автору пришлось проститься с надеждой на службу в России. Белее того, Иоганну Рейнгольду было предложено настолько низкое, по его мнению, вознаграждение за проделанную работу, что он отказался его принять. Пока отец сочинял свои записки, а потом безуспешно добивался справедливости, Георг в течение 8 месяцев посещал немецкую школу в Петербурге — единственное учебное заведение в его жизни,— где наряду с другими предметами усердно изучал русский язык.
Разочарованный и обиженный, Форстер-старший решил попытать счастья в наиболее развитой в экономическом и политическом отношениях стране того времени — Англии. Осенью 1766 г. он с сыном прибыл на английском судне из Петербурга в Лондон.
Первое время Иоганн Рейнгольд жил в британской столице продажей собранных в России коллекции и случайным литературным трудом, в котором деятельно участвовал и Георг, лучше отца освоивший английский язык. В 1767 г. в Лондоне вышел в свет английский перевод «Краткого российского летописца» М. В. Ломоносова, выполненный 13-летним мальчикам,— его первая публикация. Выбор этой небольшой книжки для перевода был не случаен: Иоганн Рейнгольд с огромным уважением относился к великому русскому ученому, проявлял интерес к его многогранной просветительской и научной деятельности и внушил эти чувства сыну. Ломоносов стал для Георга образцом ученого-энциклопедиста.
Летом 1767 г. Форстер-старший получил место преподавателя современных языков и естественной истории в протестантской академии в Уоррингтоне. Его материальное положение несколько упрочилось, и он смог выписать к себе жену и шестерых малолетних детей, которые отчаянно бедствовали в Нассенгубене. Однако неуживчивый характер и свободомыслие «гордого иностранца» не понравились руководителям академии, и через два года он был уволен. Иоганну Рейнгольду пришлось перебраться с семьей обратно в Лондон, где его ждали новые испытания.
В 1770—1772 гг. И. Р. Форстер опубликовал несколько научных работ, приобрел известность в ученых кругах и даже был избран в члены Королевского общества, объединявшего видных британских исследователей. Но в материальном отношении это были годы горькой нужды и погони за куском хлеба. Отец семейства, человек непрактичный и увлекающийся, залез в долги и неоднократно оказывался на пороге долговой тюрьмы. Бремя забот о многочисленной семье все в большей море ложилось на плечи Георга.
Несколько месяцев он проработал у богатого купца-суконщика, который заставлял его с утра до ночи корпеть над конторскими книгами. Здоровье подростка настолько ослабло, что отец вынужден был забрать его домой. Но и здесь Георга ждал тяжкий труд. Ради заработка Иоганн Рейнгольд заключал с издателями контракты на перевод на английский язык сочинений немецких, шведских и французских путешественников, а затем поручал основную часть работы сыну, ограничивая свое участие преимущественно научной редактурой и составлением комментариев. Кроме того, Георгу приходилось зарабатывать на жизнь уроками немецкого и французского языка. Работа над переводами обычно продолжалась до позднего вечера. Поэтому на самообразование оставались главным образом ночные часы. Бессонными ночами, при колеблющемся свете свечи, Георг штудировал труды известных философов и естествоиспытателей, изучал сочинения античных авторов и современную ему художественную литературу, оттачивал технику рисунка. «С детства я много страдал,— вспоминал он в 1784 г.,— нес заботы о большой семье и в том возрасте, когда дети живут беззаботно и весело, всегда работал».
К 1772 г. Георг уже многое повидал и обладал значительным жизненным опытом. Он наблюдал праздную жизнь купающейся в роскоши аристократии и беспросветное существование людей труда, к которым относил и самого себя. «К сожалению,— писал он,— я принадлежу к людям того класса, который вынужден продавать себя, чтобы добыть пропитание». Уже в юношеские годы у Георга, очевидно, начали зарождаться те общественно-политические взгляды, которые через два десятилетия привели его в лагерь французских революционеров-якобинцев.
Летом 1772 г. в жизни Форстеров произошел крутой поворот: Иоганн Рейнгольд получил предложение принять участие во второй кругосветной экспедиции Дж. Кука в качестве натуралиста. Предложение было весьма заманчивым как в научном, так и в финансовом отношениях. Дело в том, что натуралисту экспедиции было назначено единовременное вознаграждение в 4 тыс. фунтов стерлингов — сумма весьма значительная по тому времени. Это позволяло не только уплатить долги, приобрести все необходимое экспедиционное оборудование и научную литературу, но и содержать в течение нескольких лет семью. А какие выдающиеся открытия и увлекательные исследования сулил столь дальний вояж! Поэтому Иоганн Рейнгольд не раздумывая ответил согласием, поставив лишь одно условие: с ним вместе должен отправиться его старший сын, которому через несколько месяцев исполнится 18 лет. Это условие не встретило возражений. Была достигнута также устная договоренность о том, что по возвращении экспедиции И. Р. Форстер составит ее официальное описание. Быстро уладив все дела и подготовившись к плаванию, отец с сыном 3 июля 1772 г. впервые поднялись на борт «Резолюшн» — одного из двух кораблей экспедиции, которым командовал сам Кук. Через десять дней «Резолюшн» и «Адвенчер» вышли с Плимутского рейда в открытое море.
Прежде чем прокомментировать ход экспедиции и охарактеризовать вклад в нее обоих Форстеров, остановимся на целях и задачах этого плавания.
В Семилетней войне 1756—1763 гг., которая велась не только в Европе, но и в колониях, феодально-абсолютистская Франция потерпела поражение от капиталистической Англии. Как подчеркивал Маркс, именно тогда было положено основание британскому владычеству на Востоке. Но Франция не собиралась мириться с ролью второстепенной державы. В Париже решили попытаться взять реванш в Южных морях, а в Лондоне стремились этого не допустить и, в свою очередь, подготовить условия для установления там британского господства. Поэтому вскоре по окончании Семилетней войны южные части Тихого, Индийского и Атлантического океанов стали ареной ожесточенного соперничества этих двух европейских держав.
Английских и французских государственных деятелей особенно привлекал пока еще не открытый Южный материк. Эта неведомая земля впервые появилась еще на картах античных географов Помпония Мелы и Макробия. Но именно в XVIII в. идея Южного материка получила широкое признание и даже теоретическое обоснование.
Известный французский математик и астроном П. Л. Мопертюи развил теорию равновесия материков, согласно которой их площадь в Северном и Южном полушариях должна быть примерно одинаковой. Но так как лежащие к югу от экватора части Африки и Южной Америки гораздо меньше колоссальных материков Северного полушария, Мопертюи постулировал существование равновеликой суши в Южном полушарии. Таким массивом, по его мнению, и должен был быть Южный материк. Аналогичных взглядов придерживался маститый французский географ Ш. Бросс, который утверждал, что этот материк населен и изобилует плодородными землями. Новую Голландию (Австралию) он рассматривал в качестве небольшого по сравнению с Южным материком и не связанного с ним массива суши. Идеи Мопертюи и Бросса полностью поддерживал Бюффон. А один из наиболее авторитетных английских сторонников и пропагандистов теории Южного материка, географ и гидрограф А. Дальримпль, считал, что этот неведомый континент по площади «больше всей цивилизованной части Азии от Турции до восточной оконечности Китая» и имеет 50 млн. жителей — в двадцать пять раз больше, чем североамериканские колонии, где назревало тогда восстание против британского господства.
В 1764—1771 гг. правительства Англии и Франции отправили на поиски Южного материка по нескольку морских экспедиций. Им не удалось обнаружить таинственный континент, причем Кук, совершив в 1768—1771 гг. свое первое кругосветное плавание, пришел к заключению, что в центральной части Тихого океана нет и не может быть крупного массива суши севернее 40° ю. ш. Однако в британском Адмиралтействе не теряли надежды на «обретение» неуловимого материка в более высоких широтах Южного полушария. Поэтому, чтобы опередить французов, было решено как можно скорее послать туда новую экспедицию, и ее начальником снова назначили Кука.
Секретная инструкция лордов Адмиралтейства предписывала Куку сперва отправиться в Южную Атлантику на поиски «мыса Сирконсисьон» — земли, открытой в 1739 г. французским мореплавателем Буве, который принял ее за выступ Южного материка. Если «мыс Сирконсисьон» оказался бы только островом или если бы его не удалось обнаружить, экспедиции следовало взять курс на юг и стремиться подойти как можно ближе к Южному полюсу. Затем, если материк все еще найти не удалось бы, надлежало отправиться, придерживаясь высоких широт, на восток, в неизведанные районы Южного полушария. Кук должен был совершить в этих широтах кругосветное плавание, после чего возвратиться в Англию. Поскольку экспедиция была рассчитана не на один год, ее начальнику рекомендовалось на зиму, т. е. в самый неблагоприятный сезон, уходить в более низкие широты и там в заранее намеченных пунктах останавливаться на сроки, необходимые для ремонта судов и отдыха команд. Все новооткрытые земли предписывалось присоединять к владениям английского короля.
Посетив по пути о-в Мадейру и о-ва Зеленого Мыса, корабли экспедиции подошли к мысу Доброй Надежды и 30 октября 1772 г. стали на якорь в Капстаде (Кейптауне)—главном городе Капской колонии, которой владела тогда голландская Объединенная Ост-Индская компания. Уже на этом отрезке плавания, пока корабли находились еще в сравнительно хорошо изученных районах, Форстер-старший приступил к осуществлению широкой программы научных изысканий. Морские млекопитающие, рыбы и птицы, температура и соленость морской воды, происхождение океанского льда, атмосферные явления, движение небесных тел, а во время высадок— геологическое строение, рельеф, почвы, климат, фауна и флора посещенных местностей, равно как внешний облик, языки, хозяйство, общественный строй, культура и быт обитающих там народов,— таков был диапазон научных интересов этого неутомимого исследователя.
На Георга были непосредственно возложены сбор ботанических коллекций и зарисовка образцов растений и животных. Но юноша деятельно участвовал и в других изысканиях. «Резолюшн» стал для него плавучим университетом. Под руководством отца, а нередко вместе с ним он осваивал науку за наукой, усердно штудируя специальную литературу, и на практике закреплял полученные познания. В маленькой, тесной каюте и на берегах экзотических земель, в шторм и непогоду, в антарктическую стужу и тропический зной Георг упорно расширял свои научные горизонты, постепенно превращаясь из любознательного и образованного юноши в исследователя широкого профиля.
23 ноября корабли экспедиции вышли из Капстада и направились на поиски «мыса Сирконсисьон». Через две недели появились первые плавучие льды, которые, по научным представлениям того времени, свидетельствовали о близости земли. Но Куку не удалось обнаружить пресловутый «мыс» (в действительности — небольшой остров, расположенный значительно восточнее того места, где его искала экспедиция). В начале января 1773 г. «Резолюшн» и «Адвенчер» отправились далее к югу и 17 января, впервые в истории мореплавания, пересекли Южный полярный, круг. Участники экспедиции не подозревали, что находились тогда всего лишь в 75 милях от побережья Антарктиды. На следующий день огромное ледяное поле преградило дальнейший путь на юг, и Куку пришлось приказать повернуть на север, а затем взять курс на северо-восток. Он решил отыскать в Индийском океане на 48° ю. ш. землю, которую, по полученным им в Капстаде сведениям, открыл в начале 1772 г. французский капитан Кергелен. Но в указанном районе экспедиция не заметила даже малейших признаков, суши. Снова поднявшись в начале февраля к югу, Кук в соответствии с инструкцией повел корабли на восток в высоких широтах Индийского океана.
Приближалась зима Южного полушария. Усиливались холода, укорачивался день, и плавание среди льдов становилось все более опасным. Поэтому 18 марта Кук повернул на северо-восток, взяв курс на Новую Зеландию. Его первый антарктический поход убедительно показал, что в Индийском океане вплоть до 60° ю. ш. нет никаких признаков Южного материка.
25 марта «Резолюшн» подошел к западному берегу Новой Зеландии, а затем перешел в пролив Королевы Шарлотты (ныне — пролив Кука), отделяющий Южный остров от Северного. Здесь его уже ожидал «Адвенчер», с которым «Резолюшн» разлучился в начале февраля. Посещение Новой Зеландии позволило Куку запастись свежей провизией и дать отдых командам, а Форстеры очень плодотворно использовали эти два с половиной месяца для естественнонаучных и этнографических наблюдений, которые они продолжили во время последующих заходов «Резолюшн» в пролив Королевы Шарлотты.
Покинув 7 июня Новую Зеландию, корабли экспедиции шесть недель шли нa восток в полосе 40—47° ю. ш., чтобы удостовериться в отсутствии здесь Южного материка, а затем повернули на северо-запад и, открыв мимоходом три атолла в архипелаге Туамоту, 15 августа подошли к острову Таити.
Кук уже побывал здесь в 1769 г., через два года после открытия этого острова английским мореплавателем Уоллисом. Форстеры же не просто впервые попали на Таити: это была, по существу, их первая встреча с тропической Полинезией, так как они не высаживались на атоллах Туамоту. После изнурительного и опасного плавания в ледовых морях, после пребывания в Новой Зеландии с ее величественной, но суровой природой и столь же суровым и воинственным населением умиротворяющая красота таитянских ландшафтов, миролюбие, доброжелательность и приветливость местных жителей произвели неизгладимое впечатление на Форстеров, особенно на Георга. Всю жизнь он с восхищением вспоминал об этом «райском уголке» и воздал ему хвалу в своих произведениях.
Экспедиция пробыла на Таити и двух соседних островах, также принадлежащих к архипелагу Общества, чуть больше месяца. За это время Форстеры смогли собрать большой научный материал о природе архипелага и различных сторонах жизни его обитателей, приступили к изучению таитянского языка.
Южная зима уже подошла к концу, и экспедиции следовало возвращаться в высокие широты, на сей раз — Тихого океана. Но предварительно Кук решил осмотреть полинезийский архипелаг Тонга, открытый еще в 1643 г. голландским мореплавателем Тасманом, и снова зайти в Новую Зеландию.
Открыв по пути атолл Херви, корабли экспедиции 1 октября подошли к южной группе архипелага Тонга и пробыли здесь неделю, которую Форстеры использовали преимущественно для этнографических и лингвистических наблюдений, положив начало сравнительному изучению языков и культур Полинезии. Как и во время других высадок, отец и сын работали здесь буквально дни и ночи напролет: возвращаясь по вечерам с берега, они нередко до рассвета обрабатывали и зарисовывали собранные коллекции и записывали дневные наблюдения.
На подступах к Новой Зеландии «Резолюшн» и «Адвенчер» снова разлучились, теперь уже окончательно[620]. Прождав «Адвенчер» до 24 ноября в проливе Королевы Шарлотты, Кук вывел свой корабль в открытое море и взял курс на юго-восток. Начался второй поход в полярные широты.
21 декабря экспедиция вторично пересекла Южный полярный круг. Льды заставили ее временно отступить к северу, но 11 января 1774 г. Кук снова повел ее на юго-восток. 26 января «Адвенчер» в третий раз пересек Южный полярный круг и через четыре дня, поднявшись до 71°10' ю. ш., подошел к сплошному ледяному полю. Экспедиция находилась тогда примерно в 160 милях от побережья Антарктиды. Это был самый южный пункт, которого удалось достичь Куку. В этом секторе Антарктики дальше к югу удалось проникнуть лишь в конце XIX в.
Положение экспедиции становилось все более серьезным. Обледенели снасти и паруса, что затрудняло управление судном. Свежая провизия была на исходе, и команда питалась подпорченными сухарями и солониной. Несмотря на профилактические меры, принятые Куком, на корабле началась цинга, не пощадившая и Георга. Из-за лютого холода участились простудные заболевания. Особенно плохо приходилось больным ревматизмом, к которым относился Форстер-старший. Прикованный к койке в своей промерзшей насквозь каюте, он, судя по его дневнику, пал духом и проклинал тот день, когда согласился отправиться в экспедицию.
Два похода Кука в высокие широты Индийского и Тихого океанов опровергли умозрительную теорию о наличии там Южного материка. В соответствии с инструкцией Кук мог теперь, несколько отступив к северу, повести «Резолюшн» в высокие широты Южной Атлантики и, завершив, таким образом, кругосветное плавание, зайти в Капстад, а оттуда отправиться к родным берегам. Но Кук решил на южную зиму снова уйти в тропические широты Тихого океана, чтобы попытаться совершить там новые открытия и проверить местоположение некоторых ранее обнаруженных земель, а уж потом лучшую часть следующего лета посвятить обследованию Южной Атлантики. Кука не смущало, что его программа дополнительных исследований не соответствовала инструкции Адмиралтейства, которая не предусматривала столь длительного плавания. Вернувшись из этой экспедиции, он в 1775 г. откровенно писал французскому мореплавателю Латуш-Тревилю: «Тот, кто буква в букву придерживается приказов свыше, никогда не станет истинным первооткрывателем».
В начале февраля 1774 г. «Резолюшн» двинулся на север. Не найдя в юго-восточной части Тихого океана мифических земель, якобы обнаруженных испанским мореходом Фернандесом и английским пиратом Дэвисом, экспедиция 11 марта подошла к о-ву Пасхи, открытому в 1722 г. голландским мореплавателем Роггевеном. «Резолюшн» оставался у берегов Пасхи только шесть дней. Но и за этот короткий срок Форстеры сумели собрать интересный материал об острове и его обитателях, о загадочных каменных статуях.
Посетив в середине февраля Маркизские острова, открытые в 1595 г. испанским мореплавателем Менданьей, экспедиция прошла затем через северную часть архипелага Туамоту, где открыла и обследовала несколько атоллов. На этих двух архипелагах, как и на о-ве Пасхи, Форстеры продолжили сравнительное изучение языков и культур Полинезии.
22 апреля «Резолюшн» стал на якорь у северного побережья Таити. Так началась вторая «зимовка» на островах Общества, где экспедиция оставалась до начала июня. Для Форстеров это была горячая и радостная пора, вознаградившая их за суровые лишения, пережитые в полярных широтах. Они совершают экскурсии во внутренние районы Таити, возвращаясь с ценными ботаническими и орнитологическими коллекциями, углубляют свои познания в таитянском языке, знакомятся с социальной организацией и религией островитян, их флотом и мореплаванием.
4 июня экспедиция покинула о-ва Общества и взяла курс на запад. Открыв по пути о-в Ниуэ и посетив в конце июня центральную группу архипелага Тонга, «Резолюшн» вышел из «полинезийского треугольника» и вступил в пределы Меланезии.
17 июля корабль подошел к группе гористых островов. Один из них испанский мореход Кирос назвал в 1606 г. Южной Землей Святого духа, приняв за выступ Южного материка. В 1768 г. французский мореплаватель Бугенвиль установил, что это лишь островная группа, не связанная ни с каким континентом. Но Бугенвиль обследовал только северную часть группы. Кук же провел «Резолюшн» вдоль всего архипелага, открыв в его средней и южной частях несколько островов, а всю эту островную цепь назвал Новыми Гебридами. Месячное пребывание экспедиции в новогебридских водах позволило Форстерам не только довольно подробно описать природу этих островов, но и собрать сведения об их населении, существенно отличающемся по внешнему облику, языкам и культуре от жителей архипелагов Полинезии.
Отправившись на юго-запад от Новых Гебрид, экспедиция 3 сентября открыла большой остров, который Кук назвал Новой Каледонией. Форстеры вместе с Куком стали пионерами научного изучения этого острова, и в частности правильно предсказали наличие здесь «ценных и полезных минералов».
Приближалось южное лето. От берегов Новой Каледонии Кук повел корабль к Невой Зеландии, чтобы запастись свежей провизией и дать отдых команде перед дальним походом и высокие широты Южной Атлантики.
Открыв по пути небольшой остров Норфолк, Кук 10 октября в третий раз пришел в пролив Королевы Шарлотты, а через месяц вывел «Резолюшн» в открытое море и отправился к мысу Горн. Во время этого транстихоокеанского перехода корабль несли к Южной Америке попутные западные ветры, и уже на 37-й день плавания он подошел к Огненной Земле.
Обогнув с юга Огнеземельский архипелаг и совершив здесь несколько открытий, экспедиция в начале января 1775 г. вышла на просторы Южной Атлантики и направилась на восток в полосе между 50° и 60° ю. ш. 19 января «Резолюшн» наткнулся на остров, названный Куком Георгией (на современных картах — Южная Георгия). Не исключено, что к этому острову еще в 1675 г. подходил английский мореход французского происхождения Ларош. Но именно экспедиция Кука точно определила местоположение Георгии, положила ее на карту и оставила первое ее описание.
Взяв курс на юго-восток, экспедиция в начале февраля обнаружила множество мысов, островов и участков скалистого берега. Густой туман не только затруднил обследование этих земель, но и сделал пребывание в прибрежных водах смертельно опасным. Не сумев определить, что представляют собой открытые им фрагменты суши, Кук назвал их совокупность Землей Сандвича. В XIX в. было установлено, что это довольно значительный архипелаг, и ныне он именуется Южными Сандвичевыми островами.
Остров Георгия и Земля Сандвича глубоко разочаровали участников экспедиции. Почти полностью покрытые даже в разгар южного лета многометровым слоем снега и льда, эти земли, по убеждению Кука и Форстеров, были явно непригодны для человеческого обитания. В той части Западной Европы, которая лежит в аналогичных широтах Северного полушария, климат несравненно более благоприятен, и современные Куку географы приписывали сходные климатические особенности еще не открытому Южному материку. Устрашающе суровые, леденящие душу ландшафты острова Георгия и Земли Сандвича, как и вся обстановка походов Кука в высоких широтах Южного полушария, нанесли сильнейший удар по этим умозрительным представлениям.
Кук допускал, что южнее, поближе к полюсу, может находиться материк. Но если даже остров Георгия и Земля Сандвича, расположенные в субантарктических широтах, погребены под вечными снегами и льдами, то что можно ожидать от земель, лежащих за Южным полярным кругом? И начальник экспедиции пришел к пессимистическому выводу, что предполагаемый там материк недоступен для мореплавателей и не может принести никакой пользы человечеству. «Я могу взять на себя достаточную смелость, чтобы сказать,— записал он в своем дневнике 6 февраля 1775 г.,— что ни один человек никогда не решится сделать больше, чем я, и что земли, которые могут находиться на юге, никогда не будут исследованы». Однако, вопреки прогнозу Кука, в 1820—1821 гг. берега Антарктиды были открыты русской экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, положившей начало исследованию ледового материка.
Короткое южнополярное лето подходило к концу. Команда «Резолюшн» была изнурена долгим плаванием. Участились простудные заболевания, снова появилась угроза цинги, а запасы противоцинготных средств были исчерпаны. Кроме того, опасно износились снасти и паруса и не осталось материала для их починки или замены. В этих условиях Кук решил более не рисковать всеми результатами экспедиции ради дальнейших поисков материка, который он теперь считал недоступным и лишенным практической ценности. До 23 февраля экспедиция безуспешно искала в пятидесятых широтах «мыс Сирконсисьон», а затем отправилась к мысу Доброй Надежды.
21 марта 1775 г. «Резолюшн» прибыл в Капстад. С 22 ноября 1772 г., когда экспедиция ушла отсюда в высокие широты, до возвращения в этот порт корабль проделал путь, почти равный тройной протяженности экватора. 27 апреля «Резолюшн» вышел из Капстада и, посетив по пути остров Св. Елены и Азорские острова, 30 июля 1775 г. бросил якорь в гавани Спитхеда на южном берегу Англии. Второе кругосветное путешествие Кука, продолжавшееся 3 года и 18 дней, окончилось.
Экспедиция, в которой довелось участвовать Георгу Форстеру, явилась наиболее выдающимся событием в истории географических открытий и исследований второй половины XVIII в. Беспрецедентной была уже сама длина пути, проделанного «Резолюшн». Но значение этого плавания нельзя измерить только числом пройденных миль или «глубиной» проникновения в высокие широты Индийского. Тихого и Атлантического океанов.
После второй экспедиции Кука «плодородный и населенный Южный материк» навсегда исчез с географических карт. Зато на них появились важные открытия, сделанные экспедицией в океанийском островном мире и в Южной Атлантике. Кроме того, Кук и его спутники описали и положили на карту некоторые ранее обнаруженные земли, опровергли ложные открытия.
Экспедиция прославилась также своим вкладом в сокровищницу научных знаний. И главная заслуга тут принадлежала обоим Форстерам.
Например, обширная зоологическая коллекция, привезенная натуралистом экспедиции, включала более ста видов птиц и рыб, прежде неизвестных исследователям. По возвращении из плавания И. Р. Форстер создал несколько зоологических трудов, получивших признание у специалистов и не утративших значения до наших дней. Его считают одним из пионеров антарктической и новозеландской орнитологии.
Еще более внушительными оказались ботанические сборы, которыми занимался Георг. По подсчетам советского ученого М. Н. Караваева, Форстеры описали 75 новых родов и 364 новых вида растений, а общее количество гербарных образцов, привезенных из кругосветной экспедиции, составило несколько тысяч единиц. Опираясь на эти гербарии и свои превосходные зарисовки растений, Георг опубликовал труды, которыми широко пользовались следующие поколения исследователей. «Г. Форстер знаменит как ученый. Его слава — редкая: она растет с годами,— писал в 1863 г. Н. Г. Чернышевский.— С каждым новым десятилетием поднимается цена его идей о ботанике, лучше понимается, какой гениальный человек он был».
Натуралист самого широкого профиля, Форстер-старший в сотрудничестве с сыном внес значительный вклад в становление современной физической географии, океанографии и вулканологии. Его идеи о происхождении и строении атоллов отчасти предвосхитили теорию развития коралловых островов, созданную в середине XIX в. Чарлзом Дарвином.
Наряду с Куком Форстеры стояли у истоков научного изучения народов Океании. Но если Кук в этой сфере преимущественно тяготел к фиксации фактов, то Форстеры, не ограничиваясь наблюдениями, стремились на их основе к самым широким обобщениям. Значительный интерес, в частности, представляют их соображения о едином происхождении всех полинезийских народов, о фундаментальной общности их антропологического типа, языков и культур, проступающей сквозь локальные различия. И. Р. Форстер уделил много внимания составлению словарей языков островитян Океании. Эти рукописи, переданные в Берлинский университет, были широко использованы через полвека Вильгельмом Гумбольдтом в его знаменитых трудах в области сравнительного языкознания, приведших к формулированию понятия «малайско-полинезийская семья языков».
Научные заслуги обоих Форстеров были высоко оценены учеными того времени. По возвращении из экспедиции отец получил почетную степень доктора права Оксфордского университета, а сын стал членом лондонского Королевского общества. Они были также избраны почетными членами академий и научных обществ в немецких государствах, Франции, России, Швеции, Дании, Италии и Испании.
Огромный научно-познавательный материал, впечатления и идеи, вынесенные из кругосветного плавания, питали творчество Георга Форстера на протяжении полутоpa десятилетий. Среди этих научных и публицистических произведений особое место занимает «Путешествие вокруг света». История создания этой книги ярко характеризует обоих Форстеров, их взаимоотношения с британскими властями.
Как упоминалось выше, Форстер-старший перед отправлением в плавание договорился с Адмиралтейством, что по возвращении экспедиции он составит ее официальное описание. Предполагалось, что при этом он использует как свои собственные дневники, так и дневники Кука и разделит с ним поровну доходы от продажи книги. Рассчитывая на этот гонорар и на получение постоянной службы в Лондоне, И. Р. Форстер начал вести довольно широкий образ жизни. Но его расчеты были вскоре опрокинуты суровой действительностью.
Офицеры «Резолюшн», находившиеся в неприязненных отношениях с натуралистом экспедиции, восстановили против него первого лорда Адмиралтейства графа Сандвича. К тому же «гордый иностранец» умудрился навлечь на себя гнев любовницы этого вельможи. В результате Сандвич забраковал фрагмент описания, представленный на пробу И. Р. Форстером, и с соизволения короля в октябре 1775 г. поручил виндзорскому канонику Дж. Дугласу подготовить к печати дневники капитана Кука. Не зная об этом тайном поручении, Форстер приступил к созданию труда, который, как он надеялся, прославит его имя в веках. Однако в апреле 1776 г. его вынудили подписать соглашение, по которому Кук должен был взять на себя описание хода экспедиции, а ее натуралист — изложение результатов научных наблюдений, совершенных во время плавания, и «философские замечания». Вскоре Форстер передал Сандвичу две первые главы своего труда, но они были отвергнуты сиятельным лордом, как не соответствующие заключенному соглашению и перегруженные «маловажными деталями». Форстеру было предложено согласиться на то, чтобы его труд по мере написания подвергался сокращениям и правке лицом, назначенным Адмиралтейством. Это требование возмутило Иоганна Рейнгольда: с ним, известным ученым, намерены обращаться, как со школяром! Более того, он справедливо опасался, что под видом «редактуры» из его сочинения будут удалены все независимые суждения и оценки, неугодные властям. Попытки найти компромиссное решение ни к чему не привели, и в июле 1776 г., перед отравлением в третий кругосветный вояж, Кук сообщил Дугласу, что Форстер отстранен от участия в подготовке официального описания экспедиции 1772—1775 гг.
Как лицу, состоявшему на британской службе во время экспедиции, Форстеру-старшему было запрещено что-либо публиковать о ней без разрешения Адмиралтейства, во всяком случае до выхода в свет официального описания. Однако этот запрет не распространялся на Георга. И тогда отец поручил сыну написать книгу об их достопамятном плавании на «Резолюшн», а сам сосредоточился на подготовке общенаучного трактата, основанного на материалах, собранных во время экспедиция.
Георг горячо принялся за дело, так как понимал, что от успеха этого предприятия зависит не только честь отца, но и благосостояние семьи, снова оказавшейся к лету 1776 г. в трудном материальном положении. Необходимо было спешить, чтобы выпустить книгу раньше, чем выйдет из печати официальное описание экспедиции. И Георг, жертвуя своим здоровьем, серьезно подорванным цингой, неустанно и самоотверженно, часто впроголодь трудился над рукописью. «Георг очень слаб,— писал в январе 1777 г. И. Р. Форстер одному из немногих друзей.— Славный мальчик, конечно, заслужил у бога лучшую участь за свою преданность мне, братьям и сестрам». Георг совершил подвиг, написав огромную книгу всего за восемь месяцев. Он победил в состязании с каноником Дугласом: «Путешествие вокруг света» поступило в продажу в Лондоне уже в марте 1777 г., на шесть недель раньше, чем официальное описание экспедиции.
Творческий подвиг молодого автора тем более значителен, что еще до окончания работы над английским изданием он приступил к переводу книги на немецкий язык, чтобы поскорее опубликовать ее в Берлине. Наряду с Георгом в переводе участвовал немецкий ученый-эмигрант Р. Э. Распе, которого приютили у себя Форстеры, тот самый Распе, который впоследствии приобрел известность изданием «Приключений барона Мюнхгаузена».
Когда книга Георга вышла в свет, недруги Форстера-старшего принялись утверждать, что действительным автором является отец, а не сын. Эти утверждения опровергаются не только семейной перепиской Форстеров, но и анализом самой книги. Разумеется, Георг опирался на путевые дневники отца и в процессе работы над книгой пользовался его советами. Но исследователи установили, например, что некоторые этнографические наблюдения, приведенные в «Путешествии вокруг света», отсутствуют в дневниках Иоганна Рейнгольда. И это не случайно: Георг тоже вел путевые записки, частично сохранившиеся до наших дней, и к тому же красочно описывал картины и сцены, запечатлевшиеся в его памяти. Более того, выяснилось, что взгляды автора по конкретным вопросам отнюдь не всегда совпадают с теми, которых придерживался тогда Форстер-старший. Наконец, недвусмысленны результаты стилистического анализа. Язык книги, изящный и раскованный, присущ именно Георгу и существенно отличается от более сухого и тяжеловесного языка его отца. «Можете себе представить, с каким настроением, в каком расположении духа приходится трудиться над описанием путешествия, когда вокруг царят уныние и пустота»,— писал Георг в дни работы над книгой. Однако автору удалось преодолеть самого себя и возвыситься над мрачной действительностью. Книга пронизана оптимистическим мироощущением, верой в светлое будущее человечества. «Дело только за тем,— подчеркивает Георг,— чтобы обратить все силы нашего духа, все его величие и блеск на служение общему благу».
Утверждение всемогущества человеческого разума, способного преодолеть любые противоречия действительности,— характерная особенность идеологии Просвещения, в русле которой написано «Путешествие вокруг света». Автор обнаруживает хорошее знакомство с философскими системами Гельвеция, Руссо, Локка и Гоббса, с естественнонаучными теориями Бюффона, пытается их критически осмыслить, а местами и переосмыслить. Отсюда не всегда последовательное сочетание в книге элементов историзма с внеисторическими идеалистическими концепциями «естественного права» и «общественного договора», сосуществование деизма и пантеизма с элементами механистического материализма. Важно подчеркнуть, что Георг творчески использует идеи выдающихся представителей эпохи Просвещения не только при описании взаимосвязей природы и человека, социального бытия человеческих групп в различных географических условиях и на разных ступенях культуры. Подобно другим прогрессивным мыслителям второй половины XVIII в., он рассматривает сквозь призму этих идей наболевшие вопросы современности, придавая отвлеченным теоретическим построениям гуманистическое, освободительное звучание.
Гуманистическая направленность книги проявляется прежде всего в отношении автора к людям с иным цветом кожи, находящимся на более низкой ступени общественного и культурного развития. Уже в предисловии, излагая принципы своего повествования, Г. Форстер писал: «Все народы Земли в равной мере могли рассчитывать на мою доброжелательность. Этого я придерживался всегда. Я считал, что у других людей такие же нрава, как и у меня, мне хотелось, чтобы написанное мной служило общему благу и моя похвала, как и мое неодобрение, были независимы от национальных предрассудков, какими бы словами они ни прикрывались».
Исходя из этих принципов. Георг стремился отыскать у островитян Океании прежде всего «добрые и достойные свойства». Так, коренное население Новой Зеландии оказалось, по его наблюдениям, «храбрым, благородным, гостеприимным и не способным ни на какое вероломство», таитяне «проявили себя в высшей степени дружелюбно и доброжелательно», автора восхитили «трудолюбие и добросердечие» тонганцев, а у жителей о-ва Пасхи он обнаружил «сострадательность и добросердечность, делающие их столь услужливыми по отношению к чужеземцам и, насколько позволяет их скудная земля, гостеприимными». Георгу вначале не понравились меланезийцы Новых Гебрид, по своему внешнему облику сильно отличающиеся от европейцев, и он даже сравнил их с обезьянами. Но характерно, что уже через несколько дней он пришел к заключению, что «все их телесные недостатки вполне искупались остротой ума», нашел в этих островитянах «немало мужественности, живости и смышлености» и выразил мнение, что «было бы нетрудно сделать их несравненно более цивилизованными».
Георг не закрывал глаза на отрицательные явления, с которыми участники экспедиции сталкивались на островах Океании (каннибализм в Новой Зеландии, униженное положение женщины на Новой Каледонии и Новых Гебридах и т. д.). Однако он стремился объяснить эти явления, исходя из местных условий и той стадии развития, на которой находился данный народ, причем неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, нецивилизованные «дикари» человечнее и нравственнее утонченных и цивилизованных европейцев. «Мы сами отнюдь не каннибалы,— с сарказмом замечает он,— но тем не менее не видим ничего неестественного или ужасного в том, что затеваем сражения и сворачиваем шеи тысячам людей просто ради того, чтобы удовлетворить тщеславие правителя или каприз его любовницы».
Эмоциональной «вершиной» экспедиции стало для Георга двукратное пребывание на Таити. Именно при описании этого чудесного острова он достигает самых высоких образцов художественности. Со страниц, повествующих о Таити, веет какой-то античной свежестью и красотой.
Европейцы впервые узнали о Таити из описания кругосветной экспедиции Бугенвиля, опубликованного в 1771 г. Бугенвиль изобразил в розовом свете условия жизни таитян, их нравы и обычаи. Очарованный восхитительной природой острова, он писал, что чувствовал себя там словно в раю. Георг Форстер, казалось, продолжил эту традицию. В его поэтическом рассказе о Таити европейская публика, особенно в Германии, увидела подтверждение идей Руссо о первобытности как «золотом веке» человечества, о счастливом, «добродетельном дикаре», а само название далекого тихоокеанского острова вскоре превратилось в чудесную формулу, означающую место земного блаженства. Молодой Форстер действительно не избежал некоторой идеализации жизни на Таити. Однако современники и многие биографы Георга не заметили, что он все же сумел разглядеть там подлинные общественные отношения и даже представил их в социальной динамике.
Как вспоминает сам автор, уже через несколько дней после прибытия на Таити он понял несостоятельность своей надежды на то, что здесь существует всеобщее равенство. Форстер рассказывает, что эта «прекрасная мечта» рассеялась у него при виде толстого, ленивого вождя, который «проводил свою жизнь в таком же пресыщенном безделье, без всякой пользы для человеческого общества, что и привилегированные тунеядцы в цивилизованных государствах, поглощающие богатства страны, в то время как их более трудолюбивые сограждане вынуждены зарабатывать свой хлеб в поте лица».
После первого посещения этого острова Г. Форстер высказал мнение, что «общественное устройство на Таити в какой-то мере можно сравнить со старой европейской феодальной системой». Однако в следующем году, снова побывав в этих местах, он ближе подошел к истине, сопоставив таитян по культуре и общественному устройству с древними греками гомеровской эпохи, находившимися, по современным научным представлениям, на стадии формирования классов и государственности. По мнению автора, различия между общественными классами на Таити хотя и существенны, но еще не очень заметны ввиду простоты здешнего образа жизни. Но долго ли будет сохраняться такое положение? Георг отрицательно отвечает на этот вопрос. Угнетение простого народа знатью будет неуклонно возрастать, а пропасть между ними — все более увеличиваться. «Наконец,—пишет Георг,—простой народ ощутит этот гнет и задумается о его причинах, тогда в нем пробудится сознание ущемленных человеческих прав, и это вызовет революцию. Таков обычный круговорот во всех государствах».
Таким образом, Г. Форстер не только не рассматривает этот «райский уголок» как застывшую утопию, но и на таитянском материале формулирует очень важный вывод о закономерности социальной революции как средства борьбы с тиранией. Этот вывод молодого Форстера перекликается с идеями американской Декларации независимости, принятой в июле 1776 г., т. е. в дни, когда он начинал работу над «Путешествием вокруг света», и почти на тринадцать лет предваряет аналогичные положения французской Декларации прав человека и гражданина.
Опираясь на собственные наблюдения, Георг вносит коррективы в учение Руссо о первобытности. Он выражает несогласие с руссоистской трактовкой первоначального («естественного») состояния человечества как некоего «золотого века», как эры всеобщего счастья и гармонии, но не солидаризируется и с противоположной концепцией Гоббса, по которой «естественное состояние» было «войной всех против всех». Полемизируя с Руссо и его «поверхностными последователями», автор приводит в качестве примера обитателей Огненной Земли, которые, по его мнению, находились тогда на низшей ступени общественного и культурного развития. «Достаточно указать,— пишет он,— на беспомощное и плачевное состояние сих пессерэ, дабы убедиться, насколько мы счастливее при своем цивилизованном устройстве». По Форстеру, значительно ближе к идеальному «естественному состоянию», постулированному Руссо, оказались жители Маркизских островов, которые на шкале развития общественных форм занимали промежуточное положение между огнеземельцами и таитянами.
Георгу очевидны «великие преимущества» цивилизации, которая ассоциируется в его сознании с развитием культуры, промышленности и торговли, с техническим прогрессом. Однако он ясно видит язвы и пороки современного ему европейского общества, и в этом он согласен с Руссо. «Наши цивилизованные народы,— заявляет Георг,— слишком запятнаны пороками, неведомыми даже несчастному дикарю, который едва отличается от неразумного животного. Какой стыд, что более высокая степень знаний и способности мыслить не привела нас к чему-то лучшему!»
Форстер остро критикует в книге многие стороны современной ему европейской действительности: социальное и имущественное неравенство, всевластие и паразитизм знати, «позорящую человечество торговлю рекрутами», гнусный разврат, процветающий в столицах и т. д. Столь же недвусмысленно осуждает он колониальную политику европейских держав, будь то деятельность голландской Объединенной Ост-Индской компании, угнетение негров-рабов, в английских и французских колониях или зверства испанских колонизаторов в Латинской Америке.
«Первооткрыватели и покорители Америки.— отмечает Георг,— заслужили много справедливых упреков в жестокости, ибо они обращались с несчастными народами этой части света не как со своими братьями, но как с лишенными разума животными и считали себя вправе убивать их чуть ли не ради удовольствия. Но кто бы мог,— горестно вопрошает автор,— в наши просвещенные времена ожидать, что предубеждения и опрометчивость нанесут едва ли не такой же ущерб обитателям Южного моря (южной части Тихого океана.— Д. Г.)?» В этом отношении не были исключением и команды кораблей Кука. С нескрываемым возмущением рассказывает Г.Форстер о насилиях и жестокостях, которые творили офицеры и матросы экспедиции, и подчеркивает, что во всех вооруженных столкновениях повинны были английские моряки.
Как же совмещается во взглядах автора вера в преимущества «цивилизованного устройства» с осуждением его многочисленных пороков? В соответствии с просветительской идеологией своего времени Форстер объясняет все эти пороки нарушением «естественных законов», забвением «священных прав простого человека», злоупотреблениями правителей, которых народ добровольно наделил властью, с тем чтобы они использовали ее в общественных интересах. Необходимо переустройство общества на разумных основах, в соответствии с «естественным правом». Тогда полностью проявятся все преимущества цивилизации и перед человечеством откроются самые светлые перспективы.
Выше уже отмечалось, что Г. Форстер считал закономерной социальную революцию как средство борьбы с тиранией. Но какое общественное устройство должно прийти на смену отвергнутому, какая форма социальной организации наиболее близка «естественным законам»? У Георга, очевидно, еще не сложились определенные взгляды по этому вопросу. Так, в главе, рассказывающей о первом пребывании экспедиции в Новой Зеландии, автор выразил мнение, что «наследственное правление естественно ведет к деспотизму». Вместе с тем, судя по некоторым высказываниям в последней главе, он тогда еще возлагал надежды на преобразующую деятельность «просвещенных монархов».
Рассыпанные по всей книге, вплетенные в ткань повествования о далеких и экзотических странах критические выпады автора претив «тиранического режима», сословного неравенства и т. д. справедливо воспринимались современниками прежде всего как осуждение феодально-абсолютистских порядков в европейских государствах. Что же касается «царства разума», столь милого сердцу Георга, то в тогдашних условиях оно объективно могло означать лишь господство находившейся на историческом подъеме буржуазии. Но вот что характерно: противопоставляя островитян Океании «испорченным» европейцам, автор черпал отрицательные примеры почти исключительно из английской жизни. Поэтому можно с достаточным основанием утверждать, что он разочаровался в той форме буржуазного государства, которая существовала тогда в Англии. Освободительные, просветительские идеи, которыми пронизано «Путешествие вокруг света», при всей их фрагментарности, а порой и непоследовательности — важный этап в идейной эволюции Георга Форстера, в конечном счете приведшей его в лагерь якобинцев.
Георг адресовал свою книгу не ученым мужам (хотя в ней содержалось множество новых научных фактов и обобщений) и не завсегдатаям великосветских салонов, а демократическим слоям европейского общества. И «Путешествие вокруг света» нашло своего читателя, который заинтересовался не только красочными описаниями заморских стран и народов, но и размышлениями автора по широкому кругу естественнонаучных, общественно-политических и нравственных проблем.
Однако признание пришло не сразу. В частности, в Лондоне это сочинение в 1777 г. распродавалось очень медленно, так как покупатели предпочитали ему появившееся вскоре в продаже официальное описание второй экспедиции Кука, снабженное при той же цене 63 великолепными гравюрами, которых лишена была книга Георга. Форстеры предприняли издание на собственный страх и риск, и их надежда поправить с помощью этой книги свои финансовые дела не оправдалась. Материальное положение семьи становилось все более тревожным. Поссорившись со всемогущим Адмиралтейством, Иоганн Рейнгольд, как некогда в России, лишил себя возможности поступить на государственную службу или даже получить место преподавателя. В его убогое жилище зачастили судебные исполнители. Продажа книг из личной библиотеки и части научных коллекций не могла надолго спасти положения. Чтобы избавить отца от долговой тюрьмы и найти ему подходящую службу, Георг в 1778 г. отправился в Германию.
В столицах немецких государств уже распространился слух о молодом немце, совершившем вместе с отцом кругосветное плавание на корабле Кука, и Георга повсюду встречали с почетом. В результате он не только сумел выхлопотать для отца место университетского профессора естественных наук в Галле, но и сам был приглашен на такую же должность в Кассель. Однако если Форстер-старший оставался в Галле до конца своих дней (он умер в 1798 г.), то Кассель для Георга явился лишь станцией на большом жизненном пути.
Молодой ученый задыхался в затхлой атмосфере Гессен-Кассельского ландграфства, правитель которого не только жестоко угнетал своих подданных, но и не гнушался продавать рекрутов в Англию. В 1784 г. по приглашению польских властей Г. Форстер переехал в Вильно (Вильнюс) и занял кафедру естественной истории в местном университете. Но и в шляхетской Речи Посполитой он не нашел достойного применения своим способностям, не мог примириться с нищетой народа, с ужасами крепостного права. Георг женился, но брак оказался несчастливым. В этой гнетущей обстановке он все чаще вспоминал о своем кругосветном плавании, которое, как он писал, теперь казалось ему чудесным сном.
В «Путешествии вокруг света» Форстер объективно рассказал о деятельности начальника экспедиции, особо выделив его бесстрашие, железную силу воли, заботу о здоровье команды, огромные навигационные способности. Георг вернулся к оценке Кука в 1787 г., через восемь лет после его гибели на Гавайских островах. В большой статье «Кук — первооткрыватель» он — в свете согревавших его сердце воспоминаний о знаменитом плавании — нарисовал очень интересный, философски обобщенный, но несколько идеализированный портрет великого английского мореплавателя.
Через несколько месяцев после написания этой статьи Г. Форстер неожиданно получил приглашение взять на себя научное руководство первой русской кругосветной экспедицией, которой должен был командовать Г. И. Муловский. Георг с энтузиазмом принял это предложение, столь отвечавшее его душевному состоянию и научным интересам. Перебравшись в Геттинтен для консультаций с живущими там видными учеными, он начал тщательно и всесторонне готовиться к дальнему плаванию. Но вскоре разразилась русско-турецкая, а затем и русско-шведская войны, и экспедиция была отложена. Георгу пришлось в 1788 г. принять место главного библиотекаря университета в Майнце.
Майнцский период в жизни Форстера, продолжавшийся около пяти лет,— переломный как в идейно-политическом, так и в творческом отношениях. От занятий преимущественно естественными науками Георг перешел тогда к разработке философских и эстетических проблем, к активной литературно-публицистической деятельности. Он отказался от некоторых просветительских иллюзий, в том числе от надежд на «просвещенную монархию», жадно впитывал революционно-демократические идеи, стал убежденным республиканцем и, наконец, обратился к революционной практике.
Еще в 1782 г. в письме к отцу Георг предсказал приближение революции, которая сметет существующий строй, высказался за революционное «кровопускание». Неудивительно, что он с радостью встретил начавшуюся в 1789 г. французскую буржуазную революцию. Георг непрерывно учился у революции, развивался вместе с нею, стремился понять динамику революционного процесса.
В октябре 1792 г. в Майнц вступили войска революционной Франции. Знать во главе с курфюрстом бежала из города. Форстер вошел во временное правительство, возглавил местный якобинский клуб, был избран вице-президентом Рейнско-немецкого национального конвента. В городе и округе были отменены все феодальные повинности и привилегии. В марте 1793 г. по инициативе Георга конвент провозгласил создание Майнцской республики — первого демократического государства на немецкой земле.
Майнцу угрожали войска коалиции феодально-абсолютистских государств. Чтобы спасти революционные преобразования, местный конвент принял решение о присоединении республики к Франции. Форстер был послан с соответствующей петицией в Париж, и это спасло его от расправы, так как в июле 1793 г. после четырехмесячной осады Майнц был захвачен войсками контрреволюционной коалиции. Первая немецкая демократическая республика перестала существовать.
Форстеру пришлось остаться во Франции. Он выполнял дипломатические поручения французского правительства, посылал статьи и письма в Германию, стремясь способствовать распространению там революционных идей. Георг сумел понять необходимость революционного террора и стал горячим защитником якобинской диктатуры. Он заинтересовался сочинениями социалистов-утопистов, выступал за такую республику, где не будет контрастов между богатством и нищетой.
Как видно из его писем, 39-летний Форстер оптимистически смотрел в будущее, в его голове рождались смелые замыслы. Однако в декабре 1793 г. у Георга началось воспаление легких, которое осложнилось воспалением суставов и другими тяжкими недугами. Друзья, революционные эмигранты, заботились о больном, старались облегчить его положение, но не смогли предотвратить печальный исход. 12 января 1794 г. Георга не стало.
На постели умирающего лежала карта Индии, которую он предполагал посетить. Характерная деталь! Ведь судьба немало бросала его по свету. Заволжские степи, Петербург и Лондон, ледовые моря Антарктики и залитые солнцем острова Океании, снова британская столица, Кассель, Вильно, Майнц и, наконец, Париж — географические вехи на его жизненном пути. Но это были не просто странствия. Жизнь Форстера можно уподобить восхождению — к высотам науки, к познанию общественного блага, к борьбе за лучшее будущее человечества. Георг мечтал о таком общественном устройстве, при котором все люди, по его собственным словам, будут «счастливыми, деятельными, разумными и свободными», и посвятил себя служению этой великой цели.
* * *
Георг Форстер, при всей его скромности, незадолго до смерти выразил надежду на то, что о нем вспомнят потомки, живущие в обществе социальной справедливости. Такое время наступило. В Германской Демократической Республике, где высоко чтут память немецких революционеров-патриотов, к числу которых Энгельс закономерно отнес и Форстера, имя его окружено почетом и уважением.
Ученые ГДР всесторонне исследуют его жизнь и творчество, писатели создают о нем художественные произведения. Большими тиражами публикуются там избранные труды Георга, в том числе и «Путешествие вокруг света», а Академия паук ГДР после большой подготовительной работы выпустила в свет полное собрание его сочинений.
В последние десятилетия значительно увеличился интерес к этому замечательному ученому, просветителю и революционеру в нашей стране. Появились исследования, посвященные его общественной и научной деятельности. В 1960 г. был издан однотомник его избранных произведений[621]. Кроме того, отрывки из больших работ Форстера, а также статьи, речи и письма, характеризующие его главным образом как политического деятеля, были включены в 1956 г. в сборник произведений немецких демократов XVIII в.
Однако самый крупный и многогранный труд Георга — «Путешествие вокруг света» — оставался почти неизвестным широким кругам советских читателей, так как лишь небольшие его фрагменты были напечатаны в упомянутом сборнике[622]. Поэтому было решено опубликовать в переводе на русский язык полный текст этого выдающегося произведения.
Нынешний перевод выполнен по немецкому изданию, вышедшему под редакцией Г. Штайнера, известного знатока и исследователя жизни и творчества Форстера. При этом Штайнер опирался на Полное собрание сочинений Георга, в подготовке которого он принимал самое деятельное участие. Перевод научно-художественного произведения, принадлежащего перу признанного мастера немецкой прозы,— дело сложное и ответственное. Переводчик, как нам представляется, успешно справился со стоявшей перед ним задачей. Не прибегая к искусственной стилизации, он сумел тонко передать особенности стиля и эмоционального настроя автора и в то же время с большой точностью воспроизвел собственно смысловую, содержательную сторону произведения.
Немалые трудности пришлось преодолеть при подготовке комментариев. Ведь в книге представлен широкий спектр естественных и общественных наук, которые ушли далеко вперед со времен Форстера. Работа осложнялась еще и тем, что Георг охотно ссылался или намекал на произведения и взгляды античных авторов, а также ученых и путешественников XVI—XVIII вв., нередко весьма слабо документируя эти свои экскурсы. Вот почему при подготовке комментариев оказалось необходимым привлечь большое количество научных и справочных изданий по самым различным областям знаний. При этом были критически использованы результаты сходной работы, уже проделанной учеными ГДР, а также примечания к английскому и русскому изданиям дневников Кука. Однако и в книге, предлагаемой вниманию читателей, не удалось в полной мере прокомментировать поистине энциклопедическое сочинение Форстера.
Что же касается настоящей статьи, то при ее подготовке наряду с сочинениями самого Форстера были использованы посвященные ему груды советских исследователей[623] и ученых ГДР[624], а также некоторые работы западных авторов, содержащие ранее не опубликованный архивный материал[625].
Географические названия в тексте даны в точном соответствии с немецким оригиналом, но в квадратных скобках указаны их современные эквиваленты. Георг не всегда заботился о единообразном написании имен собственных. Как и публикаторы произведений Форстера в ГДР, мы не стали устранять эти небольшие расхождения, но в необходимых случаях сделали оговорки в комментариях.
Переводчик стремился к фонетически точному воспроизведению западноевропейских фамилий. Однако некоторые фамилии даны в традиционном написании, принятом в советской историко-географической литературе, тем более что часть из них встречается в такой форме на географических картах. Вот почему в книге появились, например, Сандвич, Банкс, Хауксуорт и Дальримпдь (правильнее — Сэндвич, Бэнкс, Хоксуорс и Дэлримпл).
С конца XVIII в. существенно изменились научные классификации растений и животных. В книге повсюду сохранены те их латинские обозначения, которые содержатся в оригинале. Однако во многих случаях в комментариях сообщаются современные данные по их систематике.
Системы мер длины, поверхности, емкости и веса, употреблявшиеся в XVIII в. в европейских государствах, сложны и запутаны, и это наглядно проявилось в книге Форстера. Авторская воля и в данном отношении полностью соблюдена, но все «экзотические» и устаревшие меры объяснены в комментариях.
Температуры в немецком тексте указаны в градусах по шкале Фаренгейта. В русском издании рядом с ними в квадратных скобках приведены градусы по шкале Цельсия,
Книга иллюстрирована главным образом гравюрами с рисунков художника У. Ходжса, спутника Кука и Форстеров. Вопреки предварительной договоренности британское Адмиралтейство не разрешило Форстеру использовать уже подготовленные гравюры, резервировав их для официального описания экспедиции. Теперь мы можем в какой-то мере исправить эту несправедливость.
Георг был способным рисовальщиком. Но он зарисовывал во время экспедиции только образцы растений и животных. Один такой рисунок включен в нынешнее издание.
Прошло более двух веков со времени второй кругосветной экспедиции Дж. Кука, но до сих пор она привлекает внимание как специалистов, так и широкого круга читателей. В 1961 г. новозеландский исследователь Дж. Биглхоул опубликовал дневники Кука, очищенные от редакторского произвола каноника Дугласа[626]. Через три года появилось русское издание этой книги[627].
Дневники Кука заняли достойное место среди книг великих мореплавателей, обогатили литературу по истории географических открытий и исследований. Но можно смело утверждать, что «Путешествие вокруг света» Г. Форстера не только существенно дополняет в фактическом отношении труд начальника экспедиции, но и превосходит его своими художественными качествами, глубиной проникновения в суть научных проблем и особенно широтой обобщений. Более того, книга молодого Форстера, как мы пытались показать, проникнута просветительскими, освободительными идеями, и это делает ее одним из выдающихся памятников эпохи Просвещения.
Д. Д. Тумаркин
РИСУНКИ
Георг и Иоганн-Рейнгольд Форстеры на Таити. С рис. Ж. Риго;
Шлюп «Резолюши» (в центре) на рейде Портсмута. С картины Ф. Холмена
Портрет капитана Кука написанный У. Ходжсом.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Татуированный маори (Там, где не указан художник, гравюры выполнены по рис. У. Ходжса).
Семья маори
Орудия в оружие маори
ОСТРОВА ОБЩЕСТВА
Таитянин Омаи
Лодки у побережья о-ва Таити
Таитянин О-Хедиди
Оту, верховный вождь о-ва Таити
Место захоронения таитянского вождя
МАРКИЗСКИЕ ОСТРОВА
Вождь о-ва Тахуата (Санта-Кристина)
Жительница о-ва Тахуата
Церемониальная палица, веер и украшения
Лодки у побережья о-ва Тахуата
ОСТРОВА ТОНГА
Оружие и утварь тонганцев
Культовое сооружение на о-ве Тонгатабу
Вид на о-ве Тонгатабу
Высадка на о-ва Эуа (Мидделбург)
ОСТРОВ ПАСХИ
Жительница о-ва Пасхи
Вид на о-ве Пасхи
Житель о-ва Пасхи
Статуи на о-ве Пасхи
НОВЫЕ ГЕБРИДЫ
Жительница о-ва Танна с ребенком
Высадка Кука на о-в Танна
Житель о-ва Танна
Вид на о-ве Танна
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
Житель Новой Каледонии
Вид на Новой Каледонии
Жительница Новой Каледонии
Вид на о-ве Пен (Куние)
ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Огнеземелец
Пингвины. С рис. Г. Форстера
Примечания (составил Д. Д. Тумаркин)
1
В 1760—1820 гг. британский престол занимал Георг III. Он был одним из вдохновителей английской колониальной экспансии и борьбы с восставшими североамериканскими колониями. В конце XVIII — начале XIX в. принимал деятельное участие в борьбе против Великой французской революции и в организации коалиций против Наполеона.
(обратно)2
Фердинанд II (1452—1516)—с 1479 г. король Арагона и Кастилии (как муж Изабеллы, королевы Кастилии). Объединил на основе династической унии Арагон и Кастилию, что фактически означало создание в Испании единого государства. В период его правления были снаряжены экспедиции Колумба и положено начало испанской колониальной экспансии.
(обратно)3
Плутос — в древнегреческой мифологии бог богатства, владеющий деревьями и злаками, рождаемыми землей, а также хранящимися в пей металлами.
Данаиды — в древнегреческой мифологии дочери Даная, сына египетского царя Бела. В наказание за убийство своих мужей они, по одному из вариантов мифа, должны были в подземном мире вечно наполнять водой бездонную бочку.
(обратно)4
Имеются в виду плавания Дж. Байрона, С. Уоллиса и Ф. Картерета, о которых см. примеч. 37 и 38
(обратно)5
Characteres Generum Plantarum quas in Insulis Maris Australis collegg. etc. loannes Reinoldus Forster et Georgius Forster, cum 78. tabb. aen. 4 Lond. et Berol. apud Haude et Spener 1776. 8 Thlr.— примеч. Форстера
(обратно)6
Эти расходы составили более 2 тысяч фунтов стерлингов, так как гравюры были заказаны лучшим художникам. — примеч. Форстера
(обратно)7
Сандвич, Монтегю (1712 — 1792)—граф, английский государственный деятель. В 1771—1782 гг. был первым лордом Адмиралтейства.
(обратно)8
Речь идет о двух анонимных сочинениях: Journal of the Resolution's Voyage... by Which the Non-Existence of an Undiscovered Continent, between the Equator and the 50th Degree of Southern Latitude, is Demonstratively Proved. L., 1775: A Second Voyage Round the World... By James Cook, Esq., Commander of His Majesty's Bark the Resolution... Drawn up from Authentic Papers. London and Cambridge, 1776. Как установили исследователи, автором первой небольшой книжки был матрос «Резолюшн» Дж. Марра. Второе сочинение составлено лицом, по принимавшим участия в плавании Кука (по некоторым данным—студентом Кембриджского университета). Оно изобилует всяческими вымыслами и не представляет интереса.
(обратно)9
Имеется в виду издание: J. С о о k. A Voyage Towards the South Pole, and Round the World. Performed in His Majesty's Ships Resolution and Adventure, in the Years 1772, 1773, 1774 and 1775, 2 vols. L., 1777. Это издание было подготовлено к печати виндзорским каноником Дж. Дугласом, переработавшим без ведома Кука текст его дневников.
(обратно)10
П а л и н у р — в древнегреческой мифологии кормчий на судне Энея, одного из главных героев Троянской войны.
(обратно)11
Совершенного на корабле «Индевр» [«Попытка»] в 1768—1771 гг. и описанного д-ром Хауксуортом в трех томах ин-кварто с 62 гравюрами и картами . — примеч. Форстера
Английский литератор Джон Хауксуорт (1719—1773) выпустил в 1773 г. трехтомное описание европейских путешествий в Южные моря, в том числе первого кругосветного плавания Дж. Кука. Ко времени выхода в свет «Путешествия вокруг света» Г. Форстера сочинение Хауксуорта было дважды опубликовано в переводе на немецкий язык, причем под разными названиями: J. Hawkeswогth. Geschichte der Seereisen und Entdeckungen im Süd-Meer. 3 Bde. В., 1774; он же. Ausführliche und glaubwürdige Geschichte der neuesten Reisen um die Welt, 4 Bde. В., 1775. В своей книге Форстер использовал оба эти издания, не всегда указывая, какое именно. В нашей публикации данное сочинение обозначается в сносках как Хауксуорт.
(обратно)12
Все это известные факты, но в опубликованных описаниях о них не напечатано ни слова. Бугенвиль некоторое время оставался возле Хуан-Фернандеса и запасся там свежей провизией, хотя и упомянул, что неблагоприятный ветер мешал ему пристать к берегу. Капитан Кук на «Индевре» вместе с английским фрегатом обстреляли форт Лоо на Мадейре, дабы поддержать честь британского флага, но об этом даже не упомянуто в собрании Хауксуорта. — примеч. Форстера
(обратно)13
М и к р о л о г — здесь лицо, занятое обсуждением и изучением незначительных вопросов.
(обратно)14
Завсегдатаев Парнаса, ищущих услады для слуха (иноязычные цитаты, кроме специально оговоренных случаев, даны в нашем переводе.— Примеч. пер.).
(обратно)15
Составленная Форстером карта во многом устарела, а потому не публикуется в настоящем издании.
(обратно)16
До сих пор его неправильно называли Омиа. Капитан Фюрно привез его в Англию на корабле «Адвенчер» [«Предприятие»]. — примеч. Форстера
(обратно)17
Тупайа — уроженец полинезийского архипелага Общества. Обладая огромными способностями и неутомимой любознательностью, он уже в юности глубоко изучил мореходное дело, приобрел астрономические познания и, основываясь преимущественно на старых преданиях, составил достаточно ясное представление о географии центральной Океании. Тупайа нарисовал для Кука карту, на которой обозначил 74 острова, в большинстве своем еще неизвестных европейцам. Познакомившись с Тупайей летом 1769 г. на острове Таити, Кук взял его в Англию, но юноша умер от малярии в декабре 1770 г. во время стоянки «Индевра» в Батавии (Джакарте).
(обратно)18
Даже с точки зрения затрат осуществить это не так уж трудно, ведь все снаряжение нашего последнего кругосветного плавания, включая покупку, обоих кораблей и все сопутствующие издержки, обошлось не более чем в 25 000 фунтов стерлингов, что для английской нации ничтожная сумма. — примеч. Форстера
(обратно)19
Испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа назвал увиденный им в сентябре 1513 г. океан Южным морем (Mar del Sur).
(обратно)20
Безбрежный океан, который пересекали его корабли, Фернан Магеллан назвал Мирным или Тихим (Pacifico), так как все время стояла ясная погода и океан был удивительно спокойным. Один из открытых им необитаемых островков расположен на восточной окраине архипелага Туамоту, другой — в южной группе Центральных Полинезийских Спорад.
(обратно)21
Путешествия англичан, сэра Френсиса Дрейка (1577—1580) и сэра Томаса Кандиша (1586—1588), были иного рода. Они занимались не открытиями, а грабежом и разбоем. Однако Дрейк уже тогда проник вдоль северо-западного побережья Америки дальше, чем это удавалось с тех пор (вплоть до последнего десятилетия) испанцам, и назвал землю к северу от Калифорнии Новым Альбионом. — примеч. Форстера
(обратно)22
Дальримпль, Александр (1737—1808) — английский географ, гидролог Ост-Индской компании, а с 1795 г. глава гидрографической службы Адмиралтейства. Один из наиболее авторитетных сторонников и пропагандистов умозрительной теории Южного материка. Дальримпль ошибался, считая, что Новая Британия и Новая Ирландия относятся к Соломоновым островам. В действительности эти два острова входят в архипелаг Бисмарка, расположенный к северо-западу от Соломоновых островов.
(обратно)23
Вторая экспедиция Менданьи, которая должна была в 1577 г. отправиться к Соломоновым островам, не состоялась.
(обратно)24
Более подробные и полные сведения об этих плаваниях содержатся в прекрасном собрании, которое издал с картами и гравюрами господин Александр Дальримпль (Alexander Dalrymple) под названием: An historical Collection of the several Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean. Vol. 2. L., 1771. [Далее цит. Форстепом как Dalrymple's Collection.—Примеч. ред.]
(обратно)25
Я также не касаюсь плаваний голландцев Симона де Кордеса, Оливара ван Ноорта и Георга Спигельбергена. Они лишь грабили испанские колонии в Перу, а потом отправились известным курсом к Ладронским островам в Северном полушарии. — примеч. Форстера
(обратно)26
Ramussio. Vol. 1, p. 126. 4 .— примеч. Форстера
Имеется в виду книга венецианского географа Дж. Б. Рамусио (1485—1557): G. В. Ramusio. Navigationi et viaggi. T. 1. Venetia, 1563.
Веспуччи, Америго (ок. 1454—1512)—мореплаватель-итальянец, состоявший на испанской и португальской службе. В 1499 — 1504 гг. участвовал в нескольких экспедициях к берегам Нового Света. В XVI в. ему было приписано открытие «четвертой части света», сделанное Колумбом, и этот материк был назван в его честь Америкой.
Относительно открытия Фолклендских (Мальвинских) островов существуют разные версии. Согласно аргентинской версии, эти острова были открыты в 1520 г. португальским капитаном на испанской службе Э. Гомесом (Гомишем), покинувшим экспедицию Магеллана; согласно английской версии — в 1592 г. английским капитаном Дж. Дэвисом.
(обратно)27
Кирос, Педро Фернандес (1560—1615)—испанский мореплаватель, португалец родом (португ. Кируш Пэдру). Форстер неточно рассказал об его экспедиции 1605 — 1606 гг. Кирос сделал открытия в архипелаге Туамоту, северной группе о-вов Кука, в группах Банке и Дафф. В архипелаге Новые Гебриды он открыл большой о-в Эспириту-Санто, который принял за выступ некоего Южного материка. Форстер, подобно некоторым другим своим современникам, ошибался, полагая, что остров, названный Киросом Сагитарией, и есть Таити. По мнению современных исследователей, Сагитария — это, скорее всего, атолл Рароиа в архипелаге Туамоту.
(обратно)28
Участник экспедиции Кироса португальский мореплаватель Луис Ваэс де Торрес (1560—1614) в 1606 г. открыл пролив между Новой Голландией (Австралией) и Новой Гвинеей, впоследствии справедливо названный его именем. В этом проливе, изобилующем островами, в настоящее время известно несколько проходов. Проход Индевр, обнаруженный Куком в 1770 г., расположен в южной части пролива, между п-вом Кейп-Йорк и о-вом Принца Уэльского.
(обратно)29
Голландские мореплаватели Биллем Корнелис Схаутен и Якоб Ле-Мер в 1616 г. обогнули Огненную Землю и открыли крайнюю оконечность южноамериканского континента — мыс Горн. К востоку от Огненной Земли они обнаружили высокий берег, который назвали Землей Штатов (ныне о-в Эстадос), приняв его за выступ Южного материка. В Тихом океане они открыли несколько атоллов в архипелаге Туамоту, два острова к северу от архипелага Тонга, о-в Хорн и несколько островов в архипелаге Бисмарка.
(обратно)30
Плавание голландцев Якоба л'Эрмите и Хуго Схапенхама в 1623—1626 гг. не ставило целью открытие новых земель. Благодаря ему было лишь более точно, чем прежде, определено положение мыса Горн и островов, прилегающих к Огненной Земле .— примеч. Форстера
Голландские адмиралы Якоб л'Эрмите (ум. в 1624 г.) и Ген Хюго Схапенхам (ум. в 1625 г.) командовали «Нассауским флотом» (эскадрой, названной в честь правителя Нидерландов Морица Нассау-Оранского), посланным в Тихий океан, чтобы разорить испанские гавани в Перу и Мексике. Пройдя в 1624 г. проливом Ле-Мер, назвали в честь л'Эрмите группу островов в районе мыса Горн. При переходе через Тихий океан Схапенхам, по-видимому, открыл в 1625 г. о-в Яп — один из наиболее Крупных островов в западной части Каролинского архипелага.
(обратно)31
Голландский мореплаватель Абель Янсзон Тасман (1603—1659) открыл в Океании архипелаги Тонга и Фиджи. То, что Вандименова Земля (Тасмания) — остров, а не часть Новой Голландии (Австралии), было установлено лишь в 1798 г. английским исследователем Мэтью Флиндерсом.
(обратно)32
Английский пират и натуралист Уильям Дампир (1652—1712) в течение тридцати лет вел научные наблюдения во многих океанах и морях. В 1699 г. он открыл несколько островов к северу-востоку от Новой Гвинеи, причем островную группу, впоследствии названную архипелагом Бисмарка, принял за единый остров, который назвал Новой Британией. О неправильности смешения Новой Британии с Соломоновыми островами см. примеч. 22.
(обратно)33
Галлей, Эдмунд (1656—1742)—выдающийся английский астроном, один из создателей океанографической науки. Записки Галлея о его плавании в Атлантическом океане в 1699—1700 г. были опубликованы посмертно в 1775 г.
(обратно)34
Голландский мореплаватель Якоб Роггевен (1659—1729) помимо острова Пасхи открыл в 1722 г. несколько атоллов в архипелаге Туамоту, где затонул один из его кораблей. В архипелаге Самоа экспедицией Роггевена открыты о-ва Мануа, Тутуила и Уполу.
(обратно)35
Гринвич — королевская обсерватория Великобритании в 4' к востоку от Лондона. — примеч. Форстера
(обратно)36
Французский мореплаватель Жан Батист Буве де Лозье (1705—1786), увидев 1 января 1739 г. высокий, покрытый снегом берег, решил, что подошел к выступу Южного материка, и назвал открытую им землю мысом Сирконсисьон. В действительности это был не мыс, а маленький островок (на современных картах — о-в Буве). В начале XIX в. к нему несколько раз подходили торговые суда, но существование этого острова было окончательно подтверждено лишь в 1898 г.
(обратно)37
Английский адмирал Джордж Ансон (1697—1762) в 1740—1744 гг. совершил кругосветное плавание, в ходе которого разорял испанские поселения, грабил и топил испанские корабли, а также вел поиски удобных баз на главных морских путях.
Английский мореплаватель Джон Байрон (1723—1786), дед известного поэта, участвовал в кругосветном плавании Ансона. В 1764—1766 гг. руководил кругосветной экспедицией. Во время перехода в 1765 г. через Тихий океан открыл несколько островов в архипелагах Туамоту, Токелау и Гилберта.
(обратно)38
Английский капитан Сэмюэл Уоллис (1728—1795) руководил в 1766—1768 гг. кругосветной экспедицией в ходе которой открыл в 1767 г. несколько небольших островов в архипелаге Туамоту, а также о-в Таити и еще четыре острова в архипелаге Общества.
Капитан Филипп Картерет (ум. в 1796 г.) был отправлен в кругосветное плавание вместе с Уоллисом, но у западного выхода из Магелланова пролива эти мореходы решили плыть дальше раздельно. Картерет открыл в 1767 г. несколько островов в архипелаге Туамоту, о-в Ваникоро в группе Санта Крус, сделал несколько открытий в районе Соломоновых островов и в архипелаге Бисмарка.
(обратно)39
Известный французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль (1729—1811), юрист и математик по образованию, в 1766—1769 гг. руководил первой кругосветной экспедицией под французским флагом. В числе его открытий, сделанных в 1767 г..— архипелаг Луизиада, несколько островов в архипелаге Новые Гебриды, в группе Соломоновых островов и в архипелаге Туамоту, проливы, рифы и т. д. Бугенвиль уточнил координаты многих островов и целых архипелагов, замеченных его предшественниками, внеся, таким образом, крупный вклад в изучение южной части Тихого океана. Бугенвиль описал свое плавание в книге «Кругосветное путешествие на фрегате „Будёз" и транспорте „Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах». В 1961 г. этот труд был впервые издан на русском языке.
(обратно)40
Грин, Чарлз (1735—1771) — английский астроном, во многом способствовал успеху первой экспедиции Дж. Кука отличной организацией навигационно-астрономических наблюдений. Умер на борту «Индевра» на обратном пути в Англию.
Банкс, Джозеф (1743—1820) — английский натуралист, обладавший большим личным состоянием. Он возглавил всю научную работу первой экспедиции Кука, взяв на себя львиную долю расходов на эти исследования. Участие в экспедиции принесло Банксу широкую известность в научных кругах. В 1778 г. он был избран президентом Лондонского Королевского общества (научной организации, объединявшей крупнейших британских натуралистов, физиков, математиков и астрономов) и занимал этот пост до конца своей жизни.
Соландер, Даниэль Карл (1733—1782) — шведский ботаник, ученик одного из величайших естествоиспытателей XVIII в.— Карла Линнея (1707—1778). Участвуя в первой экспедиции Кука, собрал огромный гербарий, который обработал совместно с Банксом после возвращения в Англию.
(обратно)41
Кук в 1769 г. назвал островами Общества группу обследованных им островов этого архипелага (на современных картах — Хуахине, Раиатеа, Тахаа, Бора-Бора, Маупити и Моту-Ити). Впоследствии это название было распространено на архипелаг в целом, включая и о-в Таити.
(обратно)42
О плаваниях Кергелена и Марион-Дюфрена см. примеч. 156 и 158.
(обратно)43
разумеется, речь идет о лете в Южном полушарии, которое соответствует нашей зиме. — примеч. Форстера
(обратно)44
При отплытии с мыса Доброй Надежды нас было 118 человек (считая доктора Спаррмана). — примеч. Форстера
Речь, очевидно, идет о «Резолюшн», на котором находился Г. Форстер. По данным самого Дж. Кука, в момент отплытия экспедиции из Плимута на борту «Резолюшн» насчитывалось 118 человек, на борту «Адвенчера»—83. «Резолюшн» был оснащен 12 (не 16, как пишет Форстер) четырехфунтовыми пушками. «Адвенчер» — 10. См.: Дж. Kук. Плавание к Южному полюсу и вокруг света в 1772—1775 гг. М., 1964, с. 37, 44—45, 49.
(обратно)45
Палата долготы — учреждение, осуществлявшее руководство астрономическими и навигационными наблюдениями на кораблях британского флота и снабжавшее флот астрономическими приборами.
(обратно)46
Имеется в виду книга: W. Wales and W. Bayly. The Original Astronomical Observations, Made in the Course of a Voyage Towards the South Pole, and Round the World. L., 1777. У. Бейли в 1776 г. отправился с Куком в его третью экспедицию. Поэтому книга была подготовлена к печати У. Уолсом, который снабдил ее также введением в включил в нее отрывки из своего дневника.
(обратно)47
В это новое плавание отправились два корабля: больший, «Резолюшн», под командой капитана Кука, меньший, «Дискавери» [«Открытие»], под командой капитана Кларка. 13 июля капитан Кук вышел из порта Плимут; капитан Кларк отплыл недели на две позже. Оба встретились у мыса Доброй Надежды и отбыли оттуда 29 ноября. Они собирались доставить обратно на родину О-Маи, от Таити пройти к той части северо-западного побережья Америки, которую сэр Фрэнсис Дрейк назвал Новым Альбионом. Парламент назначил вознаграждение в 20 000 фунтов стерлингов за открытие Северо-Западного или Северо-Восточного прохода и 5000 фунтов стерлингов тому английскому мореплавателю, который сумеет проникнуть на расстояние до 1° от полюса. Таковы были главные задачи . — примеч. Форстера
Третьей экспедиции Дж. Кука, вышедшей из Портсмута в июле 1776 г., было предписано обследовать северо-западное побережье Северной Америки с целью создания легальной основы для будущих британских притязаний, а также найти Северо-Западный проход (морской путь из Тихого океана в Атлантический океан севернее Американского континента). По пути в этот район Кук посетил Тасманию, Новую Зеландию, Тонга и о-ва Общества, открыл несколько небольших островов в архипелаге, ныне носящем его имя, а также о-ва Тубуаи и Рождества. Но самым важным достижением этой экспедиции явилось открытие в январе 1778 г. Гавайских островов — полинезийского архипелага, занимающего важное стратегическое положение на тихоокеанских морских путях. Отправившись отсюда к северо-западному побережью Америки, Кук прошел вдоль берегов, уже открытых русскими мореходами, и, миновав Берингов пролив, вошел в Северный Ледовитый океан. Однако у северного побережья Аляски, на 70° 20' с. ш. и 161° 50' з. д., путь его кораблям преградили непроходимые льды. Повернув на юго-запад, Кук подошел к северным берегам Сибири в попытке отыскать Северо-Восточный проход (путь из Тихого в Атлантический океан севернее материка Евразии), но и тут льды оказались непроходимыми. Во время вторичного посещения Гавайских островов Кук в феврале 1779 г. был убит в стычке с островитянами. Предприняв еще одну неудачную попытку найти Северо-Западный проход, корабли экспедиции вернулись в Англию в октябре 1780 г.
(обратно)48
Механик-изобретатель Дж. Гаррисон (1693—1776) усовершенствовал конструкцию хронометров и в двух плаваниях (в 1762 и 1764 гг.) доказал, что с их помощью можно с большой точностью определять долготу. По одной из моделей Гаррисона механик Л. Кендалл специально для «Резолюшн» сделал хронометр, который оказался достаточно точным. Значительно хуже шли три хронометра часовщика Дж. Арнолда, также взятые в экспедицию; в конце концов они вышли из строя.
(обратно)49
Чтобы удобно разместить Банкса и его свиту, «Резолюшн» был снабжен надстройкой, которая, как показали испытания, лишала судно остойчивости. Кук доложил об этом Адмиралтейству, и там распорядились снять опасную надстройку.
Под морским министром Г. Форстер подразумевает графа Монтегю Сандвича (см. о нем примеч. 7).
(обратно)50
В третьей экспедиции Кука научные исследования были возложены на хирурга Уильяма Андерсона — натуралиста сведущего, но не обладающего познаниями Банкса, Соландера и Форстеров. После смерти Андерсона, в августе 1778 г., исследования продолжил его помощник Дэвид Самвелл. Научные наблюдения проводил также астроном экспедиции Уильям Бейли.
(обратно)51
На беду, горох у нас оказался весьма скверный; сколько его ни варили, он не становился мягче и съедобнее. Но это отчасти было даже неплохо: мы по крайней мере не испытывали вредных последствий, какие обычно оказывает наряду с солониной сия грубая еда.
(обратно)52
Лот — мера веса, применявшаяся до введения метрической системы. 1 лот = 12,79 г.
(обратно)53
Паттен (правильно — Паттон), Джеймс — врач на «Резолюшн». Проявил незаурядные профессиональные познания и способности во время экспедиции.
(обратно)54
Кварта — английская мера жидкости, которая в XVIII в. равнялась 0,95 л.
(обратно)55
Прингл, Джон (1707—1782)—известный английский врач, президент Королевского общества в 1772—1778 гг.
Коплей, Годфри (ум. в 1709 г.)—английский государственный деятель, член Королевского общества. Завещал 100 ф. ст. на поощрение развития естественных наук. Сначала проценты с этого капитала шли на выплату денежных премий, но в 1736 г. Королевское общество постановило использовать эти средства на ежегодное присуждение золотой медали.
(обратно)56
Итак, когда дух мой успокоился после многих горестей, решил я рассказать, как все было, хоть это и кажется мне делом весьма нелегким; ведь если ты что-нибудь осудишь, большинство людей увидит в этом недоброжелательство и зависть, если же ты упомянешь о великой доблести и славе честных людей, всякий равнодушно воспримет то, к чему сам считает себя способным, но то, что превышает его силы, признает вымышленным и ложным. Саллюстин [Заговор Катилины, 4, 3 (цитата вольно скомпонована Форстером)].
(обратно)57
Фюрно, Тобайас (1735—1781) участвовал в 1766—1768 гг. в кругосветной экспедиции Уоллиса, в ходе которой был открыт о-в Таити. Командуя «Адвенчером», он проявил себя как довольно посредственный мореход.
(обратно)58
Это обстоятельство кажется на первый взгляд незначительным, а упоминание о нем излишним. Однако для путешественников оно сыграло важную роль. Поспей корабль в Плимут до отъезда графа Сандвича, тот мог бы собственнолично его осмотреть и наверняка позаботился бы о некоторых доделках в каютах господ Форстеров и вообще о больших для них удобствах. Но поскольку милорд Сандвич не увидел положения дел собственными глазами, об этих удобствах не позаботились вовсе или позаботились недостаточно, на что путешественники наши справедливо сетовали.— Прим. изд.— Здесь и далее под издателем подразумевается Иоган Карл Филипп Шпенер, фирма которого «Хауда и Шпенер» выпустила в свет немецкое издание данной книги Г. Форстера в 1778—1780 и 1784 гг.
(обратно)59
См. описание путешествия Кука на английском языке (т. 1, с. 2), откуда я заимствую вышеуномяпутую инструкцию, дабы сделать мой труд более полным для немецкого читателя .— примеч. Форстера
Имеется в виду издание, сведения о котором содержатся в примеч. 9. Далее все цитаты, приведенные Форстером без указания на источник, взяты из этого издания.
(обратно)60
Корабли нередко получают повреждения при подобных обстоятельствах. 16 мая 1776 года у военного корабля «Олдборо» порвалась такая же цепь, и он разбился о скалы о-ва Дрейк. — примеч. Форстера
(обратно)61
Пользы нет, что премудрый бог Свет на части рассек, их разобщил водой, Раз безбожных людей ладьи Смеют все ж бороздить воды заветные. [Гораций. Оды. Кн. 1, 3, 21—24. Пер. Н. Гинцбурга] (обратно)62
Многим сухопутным читателям, возможно, не покажется излишним следующее разъяснение вышеприведенного места. Если военный корабль хочет задержать тортовое судно или более мелкий корабль, чтобы допросить или даже обыскать его, он обычно дает знак, выпуская из пушки ядро, но так, чтобы оно не попало в судно, а лишь прошло рядом. Если задержанное таким образом судно не признает превосходства другого и правомерности подобных действий, то оно либо продолжает свой путь, пренебрегая требованием остановиться, либо отвечает на дерзость чужого корабля всерьез стрельбой из собственных пушек. Если же оно, напротив, готово подчиниться, то в знак этого убирает паруса, но не спускает флага, словом, держится тихо или же посылает в шлюпке людей на другой корабль, дабы ответить на заданные вопросы. В тексте слышится порицание, что капитаны Кук и Фюрно (причем первый тут подал пример) несколько поступились честью британской нации (которая со времен королевы Елизаветы утверждала себя перед всеми в гордом звании владычицы морей), признав за испанцами превосходство, чего до сих пор в этих водах не делал ни один англичанин.— Примеч. изд.
(обратно)63
Явление «свечение моря» вызывается различными морскими животными — рыбами, моллюсками, медузами, инфузориями. У кишечнополостных и у многих моллюсков светящееся вещество выделяют особые железы, у простейших светятся жировые включения плазмы.
(обратно)64
Семирамида — жена одного из ассирийских царей, жившая в IX в. до н. э. В Ассирии была известна как Шаммурамат, но в античную литературу вошла под именем Семирамиды. С ее именем связывались висячие сады — одно из «семи чудес света».
(обратно)65
Берберия — географическое понятие, применявшееся в XVI—XIX вв. для обозначения северо-западной Африки, названной так по имени ее древнейшего населения — берберов.
Левант — термин, с XIII в. употреблявшийся для обозначения стран восточной части Средиземного моря, а в более узком смысле — побережья Малой Азии, Сирии и Ливана.
(обратно)66
См. его «Хэмфри Клинкер» и другие сочинения.— примеч. Форстера
Смоллетт, Тобайас Дясордж (1721 —1771)—английский писатель. «Путешествие Хэмфри Клинкера» (1771)—его последний роман, выделяющийся в творческом наследии писателя богатым арсеналом комических средств, демократическим пафосом и психологическим мастерством в обрисовке характеров.
(обратно)67
Не исключено, что Мадейра была открыта финикийцами или карфагенянами еще в античные времена. Но подлинное открытие этого архипелага произошло в 1419 г., когда португальский мореплаватель Жуан Гонсалвиш Зарку обнаружил небольшой о-в Порту-Санту, а в следующем году он же открыл сам о-в Мадейра.
(обратно)68
Орден Христа — духовный рыцарский орден в Португалии, основанный в 1318 г. В 1550 г. папа римский передал руководство орденом португальской короне, и с тех пор его гроссмейстерами стали португальские короли.
(обратно)69
П и п а — старинная мера жидкостей в испанских и португальских колониях. В XVIII в. ее величина колебалась в пределах 430—550 л, а для мадейрского вина равнялась 490,71 л.
М у и (правильно м о й о) — старинная португальская мера сыпучих тел, составлявшая ок. 830 л.
Бушель — английская мера сыпучих тел, равная в XVIII в. 35,24 л.
(обратно)70
См. у Хауксуорта в «Истории английских морских путешествий вокруг света».
См. об этом издании примеч. 11 .
(обратно)71
Имеется в виду таро (Colocasia esculenta) — тропическое растение семейства ароидных, крахмалистые клубни которого употребляются в пищу.
(обратно)72
Батат, пли сладкий картофель (Ipomoea batatas),— тропическое растение семейства вьюнковых. В пищу идут его клубни, имеющие сладковатый вкус.
(обратно)73
Речь идет о португальском принце Генрихе (1394—1460) — организаторе морских экспедиций к островам центральной части Атлантического океана и берегам Африки.
(обратно)74
Галлон — английская мера жидкостей, которая в XVIII в. равнялась 3,79 л.
(обратно)75
Гуайява (Psidium guajava)—вечнозеленое дерево семейства миртовых, возделываемое во многих тропических странах. Плоды отличаются приятным вкусом и высокой питательностью.
(обратно)76
Вероятно, древним были известны не только Канарские острова, но и Мадера [Мадейра] и Порто-Санто [Порту-Санту]; если это так, то можно понять, почему они по-разному оценивали число этих островов (Plin. Hist. Nat. VI, 37). Описания древних согласуются также с более поздними. Vossius ad Melam, cap. X, 20: «Ex iis-dem quoque insulis» et. с d. i.. С этих же островов в Рим доставлялась киноварь; еще и сейчас там встречается дерево, дающее киноварь. Его называют «драконья кровь». Известно также свидетельство Плиния (VI, 36), что Юба, король Мавритании, получал с этих островов, расположенных напротив земли автололиев, пурпур. — примеч. Форстера
Имеется в виду сочинение римского географа I в. н. э. Помпония Мелы «De Chorographia», изданное в 1658 г. в Гааге немецким филологом и путешественником И. Фоссом. В этом примечании Форстер дважды ссылается также на многотомный труд выдающегося римского ученого, писателя и государственного деятеля I в. н. з. Гая Плиния Секунда «Естественная история» — своеобразную энциклопедию естественнонаучных знаний античности.
(обратно)77
В различные времена и у разных народов за начальный меридиан (0°) принимались различные меридианы. Известный греческий математик, физик и астроном Клавдий Птолемей, живший в Александрии во II в. н. э., проводил его через Счастливый (один из Канарских островов), считая этот остров самой западной оконечностью света. Чтобы не нарушать счисления, предложенного Птолемеем, конгресс географов, собравшийся в Париже в 1634 г., предложил считать начальным меридианом тот, который проходит через о-в Ферро. Английские мореплаватели XVIII в., включая Дж. Кука, исходили из того, что начальный меридиан проходит через обсерваторию в Гринвиче. Это счисление стало общепризнанным в 1884 г. по международному соглашению.
(обратно)78
Б о н и т о, или малый тунец (Katsuwonus pelamis),— промысловая рыба семейства тунцовых отряда окунеобразных.
Д о р а д а — очевидно, имеется в виду корифена, или макрель золотая (Соrурhaena hippurus), промысловая рыба семейства корифеновых, или дорадовых, семейства окунеобразных.
(обратно)79
Кальм, Пер (1716—1779) — шведский натуралист, ученик Линнея. На средства Шведской академии наук совершил путешествие в Северную Америку в 1748—1751 гг. Трехтомное описание его путешествия появилось на шведском языке в 1753—1761 гг. и тогда же было переведено на немецкий.
(обратно)80
Эти хищные птицы — олуша (Pelecanus piscator), фрегат (Pelecanus aquilis) и красноклювый фаэтон (Phaeton aethcreus).
(обратно)81
Это весьма проницательно установил господин Эллис во время своего путешествия в Гудзонов залив .
См.: Н. Ellis. A Voyage to Hudson Bay, the Dobbs Galley and California in 1746-47. L., 1748.
(обратно)82
Пивное сусло, или маиш, выпаривается до тех пор, пока напиток не приобретает консистенцию сиропа; это и называется пивной или сусельной эссенцией. — примеч. Форстера
(обратно)83
Л и г а ( л ь ё) — старинная мера длины, равная в большинстве западноевропейских государств 3 милям. В Португалии лига соответствовала 2 милям, но миля в этой стране была больше обычной и составляла 2065,7 м.
(обратно)84
[Pauw zu Xanten]. Rechershes philosophiques sur les Americains. Vol. 1, p. 186 .
Паув цу Ксантен, Корнелий де (1739—1799) —голландский этнограф. Его книга, упоминаемая Форстером, была опубликована в Берлине в 1768 г.
(обратно)85
[Manet]. Nouvelle histoire de l'Afrique françoise. P., 1767, vol. 2, p. 224.— примеч. Форстера
(обратно)86
Hist. nat. Vol. 6, p. 260. — примеч. Форстера
Бюффон, Жорж Луи Леклерк де (1707—1788) — известный французский естествоиспытатель, директор Ботанического сада в Париже. Форстер ссылается здесь на его основной труд «Histoire naturelle generate et particuiiere», опубликованный в 36 томах в 1749—1788 гг.
(обратно)87
Форстер осторожно высказал правильную мысль, что темный цвет кожи обитателей островов Зеленого Мыса объясняется не «жарким здешним климатом», а смешением потомков португальских колонистов с «черными жителями близлежащего африканского побережья». Действительно, большинство местного населения составляли негры и метисы.
(обратно)88
Когда в 1775 г. на обратном пути в Англию мы снова прибыли на мыс Доброй Надежды, нам рассказали, что два прошедших года на этих островах царил всеобщий голод. Сотни жителей в ту пору умерли голодной смертью, и многие, чтобы только спастись, согласились продать себя вместе с женами и детьми в собственность капитану одного голландского судна, стоявшего тогда на якоре у Сантьяго. Желая извлечь выгоду из их беды, он взял их на борт, доставил на мыс Доброй Надежды и там продал. Когда голландские власти в Капстаде [Кейптаун] узнали о сей постыдной торговле, они приказали капитану выкупить этих несчастных снова за собственный счет, возвратить на родину и получить от португальского правительства письменное подтверждение, что сие было выполнено. — примеч. Форстера
(обратно)89
Папао (правильно папайя), дынное дерево (Carica papaya) — плодовое дерево семейства папайевых, широко культивируемое в тропиках. Вкусные плоды, напоминающие дыню, используются в пищу. Из их млечного сока получают фермент папайи, применяемый в пищевой и легкой промышленности.
(обратно)90
Кошениль — название нескольких видов насекомых из разных семейств подотряда Coccidae. Их самки используются для получения красной краски — кармина. Здесь речь идет о кошенильном кактусе (Nopalea cochenillifera), на котором живет, питаясь им, кошениль мексиканская (Dactylopius cacti).
Индиго — синяя краска, широко применявшаяся с глубокой древности для крашения хлопка и шерсти. Добывалась из индигоносных растений, главным образом из индигоферы красильной (Indigofera tinctoria) — растения семейства бобовых, разводившегося в тропических и субтропических странах. После синтеза индиго значение индигоносных растений резко снизилось.
(обратно)91
Это был фрегат ,«Изис» под командованием господина Флерье, на борту которого находился господии Пингре с несколькими хронометрами для определения долготы. Журнал путешествия этого корабля и произведенные на нем наблюдения опубликованы в двух томах . — примеч. Форстера
Флерье, Шарль Пьер Кларе де (1738—1810) — французский мореплаватель и государственный деятель.
Пингре, Александр Ги (1711 —1796) — известный французский астроном. Форстер имеет в виду книгу: Сh. Р. Сl. d e Fleurieu. Voyage fait par ordre du roi en 1768 et 1769 a different parties du monde. 2 vols. P., 1773.
(обратно)92
Эта же разновидность водится и в счастливой Аравии (см. Forskals Fauna Arabica), и в Абиссинии (см. превосходные и ценные зарисовки господина Джеймса Брюса) — примеч. Форстера
Форскол, Пер (1732—1763) — шведский натуралист, ученик Линнея. Принял участие в снаряженной датским правительством экспедиции в Аравию, в ходе которой умер. Его рукописи о фауне Аравии были изданы начальником экспедиции К. Нибуром. См.: P. F о г s k а l. Flora aegiptiaco-arabica. Havniae, 1775.
Брюс, Джеймс (1730—1794) — английский путешественник по Африке. В 1774 г. вернулся в Великобританию с богатым собранием рисунков, произведших большое впечатление на английскую публику. Они опубликованы в его труде: J. Bruce. Travels to Abyssinia. 5 vols. Edinburgh, 1790.
(обратно)93
Alforja (исп.) —дорожная сумка.
(обратно)94
Капитан Кук подтвердил мне это, рассказав такой случай. Как-то между Норвегией и Англией во время сильного шторма несколько сотен птиц село на снасти и такелаж корабля. Кроме множества мелких птиц там было и несколько ястребов, которые нападали на меньших, имея, таким образом, обильную пищу.
(обратно)95
Нордкапский кит—касатка (Orcinus orca), животное семейства дельфиновых отряда китов. Киты — водные млекопитающие, и Форстер допустил ошибку, называя их рыбами.
Skipjack (англ.) — скипджек, одно из названий бонито (см. примеч. 78).
(обратно)96
Морской дьявол (Mobulidae) — семейство рыб подотряда скатов отряда акулообразных. Форстер имеет здесь в виду книгу: Francisci Wiliughbeii de Historia Piscium libri quatuor. Ox., 1686.
(обратно)97
Но тут слова лишь затуманят сияние красоты; да и как искусству передать величие природы? У. Ф о л к о н е р [Кораблекрушение]Фолконер, Уильям (1730—1769) — шотландский моряк и поэт. Приведенный отрывок взят из его поэмы «Кораблекрушение».
(обратно)98
Пинтадо, или капские голубки (Daption capensis),— буревестники, встречающиеся в средних широтах Южного полушария. Пинтадо (букв, «пятнистые») — португальское название этих птиц.
(обратно)99
См. у Хауксуорта, т. 2, с. 14. В конце этого места мы находим замечание не слишком высокого уровня, доказывающее, что автор не справлялся у древних. Стоило только заглянуть в Плиния, чтобы убедиться, что вышеназванный моллюск с тонкой раковиной никак не мог быть «пурпурной улиткой» древних. Они знали разных улиток, дающих пурпур, но все это были скальные улитки: «Earum genera plura, pabulo et solo discrete» (IX.61), «Exquiruntur omnes scopuli gaetuli muricibus ac pupuris», (V.l). [Их бывает множество разновидностей, а различаются они в зависимости от почвы и употребляемой пищи (XI.61). Гетулы (древняя народность) обыскивают все скалы, чтобы найти багрянок и пурпур (V.1)]. Столь же ясно и несомненно, что внешним видом и твердостью раковины эти пурпурные улитки отличаются от маленьких Helix janthina: «Purpura vocatur, cunicuiatirn procurrente rostro et cuniculi latere introrsus tabulate qua proferatur lingua» (IX.61). «Lingua purpurae longitudine digitalis qua pascitur, perforando reliqua conchylia, tanta duritia aculeo est» (IX.60). «Praeterea clavatum est ad turbinem usque aculeis in orbem septenis fere» (IX.61). [Называются они пурпурными улитками и язычком просверливают проходы (IX.61). Язычок у них пурпурный, длиной в палец, с помощью его они кормятся, просверливая валяющиеся раковины — такой твердостью отличается их острый кончик (IX.60). К тому же они покрыты до самой оконечности острыми шипами, число которых достигает иногда семи (IX.61).]
Об этом стоит также прочесть в описании путешествия А. Ульоа в Южную Америку.— примеч. Форстера
Ульоа, Антонио (1716—1795) — испанский общественный деятель, натуралист и путешественник. В 1735—1744 гг. участвовал во французской экспедиции в Южную Америку. Форстер имеет в виду его книгу: A. Ullоa. Relation historica del viaje a la America meridional. 5 vols. Madrid, 1748.
(обратно)100
Рамсден, Джесс (1735—1800) — известный английский механик и оптик, внесший усовершенствования в конструкцию микроскопов и некоторых астрономических приборов.
(обратно)101
Один наш знакомый наблюдал подобное же зрелище в Северном море в июле и августе при теплом юго-западном ветре. За день до того они видели много разных медуз и моллюсков, а все обстоятельства были схожи с нашими. По форме эти светящиеся существа, кажется, напоминают инфузорий, называемых «ландыш». Но светятся ли последние? Qnis scruiatus est ? [Кто знает?]
(обратно)102
Мы дивимся башненосным спинам слонов, мощно подъятым вверх выям быков, тигриной хищности и львиным гривам, однако природа не может считаться полной без малого. И потому желал бы я, чтобы мои читатели, обычно взирающие на такие вещи с пренебрежением, все же прочли мое описание, ибо в деле изучения природы ничто не может считаться излишним.
Плиний [Естественная история. XI, 2] (обратно)103
Речь идет о нидерландской (голландской) Объединенной Ост-Индской компании, созданной в 1602 г. Генеральными штатами (высшим постоянно действующим законодательным органом республики Соединенные провинции Нидерландов) для расширения и эксплуатации голландской колониальной империи и ведения торговли в бассейне Индийского и Тихого океанов, от мыса Доброй Надежды до Магелланова пролива. На всем этом пространстве Компания обладала монопольным правом торговли и мореплавания, беспошлинного провоза товаров в метрополию, создания факторий, крепостей, набора и содержания войск, флота, ведения судопроизводства, заключения международных договоров и т. д., то есть всеми правами государственного суверенитета, осуществляемого ею от имени Генеральных штатов. Главным городам компанейских владений стала Батавия (ныне Джакарта) на о-ве Ява, где действовала администрация Компании во главе с генерал-губернатором и высшим советом. Компания жестоко эксплуатировала коренное население колоний. В 1798 г. она была ликвидирована, а все ее активы перешли в собственность голландского государства.
(обратно)104
Имеется в виду Капская колония (голл. Kaapkolonie, от Каар de Goede Hoop — мыс Доброй Надежды). Основанная в 1652 г. голландской Объединенной Ост-Индской компанией на мысе Доброй Надежды, эта колония постепенно расширялась за счет захвата земель у бушменов, готтентотов и народов банту. В 1795—1803 и 1806—1815 гг. Капскую колонию оккупировала Великобритания, за которой она была официально закреплена решением Венского конгресса (1815 г.). В настоящее время — Капская провинция ЮАР.
(обратно)105
Насколько в водах божество предстало бы ближе, Если б простая трава окаймляла зеленью воды, Если б насильственный мрамор не портил природного туфа. Ювенал[Сатиры, 3. 18—20. Пер. Д. Педовича и Ф. Петровского]
(обратно)106
Мы не склонны винить в этом только голландцев; известно, что с неграми во всех английских и французских колониях поступают не лучше. Хотелось бы только возбудить у колонистов всех наций чувство сострадания к сим несчастным; пусть те, кто наслаждается неоценимым счастьем свободы или по меньшей мере стремится к ней, вспомнят о своей обязанности быть человечными и добрыми по отношению к страдальцам, у которых они, вероятно,без малейшего угрызения совести отняли благо свободы. — примеч. Форстера
(обратно)107
См. описание путешествия адмирала Байрона у Хауксуорта, т. 1, с. 183. — примеч. Форстера
См. примеч. 11 и примеч. 37 .
(обратно)108
См. «Путешествие Бугенвиля вокруг света». — примеч. Форстера
См. примеч. 39.
(обратно)109
Английские астрономы Ч. Мезон и Дж. Диксон вели астрономические наблюдения на мысе Доброй Надежды в 1761 г.
(обратно)110
Обогнув этот мыс, португальский мореплаватель Бартолемеу Диаш в 1488 г. назвал его Торментозо (Бурный). Но португальский король Жуан II (не Мануэль) приказал переименовать его в мыс Доброй Надежды, так как его открытие дало португальцам надежду достичь морским путем Индии.
(обратно)111
Поселение Констанция славилось своим вином.
(обратно)112
Спаррман, Андерс (1748—1820) — шведский врач, этнограф и натуралист, ученик Линнея. Участвуя вместе с Форстерами во второй кругосветной экспедиции Кука, собрал интересную коллекцию, которая ныне хранится в Стокгольмском этнографическом музее. Издал подробное описание своих путешествий: A. S р а г г m а п. Resa till Goda Hoppsudden, södra polkretsen och omkring jordklotet. 2 vols. Stockholm, 1783—1818. Г. Форстер перевел на немецкий язык первый том этого труда и издал его в Берлине в 1784 г.
(обратно)113
См. у Шмидта: Opusc. Diss. VI. de comerc. et, navig. Aegyptiorum, pag. 160 и прежде всего «Историю торговли» Шлецера, с. 300 . Как подчеркивал Геродот, Африка окружена водой, и это открыли еще финикийские мореплаватели, отплывшие по приказу фараона Нехо из Красного моря и вернувшиеся через Средиземное (IV, 42). Страбон во второй книге [«Географика»] упоминает экспедицию Эвдокса вокруг Африки при Птолемее Латире, а согласно Плинию, побережье этой большой земли исследовали также карфагеняне. «Et Hanno Carthaginis potentia florente, circumvectus a Gadibus ad finem Arabiae, navigationem earn prodidit scripto» (Также и Ганнон в пору расцвета Карфагенской державы проплыл от Гадеса до Аравийских берегов и описал свое плавание) [Плиний. Естественная история. II, 67] Хотя можно полагать, что Ганнон никогда не огибал Африки, поскольку его «Перипл» свидетельствует об обратном .— примеч. Форстера
Речь идет о книгах: F. S. Schmidt. Opuscula, quibis res anticmae praecipue Aegyptiacae explanantur. Karlsruhe, 1765; A. L. Schlötzer. Versuch einer allgemeinen Geschiehte der Handlung und Seefahrt in den ältesten Zeiten. Rostock, 1761.
Hexo II — египетский фараон, правивший в 610—595 гг. до п. э. По его поручению финикийские моряки впервые обогнули Африку, на что ушло три года.
Птолемей Латир правил Египтом в I в. до н. э.
Ганнон — карфагенский флотоводец, возглавивший в начале V в. до н. э. морскую экспедицию к западным берегам Африки, где основал несколько поселений. Упоминаемое Форстером сочинение Ганнона, дошедшее до нас в сокращенном греческом переводе, было впервые издано в 1533 г. в Базеле.
(обратно)114
Фискал (лат. fiscalis— относящийся к казне)—в XVIII в. должностное лицо, охранявшее права и интересы казны и в этих целях осуществлявшее административно-финансовый и судебный надзор.
(обратно)115
Форстер допустил явную неточность. Табель о рангах, введенная Петром I в 1722 г. и продолжавшая действовать с некоторыми изменениями вплоть до падения царского режима, предусматривала гражданские чины 14 классов и соответствующие им военные, морские и придворные чины. Университетским профессорам присваивались гражданские чины.
(обратно)116
Готтентоты (самоназвание койкоин) — один из народов Южной Африки. Делились на несколько племен с наследственными вождями. Основу экономики готтентотов составляло скотоводство (крупный длиннорогий скот, курдючные овцы). Умели добывать железо из руды, изготовляли из него орудия и оружие. В XVII— XVIII вв. вели упорную, но неравную борьбу за свою независимость. Часть готтентотов была обращена в рабство.
(обратно)117
Условия читатель найдет в описании предыдущего плавания Кука. См. у Хауксуорта, т. 4, с. 808. Исключение составляют члены совета. — примеч. Форстера
(обратно)118
Было бы несправедливо не упомянуть здесь прежде всего губернатора барона Иоахима Плеттенберга, человека, чье гостеприимство и любезность делают честь его нации; вице-губернатора господина Хемми и его семью; майора господина Прена; секретаря господина Берга, человека большой учености и философского образа мыслей, семейство которого выделяется своей красотой и разумом среди всей капской молодежи; господина Керстена, господина де Вита и нашего благородного хозяина господина Кристофа Брандта, командующего в Фолз-Бей,— всех вместе с их семействами. Истинная радость воздать должное такому множеству уважаемых членов общества и человеколюбцев. — примеч. Форстера
(обратно)119
Акр. или морген, земли составляет 666 рейнских квадратных рут, в руте жа 12 футов. Рейнский фут относится к английскому как 116 к 120 . — примеч. Форстера
Морген — старинная мера земли, равная в XVIII в. в Нидерландах ок. 0,4 га, в немецких государствах — от 0,25 до 0,36 га.
(обратно)120
Бушмены (англ. bushman, голл. Bosjesman— лесной человек)—древнейшее коренное население Южной Африки. Вопреки мнению Форстера, бушмены составляют особый народ, хотя по языку и антропологическому типу они близки к готтентотам. Оттесненные в малоплодородные места, бушмены кочуют небольшими, не связанными между собой группами и до сих пор ведут жизнь охотников и собирателей дикорастущих плодов.
(обратно)121
О Генеральных штатах см. примеч. 103.
(обратно)122
Леггер составляет примерно 108 английских галлонов, каждый из которых дает 4 ординарные бутыли. — примеч. Форстера
(обратно)123
Очевидно, имеется в виду Констанц (римская Констанция) — южнонемецкий город, расположенный на берегу Боденского озера, там, где из него вытекает река Рейн.
(обратно)124
Особенно превосходны виноград и апельсины. — примеч. Форстера
(обратно)125
См.: Р. С о l b e. Caput Bonae Spei bodiernum, das ist vollständige Beschreibung des Africanischen Vorgebürges der guten Hoffnung. 3 Bde. Nürnberg, 1719.
(обратно)126
См.: N. L. de la С a i l l e. Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne — Espérance. P., 1763.
(обратно)127
[Это цитата не из Буало, а из Мольера.]
Раз он не наш,
То в нем ума, конечно, нет.
[Мольер. Ученые женщины. III, 3Пер. М. Тумповской]
(обратно)128
Искусный ученик господина Линнея, который первоначально приводил в порядок ботаническую коллекцию в Лейдене, а затем три года собирал растения на мысе Доброй Надежды и, сделав здесь немало открытий, был послан на средства Ост-Индской компании в Батавию, чтобы оттуда в 1775 году отправиться в Японию. По просьбе доктора Спаррмана он взял с собой в путешествие по Капской колонии господина Франца Массона, младшего садовника Королевского сада в Кью. Этого Массона послали сюда на борту «Резолюшн», чтобы он доставил для Королевского ботанического сада в Англии как свежие растения, так и семена. Д-р Тунберг советовал ему, на что обратить внимание, и он возвратился в Англию с богатой добычей. — примеч. Форстера
Тунберг, Карл Петер (1743—1828) — известный шведский путешественник по странам Азии и Африки. Свои путешествия он описал в четырехтомном труде: С. P. T h u n b е г g. Resa till Europa, Africa, Asia forrättad åren 1770—1779. Uppsala, 1788-1793. Немецкий перевод этого труда был опубликован в 1792—1793 гг.
(обратно)129
Камелопард — устаревшее название жирафа (Giraffa camelopardalis) африканского жвачного животного семейства жирафовых отряда парнокопытных.
(обратно)130
Г н у (Connochaetes)—род жвачных животных группы антилоп отряда парнокопытных. Очевидно, имеется в виду белохвостый гну, встречающийся в Южной Африке.
(обратно)131
Исключение составляют лишь некоторые виды, встречающиеся в Индии и в других частях Азии, а также некоторые, встречающиеся в Европе. Капские разновидности отличаются либо изящным сложением, либо цветом, рогами и величиной. Куду, или козел Кольбе (отсюда, по-видимому, кондома Бюффона),— это Strepsiceros Линнея и Палласа. Он величиной с лошадь и необычайно прыгуч. Капский лось Кольбе, или Antelope oreas Палласа, размером приблизительно с оленя. Пестрый козел — это Antelope scripta Палласа. Антилопа, которую на Капе весьма неточно называют оленем,— это палласовская Antelope bulalis. Египетская антилопа, или газелла Линнея и Палласа, или пазан Бюффона, здесь называется серной, с каковой эта антилопа не имеет ни малейшего сходства. Голубая антилопа действительно голубого цвета, но, как только умирает, шкура ее теряет голубой бархатистый оттенок. Во внутренних областях Африки водится очень красивый козел, называемый у Палласа Pygargus. Большие стада их осенью направляются к югу, преследуемые целыми стаями львов, пантер, гиен и шакалов. Одно такое животное живым по возвращении в Англию мы преподнесли ее величеству королеве. Два маленьких вида, размером приблизительно с лань, и некоторые другие, еще недостаточно изученные, поставляют вкусное мясо на стол местной знати. Дуикер, или ныряющая антилопа, получил свое название за то, что, когда его преследуют в зарослях, он пригибается и лишь изредка показывается опять; как и здешняя косуля, он тоже заслуживает более тщательного изучения. — примеч. Форстера
(обратно)132
Джербуа — здесь, очевидно, долгоног (Pedetes capensis), млекопитающее отряда грызунов. Внешне напоминает тушканчика, но значительно крупнее его.
(обратно)133
Ирвинг, Чарлз (ум. в 1794 г.) — хирург, служивший в английском флоте. Изобрел усовершенствованный дистилляционный аппарат для получения пресной воды на кораблях.
(обратно)134
Ф о к — нижний парус на передней мачте корабля.
(обратно)135
И непроглядная ночь покрывает бурное море. Близкая верная смерть отовсюду мужам угрожает. Вергилий[Энеида. 1, 89, 91. Пер. С. Ошерова]
(обратно)136
Померкший свет небес Предсказывал трепещущим сердцам, Что близится, что неизбежна гибель. Шекспир[Комедия ошибок, I, 1.67—69. Пер. А. Некора]
(обратно)137
В эти бурные дни мы потеряли шесть свиней и несколько овец. — примеч. Форстера
(обратно)138
Брамсель — парус третьего яруса на судне с прямым парусным вооружением.
(обратно)139
Голубыми буревестниками в настоящее время называют птиц вида Halobaena caerula. Они сходны по расцветке и величине с ширококлювыми китовыми птицами (Pachyptila vitata Forster) и часто встречаются вместе с ними.
Альбатрос, прозванный матросами из-за его мрачной окраски квакером (членом религиозной секты «трясунов»), принадлежит к виду Phoebetria palpebrata Forster.
(обратно)140
Со времен сэра Джона Нарборо эту птицу упоминает едва ли не каждый мореплаватель достигавший южной оконечности Америки, и тем, кто читал сообщения Ансона, Байрона, Бугенвиля, Пернети и других, пингвин столь знаком, что вряд ли есть надобность описывать его здесь. В известном смысле эту птицу можно рассматривать как амфибию, поскольку крылья ее не приспособлены для полета, они состоят лишь из крепких мускулистых перепонок, которыми пингвин пользуется как плавниками. Натуралистам уже известны десять различных его разновидностей.— примеч. Форстера
Пернети, Аптуан Жозеф (1716—1801) — бенедиктинский монах, который в качестве капеллана участвовал в 1763—1764 гг. в экспедиции Бугенвиля на Фолклендские, или, как их называли французы, Малуинские, острова, а впоследствии стал библиотекарем прусского короля. Форстер имеет в виду его книгу: A. J. Р е г n e t у. Journal historique du voyage fait aux îles Malouines et au detroit de Magellan. В., 1769 (другое издание— 1770 г.). В 1771 г. эта книга была издана в переводе на английский язык.
Нарборо, Джон (1640—1688) — английский мореплаватель, обследовавший Огнеземельский архипелаг.
(обратно)141
Mairan's Dissertation sur la glace. P., 1749, p. 201. — примеч. Форстера
(обратно)142
В период второго кругосветного плавания Кука в науке еще непоколебимо господствовало мнение, что льды, встречающиеся в море, попадают туда из рек. В свете этих воззрений наличие в высоких широтах Южного полушария огромных масс плавучего льда рассматривалось рядом видных ученых как аргумент в пользу существования Южного материка; считалось, что ледяные поля берут начало от текущих там рек.
Едва ли не первым, кто выступил в печати с утверждением, что хотя бы часть распространенных в море льдов образуется непосредственно из морской воды, был М. В. Ломоносов. Он высказал эту мысль в работе «Рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях», написанной в 1760 г. и впервые опубликованной в 1763 г. на шведском языке в «Записках Шведской Академии наук».
(обратно)143
Господин Адансон, вернувшись из Сенегала, привез с собой несколько бутылок с морской водой, взятой под разными широтами, и, когда он зимой вез их из Бреста в Париж, вода в пути замерзла, и все бутылки разорвались. Изо льда затем получилась пресная вода, небольшое же количество концентрированной соленой воды, не превратившейся в лед, вытекло. См. его «Путешествие в Сенегал», с. 190. Господин Эдв. Нейрн, член Лондонской академии, в сильные морозы 1776 года ставил опыты с морской водой, известия о которых можно найти в томе 66 трудов этой академии. Опыты неопровержимо показали, что морская вода может превращаться в плотный лед, из которого при таянии получается пресная вода .— примеч. Форстера
Адансон, Мишель (1727—1806) — французский естествоиспытатель и путешественник. Имеется в виду его труд: М. A d a n s о п. Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la relation abregée d'un voyage fait en se pays pendant les années 1749—1753. P., 1757.
Нейрн, Эдуард (1726—1806) — механик, оптик и натуралист, член Лондонского Королевского общества. Публиковал свои исследования в «Philosophical Transactions» этого научного общества.
Как установили в дальнейшем исследователи, природный лед обычно значительно чище, чем вода, ибо растворимость вещества в нем крайне плохая. Однако лед может содержать различные механические примеси. Так, при образовании льда в море между ледяными кристаллами, состоящими из чистой воды, задерживаются мелкие капельки морской воды (рассол). С течением времени этот рассол стекает вниз, лед опресняется, и в нем появляются пузырьки воздуха, создающие его пористость. Поэтому многолетний лед отличается малой соленостью.
(обратно)144
Снежный буревестник — Pagodoma nivea Forster.
(обратно)145
О плавании Буве см. примеч. 36.
(обратно)146
Aptenodytes antarctica, Procellaria capensis, glacialis, nivea et vittata. — примеч. Форстера
(обратно)147
Пингвины (Sphenisciformes) — отряд птиц. Мнение о том, что пингвины — промежуточное звено между птицами и амфибиями (земноводными), необоснованно. Здесь речь идет об антарктическом пингвине (Pygoscelis antarctica Forster).
(обратно)148
Такие бульонные таблетки, называемые portable soup, в больших количествах изготовляются в Лондоне и в других английских портах из свежего мяса, особенно говядины, а также костей и прочих отходов; все это вываривается до консистенции бурого студня или клея и разливается в маленькие формы. Видом эти таблетки напоминают столярный клей; их можно употреблять и в таком качестве. Храниться таблетки могут много лет, если их беречь от сырости и плесени; они очень удобны и полезны во время долгих, особенно морских, путешествий, когда не хватает свежего мяса. Одного-двух лотов, разрезанных и разведенных или разваренных в горячей воде, хватает на хороший крепкий отвар пли суп для одного человека. Продаются они на фунты и стоят весьма дешево, поскольку на них идут кости и отходы. Ничего лучшего поварское искусство наверняка никогда не изобретало. У нас на корабле было 3 тысячи фунтов таких таблеток в жестяных коробках, каждая по 25 фунтов. — примеч. Форстера
(обратно)149
Зоб — увеличение щитовидной железы вследствие разрастания ее лимфоидной функциональной ткани или соединительнотканевой стромы. Возникновение зоба может быть связано с рядом заболеваний. Форстер имеет в виду эндемический зоб, который действительно нередко встречается в высокогорных районах, горных долинах и предгорьях. Он обусловлен недостаточностью йода в воздухе, почве и продовольствии. Что же касается распухания горловых желез, наблюдавшегося у участников экспедиции Кука, то оно, по-видимому, было связано с простудными заболеваниями.
(обратно)150
Антарктический буревестник — Thalassoica antarctica.
(обратно)151
В это время Кук, сам того не подозревая, находился примерно лишь в 75 милях от Антарктиды.
(обратно)152
Эта же птица упоминается в описании первого плавания господина Кука на «Индевре» (Xауксуорт, т. 3, с. 48). — примеч. Форстера
(обратно)153
Порт-эгмонтские курочки — видимо, большой поморник (Catharacta skua lonnebergi), похожий по форме тела на чаек и относимый к тому же отряду ржанкообразных, что и чайки. Порт-Эгмонт — поселение, основанное в 1764 г. английским мореплавателем Дж. Байроном на Фолклендских (Мальвинских) островах.
(обратно)154
Судя по описанию и району обнаружения, это, вероятно, дельфин обыкновенный (Delphinus delphis) — млекопитающее семейства дельфиновых отряда китов.
(обратно)155
Мартенс в своем описании Шпицбергена называет этот вид итиц Rotges. — примеч. Форстера
Имеется в виду книга: Friedrich Martens vom Hamburg Spitzbergisehe oder Groenländische Reise Beschreibung, gethan im Jahr 1671, Hamburg, 1765.
(обратно)156
Ив Жозеф де Кергелен (1745—1797) возглавил в 1771 г. французскую экспедицию, которая должна была опередить Кука в поисках Южного материка. В феврале 1772 г. он открыл к югу от о-ва Маврикий землю, которую счел за материк и объявил владением Франции. "Поспешив вернуться в Европу, Кергелен представил отчет, в котором дал волю своему воображению. Он утверждал, будто обнаруженная страна, названная им Южной Францией, представляет собой «центральный массив антарктического континента» и изобилует плодородными землями и полезными ископаемыми. Кергелен добавлял, что, «хотя жителей здесь еще не обнаружено, они, конечно, имеются». За свое открытие он был награжден орденом св. Людовика и получил чин капитана.
В 1773 г. во главе новой морской экспедиции Кергелен вернулся к открытой им земле, чтобы начать ее освоение. И тут он столкнулся с суровой действительностью. Холода, бури, мрачные, бесплодные и необитаемые берега заставили его переименовать Южную Францию в Землю Запустения. Не сумев основать здесь поселение, он возвратился во Францию, где был обвинен в обмане и отдан под суд.
Открытая Кергеленом земля — архипелаг, состоящий из большого (ок. 3 тыс. кв. км) острова и более 300 мелких островов, расположенных в районе 49° го. ш, и 69—70° в. д., то есть значительно восточнее, чем полагали в феврале 1773 г. Кук и Форстер. Куку удалось найти эти острова лишь в декабре 1776 г., во время своей третьей экспедиции. Он назвал их Землей Кергелена.
(обратно)157
О счислении долгот от меридиана, проходящего через остров Ферро, см. примеч. 77.
(обратно)158
Французский капитан Никола Тома Марион-Дюфрен (1720—1772) снарядил в 1771 г. на свой счет экспедицию для поиска новых земель. По дороге в Тихий океан он в январе 1772 г. открыл к юго-востоку от мыса Доброй Надежды две группы маленьких островов, лежащих в районе 47°. ю. ш. соответственно у 38° и 51° в. д. Об этих открытиях Кук и Форстер узнали от Жюльена Марии Крозе, капитана одного из кораблей Марион-Дюфрена, с которым они в марте 1775 г. встретились в Кейптауне. В декабре 1776 г., во время своей третьей экспедиции, Кук назвал эти островные группы островами Принс-Эдуард и Крозе.
(обратно)159
Я и ч н ы е птицы — различные виды небольших белых ласточек с раздвоенным хвостом (здесь, возможно, Sterna fuscata), получившие такое странное название потому, что откладывают крупные яйца.
(обратно)160
Поскольку высокие горы задерживают ветер и он не волнует поверхность моря.
(обратно)161
Обилие птиц в эти дни объяснялось тем, что «Резолюшн» находился примерно в 300 милях к юго-востоку от о-ва Кергелен и 60 милях к югу от о-ва Херд.
(обратно)162
Бурное море не выдаст рыбы к столу твоему. Г о р а ц и й[Сатиры, II, 2.16—17. Пер. М. Дмитриева]
(обратно)163
См. у Хауксуорта, т. 3, с. 219. — примеч. Форстера
(обратно)164
Роза, Сальваторе (1615—1673) — итальянский художник, поэт и музыкант. Ему особенно удавались пейзажи с суровыми горами, дикими ущельями и глухими лесными чащами.
(обратно)165
Хуан-Фернандес — группа островов в Тихом океане, примерно в 700 км от побережья Чили. Тиниан — один из островов микронезийского архипелага Марианские острова.
(обратно)166
Угольная рыба (Papapercis colias) — новозеландская голубая треска. Маори называют ее равару.
(обратно)167
Речь идет о чайном растении (Leptospermum scopiarum), принадлежащем к семейству миртовых. Маори называют его манука.
(обратно)168
Сие полезное дерево не меньше предыдущего заслуживает того, чтобы его более подробно описать для будущих мореплавателей. Но в это время года мы в Новой Зеландии не смогли достать ни его цветов, ни плодов. — примеч. Форстера
(обратно)169
Имеется в виду новозеландское хвойное дерево риму ( Dacrydium cupressinum).
(обратно)170
См. у Хауксуорта, т. 3, с. 146, 151 и 273. — примеч. Форстера
(обратно)171
Мы будем дальше все время пользоваться этим словом для обозначения индейской лодки, хотя это общее обозначение не всегда бывает достаточным. — примеч. Форстера
(обратно)172
См. у Хауксуорта, т. 3, с. 275 и далее. — примеч. Форстера
(обратно)173
В XVI—XVIII вв. индейцами называли коренных жителей не только обеих Америк, но также Юго-Восточной Азии и Океании. Эта традиция возникла с открытием X. Колумбом островов Вест-Индии.
Здесь речь идет о маори — коренном населении Новой Зеландии. Предки маори переселились сюда в X—XIV вв. с тропических островов Восточной Полинезии и, оказавшись в стране с более суровым климатом, вынуждены были приспособить к нему свое хозяйство и материальную культуру. Основным занятием маори было подсечно-огневое земледелие (преимущественно на Северном острове), но в жизни многих племен очень важную роль играли рыболовство, охота (на птиц и крыс), сбор кореньев, диких плодов и т. д. В конце XVIII в. маори находились на стадии разложения первобытнообщинного строя. Основной социально-экономической единицей была община (хапу), в которую входило несколько больших семей (ванау). Выделялись социальные слои благородных (арики), а также свободных и зависимых общинников. Существовало патриархальное рабство.
(обратно)174
Речь пдет о мухах Austrosimilium sp., личинки которых созревают в текучих водах.
(обратно)175
См. у Хауксуорта, т. 3. с. 275. — примеч. Форстера
(обратно)176
См. многие места в «Истории английских морских путешествий» Хауксуорта.— примеч. Форстера
(обратно)177
Эти так называемые корабельные плащи столь велики и широки, что их можно несколько раз обернуть вокруг тела. — примеч. Форстера
(обратно)178
Он был особенно сведущ в таитянском языке, который отличается от языка Новой Зеландии не более чем, как один диалект от другого. — примеч. Форстера
(обратно)179
Как; если б голод только возрастал От насыщенья. Ш е к с п и р[Гамлет. 1.2. Пер. М. Лозинского]
(обратно)180
Таваи-пое-наму (правильно Те Ваи Пунаму) — Страна зеленого камня. Так маори называли Южный остров Новой Зеландии.
(обратно)181
Призматические цвета — здесь радужная полоса, возникающая при разложении солнечного света, проходящего через прозрачную призму, роль которой выполняет стена из водяной пыли и пара.
(обратно)182
Phoca ursina Linn. Ursina Seal. Pennants Syn. Quadr. 271 .
Форстер ссылается на один из трудов известного английского натуралиста Томаса Пеннанта (1724—1798): Т h. Pennant. Synopsis of Quadrupeds. Chester, 1771.
(обратно)183
Речь идет о новозеландских морских котиках кекено (Arctocephalus forsteri), млекопитающих семейства ушастых тюленей. Кекено были истреблены к 1830 г., т. е. уже на первых этапах колонизации страны европейцами.
Стеллер, Георг Вильгельм (1709—1746) — путешественник и натуралист, с 1837 г. ядъюнкт Петербургской академии наук. В 1740—1743 гг. проводил исследования на Камчатке. В 1741 г. участвовал в плавании В. Беринга к берегам Америки, причем зимовал на о-ве Беринга (Командорские острова). Там же создал работу «О морских животных», впервые опубликованную в 1753 г. Посмертно были изданы также его труды «Описание земли Камчатка» (1774) и «Путешествие от Камчатки к Америке вместе с капитан-командором Берингом» (1793).
(обратно)184
Фауна Новой Зеландии бедна млекопитающими. В XVIII в. здесь встречались только летучие мыши, а также собаки и крысы, попавшие в страну вместе с древними переселенцами. Из пресмыкающихся — сцинки и гекконы, а также туатара, относящаяся к подклассу клювоголовых пресмыкающихся, но похожая на крупную ящерицу.
(обратно)185
Водяная курочка — нелетающий новозеландский водяной пастушок (Gallirallus australis). Маори называют его века.
(обратно)186
По мнению новозеландского ученого Дж. Биглхоула, издателя и комментатора дневников Кука, речь идет о следующих разновидностях уток: 1) райская утка (Tadorna variegata): 2) серая утка (Anas supercilosa); 3) голубая утка (Himenolaimus malacorhynchos), иногда называемая свистящей уткой; 4) бурый чирок (Anas caslanea chlorotis).
(обратно)187
À I'indienne— [франц.— по-индейски].
(обратно)188
Красногрудый попугай — Cyanoramphus novaeseelandiae. Маори называют его какарики.
(обратно)189
См. у Хауксуорта, т. 3, с. 304,
(обратно)190
Новозеландским зеленым тальком Форстер называет нефрит — микрокристаллическую разновидность минералов актинолита и тремолита, образующих плотные полупрозрачные массы красивых оттенков зеленого, серовато-белого и белого цветов. Нефрит, широко встречавшийся на Южном острове, играл большую роль в жизни маори. Из него изготовляли различные орудия и оружие (топоры, ножи, наконечники стрел н т. п.), культовые предметы и украшения. В честь нефрита маори называли Южный остров Страной зеленого камня. Тальк (минерал подкласса слоистых силикатов) также в изобилии встречается на этом острове, но он по своим свойствам непригоден для изготовления орудий и оружия.
(обратно)191
Юта-рулень — железная цепь для закрепления вантов (тросов, с помощью которых мачты поддерживаются с бортов).
(обратно)192
Цветовая символика все еще остается недостаточно изученной, но она, несомненно, связана с тем, что каждый цвет порождает в мозгу человека особую реакцию. Так, установлено, что зеленовато-голубой цвет вызывает чувство безопасности.
Рассуждения Форстера о договоренности по поводу значения отдельных цветов, якобы достигнутой до «всеобщего рассеяния рода человеческого», в наши дни представляются беспочвенными и наивными.
(обратно)193
Речь идет о новозеландском черном чирке (Aythia novaeseelandiae).
(обратно)194
Ярь-медянка — здесь зеленый налет, который образуется в результате окисления меди.
(обратно)195
Св. Георгий — один из наиболее популярных святых христианской церкви, день памяти которого отмечается 23 апреля. Если в странах Восточной и Центральной Европы он в XVIII в. почитался как покровитель домашних животных, то в Западной Европе, в том числе в Англии, он был известен прежде всего как легендарный воин, победивший дракона.
(обратно)196
Очевидно, речь идет о капустной пальме Rhapalostylus sapida(по устаревшей классификации Д. Соландера—Areca sapida), которую маори называют никау. Эта пальма растет также на о-ве Норфолк.
(обратно)197
Белая цапля — новозеландская птица катуку (Egretta alba modesta), редкая уже в конце XVIII в.
(обратно)198
Так по цветущим полям под солнцем раннего лета Трудятся пчелы. В е р г и л и й[Энеида. I, 430—431.
Пер. С. Ошерова]
(обратно)199
Под этим скромным именем автор данного описания господии Георг Форстер разумеет самого себя. Наряду с другими редкостными талантами он обладал большими способностями к рисованию и здесь, похоже, впервые открыто их проявил.— Примеч. изд.
(обратно)200
Здесь Г. Форстер, очевидно, имеет в виду своего отца и самого себя.
(обратно)201
Так проходит земная слава (лат.).
(обратно)202
Смешались в хаосе вода, земля и небо И все стихии, страшно гром гремит. Все бешеней неистовствует буря, И море пенится, и бурные валы Вздымаются с угрозой к небесам. А. Т а с с о н и[Украденное ведро. X. 20.4]
Тассони, Алессандро (1565—1635)—итальянский поэт. Форстер цитирует его героико-комическую эпопею «Украденное ведро», написанную в 1616 г. Пародируя напыщенность героических поэм, Тассони остроумно высмеивает в этом произведении современные ему общественно-политические отношения.
(обратно)203
К л а ф т е р, или маховая сажень,— расстояние между кончиками пальцев распростертых рук. Эта старинная народная мера в немецких государствах XVIII в. колебалась в значительных пределах, составляя в среднем около 2 м.
(обратно)204
Гитов — снасть для уборки парусов подтягиванием их к мачте или рее.
(обратно)205
Шоу, Томас (1694—1751) — английский путешественник по странам Африки. Тевено, Жан (1633—1667) — французский путешественник по странам Ближнего и Среднего Востока.
(обратно)206
Франклин, Бенджамин (1706—1790) — выдающийся американский государственный деятель, просветитель и ученый. Изучая самые различные явления природы, он собрал, в частности, обширные материалы о штормовых ветрах и разработал теорию, объясняющую их происхождение. Предложил эффективный метод защиты от грозового разряда — молниеотвод (громоотвод).
(обратно)207
[В. Franklin]. Experiments on Electricity, 5-th ed. L., 1774.
(обратно)208
См. у Хауксуорта, т. 3, с. 194, 206, 220.
(обратно)209
X и п п а (правильно п а) — укрепленное селение маори. Такие селения, обычно строившиеся на холме и окружавшиеся частоколом (иногда также рвом и валом), служили для обороны при межплеменных войнах.
Пролив, отделяющий Северный остров от Южного, Форстер называет то проливом Королевы Шарлотты, то проливом Кука. Ныне принято второе название.
(обратно)210
См. примеч. 31
(обратно)211
Речь идет о тасманийском вороне (Corvus coronoides) и белом ястребе (Accipiter novaehollandiae).
(обратно)212
Форстер, очевидно, имеет в виду сообщение Тасмана о том, что его спутники видели на побережье Вандименовой земли отпечатки следов каких-то четвероногих животных. Действительно, тасманийская фауна во многом сходна с австралийской. В частности, на Тасмании встречаются (или встречались в XVIII—XIX вв.) разнообразные формы сумчатых животных, соответствующие различным биологическим типам высших млекопитающих (хищным, насекомоядным, грызунам и др.), например сумчатый волк. Эти животные, очевидно, попали сюда в ту геологическую эпоху, когда Тасмания соединялась с Австралией.
(обратно)213
В 70-х годах XVIII в. Австралия оставалась еще почти неизученной. Поэтому неудивительно, что, говоря о ней, Форстер допустил ряд неточностей. Так, Австралия по площади меньше Европы, а австралийские аборигены расселялись тогда по всему континенту и насчитывали 250—300 тыс. человек. Но верно, что аборигены, находившиеся примерно на стадии мезолита, относились к наиболее отсталым народам Земли. Примечательно также, что Форстер правильно предсказывал наличие в Австралии огромных природных богатств и высказал мнение, что этому континенту уготовано большое будущее.
(обратно)214
В Новой Зеландии действительно имеются вулканы, но землетрясения, но современным представлениям, вызываются главным образом тектоническими процессами в недрах Земли и не обязательно связаны с вулканической деятельностью.
(обратно)215
Новозеландские виды дикого сельдерея—Apium proslratum и Apium filiforте; противоцинготная трава — Lepidlum olearum.
(обратно)216
По мнению современных исследователей, крысы (Rattus exulans) попали в Новую Зеландию в лодках переселенцев из Восточной Полинезии.
(обратно)217
Д и к и й новозеландский л е н (Phormium tenax) играл большую роль в хозяйстве маори. В отличие от тропических островов Полинезии в Новой Зеландии нет бумажно-шелковичного дерева, из луба которого изготовлялась материя (тапа). Ее заменила в Новой Зеландии материя, выделываемая из волокон льна. Из него изготовляли также сети, веревки и т. п.
(обратно)218
Этот человек известен читателям «Истории английских морских путешествий» Хауксуорта под именем Тупиа. Однако можно быть уверенным, что это имя, как и многие другие слова из языков жителей Южного моря, здесь написано правильнее, нежели в упомянутой книге, поскольку автор данного описания немец, а немцы обычно не только лучше усваивают чужие языки, но и, как правило, гораздо более точны в произношении и написании их слов, нежели англичане, французы и т. п. Все иностранные слова здесь написаны так, как они звучат в немецком произношении.— Примеч. изд.
(обратно)219
О Тупайе см. примеч.17.
(обратно)220
Речь, очевидно, идет о паке — грубой плетеной накидке, которая служила дождевиком.
(обратно)221
Что же за похоть, о Марс-Градив, разожгла твоих внуков?
Ю в е н а л
[Сатиры. 2.127. Пер. Д. Недовича и Ф. Петровского]
(обратно)222
Э-тигхи (Тики) — один из полинезийских богов, который представлялся как создатель человека или первый человек-прародитель. Считалось, что в амулетах с изображением Тики, заключена огромная созидательная сила.
(обратно)223
Новозеландские собаки (местное название кури) — единственное домашнее животное маори. Они были похожи на лисицу и не умели лаять. К настоящему времени этот вид собак полностью вымер, зато в Новой Зеландии широко распространились собаки европейских пород.
(обратно)224
Зрелища и увеселения с танцами, песнями и театрализованными представлениями назывались у маори эхеива. В танцах достигалась высокая степень экстаза, особенно в боевых плясках перу-перу. Очевидно, Форстер описывает «мирный» танец хака, исполнявшийся во время приема дружественных гостей.
(обратно)225
Речь идет о морских слонах (Mirounga leonina) — крупных животных семейства настоящих тюленей, самцы которых достигают в длину 5—6 м. У взрослых самцов имеется своеобразное разрастание носовой полости, несколько напоминающее короткий хобот. Они почти не встречаются у берегов Новой Зеландии; лишь отдельные особи изредка заплывают в пролив Кука.
(обратно)226
Тира-Вити (Теравити) — мыс на южной оконечности Северного острова. Этот остров маори называли Те-Ика-а-Мауи, т. е. Рыба Мауи. Мауи — легендарный культурный герой полинезийцев, чудесный ловец островов из морской пучины, полинезийский Прометей, добывающий людям огонь.
(обратно)227
В 1337 г., с началом Столетней войны, английский король Эдуард III присоединил к своим титулам звание «король Франции». Этот титул, не отвечающий политической реальности, английские короли сохраняли до 1801 г., когда Георг III официально отказался от него по требованию Наполеона.
(обратно)228
Адмиралтейство первоначально хотело, чтобы оба корабля отплыли уже в марте, однако лишь к июню удалось подготовить необходимое снаряжение.
(обратно)229
Вопреки предположению Форстера у маори имелись наследственные вожди, но учитывались также личные качества соответствующих арики. Только тот перворожденный сын вождя, который обладал ораторским и воинским искусством, знанием генеалогии, мифов и т. д., становился общепризнанным вождем. Кроме того, в отличие от Тонга и о-вов Общества в Новой Зеландии не существовал институт верховных вождей, а власть племенных вождей была невелика.
(обратно)230
Речь идет о батате. Для маори батат (местное название кумира), широко культивировавшийся на Северном острове, имел такое же большое значение, как плоды хлебного дерева для таитян.
(обратно)231
См. примеч. 95.
(обратно)232
Французский мореплаватель Жан Франсуа Сюрвиль (1717—1770) отправился в июне 1769 г. из Пондишери (французского владения в Индии) на поиски неведомого Южного материка. Вслед за Менданьей, Бугенвилем и Картеретом он посетил Соломоновы острова и, сочтя себя их первооткрывателем, дал названия ряду островов, бухт и горных вершин. Отсюда он пошел к Новой Зеландии. В декабре 1769 г. Сюрвиль останавливался в бухте Даутлесс, но через несколько дней после того, как мимо нее проследовал корабль Кука.
(обратно)233
Сифилис на о-в Таити был занесен в 1767—1768 гг. экспедициями Уоллиса и Бугенвиля и вскоре получил там широкое распространение. В апреле — июле 1769 г., во время пребывания на Таити первой экспедиции Кука, сифилисом заболели 33 его матроса. Вероятно, именно эти моряки, несмотря на принятые Куком меры предосторожности, занесли в конце 1769 г. сифилис в Новую Зеландию. Вопреки мнению Форстера в XVIII в. эта болезнь полностью излечивалась очень редко, устранялись или уменьшались лишь некоторые ее внешние проявления. До открытия Новой Зеландии европейцами там, по-видимому, не было венерических болезней.
(обратно)234
Координаты о-ва Питкэрн — 25°3' ю. ш. и 130°8' з. д. Как видно из дневника Кука, 1 августа 1773 г. его корабли находились на 25°1' ю. ш. и 134°6' з. д., т. е. в 4" к востоку от этого острова. В то время Питкэрн был необитаем, но в 1790 г. здесь поселилась взбунтовавшаяся команда английского корабля «Баунти».
(обратно)235
С этим замечанием согласуется то, что мы испытали в 1772 г. на Мадере; там тоже дул пассат, хотя этот остров расположен под 33° северной широты. — примеч. Форстера
(обратно)236
Фрегаты (Fregatidae)—семейство крупных птиц отряда веслоногих, представленное одним родом. Распространены в тропиках на океанических островах. В отличие от других морских птиц не улетают далеко от мест гнездования, так как их оперение легко намокает и они не могут отдыхать на воде.
Олуши (Sulidae) — семейство птиц, относящееся, как и фрегаты, к отряду веслоногих.
(обратно)237
Это атолл Тауэре в архипелаге Туамоту. Он был открыт не Бугенвилем, а испанским мореплавателем Доминго де Боеначеа в октябре 1772 г.
(обратно)238
Риф во многих северных языках, происходящих от немецкого,— это банка, скала или же отмель в море, иногда скрытые под водой, так что небольшим судам можно над ними проплыть; но иногда этот риф находится так неглубоко, что волны перекатываются над ним, образуя прибой. — примеч. Форстера
(обратно)239
Речь идет об атоллах Текокото и Марутеа (одном из наиболее опасных в архипелаге Туамоту). Оба атолла открыты Куком.
(обратно)240
Остров Адвенчер (атолл Мотутунга) также открыт Куком.
(обратно)241
Форстер имеет в виду атоллы. Типичный атолл — мощное коралловое образование, состоящее из кольцевого рифа, низких островов на нем и внутренней лагуны, сообщающейся с океаном через проходы в рифе. Первыми правильные соображения о происхождении атоллов высказали выдающийся русский мореплаватель О. Е. Коцебу и его спутники, участники кругосветной экспедиции 1815—1818 гг. на «Рюрике». Эти мысли и предположения были учтены Ч. Дарвином при создании в середине XIX в. научной теории развития коралловых островов.
Кокосовое дерево — кокосовая пальма (Cocos nucifera) семейства тутовых, играющая огромную роль в жизни обитателей Океании.
(обратно)242
Архипелаг Туамоту населяет один из полинезийских народов (туамоту), который делился в XVIII в. на несколько племенных групп со сходными диалектами.
Во времена Кука и Форстера о происхождении полинезийцев, путях и времени их переселений еще ничего не было известно. По современным данным, предками полинезийцев были группы мореходов, происходящие из Юго-Восточной Азии и проникшие через Меланезию и Микронезию на западные рубежи Полинезии (Фиджи, Тонга). Здесь, в условиях сравнительной изоляции, завершилось формирование антропологического типа полинезийцев, сложились полинезийский язык-основа и главные особенности общеполипезийской культуры. Заселение полинезийцами многочисленных островов Полинезии началось, вероятно, на рубеже II и I тысячелетий до н. э. и растянулось более чем на два тысячелетия. Большинство атоллов Туамоту было заселено с о-вов Общества в начале II тысячелетия н. э.
(обратно)243
Хлебные деревья — деревья рода Artocarpus семейства тутовых. Приносят богатые крахмалом, мучнистые плоды, достигающие 20 кг веса; употребляются в пищу в печеном виде.
(обратно)244
Об открытии о-ва Таити см. примеч. 27 и 38
(обратно)245
Всех молчаливая ночь в глубокий покой погрузила.
В е р г и л и й[Энеида. 4, 527. Пер. С. Ошерова]
(обратно)246
В радостный край вступили они, где взору отрадна Зелень счастливых дубрав, где приют блаженный таится. Здесь над полями высок эфир, и светом багряным Солнце сияет. Вергилий[Энеида. 6, 638—641. Пер. С. Ошерова]
(обратно)247
Имеется в виду тапа — материя, изготовляемая из луба (подкоркового камбиального слоя) бумажно-шелковичного дерева (Broussinetia papyrifera), реже—фикусового и хлебного деревьев. До появления в Океании европейцев тапа служила островитянам основным материалом для изготовления одежды.
(обратно)248
Речь идет об обычае татуировки, который на Таити и других островах Полинезии был тесно связан с социальными отношениями и религиозными представлениями. Татуировке подвергались юноши и девушки, вступающие в брачный возраст. Наиболее полная и сложная татуировка составляла привилегию вождей и жрецов.
(обратно)249
О-в Таити состоит из двух частей, соединенных перешейком Таравао. Северная называется Таити-нуи (Большой Таити), южная, меньшая — Таити-ити (Малый Таити).
(обратно)250
Форстер подошел к общественному строю Таити и других о-вов Общества с европейской меркой. Никаких королей в то время здесь не существовало. Таитянское общество, находившееся тогда на стадии формирования классов и государственности, состояло из трех основных социальных слоев: благородных (арии), общинников, имеющих земельные наделы (раатира), и очень пестрой социальной группы безземельных островитян (манахуне), зависимых от первых двух слоев. Как бы вне этих социальных подразделений находились военнопленные-рабы (тити). Арии, в свою очередь, делились на «больших» и «малых». Каждый «большой» арии был правителем (вождем) определенной территориальной единицы (матахеинаа), которую условно можно назвать округом. Из среды «больших» арии выдвигался верховный вождь (арии рахи), которому удавалось взять верх над своими соперниками. Но его верховенство обычно было недолговечным и редко распространялось на весь остров. Такой же общественный строй существовал тогда на других о-вах Общества.
(обратно)251
Тутаха (ум. в 1773 г.) — вождь, который, будучи младшим отпрыском знатного рода, не мог претендовать на верховенство, но пользовался большим влиянием на Таити-нуи во время первого посещения острова Куком. Ахеатуа (правильно еехиатуа) — титул, который носили вожди, правившие на Таити-ити (эту часть острова Форстер называет Теиаррабу). В дальнейшем Форстер ошибочно употребляет этот титул в качестве имени двух вождей (отца и сына).
(обратно)252
Я м с, и н ь я м (Dioscorea) — многолетнее травянистое вьющееся растение, широко распространенное в тропических странах. Клубни его (весом до 50 кг), богатые крахмалом, идут в пищу в печеном виде.
Банан (Musa) — род многолетних травянистых растений семейства банановых. На Таити насчитывалось около 30 разновидностей культивируемых бананов, а диких — не менее 20. Все они имели местные названия.
(обратно)253
Форстер, как и Кук, неоднократно отмечал склонность к «воровству» обитателей Новой Зеландии и Таити. Он не подозревал, что по местным обычаям неприкосновенной была лишь собственность данного племени или сопоставимой с ним этнотерриториальной группы, а на имущество иноплеменников и тем более чужеземцев подобный запрет не распространялся.
(обратно)254
«Яблоки» э-вие (правильно ви) — бразильская слива (Spondias dulcis).
(обратно)255
«Разврат», о котором пишет Форстер, объяснялся несколькими причинами. Во-первых, у таитян, как и у маори, существовала относительная свобода добрачных половых отношений. Во-вторых, это могло быть на первых порах проявлением гостеприимного гетеризма (обычая предоставления женщин гостям), свойственного многим народам на аналогичной ступени развития. Европейские моряки подарками поощряли женщин посещать корабли и постепенно превратили эти посещения в промысел. Ниже Форстер отмечает, что «распутством» на кораблях занимались женщины «низкого сословия».
(обратно)256
Марай (правильно марае) — святилище таитян, в котором стояли деревянные изображения богов и духов предков и был сооружен алтарь для жертвоприношений.
(обратно)257
Э д д о — название таро, употреблявшееся на африканском Золотом Берегу.
(обратно)258
Athrodactylis.— Char. Gen. nov. Forster. L., 1776. Bromelia sylvestris.— Linn. Flora Ceyl.; Keura.— Forscal Flor. Arab.; Pandanus— Rumpb- Amboin.
Речь идет о таитянской разновидности пандануса (Pandanus tectoris) — местное название фара — со съедебиыми плодами. Форстер приводит здесь пазвания, присвоенные этому растению разными учеными — им самим и его отцом, К. Линнеем, П. Форсколом и Г. Э. Румпфом, а также дает сокращенные обозначения их трудов. См.: С. L i n n e u s. Flora Ceylanica. Holmiae, 1747; G. E. Rumphhis. Herbarium Amboinense. T. 1—7. Amsterdam. 1741—1755. Румпф, Георг Эберхард (1627—1702) — голландский натуралист, живший долгое время на Молуккских островах. Его капитальный труд был издан посмертно.
(обратно)259
По мнению издателя и комментатора дневников Кука Дж. Биглхоула, в 1773 г. таитянские вожди, учитывая, что остров сильно разорен в результате междоусобной войны, наложили запрет на продажу иноземцам свиней и кур.
(обратно)260
Английский натуралист Джон Нидхэм (1713—1781) и французский ориенталист Жозеф де Гинь (1721—1800) высказывали умозрительные гипотезы о родстве различных народов. См.: J. Т. N е е d h a m. Recherches physiques et metaphysiques sur la nature et la religion. P., 1769; J. de Guignes. Memoire dans laquel on prouve que les Chinois sont une colonie egyptienne. P., 1759. Ниже Форстер полемизирует с Гинем, не называя его по имени .
(обратно)261
Гринделл, Ричард (1750—1820)—матрос 1-й статьи, хорошо проявивший себя во время второй экспедиции Кука. Свою службу в британском флоте закончил в чине вице-адмирала.
(обратно)262
Чтобы его не пугали с отцом, младший Форстер называет себя по имени.— Примеч. изд.
(обратно)263
Axay (правильно а х у) — род накидки из тапы, набрасываемой на плечи.
(обратно)264
Мандевиль, Джон — литературный псевдоним бельгийского врача Жана де Бургоня (ок. 1300—1372), некоторое время жившего при дворе египетского султана. В 1356 г. он выпустил на французском языке книгу, рассказывающую якобы о его путешествиях по Европе, Азии и Африке, в том числе в Индию и Китай, но в действительности скомпилированную из сочинений разных путешественников. Эта книга долгое время пользовалась популярностью и неоднократно издавалась на многих европейских языках.
(обратно)265
Это место на староанглийском звучит очень наивно и начинается так: «From that lond in returnynge be ten jorneys thorge out the lond of the grete Chane, is another gode vie and a grete Kyngdom, where the Kyng is fulle riche and myghty etc». Мы хотели бы предложить его читателю в более удобном переводе: «Отсюда в десяти днях пути через страну великого хана находится еще один славный остров и большое царство, правитель коего весьма богат и могуч. Среди сильнейших людей страны один отличается невероятным богатством. Он не принц, не герцог, не граф, но у него больше вассалов, которые обязаны ему деньгами и властью, и больше сокровищ, нежели у любого принца, герцога или графа. Каждый год он получает дохода 300 000 повозок, груженных рисом и всяческим зерном. Он живет по местным обычаям как дворянин и в свое удовольствие. Каждый день за столом его ожидают пятьдесят красивых девушек, сплошь девственниц, он с ними ложится ночью и может делать, что ему заблагорассудится. Во время еды они по пятеро приносят ему блюда, поют ему при этом песни, измельчают еду и кладут в рот, а он даже не пошевельнется и не двинет рукой; руки его все время праздно покоятся на столе, ибо ногти на его пальцах такие длинные, что он не может ни до чего коснуться, ни взять ничего; такие отращенные ногти здесь — отличие знати. Девушки поют все время, покуда этот богач ест, а когда он насытится первым блюдом, следующие пять приносят ему второе и тоже поют, пока трапеза не кончится. Так он проводит свою жизнь, так жили и его отцы, и так будут жить его отпрыски». См.: The Voyage and Travayle of Sir John Maundevile, Knight, which treateth of the way to Hierusa-lem and of Marvavles of Inde, with other Ilaunds and Countryes. From an original JUS. in the Cotton library, 1727, p. 376.
(обратно)266
Филемон и Бавкида — в прекрасно обработанном выдающимся римским поэтом Овидием (43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) фригийском сказании (Метаморфозы. VIII, 610—715) благочестивая чета пожилых супругов, которая радушно приняла богов Зевса и Гермеса, посетивших их в образе утомленных путников.
(обратно)267
Форстер рассказывает здесь о междоусобной войне, которая произошла па Таити в марте 1773 г. В этой войне победителем вышел еехиатуа (правитель) Таити-ити, нанесший поражение северянам во главе с Тутахой. В сражении погибли Тутаха и несколько других вождей Таити-ити. После этих событий верховенство на Таити-нуи перешло к Ту (у Форстера — О-Ту), который был тогда правителем округа Паре (северное побережье Таити-нуи), где находится бухта Матаваи. В дальнейшем Ту, принявшему имя Помаре, и его сыну Помаре II удалось с помощью европейцев установить господство над всем Таити.
(обратно)268
П а х и е (правильно п а х и) но п е п п е — корабль испанцев (от распространенного испанского имени Пепе). Речь идет об испанской экспедиции на Таити капитана Доминго де Боенечеа на корабле «Агила». Выйдя из перуанского порта Кальяо в сентябре 1772 г., Боенечеа пробыл у берегов Таити с 9 ноября по 20 декабря того же года, а затем направился в обратный путь. В 1774 г. он с двумя кораблями снова посетил Таити, где и умер, а корабли экспедиции привел в Кальяо его помощник Томас Гаянгос. В 1775 г. «Агила» вновь совершила переход из Перу на Таити под командой капитана Каэтано Лангары и Хуарте. Участники этих экспедиций оставили очень интересные описания Таити. См.: В. G. Corney (ed.). The Quest and Occupation of Tahiti by Emissaries of Spain during the Years 1772— 1776, 3 vols. L., 1913—1918.
(обратно)269
Представление об изначальности единобожия (монотеизма) у народов мира убедительно опровергнуто наукой. Наоборот, монотеизм возникает на сравнительно высокой ступени общественного развития, в классовом обществе. Для таитян и других полинезийцев было характерно многобожие (политеизм). Наряду с культом великих богов (Таароа, Тане, Ту) и развившимся позднее культом воинственного и кровожадного бога Оро таитяне поклонялись целому сонму других богов (этуа), семейным духам-покровителям (ти), обожествленным предкам и т. д. Важную роль в жизни островитян играли жрецы, примыкавшие к социальному слою благородных (арии). Их авторитет был велик и вызывался прежде всего страхом перед весьма суровыми наказаниями, которым подвергались нарушители многочисленных социально-религиозных запретов (табу). Эти запреты охраняли привилегии жречества и знати. Жрецы выполняли также функции астрономов, врачевателей, хранителей легенд и преданий. Сохраняя эти ценные познания в тайне, жрецы еще более усиливали свой авторитет и влияние.
(обратно)270
В е х и (правильно феи)—дикий вид (Musa Fei) банана, растущий в горах Таити.
Ахай — местная разновидность благоуханного сандалового дерева, принадлежащего к роду вечнозеленых эфирномасличных деревьев Santalum семейства Santalaceae. Таитяне смазывали себе волосы кокосовым маслом, настоянным на сандаловом дереве и цветах таитянской гардении (местное название тиаре).
(обратно)271
Кронстедт, Аксель Фредрик (1722—1765) — шведский минералог. Имеется в виду его книга: A. F. Cronstedt. Försök til Mineralogie, eller Mineral-Rickets upstellning. Stockholm, 1758. Вопреки предположениям Форстера, на Таити и других островах Общества нет месторождений металлов.
(обратно)272
В свете современных научных представлений предположения о наличии рабства среди животных несостоятельны.
(обратно)273
Лондонские олдермены — в XVIIIв. члены совета Сити (исторического центра Лондона), как правило весьма состоятельные люди.
(обратно)274
Хиддиа (Хитиаа) — округ на восточном берегу Таити-нуи.
Эрети — старый вождь, гостеприимно принявший лейтенанта Пикерсгилла.
(обратно)275
3 июня 1769 г. Кук и его спутники провели на этом мысе наблюдения за прохождением Венеры (Венус) через солнечный диск.
(обратно)276
Исключение составляют дикари Новой Зеландии. — примеч. Форстера
(обратно)277
«Дельфин» — корабль английского мореплавателя Сэмуэла Уоллиса, на котором тот в 1767 г. открыл Таити.
(обратно)278
Я не по воле своей покинул твой берег, царица!
Вергилий[Энеида. 6, 460. Пер. С. Ошерова]
(обратно)279
Так грубо орудует палкой пьяный швейцарец, когда на празднике расчищает место перед папой, кому ломая руку, кому разбивая голову.
А. Тассони[Украденное ведро. II, 39, 4—8]
(обратно)280
Э-хоа но те эру, то есть друг короля.
(обратно)281
Белая макрель — имеется в виду длинноперый тунец, или альбакор (Gerто alalunga), промысловая рыба семейства тунцовых, которая высоко ценится благодаря вкусному белому мясу.
(обратно)282
Спитхед (восточная часть пролива между южным побережьем Великобритании и о-вом Уайт) — рейд на подступах к Портсмуту, издавна служивший местом сбора английского флота.
(обратно)283
Речь идет о двух разновидностях таро.
(обратно)284
П л а н т а н — один из видов банана. В отличие от большинства других видов его плоды (морфологически — ягоды) употребляются в пищу в вареном или печеном виде.
(обратно)285
Форстер упоминает о театрализованных представлениях (хеива), которые состояли из речитативов, хоров и танцев, происходивших под аккомпанемент барабанов.
(обратно)286
Баррингтония (Barringtonia speciosa Forster, местное название хуту) — растение семейства миртовых. Это красивое дерево названо в честь Дайнса Баррингтона (1727—1800) — английского юриста, антиквара и натуралиста, благодаря содействию которого Форстеры были включены в состав участников второй экспедиции Кука.
Куккель (кукельван) — название плодов тропического дерева Anamirta сосcuius семейства луносеменниковых. Эти плоды, содержащие токсические вещества, использовались для хищнического лова рыбы, а также как средство против вшей.
(обратно)287
Речь идет об атолле Тетиароа, расположенном в 42 км к северу от Таити и состоящем из 13 островов «Замкнутое озеро» — лагуна атолла.
(обратно)288
Путешествие в Китай Осбека и Тореена.
Осбек, Пер (1723—1805) — шведский натуралист. Имеется в виду издание: Р. О s b е с k. A Voyage to China and the East Indies. Together with a Voyage to Suratte by O. Toreen. 2 vols. L., 1771. Эта работа была переведена на английский язык И. Р. Форстером.
(обратно)289
Путешествие Гроуза, англ. изд., т. 1, с. 113.
Речь идет о книге чиновника Ост-Индской компании Дж. Гроуза (ум. в 1783 г.): J. H. Gгоsе. A Voyage to the East Indies. Vol. 1. L., 1776, с. 113 и сл.
(обратно)290
Проворно массажистка трет ему тело,
Рукою ловкой обегая все члены.
Марциал[Эпиграммы. III. 82, 13—14. Пер. Ф. Петровского]
(обратно)291
Очевидно, речь идет об одном из видов куркумы (Curcuma) — рода травянистых растений семейства имбирных, из которых добывают желто-красную краску.
(обратно)292
Давид и Саул — библейские персонажи. Имеется в виду библейский рассказ о том, как искусно игравший на арфе Давид был приглашен ко двору, чтобы разогнать тоску царя Саула.
(обратно)293
Речь идет о вождях Амо и Пуреа, правивших в округе Папара на южном побережье Таити-нуи, и их сыне Териирере.
(обратно)294
Об общественном строе таитян см. примеч. 250. Вопреки мнению Форстера таутау (правильно теутеу) — не один из основных социальных слоев таитянского общества, а наследственные слуги и сподвижники вождей, члены их боевых дружин.
(обратно)295
См. «Путешествия» Бугенвиля и у Хауксуорта, т. 3, с. 546. Господин Бугенвиль сомневается, существовала ли эта болезнь на Таити до его прибытия; англичанин склонен это утверждать. — примеч. Форстера
(обратно)296
О-пэ-но-пеппе (правильно эпоэ-но-пепе) — болезнь пепе, то есть испанцев (см. примеч. 268). По мнению Биглхоула, это было инфекционное заболевание, нечто вроде «желудочного гриппа», занесенное испанцами в 1772 г.
Элефантизм (точнее — элефантиаз) — слоновость — заболевание, вызывающее утолщение кожи и подкожной клетчатки вследствие хронического застоя лимфы. Развитие болезни связано с врожденной, наследственно-конституционной или приобретенной недостаточностью лимфатических сосудов. В странах тропического пояса, в том числе на ряде островов Океании, элефантиаз нередко возникает как осложнение при одной из форм филяриатоза — заболевания, которое вызывается заражением организма круглыми червями (филяриями) и ведет к воспалению и закупорке лимфатических сосудов. Это заболевание не имеет ничего общего ни с проказой, ни с фрамбезией.
Фрамбезия — тропическое инфекционное невенерическое заболевание с резко выраженными кожными проявлениями, отчасти напоминающими сифилитические. Была распространена на многих островах Океании еще до открытия их европейцами. Экспедиции Уоллиса и Бугенвиля занесли в 1767—1768 гг. на Таити сифилис, протекающий в более тяжелых формах и со временем поражающий человеческий организм в целом.
(обратно)297
Речь, возможно, идет о больном элефантиазом. Отек яичка — один из характерных симптомов этой болезни.
(обратно)298
Б а н а н — не дерево, а травянистое растение.
(обратно)299
Титул и имя, по-видимому, слились в речи; вероятно, его звали Т'Эри-Териа — примеч. Форстера
(обратно)300
Птицам или животным обитатели островов Общества не поклонялись. Но некоторые виды птиц считались здесь «тенью» или «отражением» богов.
(обратно)301
Смит, Айзек (1752—1831) — помощник штурмана на «Резолюшн», племянник Кука. Закончил службу в британском флоте в чине адмирала.
(обратно)302
«Корабли его величества короля Великобритании „Резолюшн" и „Адвенчер". Сентябрь, 1773».
(обратно)303
Xоа (правильно х о у а) — гонец при вожде, выполнявший также роль посланника.
(обратно)304
Остров Раиатеа был культурным и религиозным центром архипелага Общества. По полинезийским преданиям, именно здесь, в округе Опоа, за много веков до появления европейцев сложилась школа жрецов, разработавшая учение о великих богах. Позднее здесь возник культ бога Оро, распространившийся по всему архипелагу. Поэтому вожди соседних островов вели упорную борьбу за господство на Раиатеа.
Завоевав Раиатеа, правитель о-ва Бора-Бора Пуни назначил сюда наместником одного из бораборских вождей — Орио (у Форстера — Орео). Уру остался верховным вождем на Раиатеа, но утратил реальную власть, сохранив лишь титул арии нуи.
(обратно)305
Форстер допустил неточность, поменяв эти два атолла местами: к западу от Раиатеа расположен скорее Веннуа-аура (Фенуа-ура, или Сцилли), а к юго-западу — Мопиха (Мопихаа, или Мопелиа).
(обратно)306
Не все названные обитателем Раиатеа острова поддаются безусловной идентификации, но можно смело утверждать, что они расположены на больших расстояниях от его родного острова, что свидетельствует о значительных географических познаниях этого островитянина. Таутиха и Уборру — вероятно, Тутуила и Уполу в архипелаге Самоа, Роротоа и Адиха — очевидно, Раротонга и Атиу в южной группе о-вов Кука, Ваувау — группа о-вов Вавау в архипелаге Тонга. Табуаи — о-в Тубуаи-Ману в архипелаге Общества или о-в Тубуаи в архипелаге того же названия. Аухеиау — возможно, атолл Тикехау в архипелаге Туамоту. Следует, однако, учитывать, что вопреки информации, полученной Форстером, все идентифицированные острова, за исключением Тикехау и отчасти Тубуаи-Ману, принадлежат к высоким вулканическим или приподнятым коралловым островам.
(обратно)307
Ориматарра — о-в Риматара в архипелаге Тубуаи. Ворио или Вориеа, не поддается сколько-нибудь надежной идентификации. Возможно, это о-в Эимео (современное название — Муреа) в архипелаге Общества или один из атоллов в архипелаге Туамоту.
(обратно)308
На карте, составленной Тупайей, обозначены 74 острова, большинство которых поддается идентификации. Есть на ней и Уборру (Уполу), и Табуаи (Тубуаи), только они даны в несколько иной транскрипции.
(обратно)309
Итальянский театр в Англии давал обычно лишь «оперы-буфф»,— Примеч. изд,
(обратно)310
Шервин, Джон Кейз (1751—1790) — английский гравер.
(обратно)311
Pay, Джон — помощник штурмана на «Адвенчере». Был убит обитателями Новой Зеландии в декабре 1773 г.
(обратно)312
Речь идет о полинезийской земляной печи (уму). В яму на раскаленные камни укладывают свинину или другую провизию, завернутую в листья, покрывают ее слоем раскаленных камней, после чего яму засыпают землей. Пища, запеченная в такой печи, очень нежна и приятна на вкус.
(обратно)313
А в а, или к а в a (Piper methysticum Forster),— кустарниковое перечное растение, произрастающее на островах Океании, а также напиток из его корней, обладающий наркотическим действием. Форстер не совсем точно описал традиционный способ приготовления кавы. Разжеванные кусочки корня, смешанные со слюной, выплевывали в сосуд с водой, но не с кокосовым молоком, и полученную массу обычно процеживали через волокна луба пандануса. Неумеренное питье кавы может вызвать интоксикацию, отражающуюся и на кожных покровах, но не имеющую ничего общего с проказой. Кава употребляется на островах Полинезии, за исключением Новой Зеландии, а также в Восточной и Южной Меланезии, причем на многих островах служит церемониальным напитком.
(обратно)314
О-Хедиди и О-Маи называли их хеа-бидди и говорили, что это значит «родственники».— примеч. Форстера
(обратно)315
Федр — римский баснописец, живший в I в. н. э. В одной из басен Федра собаки, испугавшись бога Юпитера, справили естественную нужду в его дворце.
(обратно)316
Природа сама утверждает, Будто дарует она человеку мягчайшее сердце: Слезы дала она нам — а что же лучше, чем слезы? Ювенал[Сатиры. 15, 131—133. Пр. Д. Недовича и Ф. Петровского]
(обратно)317
Речь идет об атолле Херви (Мануае) в южной группе о-вов Кука. Херви, Огастес Джон, граф Бристольский (1724—1779),—капитан, впоследствии вице-адмирал, один из лордов Адмиралтейства.
(обратно)318
Форстер описывает церемонию фагафетаи (правильно факафетаи), которая соблюдалась при вручении даров и меновой торговле.
(обратно)319
П а м п е л ь м у с, или ш е д д о к,— плодовое дерево Citrus grandis семейства рутовых с сочными и ароматными плодами, напоминающими плоды грейпфрута (Citrus paradisi).
(обратно)320
Хвост у нее разноцветный и пышный.
Гораций[Сатиры. П. 2.26. Пер. М. Дмитриева]
(обратно)321
См. сделанное Кольбе описание мыса Доброй Надежды, а также Recherches philosophiques sur les Americains par Mr. Pauw. Vol. 2, p. 224, 229. — примеч. Форстера
(обратно)322
Отсечение части пальца — жертва, приносимая богам в случае болезни родственника, старшего по возрасту или рангу. Этот обычай, широко распространенный на о-вах Тонга, назывался туту нима.
(обратно)323
М о к с а — маленькие цилиндрики из волокон некоторых растений, которыми прижигают определенные участки кожи в лечебных целях.
(обратно)324
Казуариновое дерево — железное дерево (Casuarina equisetifolia, местное название тоа), имеющее очень твердую и плотную древесину.
(обратно)325
Имеется в виду к а в а (см. примеч. 313).
(обратно)326
Красные перья попугая были на о-вах Общества эмблемой культа бога Оро. Гирлянды из этих перьев считались ценнейшим жертвоприношением, а церемониальные пояса из них (маро ура) —священной регалией верховных вождей.
(обратно)327
Речь идет о крыланах, или летучих собаках (Megachlroptera),— плотоядных млекопитающих отряда рукокрылых, достигающих в отличие от летучих мышей крупных размеров.
(обратно)328
На Тонга нет диких саговых пальм. По мнению Дж. Биглхоула, речь здесь идет, скорее всего, о «капустном дереве» (Cordyline terminalis, местное название ти). С этим деревом на многих островах Океании связаны различные сакральные представления.
(обратно)329
Ф а е т у к а (правильно ф а и т о к а) — усыпальница тонганского вождя. На о-вах Тонга до сих пор сохранилось множество таких сооружений. До обращения тонганцев в христианство (середина XIX в.) усыпальницы вождей имели культовое значение.
(обратно)330
Тонгатапу — древний остров кораллового происхождения. За время его существования уровень океана неоднократно испытывал значительные колебания.
(обратно)331
Религия тонганцев была сходна с религией таитян . О религии и мифологии тонганцев и других полинезийцев хорошо рассказано в книге Те Ранги Хироа «Мореплаватели солнечного восхода». М., 1950 (изд. 2-е, 1959).
(обратно)332
Кифера (Китира) — остров в Средиземном море, к югу от п-ва Пелопоннес. В античное время был одним из центров культа греческой богини любви Афродиты.
(обратно)333
Обычай сакральной дефлорации (обрядового лишения девственности) был распространен у многих народов, находившихся на стадиях разложения первобытнообщинного строя и раннеклассового общества, в том числе у некоторых малых народов Малабарского берега (самой южной части западного побережья Индии).
(обратно)334
На Таити собака называется ури, в Новой Зеландии — гури. — примеч. Форстера
(обратно)335
Ко времени появления в Океании европейских мореплавателей судостроение и навигационное искусство полинезийцев достигли очень высокого уровня. Работая простейшими орудиями из камня и раковин, островитяне строили суда, отлично приспособленные как для дальних плаваний в открытом море, так и для сложных маневров в прибрежных водах с их коварными течениями, отмелями и рифами. Двухкорпусные парусные суда тонганцев по своим мореходным качествам действительно превосходили аналогичные суда таитян. В XVI—XVIII вв. тонганские мореходы регулярно посещали Фиджи, Самоа и некоторые другие острова и архипелаги.
(обратно)336
Если б только они не красили себе волосы красным, это уберегло бы их от адского пламени!
(обратно)337
Ко здесь и в Новой Зеландии — артикль, соответствующий таитянскому о или э. — примеч. Форстера
(обратно)338
На таитянском диалекте это же слово звучит как эра. — примеч. Форстера
(обратно)339
В конце XVIII в. тонганцы, как и таитяне, находились на стадии формирования классов и государственности. В тонганском обществе выделялись три основных социальных слоя: эики — вожди, матабуле — дружинники (воины) и советники вождей, туа — рядовые общинники. При определенных условиях допускался переход старшего сына в более высокий социальный слой. На положении рабов находились немногочисленные военнопленные и преступники, нарушившие ритуальные запреты (табу). Особенностью Тонга было тогда наличие двух верховных правителей — светского (туи-канокуполу), обладавшего значительной властью, и духовного (туи-тонга), который считался священной особой, пользовался всеобщим поклонением, но реальной властью не обладал. Лату-Нипуру (точнее, Латунипулу), о котором рассказывает Форстер, был старшим сыном Туи-тонга и носил титул тамаха («священное дитя»), что обеспечивало ему почет и поклонение.
(обратно)340
Dalfymple's Collection. Vol. 2, p. 27, 28. — примеч. Форстера
(обратно)341
На Таити его называют ава, а на о-ве Хорн — пава. — примеч. Форстера
(обратно)342
Капитан Кук в своем описании добавляет, что эти кубки содержат около четверти штофа (полпинты) и что этой посудой никогда не пользуются дважды и никогда из одного кубка не пьют двое. У каждого свой кубок, и для всякой новой порции берется новый. Женщины тоже принимают участие в этих выпивках. Так что таитянский обычай, требующий от каждого пола питаться обособленно, здесь не соблюдается.— Примеч. изд.
(обратно)343
Форстер ошибается: Бугенвиль не бывал на Тонга и назвал о-вами Мореплавателей не этот архипелаг, а о-ва Самоа.
(обратно)344
Кук послал обследовать восточное побережье Тонгатапу штурмана Дж. Гилберта.
(обратно)345
Брашпиль — лебедка для выбирания якоря на судне.
(обратно)346
Гуд, Александр (1758—1798) участвовал в экспедиции в качестве матроса первой статьи. В апреле 1774 г. Kyк назвал его именем один из Маркизских островов (современное название Фату-Хуку) за то, что он первым заметил этот остров. Дослужился до чина капитана. Погиб в 1798 г. в морском сражении с французами, командуя кораблем.
(обратно)347
См. «Тристрам Шенди».
Имеется в виду роман известного английского писателя Лоренса Стерна (1713 — 1768) «Жизнь и убеждения Тристрама Шенди». В главе 11 третьего тома этого романа содержится обширный набор проклятий, которыми разразился один из персонажей, епископ Эрнульф.
(обратно)348
En deshabillé(франц.) — небрежно, по-домашнему одет.
(обратно)349
П а т т у (правильно пату) — короткая палица, излюбленное оружие маори. Насчитывалось не менее 30 разновидностей пату.
(обратно)350
Эта голова сейчас находится в Лондоне, в анатомическом кабинете господина Дж. Хантера. — примеч. Форстера
Хантер, Джон (1728—1793) — известный английский врач и анатом, основавший на собственные средства анатомический музей.
(обратно)351
Форстер, очевидно, понимает под общественными отношениями отношения в «цивилизованном» обществе. Общественные отношения возникли одновременно с появлением человечества, на самых ранних этапах первобытности.
(обратно)352
Форстер явно преуменьшил размеры Северного острова. Его площадь — 114,7 тыс. кв. км. В конце XVIII в. здесь обитало не менее 150 тыс. маори, которые населяли как побережье, так и некоторые внутренние районы острова.
(обратно)353
Культуру батата и изощренную рыболовческую технику древние переселенцы привезли на Новую Зеландию из тропической Полинезии. Но приспособление к иным природным условиям действительно потребовало значительной перестройки хозяйства и материальной культуры.
(обратно)354
Предлагаемое Форстером объяснение возникновения обычая людоедства в наши дни представляется достаточно наивным. Науке известны две формы каннибализма — бытовая и религиозно-магическая. Первая, вероятно, практиковалась на ранних стадиях первобытнообщинного строя, а позднее сохранилась лишь как исключительное, вызванное голодовками явление. Вторая форма, встречавшаяся в прошлом у многих племен и народов, выражалась в поедании различных частей тела убитых врагов и военнопленных (иногда умерших сородичей). Этот обычай был основан на убеждении, что сила и другие свойства убитого переходят к поедающему.
(обратно)355
Епископ Лас Касас наблюдал подобные жестокости среди первых испанских завоевателей Америки. — примеч. Форстера
Лас Касас, Бартоломе де (1474—1566) — испанский гуманист, историк и публицист. Активно выступал в защиту американских индейцев, обличая жестокости испанских конкистадоров. Автор ценных трудов по истории и этнографии Центральной и Южной Америки.
(обратно)356
Ни львы, ни волки так не злобствуют, Враждуя лишь с другим зверьем. Гораций[Эподы. 7, 11—12. Пер. А. Семенова Тян-Шанского]
(обратно)357
Обычное название этой птицы на языке новозеландцев — кого. — примеч. Форстера
(обратно)358
Произносится, собственно, эти-и. — примеч. Форстера
(обратно)359
Форстеру не удалось собрать сколько-нибудь достоверных сведений о религиозных представлениях маори. Их религия в своих основных чертах была сходной с таитянской. Вопреки предположениям Форстера у маори имелись жрецы, практиковались человеческие жертвоприношения.
(обратно)360
Этим способом обычно пользуются мореплаватели, когда, находясь на необитаемых или новооткрытых берегах, хотят что-то сообщить тем, кто следует за ними. В бутылку письмо помещают для того, чтобы защитить от влаги, и она потом закапывается в приметном месте, обычно там, где прибывшие наполняют водой свои бочки, под деревом, которое отмечается либо специальной табличкой, либо зарубкой, чтобы вновь прибывший тотчас понял, где надо копать. — примеч. Форстера
(обратно)361
Шапп д'Отрош, Жан (1722—1769) — аббат, французский астроном. В 1761 г. отправился в Россию для наблюдения в Тобольске за прохождением Венеры через диск Солнца. В 1769 г. предпринял с той же целью путешествие в Калифорнию и там умер. Форстер ссылается на книгу: J. С h а р р e d'Auteroch. Voyage en Californie pour l'observation du passage de Venus sur le disque du soleil. P., 1772, p. 13, 22.
(обратно)362
И наконец глохнет всякое нравственное чувство, воцаряется бесчеловечность, жестокая, мрачная, обращающая сердце в камень.
Томпсон[Времена года. Весна, 303—306]
Томпсон (правильно Томсон), Джеймс (1700—1748) — английский поэт, один из зачинателей сентиментализма. Его поэма «Времена года», состоящая из 4 частей, была написана в 1726—1730 гг.
(обратно)363
Пьетро Квирино совершил это плавание в апреле 1431 года. Он потерпел кораблекрушение у острова Реет, или Рюстен, вблизи полярного круга у побережья Норвегии. Raccolta di Ramusio. Venezia, 1574. Vol. 2, p. 204, 210.
(обратно)364
Когда хватает ураган свирепый За гребни разъяренные валы. Чудовищные головы лохматит И к облакам вздымает с диким ревом(англ.).
В. Шекспир[Генрих IV, Ч. 2, III, I, 21—24 (у Шекспира не «which took», a «who take».) Пер. Е. Бируковой]
(обратно)365
Ради жизни поступаются основами жизни.
Ю в е н а л[Сатиры. 3, 84]
(обратно)366
В это время «Резолюшн» находился примерно в 160 милях от антарктической земли — п-ва Терстон, лежащего на границе между морями Амундсена и Беллинсгаузена. Это один из самых труднодоступных районов побережья Антарктиды.
(обратно)367
Навек Окован стужей берег. Гораций[Оды. II, 9, 5-6]
(обратно)368
Т е р и а к — целебное средство против животных ядов, изобретенное в I в. н. э. Андромахом, придворным врачом римского императора Нерона.
(обратно)369
Речь идет о мифическом острове, якобы открытом в 1576 г. испанским мореплавателем Хуаном Фернандесом. Сведения об этом «открытии» опубликовал в 1767 г. А. Дальримпль, обнаруживший их в записках испанского автора XVII в. Хуана Луиса Арриаса.
(обратно)370
В 1770 г. о-в Пасхи посетил испанский мореплаватель Фелипе Гонсалес де Хаедо. Он установил здесь три креста и объявил о присоединении острова к испанским владениям. В 1771 г. к острову Пасхи подходил испанский фрегат «Агила», офицеры которого составили первый словарик языка местных жителей.
(обратно)371
И радостно друг другу кажут, вскоре Забыв путей опасности и горе. Т а с с о[Освобожденный Иерусалим. III. 4, 7—8. Пер. Д. Минаева]
Тассо, Торквато (1544—1595) — итальянский поэт. Его главное произведение, поэма «Освобожденный Иерусалим», написана в 1574—1575 гг.
(обратно)372
Имеется в виду анонимное сочинение: Tweejaarige Reyze rondom do Wereld, Dordrecht, 1728.
(обратно)373
Ийя на Таити и ика в Новой Зеландии и на островах Дружбы означают рыбу. — примеч. Форстера
(обратно)374
Речь идет о знаменитых каменных статуях (моаи), увенчанных массивными каменными «шапками» (пукао) и в большинстве своем стоявших на каменных платформах (аху). Европейские исследователи впоследствии обнаружили на острове около 450 таких статуй. Они, очевидно, имели ритуальное значение и сооружались в честь обожествленных предков и умерших вождей, а сами аху служили местами захоронения, умерших.
(обратно)375
Это не мимоза, а низкорослое дерево торомиро (Sophora toromiro), отчасти напоминающее мимозу.
(обратно)376
Часть жителей о-ва Пасхи обитала в пещерах. В некоторых пещерах хранились родо-племенные реликвии и культовые предметы.
(обратно)377
Фербер, Иоганн Якоб (1743—1790) — известный шведский минералог и знаток горного дела. Проводил изыскания во многих странах Европы, в том числе в России. В 1783 г. был избран членом Петербургской академии наук.
(обратно)378
Население о-ва Пасхи в XVIII в. делилось на несколько племен, во главе которых стояли наследственные вожди. Социальное расслоение здесь не зашло так далеко, как на Таити и Тонга, но выделялись социальные слои благородных (арики). воинов, общинников и зависимых земледельцев (преимущественно военнопленных). Важную роль играли жрецы (иви-атуа), примыкавшие к социальному слою арики. Никаких королей на о-ве Пасхи, разумеется, не было.
(обратно)379
Речь идет о корнеплоде таро.
(обратно)380
Мессалина — жена римского императора Клавдия (I в. н. э.), известная своим бесстыдством и распутством.
(обратно)381
Ко — обычный артикль в языке жителей Новой Зеландии и островов Дружбы.
(обратно)382
Хоа на островах Общества, воа на островах Дружбы. — примеч. Форстера
(обратно)383
Ваиху — название не всего острова, а одного из его районов. Сами жители о-ва Пасхи называют свою родину Те-Пито-о-те-Хенуа (Пуп земли). Полинезийское название этого острова Рапа-Нуи (Большой Рапа) появилось, вероятно, в XIX в.
(обратно)384
Испанцы, прибывшие сюда на корабле «Сан-Лоренцо» и на фрегате «Розалия», называют число от 2 до 3 тыс. Видимо, они не так основательно, как мы, обследовали внутренние области острова. См. письмо Дальримпля Хауксуорту,
(обратно)385
По мнению современных исследователей, огромные каменные статуи изготовлялись в XI—XVII вв. Затем на острове начался период упадка, вызванный междоусобными войнами и, вероятно, стихийными бедствиями (вулканическими извержениями, землетрясением, цунами). Однако Форстер (как и некоторые современные ученые-популяризаторы) преувеличивает трудности, связанные с изготовлением и установкой статуй. Следует учитывать, что как сами статуи с увенчивающими их «шапками», так и платформы изготовлялись из очень легких и хорошо поддающихся обработке вулканических туфов (иногда даже из пемзы). Археологи обнаружили на острове множество рубил, молотков, зубил и долот, с помощью которых высекались изваяния и плиты платформ. Эти каменные орудия изготовлялись из твердых и прочных базальтовых и других пород, включенных в туфы и туфоконгломераты. Форстер преуменьшил численность жителей о-ва Пасхи. По мнению современных исследователей, на острове в то время обитало около 2 тыс. человек.
(обратно)386
Жители о-ва Пасхи изготовляли деревянные статуэтки из твердой и гладкой древесины дерева торомиро.
(обратно)387
Полиандрия — не преобладание мужчин, а многомужество — редко встречающаяся форма брака, при которой женщина имеет несколько мужей. Предположение Форстера о резком численном преобладании мужчин над женщинами на о-ве Пасхи лишено оснований. По-видимому, жительницы острова прятались от чужеземцев.
(обратно)388
Клеопатра VII (I в. до н. э.) — последняя египетская царица династии Птолемеев, имевшая несколько мужей и любовников.
(обратно)389
Форстер правильно подметил, что по антропологическому типу, языку и культуре обитатели о-ва Пасхи были близки к населению полинезийских о-вов Общества, Тонга, Новой Зеландии. По современным научным представлениям, о-в Пасхи был заселен примерно в IV в. н. э. мигрантами из Восточной Полинезии, скорее всего с Маркизских острозов. Позднее сюда, очевидно, прибыли переселенцы с о-вов Общества.
(обратно)390
Проблема питьевой воды на о-ве Пасхи была весьма острой. Поэтому местные жители использовали и подземные воды, выходящие на поверхность непосредственно на берегу и смешивающиеся с морской водой.
(обратно)391
Вопреки предположению Форстера на о-ве Пасхи нередко происходили межплеменные войны. Например, в местном фольклоре рассказывается о войне между «короткоухими» и «длинноухими» (более точный перевод — между «тонкими» и «толстыми»), закончившейся почти полным истреблением последних.
(обратно)392
Фрезье Амеде Франсуа (1682—1773) — французский мореплаватель, обследовавший в 1712 —1714 гг. западный берег Южной Америки. Имеется в виду его книга:. A. F. Frezier. Relation du voyage de la Mer Sud aux cotes du Chily et do Perou. P., 1710.
(обратно)393
Испанский мореплаватель А. Менданья, открывший в 1595 г. Маркизские острова, назвал их в честь супруги вице-короля Перу маркизы Мендосы. Экспедиция Кука посетила южную группу этих островов. В названии главы 15 упомянут о-в Вайтаху, ниже именуемый о-вом Санта-Кристина, Современное наименование этого острова — Тахуата, а Вайтаху — название одной из его бухт.
(обратно)394
Брам-стеньга — вторая снизу надставка мачты.
(обратно)395
Капитан Кук заметил, что в каждом каноэ имелась кучка камней и у всея сидевших там вокруг головы была повязана праща.— примеч. Форстера — Явная неточность. Кук сообщает, что у каждого островитянина, сидевшего в каноэ, праща была подвязана к руке (Дж. Кук. Плавание к Южному полюсу..., с, 317).
(обратно)396
Был такой Нирей иль с дождливой Иды На небо взятый? Гораций[Оды, III, 20.15—16. Uep. H. Гинцбурга]
Нирей — в древнегреческой мифологии самый красивый, если не считать Ахилла, среди греческих героев, осаждавших Трою.
«С... Иды на небо взятый» — имеется в виду Ганимед, сын царя Трои, из-за своей необыкновенной красоты похищенный богами на небо, где он сделался любимцем и виночерпием Зевса.
(обратно)397
Таитяне называют это дерево тоа, то есть «война», так как оно употребляется для изготовления оружия.
(обратно)398
Хону по-таитянски значит «черепаха»; видимо, имена здесь часто даются по названиям животных, как это принято и у североамериканских дикарей. Точно так же Оту, имя таитянского короля, означает «цапля».
(обратно)399
В конце XVIII в. на Маркизских островах процесс разложения первобытнообщинного строя не зашел еще так далеко, как на Таити и Тонга. Ни на одном острове не было верховного вождя, связь между многочисленными племенами была слабой. Каждым племенем правил своего рода триумвират — племенной вождь, жрец и военачальник, ведавший всеми военными операциями.
(обратно)400
Ш е р л — минерал, черная железистая разновидность турмалина с примесями магния, марганца и трехвалентного железа. Здесь, очевидно, имеется в виду какая-то другая вулканическая порода.
(обратно)401
Правда, в самом рисунке есть ошибка: лоб составляет половину физиономии, что весьма исказило и обезобразило ее черты. — примеч. Форстера
(обратно)402
Речь здесь, очевидно, идет об укрепленных поселениях, служивших убежищами во время межплеменных войн. См.: Дж. К у к. Плавание к Южному полюсу..., с. 324.
(обратно)403
Следует упомянуть, что это название встречается в списке островов, который сообщили английским мореплавателям Тупайя и другие жители островов Обшества. Но поскольку жители Маркизских островов не выговаривают «р», остров, названный таитянами Охивароа, здесь называют Охиваоа.
(обратно)404
Деньги бесчестные
Что ни день, то растут, и все же
Для несытых страстей их недостаточно.
Гораций[Оды. III, 24. 62—64. Пер. Г. Церетели]
(обратно)405
15—20 апреля 1774 г. «Резолюшн» шел в водах архипелага Туамоту, состоящего из множества атоллов и одиночных коралловых островов. Острова, увиденные 17 апреля, это атоллы Такароа и Такапото, открытые в 1722 г. Роггевеном, а еще раньше, в 1615 г.. возможно, замеченные Схаутеном и Ле-Мером. Байрон, посетивший эти атоллы в 1765 г., назвал их о-вами Короля Георга (Кинг-Джордж).
(обратно)406
Архипелаг Тонга состоит как из коралловых, так и из вулканических островов.
(обратно)407
В группу о-вов Паллисера, расположенных в северо-западной части архипелага Туамоту, входят атоллы Арутуа, Апатаки, Тоау и Каукура. Через эту группу островов, возможно, прошел в 1722 г. Роггевен. Однако он потерял корабль «Африкансхе Галей» не здесь, а возле атолла Такапото, который в связи с этим и назвал Вредоносным (Схаделейк).
Паллисер, Хью (1723—1796)—британский морской офицер, земляк и покровитель Кука. В 70-х годах XVIII в. занимал различные должности в британском Адмиралтействе.
(обратно)408
Калипсо — в древнегреческой мифологии нимфа на сказочном острове, куда попал после кораблекрушения Одиссей. Калипсо стремилась очаровать Одиссея и соединиться с ним навеки, предлагая ему бессмертие и вечную юность, но он не переставал тосковать по родине и по жене. Через семь лет боги сжалились над Одиссеем и приказали Калипсо его отпустить.
(обратно)409
Этот уголок мне давно по сердцу.
Гораций[Оды. II, 6, 13. Пер. Г. Церетели]
(обратно)410
Очевидно, речь идет о верше или садке для рыбы.
(обратно)411
Ковент-Гарден, Друрилейн, Стренд — районы и улицы Лондона, где находились публичные дома и прогуливались, поджидая клиентов, проститутки.
(обратно)412
Кифера, или Киферея,— одно из дополнительных имен греческой богини любви Афродиты.
(обратно)413
Имеется в виду один из видов молниеотвода (громоотвода), изобретенного в начале 50-х годов XVIII в. Б. Франклином.
(обратно)414
Сообщаемые Форстером данные о количестве таитянских военных судов, собранных у побережья округа Паре, и численности их команд отличаются от приведенных в книге Кука. В частности, Кук пишет, что здесь было не 70, а 170 вспомогательных судов (Дж. Кук. Плавание к Южному полюсу..., с. 332, 353).
(обратно)415
По оценке Кука, на Таити тогда обитали 204 тыс. человек. Форстер называет меньшую цифру — 120 тыс. Но и эта оценка явно завышена. По мнению современных исследователей, численность населения Таити в то время едва ли превышала 80 тыс. человек. В своих подсчетах Форстер и Кук пользовались неточными косвенными данными. Они, в частности, втрое преувеличили число округов. Вопреки их мнению. Атахуру (Атехуру) — не округ, а область, состоявшая из трех округов.
(обратно)416
Амстердам, острое Пасхи и Санта-Кристина. — примеч. Форстера
(обратно)417
См. у Хауксуорта, т. 2, о. 447. Это предположение подтверждают также человеческие жертвоприношения, о которых упоминают испанцы и о которых слышал также капитан Кук. Насколько можно верить дошедшим до нас известиям о несчастном Куке [Кук был убит во время пребывания его экспедиции на Гавайских островах], он сам наблюдал такие жертвоприношения во время своего последнего путешествия. Подобные обычаи часто являются пережитками людоедства. — примеч. Форстера
(обратно)418
С тех пор мой отец побывал в Париже и передал эти слова О-Ретти господину Бугенвилю, а также преподнес ему портрет О-Ретти, сделанный господином Ходжсом. — примеч. Форстера
(обратно)419
Когда господин Бугенвиль в апреле 1768 г. стоял здесь на якоре, таитяне обнаружили, чисто случайно, что слуга господина Коммерсона (натуралиста, который был с ним на судне) — переодетая женщина, о чем за все плавание никто на борту не догадался. Эта женщина из-за несчастного случая, перенесенного в детстве, старалась скрыть свой пол и еще в Париже служила ливрейным слугой, а затем из любопытства отправилась на корабль, услышав, что он должен отправиться в кругосветное плавание. Господин Бугенвиль свидетельствует, что как до, так и после того, как сие было обнаружено, она вела себя безупречно, а было ей тогда 27 лет. Все это — для удовлетворения любопытства тех читателей, кои не располагают описанием путешествия французского мореплавателя.— Примеч. изд.
(обратно)420
Паттеа — ласкательное слово, как наше «мама»; таитяне употребляют и слово «мама» в том же самом смысле, что и мы.
(обратно)421
Правители области Папара (южное побережье Таити-нуи) Амо и Пуреа пытались сделать своего малолетнего сына верховным вождем всего острова, но в конце 1768 г. потерпели поражение от коалиции вождей во главе с Тутахой и правителем Таити-ити. Это укрепило положение О-Ту (Ту) — правителя области Паре.
(обратно)422
Форстер не смог разобраться в сущности поземельных отношений на Таити. Здесь существовала сложная иерархия прав на землю, и последняя не была объектом купли-продажи.
(обратно)423
Mille carinae(лат.) — тысяча кораблей.
(обратно)424
Господина Бугенвиля эти внешние различия действительно побудили считать вождей и простой народ двумя разными племенами.
(обратно)425
Форстер сравнивает таитян с древними греками гомеровской эпохи. При всей условности исторических параллелей это сравнение не лишено некоторых оснований, ибо таитяне в период посещения архипелага экспедициями Бугенвиля и Кука и греки во времена Гомера находились на сходной ступени общественного развития — стадии формирования классов и государственности. Что же касается отсутствия у таитян и других полинезийцев металлических орудий (ввиду отсутствия в Полинезии металлических руд), то островитяне сумели в известной мере восполнить этот пробел, достигнув совершенства в изготовлении орудий из камня, кости, раковин и дерева.
(обратно)426
Фидий — древнегреческий скульптор, живший в V в. до и. э., один из крупнейших мастеров эпохи великой классики.
Пракситель — древнегреческий скульптор, живший в IV в. до н. э., видный представитель эпохи поздней классики.
(обратно)427
Другие мореплаватели сообщали, что они выщипывают волосы над верхней губой, на груди и под мышками. Без сомнения, это не общее правило. Знать и король носят усы.
(обратно)428
Клейст, Эвальд Христиан (1715—1759) — немецкий поэт. Из какого произведения взята цитата, установить не удалось.
(обратно)429
Истинное счастье не привязано к определенному месту,
Оно нигде, а может быть везде.
А. Поп[Опыт о человеке. Письмо 4, 15]
Поп, Александр (1688—1744) — английский поэт и переводчик, видный представитель английского просветительского классицизма. Форстер цитирует его философскую поэму «Опыт о человеке», написанную в 1732—1734 гг.
(обратно)430
Красные перья были атрибутом культа бога Оро, перенесенного на Таити с о-ва Рапатеа. Очевидно, на Хуахине этот культ не получил такого распространения или не имел столь важного значения, как на Таити.
(обратно)431
Привычка — это чудище, что гложет
Все чувства, это дьявол.
У. Шекспир[Гамлет. III. 4. Пер. М. Лозинского]
(обратно)432
Э р р и о и (правильно а р и о и) — общество, генетически связанное с тайными («мужскими») союзами, существовавшими у многих народов на стадии разложения первобытнообщинного строя. Вступающий в это общество давал клятву умерщвлять своих детей либо в материнской утробе, либо сразу после их рождения. А р и о и действовали в интересах господствующей верхушки и воспитывали у рядовых островитян чувство покорности вождям. Вместе с тем следует учитывать, что а р и о и были носителями культурного единства всего архипелага, что на время их «гастролей» прекращались все междоусобные войны.
(обратно)433
Сколь велика порча нравов в Европе, можно судить хотя бы по тому, что в Лондоне есть малые, охотно похваляющиеся своими способностями в искусстве abortantia[абортов] и предлагающие в этом деле свои услуги. Объявления такого содержания без всякого страха даются прямо на улицах, их можно также найти почти во всех газетах.— примеч. Форстера
(обратно)434
Об этом рассказывает Плутарх в «Жизни Тезея».
Плутарх (ок. 46—126) — древнегреческий писатель-моралист. Жизнеописание афинского героя Тезея (Тесея) помещено в его «Сравнительных жизнеописаниях», где сопоставляются биографии выдающихся греческих и римских деятелей.
(обратно)435
В древнегреческих мифах богиня любви и красоты Афродита (у римлян — Венера) нередко связывалась с Ариадной — дочерью легендарного критского царя Миноса. Город Амат (южное побережье Крита) был центром культа Афродиты-Ариадны. Согласно одному из мифов, Тезей высадился в Амате с беременной Ариадной, которая вскоре умерла и была похоронена в священной роще. В ее память здесь ежегодно устраивалось празднество, в ходе которого юноша изображал муки роженицы.
(обратно)436
Обычай раздельной еды, существовавший на многих архипелагах Полинезии, был связан с религиозными запретами (табу), которые предусматривали сегрегацию полов и лишали женщин доступа к некоторым наиболее ценным видам продовольствия.
(обратно)437
Судя по предварительным известиям о последнем плавании Кука, подобные же вымыслы, причем именно с этой целью, распространяли таитяне. — примеч. Форстера
(обратно)438
Мысли называются парау но те обу, букв, «слова в животе», «внутри».— примеч. Форстера
(обратно)439
Более точные сведения о таитянском времяисчислении сумел получить через полвека после Форстера русский мореплаватель О. Е. Коцебу. (О. К о ц е б у. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. М., 1981, с. 82).
(обратно)440
Кто бесстыдно гнался
За тем, что разрушает нас и старит...
У. Шекспир.Как вам это понравится. III, 2.— У Шекспира вместо Who — Nor did not:
И никогда бесстыдно я не гнался За тем, что разрушает нас и старит...Пер. Т. Щепкиной-Куперник
(обратно)441
Petr. Martyr ab Angleria Decad. Araerc. Dissertation sur l'origine de la-maladie Venerienne par Mr. Sanchez. P., 1752; Examen historique sur 1'apparation de la maladie Venerienne en Europe. Lisbonne, 1774. — примеч. Форстера
(обратно)442
Палмерстон, Генри (1730—1802) — один из лордов Адмиралтейства в 1706— 1777 гг.
(обратно)443
Ниуэ — остров кораллового происхождения с плоской поверхностью и террасами, испытавший не менее двух поднятий. Эти поднятия объясняются большой подвижностью земной коры океанического типа с присущим ей вулканизмом и эвстатическими колебаниями уровня океана. Предположение Форстера о наличии во внутренней части острова местностей с плодородными почвами впоследствии подтвердилось.
(обратно)444
Ниуэ был заселен полинезийцами с Тонга и Самоа в конце I — начале II тысячелетия н. э., но социальное расслоение здесь не зашло так далеко, как на этих двух архипелагах. Кук и его спутники по недоразумению сочли жителей Ниуэ воинственными дикарями. Это были весьма миролюбивые люди, радушно встречавшие иноземцев. Однако встреча, по обычаю, сопровождалась сложными церемониями, в частности боевой игрой, которую англичане сочли подготовкой к атаке. Площадь Ниуэ — 259 кв. км.
(обратно)445
Камышовая курочка — очевидно, пурпурная курочка (Porphyrio porphyria), встречающаяся на Тонга.
(обратно)446
Тофуа — Тасман называет его Ама-Тофоа. Ама или кама, по-видимому, означают «гора».
Э-Гао — Тасман на своей карте называет его Кайбай. — примеч. Форстера
(обратно)447
Клерк, Чарлз (1743—1779) —лейтенант, участник первой и второй экспедиции Кука. В третьей экспедиции этого мореплавателя командовал судном «Дискавери», причем умер в открытом море от туберкулеза через 6 месяцев после гибели самого Кука.
(обратно)448
Калебаса—используемая в качестве сосуда твердая оболочка плодов различных растений, главным образом бутылочной тыквы (Lagenaria).
(обратно)449
Явное недоразумение. Имеется в виду западная широта.
(обратно)450
В указанном Форстером районе расположены не только о-ва Дружбы (Тонга), но и архипелаг Самоа, а также группа Лау (восточная окраина о-вов Фиджи). Первые два архипелага населены близкородственными полинезийскими народами (тонганцами и самоанцами), а группа Лау имеет смешанное меланезийско-полинезийское население. Форстер несколько преувеличил общую численность обитателей этих трех островных групп.
(обратно)451
К а б е л ь т о в — мера длины, равная одной десятой морской мили, или ста морским саженям, т. е. 185,3 м.
(обратно)452
На о-ве Тофуа имеется действующий вулкан. В кратере этого вулкана образовалось небольшое озеро.
(обратно)453
На современных картах о-в Тартл (Черепаховый) называется Ватоа. Он расположен на юго-восточной окраине архипелага Фиджи. Это единственный фиджийский остров, посещенный экспедицией Кука. Начало открытию архипелага Фиджи было положено в 1643 г. голландским мореплавателем А. Тасманом, а ряд основных островов этого архипелага впервые увидел в 1789 г. английский капитан У. Блай.
(обратно)454
Лета — в древнегреческой мифологии река, протекающая в подземном царстве. Души мертвых, отведав воду из Леты, забывали о своей земной жизни.
(обратно)455
«Резолюшн» в эти дни подошел к меланезийскому архипелагу Новые Гебриды— длинной цепи островов, протянувшейся почти на 900 км. Кирос открыл тут в 1606 г. о-в Эспириту-Санто, который принял за выступ некоего материка, названного им Южной землей Святого Духа. Бугенвиль в 1768 г. нанес на карту группу островов в северной части архипелага (Маэво, Аоба, Эспириту-Санто, Пентекост и др.) и доказал, что Эспириту-Санто — не часть материка, а сравнительно небольшой остров. Но честь открытия Новых Гебрид в целом принадлежит Куку, который открыл среднюю и южную группы архипелага, нанес на карту всю островную цепь и дал ей ее современное название.
Лувзиада — группа открытых Бугенвилем небольших островов, расположенных вблизи от юго-восточной оконечности Новой Гвинеи,
(обратно)456
Мильтон, Джон (1608—1674)—английский поэт, политический деятель и мыслитель. В его поэме «Потерянный рай» Смерть, заключив договор с Грешником и Сатаной, «зловеще оскалила зубы в отвратительной ухмылке».
(обратно)457
Форстер выступает здесь против идеализации первобытности, провозглашения ее «естественным состоянием» человечества в трудах выдающегося французского философа и писателя-просветителя Жана Жака Руссо (1712—1778) и особенно против взглядов его «поверхностных последователей». Следует, однако, учитывать, что отношение Форстера к новогебридцам уже через несколько дней существенно изменилось, и он больше не уподоблял их обезьянам.
(обратно)458
Такое поведение островитян, по-видимому, объяснялось тем, что браслеты из травы имели ритуально-магическое назначение.
(обратно)459
Кирос назвал о-вом Малликолло не этот остров, а один из островов в группе Санта-Крус, расположенной к северу от Новых Гебрид.
(обратно)460
Апельсиновых деревьев на Новых Гебридах не было. Но мнению Дж. Биглхоула, Кук и Форстер приняли за апельсин плод цитрусового растения Citrus macropterа; плоды этого растения несъедобны.
(обратно)461
В конце XVIII в. история заселения островов Океании оставалась совершенно неизученной. Как показали дальнейшие исследования. Новые Гебриды (и Меланезия в целом) были заселены на несколько тысячелетий раньше, чем о-ва Дружбы (Тонга), Общества и другие полинезийские архипелаги. Но Форстер прав, подчеркивая различия во внешнем облике между полинезийцами и обитателями Новых Гебрид, а также сходство последних с жителями Новой Гвинеи. По современным научным представлениям, народы Новой Гвинеи и Новых Гебрид принадлежат к различным вариантам австралоидной большой расы, тогда как полинезийцы произошли от смешения древних австралоидов с протоморфными южными монголоидами. Сложнее языковые взаимосвязи между этими народами. Языки большинства новогебридцов и всех полинезийцев входят в восточноокеанийскую группу австронезийской языковой семьи, тогда как большинство жителей Новой Гвинеи и прилегающих островов говорит на папуасских языках, а меньшинство — на языках новогвинейской группы австронезийской семьи.
Островами Папуа (современное название — Раджа Ампат) в XVIII в. называли группу островов, расположенную у северо-западной оконечности Новой Гвинеи.
(обратно)462
На Новой Гвинее и на прилегающих островах обитает более 700 народов. Они, как правило, принадлежат к папуасскому, а также меланезийскому типу австралоидной большой расы. Однако на юго-восточном побережье Новой Гвинеи и некоторых близлежащих островах встречаются группы с более светлым цветом кожи. Это, по-видимому, отражает историю заселения Океании, в частности миграцию через данный район групп морских скитальцев, которые впоследствии, на рубеже Меланезии и Полинезии, в условиях относительной изоляции образовали полинезийскую этническую общность.
(обратно)463
Луки были 6 футов 5 дюймов длиной, стрелы — 4 фута 4 дюйма.
(обратно)464
В XVIII в. на Новых Гебридах господствовал первобытнообщинный строй, но уже с некоторыми признаками разложения. В северной части архипелага (о-ва Эспириту-Санто, Пентекост, Малекула и др.) основной социальной единицей была родовая община, племена в большинстве случаев отсутствовали, власть вождей была невелика. Более высокого уровня развития достигли обитатели южной части архипелага (о-ва Эроманга, Танна и др.). Здесь существовали племена с развитой организацией и значительной властью вождей, на смену родовой пришла сельская община.
(обратно)465
По мнению австралийского ихтиолога Г. Уитли, эта ядовитая рыба либо «красный окунь» (Lutjanus coastesi Whitley), либо «китайка» (Paradicithus veneratus Whitley).
(обратно)466
В намять о великом пожаре в Лондоне была поставлена колонна, получившая название Монумент. Это и побудило назвать так скалу.
2 сентября 1066 г. в Лондоне произошел пожар, вызвавший страшные опустошения; сгорела почти вся центральная часть города.
(обратно)467
Иностранцы, присутствовавшие на военных учениях в Англии и в других странах, не раз замечали, что, когда рота английских солдат на смотру открывает огонь, по меньшей мере шесть рядовых должпы идти позади строя и вынимать из ружей заряды. Однако повинны, в таких постыдных для солдат ошибках не стрелки, а только кремни. Все иностранные войска в этом отношении снабжены лучше анлийских. — примеч. Форстера
(обратно)468
Что этот остров на языке его обитателей называется Ирроманга [Эроманга], мы узнали лишь потом на соседнем острове, как это станет ясно из следующей главы. — примеч. Форстера
(обратно)469
Вблизи от о-ва Танна действительно расположены небольшие о-ва Футуна и Анива, населенные полинезийцами, предки которых несколько веков назад переселились сюда из Западной Полинезии, скорее всего с архипелага Тонга.
(обратно)470
Как иглы на взъяренном дикобразе.
Ш е к с п и р[Гамлет. I, 5. Пер. М. Лозинского]
(обратно)471
Форстер не смог разобраться в принципе действия копьеметалки, применявшейся жителями о-ва Танна. Островитяне спирально обматывали нижний конец копья веревкой, и она при броске сообщала копью вращательное движение. Именно в этом заключалось главное назначение такой коньеметалки, которая по принципу действия существенно отличалась от обычной деревянной копьеметалки, применявшейся аборигенами Австралии, эскимосами и некоторыми другими народами.
(обратно)472
Капитан Кук, рассказывая в своем описании путешествия об этих копьях (т. 2, с. 82), приводит место из дневника господина Уолса, которое стоит перевести. «Должен признаться,— говорит этот ученый астроном,— я часто склонялся к тому мнению, что искусство в обращении с копьем, которым Гомер наделял своих героев, порой кажется слишком уж чудесным, во всяком случае, если придерживаться строгих правил Аристотеля, в этой эпической поэме кое-что можно счесть чрезмерным. Даже такой страстный поклонник Гомера, как Поп, признает, что в этих героических подвигах есть что-то недостоверное. Однако с той поры, как я познакомился с жителями Танны и увидел, на что они способны со своими деревянными, тупыми и не особенно крепкими копьями, я понял, что ко всем подобным местам у Гомера нельзя предъявлять ни малейших претензий. Напротив, в том, что прежде мне казалось заслуживающим упрека, я открыл теперь новые неведомые красоты. Как живописно и как достоверно умеет он изобразить все, до малейшего движения копья и копьеметателя! На Танне я увидел эту картину воплощенной до малейшей подробности. Я видел, например, как им потрясают, держа в руке, как замахиваются над головой, прицеливаются перед броском, я слышал, как оно свистит в воздухе, и видел, как оно потом дрожит и трепещет, вонзившись в землю».— примеч. Форстера
В книге Форстера отрывок из дневника Уолса цитируется неточно. Ср.: Дж. К у к. Плавание к Южному полюсу.... с. 433.
(обратно)473
В XVIII в. центнер в Германии и некоторых других государствах равнялся 100 фунтам.
(обратно)474
A la porc-épic(франц.) —как у дикобраза.
(обратно)475
Мы назвали его инокарпус. См.: Forsteri nova genera plantarum etc. В., 1776. — примеч. Форстера
(обратно)476
Иногда этот остров называется также Футтуна [Футуна]. — примеч. Форстера
(обратно)477
Сольфатара — трещина на дне кратера или на склоне вулкана, выделяющая сернистый газ и сероводород.
(обратно)478
Еиgenia malaccensis (другое название — Jambosa malaccensis) — дерево из семейства миртовых, дающее плоды, по вкусу напоминающие яблоки. Плоды эти на островах Индонезии называют джамбо (джамбу).
(обратно)479
Локоть — старинная мера длины, соответствующая расстоянию от локтя до конца большого пальца вытянутой руки. Величина локтя в разных странах Европы в XVIII в. колебалась в пределах 45—55 см.
(обратно)480
В XVIII в. никаких сколько-нибудь регулярных контактов между обитателями Танны и островов Дружбы (Тонга) не существовало, но, как отмечалось в примеч. 469, вблизи от Танны расположены острова, населенные выходцами с Тонга. Кроме того, время от времени ветры и течения могли приносить к берегам Танны и соседних островов лодки с тонганцами. Между Танной и архипелагами Тонга нет острова, называемого Итонга или имеющего сходное название.
Табу в полинезийских языках означает нечто запретное, запрет совершать какое-либо действие, брать какой-либо предмет и т. д. Запретным считалось все наделенное таинственной силой мана, приносящей власть, удачу и счастье. Важнейшее средоточие системы табу — личность вождя и сфера его власти.
(обратно)481
Капитан Кук говорит (в описании своего путешествия, т. 2, с. 188): «У жителей Танны есть также топоры, напоминающие европейский, то есть камень там вставлен в рукоятку так, что острый край во время работы располагается не горизонтально, а вертикально, стоймя». Я сам, однако, таких топоров не видел.
(обратно)482
Каннибализм на Новых Гебридах был связан с религиозно-магическими представлениями. На о-ве Танна он был привилегией вождей, причем поедались захваченные в битвах пленники. Однако случаи каннибализма были довольно редкими.
(обратно)483
Речь идет о лейтенанте Джеймсе Варни (1750—1821), находившемся на борту «Адвенчера», с которым «Резолюшн» разлучился 30 октября 1773 г. К концу жизни он дослужился до чина контр-адмирала и приобрел известность своими трудами по истории морских путешествий и географических открытий.
(обратно)484
Для немецкого читателя, знакомого с Англией лишь по английским романам, я должен сделать здесь небольшое примечание. Мне кажется, будто я слышу вопрос, может ли кто-либо в стране, столь гордой своим гостеприимством, рассчитывать на благородство, подобное тому, о коем здесь говорилось? Зайдите в первую попавшуюся лондонскую гостиницу — бьюсь об заклад, что любой непредвзятый англичанин, а таких полно, скажет: «Give me Old England for hospitality, there you may have every thing for your money».— «Благослови господь мою гостеприимную родину, за наличные здесь можно иметь все, что пожелаешь».
(обратно)485
Читатель помнит, что мальчики на Танне были первые, с кем у нас завязались добрые отношения.
(обратно)486
Это Sterculia belanghas, Sterculia foelida, Dioscorea alata, Ricinus mappa, Acanthus ilicifolius, Ischoemum muticam, Panicum dimidiatum, Croton variegatum и многие другие.
(обратно)487
На Новых Гебридах встречается несколько разновидностей дикого мускатного ореха (Myristica guillauminiana, Myristica inutitis и др.).
(обратно)488
Они приносят под ним жертвы и считают, что там рождаются их божества. — примеч. Форстера
(обратно)489
Никаких «королей», «кронпринцев» и т. п. на Танне не было.
(обратно)490
Р у м п е л ь — рычаг для поворачивания корабельного руля.
(обратно)491
Капитан Кук в описании своего путешествия (т. 2, с. 71) замечает, что у этих вождей не было даже власти заставить кого-либо принести себе кокосовый орех. Одному из них пришлось самому взбираться на пальму, и там, наверху, он оборвал все орехи, часть взял себе, остальные раздал нашим людям.— примеч. Форстера
(обратно)492
Не следует, однако, думать, что на Танне часто бывают штормовые ветры. Нет, дело скорее в том, что корни кокосовой пальмы очень коротки и к тому же состоят как бы из множества волокон, да еще почвы здесь настолько рыхлые, что ветер легко валит такие деревья.— примеч. Форстера
(обратно)493
Речь идет о лейтенанте морской пехоты Джоне Эджкомбе.
(обратно)494
Было известно, что у этого офицера много знатных родственников, в том числе министр; кроме того, в Англии не обращают особого внимания, если подчиненный пренебрегает своими обязанностями либо нарушает субординацию. Известен даже случай, когда один офицер был разжалован cum infamia [с позором], но тем не менее вскоре стал государственным министром. В каждой стране свои порядки.— примеч. Форстера
(обратно)495
Т р е п е л — диатомовая земля, кремнеземистая горная порода, состоящая из оболочек мельчайших диатомовых водорослей.
(обратно)496
Болюс — вид глины, окрашенный окисью железа, большей частью в красный цвет.
(обратно)497
Архипелаг — здесь старое название Эгейского моря, изобилующего островами.
(обратно)498
Впрочем, капитан Кук во время одной из своих прогулок обнаружил погребальную хижину. Она была меньше обычной и находилась внутри плантации. Он захотел поглядеть ее поближе и уговорил одного старика пойти с ним туда. Вокруг хижины на расстоянии 4—5 футов была ограда, в одном месте такая низкая, что через нее легко было перешагнуть. Один конец хижины был закрыт, другой, видимо, раньше был открытым, но сейчас завешан циновками, которые старик не снял и не позволил капитану даже отодвинуть. На этом же конце хижины висела корзинка, или мешок из плетенки, в ней лежали клубень ямса и несколько зеленых листьев. Капитан по-прежнему хотел заглянуть внутрь хижины, и это вызвало недовольство старика. Он больше не позволил капитану даже заглянуть в корзину, причем знаками дал попять, что в хижине находится труп. У этого человека на шее висел шнур с двумя-тремя лучками человеческих волос; у женщины, стоявшей рядом с ним, было несколько таких же. Капитан попробовал выменять украшение, но индейцы показали ему, что это волосы мертвеца, лежавшего в хижине, и поэтому продавать их нельзя. Так что и на Танне, как и на островах Общества, Маркизских островах и в Новой Зеландии, существует обычай носить волосы умершего в память о нем или в знак траура. Но оставляют ли здесь умерших гнить на земле, как это делают на Таити, или зарывают в нее, все еще не ясно [т. 2, с. 67].— примеч. Форстера
(обратно)499
Мыс Камберленд назван Куком в честь брата английского короля Георга III— Генри Фредерика, герцога Камберлендского.
(обратно)500
Мыс Лисберн назван Куком в честь виконта (впоследствии графа) Уилмота Лисберна, который был одним из лордов Адмиралтейства в 1770—1782 гг.
(обратно)501
Господин Фербер — первый и единственный человек, давший такое минералогическое описание Везувия, какого мог бы желать от ученого ученый. См. его письма к барону фон Борну.— примеч. Форстера
Имеется в виду книга: Неггn Johann Jacob Ferbers Briefe aus Wälschland über natürliche Merkwürdigkeiten dieses Landes an den Herausgeber derselben Ignatz Edlen von Born. Prag, 1773.
Борн, Игнац (1742—1791) — известный австрийский минералог и металлург.
(обратно)502
Мидшипмены— юные отпрыски знатных и влиятельных особ, проходящие на флоте морскую практику. Их положение было привилегированным, и в правах они приравнивались к офицерам.
(обратно)503
Каледония — древнее название Шотландии.
(обратно)504
Приап — в древнегреческой мифологии бог садов и полей, считавшийся также покровителем сладострастия и чувственных наслаждений. Его изображения из дерева или камня, ставившиеся в садах, представляли собой бородатого мужчину с половым членом в состоянии возбуждения.
(обратно)505
Обитатели Новой Голландии обоего пола ходят в чем мать родила, и никакая стыдливость не заставляет их хоть чем-то прикрыться. См. у Хауксуорта, т. 3. с. 83 и ел., 233. — примеч. Форстера
(обратно)506
Стеатит, жировик — плотная массивная разновидность талька (минерала подкласса слоистых силикатов).
Glandes plumbeae(лат.) — метательные снаряды для пращи, отлитые из свинца.
(обратно)507
Предположение Форстера о том, что на Новой Каледонии «могут находиться ценные и полезные минералы», оказалось поистине пророческим. Недра этого острова богаты такими полезными ископаемыми, как хром, кобальт, железо, медь, цинк, золото, серебро, магнезит, уголь, а месторождение никеля — одно из самых крупных в мире.
(обратно)508
Должен, правда, по этому поводу заметить, что и господин Банкс встречал различные сорта пассифлоры в большой и еще совсем неизвестной части света, которую мы зовем Новой Голландией. — примеч. Форстера
(обратно)509
Адонис — греческое название финикийского божества растительности и плодородия, культ которого проник в I тысячелетии до н. э. и в Грецию. В древнегреческой мифологии — возлюбленный Афродиты. Его имя издавна употребляется в мировой литературе для обозначения красавца мужчины.
(обратно)510
По мнению Дж. Виглхоула, это была «жаба-рыба» (Lagocephalus sceleratus).
(обратно)511
В конце XVIII в. новокаледонцы находились на стадии разложения первобытнообщинного строя и формирования классового общества. Население делилось на рядовых общинников и знать, существовало патриархальное рабство. Племенная организация достигла здесь полного расцвета. Племена возглавлялись наследственными вождями, обладавшими большой властью. Между некоторыми племенами сложились даннические отношения.
(обратно)512
Речь идет об альбиносе — человеке, лишенном нормальной пигментации кожи, полос и радужной оболочки глаза. Альбинизм — наследственный признак, зависящий от наличия рецессивного, т. е. подавляемого, гена, блокирующего в гомозиготном состоянии синтез пигментов.
(обратно)513
Форстер излагает здесь так называемую патриархальную теорию, по которой начальной и основной ячейкой человеческого общества была патриархальная семья. Согласно этой теории, такая семья являлась прообразом государства, патриарх-домовладыка — прообразом монарха, а его власть — прообразом и источником государственной власти. Впервые изложенная древнегреческими философами Платоном и Аристотелем, эта лженаучная теория в средние века разрабатывалась учеными-богословами, а в XVIII—XIX вв. была подхвачена многими буржуазными исследователями.
(обратно)514
Речь идет об о-вах Белей, расположенных примерно в 20 милях от побережья Новой Каледонии.
(обратно)515
22 сентября — день коронации английского короля Георга III. Упоминаемая ниже королева Шарлотта — супруга Георга III.
(обратно)516
Близ Асуана, или Сиены, в Верхнем Египте, близ Больсены в Италии, близ Хадие в Йемене, близ Штольпе в Саксонии, близ Яуэра и Шёнау в Силезии, на западных островах Шотландии, близ Антрима в Ирландии, в Виварэ (Франция). — примеч. Форстера
(обратно)517
По поводу «высоких фигур в форме столбов» разгорелся спор между Куком и обоими Форстерами. Кук считал, что это не базальтовые столбы, а «особая разновидность деревьев» (Дж. Кук. Плавание к Южному полюсу..., с. 465). Впоследствии выяснилось, что прав был Кук. «Высокие фигуры» — это гигантские араукарии, которые произрастают на Новой Каледонии и на островах, лежащих у ее южных берегов. Дерево это в честь Кука было названо Araucaria cooki. Оно достигает 30—35 м в высоту, тогда как ветви его редко бывают длиннее 2 м.
(обратно)518
«Мыс Принца Уэльского» — не выступ берега Новой Каледонии, а островок Вен, или Уэн, отделенный от Новой Каледонии очень узким проливом. Принц Уэльский — титул наследника английского престола.
(обратно)519
Кук имел в виду разновидность араукарии, которая встречается только на о-ве Норфолк и называется «норфолкской сосной» (Araucaria excelsa). По качеству древесины она не уступает лучшему корабельному лесу Северного полушария.
(обратно)520
Сам Кук писал, что назвал этот остров в честь «благородного рода» герцогов Норфолкских (Дж. Кук. Плавание к Южному полюсу..., с. 477).
(обратно)521
Это одна из рыб, которая встречается во всех частях Мирового океана. Ее ловят, например, у побережья Англии, в Средиземном море, у мыса Доброй Надежды и в Южном море [Тихом океане]. — примеч. Форстера
(обратно)522
Во время своего последнего плавания по Тихому океану, описание которого сейчас печатается, капитан Кук собрал дополнения и исправления к сому рассказу и внес их в свой дневник, к коему мы и отсылаем читателя. — См.: Дж. Кук. Плавание в Тихом океане в 1776—1780 гг. М., 1971, с. 89—93.
(обратно)523
Так они делают всегда, отправляясь на битву.— примеч. Форстера
(обратно)524
Небольшие расхождения, которые можно заметить между этим рассказом и напечатанным тем временем собственным отчетом капитана Крозе, могли возникнуть единственно по причине живости, с какой француз рассказывал это устно (см.: [Y. M. Crozet. Nouveau]. Voyage à la Mer du Sud. P., 1783).
(обратно)525
Но кто старается отомстить, отвечая на обиду обидой, защищает себя от многих.
А р и о с т.[Пять песен. Песнь I, XVII, 7—9. У Ариоста та fa sua и оffeso l'ha].
(обратно)526
Название корабля, которым капитал Кук командовал во время своего первого кругосветного плавания в 1768—1771 годах.
(обратно)527
Тринго, по-видимому, означает здесь нечто вроде титула, который ставится перед именами многих вождей.— примеч. Форстера
Предположение Форстера неосновательно. По мнению современных исследователей, имя этого маорийского вождя — Те Рангипухи.
(обратно)528
Этот друг — нынешний капитан Барни, сын известного музыканта и знатока музыки, носившего ту же фамилию.
(обратно)529
Неприветлив сей остров, покрытый обломками скал, Страшен, пустынен повсюду, Ни травинки зеленой, ни тени не дарит весна, Не растет ничего на безрадостной почве. С е н е к а[О провидении, гл. 4].
(обратно)530
Б е й д е в и н д — курс корабля, при котором ветер дует спереди и сбоку. Рифы парусов — ряд коротких веревок, пришитых к парусу. Когда усиливается ветер и требуется уменьшить площадь паруса, «берут рифы», т. е. подтягивают парус и рифами привязывают его к рею — деревянному брусу круглого сечения, подвижно прикрепленному средней частью к мачте, горизонтально к палубе.
(обратно)531
В XVIII в. не только в разных странах, но даже и в пределах одной страны было принято несколько различных миль. Английская морская миля равнялась 1853.18 м. английская морская лига (3 морские мили) — 5559,54 м, английская сухопутная (статутная) миля — 1609,34 м. Из текста неясно, какие немецкие мили имеет в виду автор. Возможно, им допущены тут какие-то неточности.
(обратно)532
Мыс Десеадо (современное название — мыс Пилар) — северо-западная оконечность о-ва Десолейшн, расположенного на южной стороне западного выхода из Магелланова пролива.
(обратно)533
Мыс Глостер — западная оконечность о-ва Чарлз, наиболее крупного, в группе островов Графтон.
(обратно)534
Речь идет о сером дельфине (Grampus griseus).
(обратно)535
Мыс Йорк-Минстер — южная оконечность о-ва Уотермен.
(обратно)536
«Дерево, дающее кору Уинтера» (Drimys winteri) было открыто в XVI в. английским капитаном Уиптером на берегах Магелланова пролива. Оно обладает корой с острым и приятным запахом. Форстер подчеркивает отличие «коры Уинтера» от белой корицы — коры Canella alba и Canella laurifolia, двух вест-индских растений семейства коричных.
(обратно)537
И корабль полетел меж зыбями, Скоростью споря с копьем иль стрелой, настигающей ветер. Вергилий[Энеида. 10, 247—248. Пер. С. Ошерова].
(обратно)538
Речь идет об утках вида Tachyeres pleneres Forsler, которые водятся на островах Огнеземельского архипелага.
(обратно)539
Имеются в виду ягоды Pernetlya mucronata.
(обратно)540
См. плавание дона Пернетти на Малуинские [Мальвинские] острова. — примеч. Форстера
Гнезда такого типа обычно вьют императорские, или исполинские, бакланы (Phalocrocorax atriceps).
(обратно)541
Огнеземельский архипелаг населяло несколько племен, которые в конце XVIII в. относились к наиболее отсталым народам мира. В юго-западной части архипелага, где находился в то время «Резолюшн», обитало племя ягана, или «лодочные индейцы». Эти самые «южные» люди на Земле, жившие в весьма неблагоприятных природных условиях, были морскими охотниками, рыболовами и собирателями, Морской промысел вынуждал их постоянно переходить с места на место, и они вели бродячий образ жизни. Бугенвиль в 1768 г. встречался с родственным яганам племенем алакалуфов, которое обитало в северо-западной части архипелага.
(обратно)542
Фонтанж — высокий, богато украшенный женский головной убор, названный в честь герцогини де Фонтанж, одной из фавориток французского короля Людовика XIV.
(обратно)543
Гуанако — как известно, разновидность маленького южноамериканского верблюда, которого в Чили одомашнили и применяют как вьючное животное; их называют также ламами.— примеч. Форстера
Ламы (Lama)—род парнокопытных животных семейства верблюдовых. В отличие от верблюдов не имеет горба. Форстер, очевидно, имеет в виду собственно ламу — одомашненного гуанако (Lama guanacoe), несколько крупнее дикого.
(обратно)544
Речь идет о вечнозеленом барбарисе (Berberis ilicifolia Forster).
(обратно)545
В 1769 г. участники первой экспедиции Кука встречались в бухте Буэн-Сусесо (юго-восточная часть архипелага) с огнеземельцами племени она. Это племя действительно находилось на несколько более высокой ступени развития, чем ягана, и промышляло охотой на гуанако.
(обратно)546
Сии господа заимствовали свою философию у Сенеки. Следующее место у него весьма подходит к пессерэ, а высказанная здесь мысль как раз свидетельствует об отсутствии того чувства, о коем говорилось выше: Perpetua illos hiems, triste coelum premit — imbrem culmo aut fronde defendunt; nulla illis domicilia, nullae sedes sunt, nisi quas lassitudo in diem posuit—In alimentis feras captant— vilis, et hie quaerendus manu victus.— Miseri tibi videntur? — Nihil miserum et quod in naturam consuetudo perduxit.— Hoc quod tibi calamitas videtur, tot gentium vita est. De Providentia (Вечная зима, хмурое небо гнетет их, от дождя укрываются они в хижинах из соломы и листьев, и никаких других жилищ, никакого крова, кроме того, что им приходится сооружать для себя на время крайней нужды, нет у них.— Для пропитания ловят они диких зверей, но и эта жалкая пища достается им лишь с великим трудом.— Считаешь ли ты их достойными жалости? — Не надо сожалеть ни о чем, что сделала привычным сама природа.— То, что тебе представляется несчастьем, для многих народов обычная жизнь [Сенека. О провидении, гл. 4]).
Хауксуорт, когда ему понадобилось, лишь пересказал и видоизменил это место (т. 2, с. 59). — примеч. Форстера
(обратно)547
Форстер продолжает здесь полемику с Руссо и его последователями, развивавшими в своих произведениях концепцию о «счастливом дикаре», несколько односторонне толкуя взгляды этих философов. Однако, подчеркивая преимущества «цивилизованного устройства», Форстер не закрывает глаза на противоречия и пороки, присущие буржуазному обществу.
(обратно)548
Recueil des voyages, qui ont servi a l'etablissement de la Compagnie des Indes Orientales. Amsterd[am], 1705, vol. 4, p. 702. — примеч. Форстера
(обратно)549
Форстер допустил неточность: Кристмас-Саунд — не гавань, а пролив Рождества.
(обратно)550
Остров лежит у входа в бухту Нассау, которую открыл вышеупомянутый Якоб л'Эрмите. — примеч. Форстера
(обратно)551
Мыс Горн — южная оконечность о-ва Горн в группе островов Эрмите. Его координаты— 55°59' то. ш. и 67°16' з. д. Этот мыс был открыт в 1616 г. голландскими мореплавателями В. Схаутеном и Я. Ле-Мером и назван в честь города, где родился Схаутен и была снаряжена эта экспедиция.
(обратно)552
Фейе Луи (1660—17.12)—французский путешественник (францисканский монах), который в 1707—1711 гг. обследовал берега Огненной Земли, Чили и Перу. Отчет об этом путешествии он опубликовал в 1725 г.
(обратно)553
Речь идет о южных морских львах (Otaria byronia).
(обратно)554
Френсис Притти у Хаклюйта говорит о наших морских, львах (т. 3. с. 805): «Эти тюлени, удивительной величины, они громадны и безобразны; когда глядишь на них спереди, приходит на ум сравнение только со львом. Голова, шея и грудь у них заросли грубой шерстью». Сэр Ричард Хокинс употребляет почти те же выражения и еще добавляет к этому, что щетина у них при надобности может служить зубочисткой (см.: Des Brosses Nav. aux Terres Austr. Vol. 1, p. 244). Сэр Джон Нарборо также замечает их бросающееся в глаза сходство со львами, а Лаббе в «Письмах, миссионеров» (т. 15) говорит, что морские львы отличаются от морских котиков исключительно длинными волосами вокруг шеи, в чем он совершенно прав. См.: Des Brosses Nav. аuх Terres Austr. Vol. 2. p.434.— примеч. Форстера
Сочинение Ф. Притти о плавании, совершенном в 1586—1588 гг. английским мореплавателем Т. Кавендишем, опубликовано в собрании английского географа Ричарда Хаклюйта (1552—1616): R. Hackluit. The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation. Vol. 3. L., 1600.
Наблюдения английского мореплавателя Р. Хокинса, сделанные в 1593—1594 гг., приведены в труде известного французского историка, географа и лингвиста Шарля де Бросса (1709—1777), сторонника умозрительной теории Южного материка: Сh. de Brosses. Histoire des navigations aux Terres Australes. Vol. 1—2 Dijon, 1760.
Лаббе, Филипп (1607—1667) —французский ученый-иезуит. Речь идет о его труде: Р h. L a b Ь é. Lettres édifiant et curieuses, écrites des missions étrangères par quelques missionaires de la compagnie de Jesus. P., 1722.
О Дж. Нарборо см. примеч. 140.
(обратно)555
О. Г. Стеллере см. примеч. 183.
(обратно)556
О А. Ж. Пернети см. примеч. 140.
(обратно)557
То же самое наблюдал французский мореплаватель Бошен-Гуэн, который добавляет: «Камни имеют такой вид, будто они частично уже переварились». Сомневаюсь, сумеет ли сие переварить благосклонный читатель (Des Brasses Nav. aux Terres Austr. Vol. 2, p. 114).— примеч. Форстера
Французский мореплаватель Ж. Бошен-Гуэн (правильно Гуэн де Бошен) руководил в 1699—1701 гг. экспедицией к берегам Чили и Перу.
(обратно)558
Морские котики, которых описывает здесь Форстер, относятся к виду Arthocephalus australis, несколько отличающемуся от новозеландских кекено (см. о них примеч. 183).
(обратно)559
Упоминаемые здесь грифы — это чилийские грифы (Cathartes aura jota), «пингвины неизвестного нам до сих пор вида» — Магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus Forster), кебрантауэсос — исполинские буревестники (Macronectes giganteus).
(обратно)560
Гомер [Одиссея. IV, 404. Пер. В. Жуковского].
(обратно)561
О пингвинах этого вида см. примеч. 147.
(обратно)562
По мнению Дж. Биглхоула, речь идет о чернолобом ибисе (Theristicus caudatus melanopis).
(обратно)563
На карте Дальримпля (см. о нем примеч. 22) к востоку от южной оконечности Южной Америки была обозначена обширная земля, контуры которой перенесены с карты Нового Света, составленной датским географом А. Ортелием в 1587 г. Ортелий, как и его предшественники, в западной части этого мифического Южного материка показал большой залив Сан-Себастиано, который, видимо, был перенесен сюда с побережья Бразилии.
(обратно)564
Об Э. Галлее см. примеч. 33.
(обратно)565
Часть его дневника в 1775 г. напечатана на французском языке в Collection of Voyages in the Southern Atlantic Ocean господина Дальримпля. Земля, которую Аптонио Ларош открыл в 1675 году, видимо, та же самая, и господин Гийо только точнее исследовал ее. — примеч. Форстера
Ларош Антуан де — лондонский купец, француз родом, совершил в 1674— 1675 гг. плавание в Южное полушарие. Он собирался пройти проливом Ле-Мер к берегам Перу, но ветры отнесли его корабль на юго-восток от Огненной Земли, и в апреле 1675 г. он открыл гористую землю, у берегов которой провел две недели. Направившись затем к Бразилии, он на 45° ю. ш. обнаружил «очень большую и приятную землю». По мнению современных исследователей, первой открытой Ларошем землей был о-в Южная Георгия, а «приятная земля» — мыс Санта-Елена на патагонском берегу.
(обратно)566
— Ты ведь части света
Имя даруешь!
Г о р а ц и й[Оды. III, 27, 75—76. Пер. Н. Гинцбурга]
(обратно)567
Остров Уиллис назван в честь мидшипемена Томаса Уиллиса, первым увидевшего его.
(обратно)568
См.: Путешествие к Северному полюсу капитана Фиппса, нынешнего лорда Малгрейва, опубликованное в 1775 г.— примеч. Форстера
Фиппс, Константин Джон (1744—1792) — английский мореплаватель и политический деятель. Имеется в виду кн.: С. J. P h i p p s. A Voyage Towards the North Pole. L., 1774.
(обратно)569
Этот ансоновский морской лев (Phoca leonina Linn.), вероятно, то самое животное, которое англичане на Фолклендских островах называют Clapmatch Seal. См.: Philoso[phical] Transact [ions]. Vol. 66, p. 1.— примеч. Форстера
См. примеч. 225.
(обратно)570
Речь идет об императорских пингвинах (Aptenodytes patagonicus). О Пеннанте см. примеч. 182.
(обратно)571
Намек на утрату Великобританией колоний в Северной Америке, провозгласивших свою независимость в 1776 г.
(обратно)572
Остров назван в честь Роберта Купера, первого лейтенанта на «Резолюшн».
(обратно)573
Дикий мглистый край, Терзаемый бичами вечных бурь И вихрем градоносным; этот град, Не тая, собирается в холмы Огромные — подобия руин Каких-то древних зданий. Дж. М и л ь т о н.[Потерянный рай, 2, 588—593. Пер. Арк. Штейнберга].
(обратно)574
И. Р. Форстер и Кук отдали дань античной традиции: римляне Землей Туле называли самую северную и холодную землю в Атлантике. Антипод этой земли получил название Южной Туле.
(обратно)575
Мыс назван в честь графа Бристольского. См. о нем примеч. 317.
(обратно)576
Мыс получил название в честь графа Монтегю Сандвича (см. примеч. 7).
(обратно)577
Остров назван в честь адмирала Чарлза Саундерса (1713—1775), под командой которого Кук служил в 1759 г.
(обратно)578
Часть света эта проклята природой и окутана густым мраком. [Гай Плиний Младший. Естественная история, IV, 88. У Форстера место указано неверно].
(обратно)579
Под названием Земли Сандвича Кук объединил открытые им берега, включая мыс Монтегю, мыс Бристоль и землю Южная Туле. В январе 1820 г. экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева установила, что эта земля состоит из пяти островов и нескольких скал. Беллинсгаузен дал четырем островам их современные названия: о-в Монтегю, о-в Бристоль, о-в Кука и о-в Туле. Пятый остров, оставшийся безымянным, был назван в 1930 г. англичанами о-вом Беллинсгаузена. Беллинсгаузен переименовал Землю Сандвича в Южные Сандвичевы острова. Последнее название перешло затем и на открытые Куком о-ва Саундерс и Сретенья, а также на открытые Беллинсгаузеном и Лазаревым о-ва Траверсе (о-в Завадовского, о-в Высокий и о-в Лескова).
(обратно)580
См. опыты господина Нейрна в «Philosophical Trans [actions]». Т. 66. Ч. 1. Тем не менее капитан Кук и до сих пор еще полагает, что ледяные острова могут формироваться только на берегах, в долинах и заливах материков, ибо только это позволяет, по его мнению, объяснить разнообразие форм сих ледовых масс. Совершенно плоские большие острова, считает он, видимо, образуются в заливах, крутые же с острыми вершинами — между скал и в долинах из скопления заледенелых снегов. И те и другие из-за своего веса отрываются от всей громадной массы, и затем постоянные северные течения несут их в более умеренные широты. Поэтому капитан Кук убежден, что вокруг Южного полюса находится большой материк, но это, конечно, тем более сомнительно, что, по его мнению, Земля Сандвича — одна из самых северных оконечностей этого континента, большая часть которого лежит за полярным кругом. Он полагает далее, что эта земля заходит дальше к северу в южной части Атлантического и Индийского океанов, нежели в собственно Южном море, поскольку в этих океанах мы видели льды гораздо севернее, чем там. Если мы предположим (так говорит он), что земли здесь не существует, то до 70° или 60° широты вокруг полюса, то есть на таком расстоянии, на котором известные нам материки не могут влиять на атмосферу, должны быть всюду одинаковые холода, и следовательно, лед не должен встречаться в одном месте севернее, чем в другом. Однако морозы в собственно Южном море гораздо меньше, чем в Южном Атлантическом или Индийском. В первом термометр не опускался до температуры замерзания, когда мы заходили за 60° широты, в последнем же он достигал такой отметки в то же время года уже под 54° южной широты. См.: [J. Cook]. Voyage towards the South Pole and round the World. Vol. 2, p. 231, 240. Я представляю судить самому читателю.— примеч. Форстера
Действительно, очертания Антарктического материка в значительной мере совпадают с тем, что было предсказано Куком. Антарктида почти целиком лежит внутри Южного полярного круга. Площадь материка и его плавучих ледников составляет 13,9 млн. кв. км, из которых лишь около 0,2 млн. кв. км лежит севернее полярного круга. В атлантическом и индийском секторах материк выходит за пределы полярного круга в семи местах, но не далее чем на 170 км, и лишь Антарктический полуостров (Земля Грейама) протягивается на 380 км к северу от полярного круга. В тихоокеанском же секторе в соответствии с предвидением Кука берег Антарктиды проходит значительно южнее и почти на всем протяжении лежит между 70° и 78° ю. ш. Кук ошибался, предполагая, что Земля Сандвича — оконечность Южного материка, но он допускал также, что она является «группой островов» (Дж. Кук. Плавание к Южному полюсу..., с. 530).
О проблеме образования льда из морской воды см. примеч. 143.
(обратно)581
О плавании Буве и его открытиях см. примеч. 36.
(обратно)582
См. примеч. 156.
(обратно)583
Обычное мирное приветствие.— примеч. Форстера
(обратно)584
Имеется в виду гибель 10 членов экипажа «Адвенчера» в стычке с маори в декабре 1773 г,
(обратно)585
Роком гонимы, они по волнам соленым блуждали.
Вергилий[Энеида. 1.32. Пер. С. Ошерова]
(обратно)586
Было бы несправедливо ставить капитанов кораблей Ост-Индской компании в один ряд с другими мореплавателями. Их щедрость и человеколюбие в большинстве случаев отличают их от так называемых «морских чудовищ».— примеч. Форстера
(обратно)587
Здесь Форстер в комплиментарном духе высказывается о некоторых европейских властителях, а также о событиях, происшедших после отправления экспедиции в дальний вояж.
«Юный герой» — Густав III (1746—1792), шведский король с 1771 г. В 1772 г. он произвел государственный переворот, ликвидировав правление феодально-аристократической олигархии, и фактически установил неограниченную власть короля. Пытался править в духе «просвещенного абсолютизма». Форстер проводит параллель между ним и Густавом I Вазой (1496—1550), шведским королем с 1523 г., при котором была восстановлена национальная независимость Швеции.
«Повелительница, чье явление... превратило ночь в день» — Екатерина II (1729— 1796), императрица всероссийская с 1762 г., которая в начальный период своего царствования также отдала некоторую дань идеям «просвещенного абсолютизма».
«Долгожданный мир в Польше» — первый раздел Польши в 1772 г. между Россией, Пруссией и Австрией. Ему предшествовала вооруженная борьба шляхты, объединившейся в Барскую конфедерацию, против войск польского короля и поддерживавшей его царской России.
Фридрих Великий — Фридрих II (1712—1786), прусский король с 1740 г., крупный полководец, при котором Пруссия выдвинулась в число великих держав. Стремился утвердить за собой славу ценителя и покровителя искусств, был автором ряда философских и исторических сочинений.
(обратно)588
Орангутанг умер в январе 1779 г. Набитое из него красивое чучело в очень живой позе было установлено в кабинете принца Оранского. Тело получил в свое распоряжение знаменитый анатом господин Кампер.— примеч. Форстера
Кампер, Петрус (1722—1789) — известный голландский анатом и путешественник.
(обратно)589
Имеется в виду булла папы Александра VI о разделе между Испанией и Португалией всех открытых и еще не открытых заморских земель, обнародованная в мае 1493 г. Линия раздела проходила на расстоянии 100 итальянских лиг к западу от о-вов Зеленого Мыса. Все нехристианские страны, расположенные к западу от этой линии, объявлялись владениями Испании, а к востоку — владениями Португалии. Но это решение папы не удовлетворило испанского короля Хуана II. После длительных и сложных переговоров в Тордесильясе в июне 1494 г. был подписан испано-португальский договор, по которому рубеж проходил в 370 лигах (ок. 2300 км) к западу от о-вов Зеленого Мыса.
(обратно)590
В июле 1776 года, проведя почти год в опасном и трудном путешествии по глубинным областям Африки и сумев проникнуть дальше, чем доктор Тунберг, доктор Спаррман вернулся в Швецию. См. его собственное описание этого путешествия, которое в 1783 году я издал в немецком переводе.— примеч. Форстера
О. А. Спаррмане и К. П. Тунберге см. примеч. 112 и 128.
(обратно)591
Книга, на которую ссылается Форстер, была издана в 1762 г. в Лондоне. Как сообщается в предисловии, ее автор — «путешественник, чиновник Ост-Индской компании». В книге рассказывается о печальной судьбе одного из правителей индонезийского острова Мадура, который пытался вести борьбу против голландских колонизаторов, но был коварно схвачен и отправлен в заточение в Капскую колонию. О-в Роббен и в наши дни используется властями ЮАР в качестве тюрьмы, где томятся борцы против апартеида, участники национально-освободительного движения.
(обратно)592
... спасайся, кто может,
Когда великий враг человеческий облик приемлет людской
КамберлендКамберленд, Ричард (1732—1811)—английский драматург, автор 54 пьес.
(обратно)593
Это были достопочтенный Фредерик Стюарт, младший сын графа Бьюта; Джон Грэм, эсквайр, находившийся на службе в Бенгалии, с супругой; И. Лорел. эсквайр Джонсон, эсквайр с супругой, полковник Л. Маклин и др. Господин Грэм скоро умер в Монпелье. — примеч. Форстера
(обратно)594
Собрание Хауксуорта, т. 3, с. 411. На Св. Елене есть много тачек, равно как и несколько больших повозок, в коих запрягают лошадей; некоторые из них нарочно все эти дни подгонялись под окно капитана Кука. Обращение с рабами также описано неверно. С ними не обходятся жестоко, но они и не оказывают вредного влияния на воспитание детей, как на мысе Доброй Надежды, где они лишь сильнее раздувают в них пламя дурных страстей, возникающих из-за жаркого климата. — примеч. Форстера
(обратно)595
Кук ознакомился с описанием своей первой экспедиции, выпущенным в свет Дж. Хауксуортом (см. о нем примеч. 11), лишь находясь на о-ве Св. Елены. Хауксуорт «литературно обработал» дневники Кука, дополнил их извлечениями из дневников Дж. Банкса (см. о нем примеч. 40) и собственными рассуждениями. Сообщение о жестоком обращении с рабами на о-ве Св. Елены и отсутствии там колесных экипажей, тачек и повозок было взято из дневников Банкса. Следует, однако, отметить, что положение рабов на этом острове было действительно тяжелым.
(обратно)596
Эти наблюдения не согласуются с замечаниями в собрании Хауксуорта. Неверно, что вулканы должны непременно находиться в самых высоких горах, а соответствие углов наклона у противолежащих гор для критически мыслящего наблюдателя значит столь же мало, как мнимые ландшафты на флорентийском мраморе. Вообще доктору Хауксуорту весьма не везет в замечаниях, касающихся природы и естествознания; порой он бывает не более удачлив и в иных философских отступлениях, ибо то и дело превратно понимает Паува и графа Бюффона, причем грабит их то и дело без ссылки. Читателей, желающих узнать, как обстоит дело с вулканами на самом деле, мы отошлем лучше всего к письмам господина Фербера из Франции и Италии (английское издание, Лондон, 1776). В предисловии, примечаниях и указателе господина Распе содержится очень много поучительных соображений и замечаний. То, что он здесь говорит об истории вулканических систем, особенно же о вулканах и вулканической деятельности на море, является совершенно новым и оригинальным.
Заслуживают внимания также «История Земли» упомянутого господина Распе (на лат. яз. Амстердам, 1763) и его «Account of some German Volcanoes». L., 1770, особенно же, хотя бы из-за гравюр, «Campi Phlegraei» сэра Уильяма Гамильтона (Неаполь. 1777).— примеч. Форстера
Распе, Рудольф Эрих (1737—1794) —немецкий писатель, переводчик и популяризатор науки, с 1775 г. живший в Англии, друг Форстеров. Приобрел известность литературной обработкой приключений барона Мюнхгаузена. В 1776 г. перевел на английский язык книгу И. Я. Фербера, содержащую ценные минералогические наблюдения (см. примеч. 25 к гл. 20). Говоря о написанной Распе «Истории Земли», Форстер имеет в виду книгу: В. E. R a s р е. Specimen historiae naturalis globi terraquei, praecipue de novis e mari natis insulis. Amsterdam et Leipzig, 1763.
Гамильтон, Уильям, сэр (1730—1803) — британский дипломат и археолог. Будучи многие годы послом в Неаполе, занимался археологическими изысканиями и изучением вулканов. Речь идет о книге: W. H a m i l t о n. Campi Phlegraei. Observations on the Volcanoes of the Two Sicilies. Vol. 1—2. Neapel, 1776.
О Пауве и Бюффоне см. примеч. 84 и 86.
(обратно)597
Это саго по качеству ничем не отличается от настоящего ост-индского. Последнее представляет собой сердцевину папоротникового растения, которое встречается на островах Ост-Индии. Североамериканская разновидность известна в Англия под названием саговая мука Бауона. Ею снабжается королевский флот.— примеч. Форстера
Настоящее саго — крахмальная крупа, приготовленная из сердцевины ствола саговой пальмы (Metroxylon) семейства пальм. Искусственное саго вырабатывается из картофельного, кукурузного и других сортов крахмала.
(обратно)598
См. примеч. 143.
(обратно)599
Запрет кораблям Британской Ост-Индской компании посещать о-в Ассеншн объясняется тем, что команды этих судов нелегально сбывали здесь индийские товары бостонским и нью-йоркским купцам. Последним было запрещено вести торговлю с Индией, где монопольно господствовала Британская Ост-Индская компания, и они стремились любыми способами обойти это запрещение.
(обратно)600
Эти сведения я почерпнул из одной португальской рукописи, которую любезно передал мне господин Джордж Перри, недавно возвратившийся из Индии. Называется она «Conquista da India per huas e outras Armas reaes e Evangelicas». Автор, по-видимому, был иезуитом. — примеч. Форстера
(обратно)601
Остров Вознесения (Ассеншн) был открыт в 1501 г. португальским мореплавателем Жуаном да Нова в день христианского праздника вознесения.
Албукерки, Афонсу д' (1453—1515) — португальский мореплаватель и завоеватель, основатель португальской колониальной империи в Ост-Индии.
(обратно)602
См. описание путешествия Джованни д'Эмполи, который плавал на одном из кораблей Альбукерка: Ramusio Raccolta di Viaggi. Vol. 1, p. 145. Изд. 1563 г.— примеч. Форстера
См. примеч. 26.
(обратно)603
Остров Фернанду-ди-Норонья был открыт и описан Америго Веспуччи (см. о нем примеч. 26). Однако это было вторичное открытие. Незадолго до Веспуччи этот остров обнаружил португальский мореплаватель Фернанду ди Норонья. Отсюда и его название.
(обратно)604
Здесь можно обратиться к описанию путешествия в Южную Америку Антонио Ульоа. Вторая часть его содержит сведения о португальской колонии на этом острове.— примеч. Форстера
О книге Ульоа см. примеч. 99.
(обратно)605
План всего острова приведен на карте господина Бюаша «Carte de la partic, de l'Осéаn vers I'Equateur entre les côtes d'Afrique et l'Amérique», 1737. Эта карта была издана с целью доказать, что некоторые предполагавшиеся там отмели и банки (они, как уже доказано, на самом деле не существуют) влияют на течения в данной части моря. Французские философы построили на этом целые системы, которые, разумеется, никак не назовешь основательными.— примеч. Форстера
Бюаш, Филипп (1700—1773)—французский географ, один из видных представителей умозрительной географии XVIII в. Наличие в высоких широтах Южного полушария огромных масс плавучего льда он рассматривал как доказательство существования Южного материка.
(обратно)606
Форстер допустил тут неточность. Премьер-министр Португалии маркиз Помбал (1699—1782) не запретил издавать газеты, но подчинил печать королевской цензуре. Помбал был типичным представителем эпохи «просвещенного абсолютизма». Он стремился улучшить народное образование, находившееся в полнейшем упадке, вырвать школу из рук духовенства, провел реформу университетского образования. Неправильные сведения о политике Помбала Форстер, возможно, получил на Фаяле у португальских монахов, недовольных правлением этого министра.
(обратно)607
Имеется в виду сафлор красильный (Cartkamus tinctorius) — травянистое растение семейства сложноцветных. В семенах содержится сафлоровое масло, используемое как в пищу, так и для технических целей. Из лепестков получают красный и желтый красители, которые применяются для окраски тканей и в кулинарии.
(обратно)608
Гонзалу Велью Кабрал еще в 1432 году открыл остров Санта-Мария. Лишь в 1468 голу герцогиня Бургундская послала фламандскую колонию на Азоры, которые потому и получили название Фламандских островов. См.: [Ch. M.] Sprenge I. Geschichte der wichtigsten geographischen Entdeckungen. Halle, 1783, s. 92.— примеч. Форстера
Не исключено, что Азорские острова были замечены еще в античную эпоху карфагенскими мореходами. Но подлинное открытие этого архипелага произошло в 1431—1432 гг., когда португальский мореплаватель Гонзалу Велью Кабрал обнаружил скалы Формигаш, а затем о-в Санта-Мария. Основные острова архипелага были открыты, по-видимому, не позднее 1438 г., а о-ва Корву и Флориш — в 50-х годах того же столетия.
(обратно)609
FIоrеs (португ.) — цветы, соrvо (португ.) — ворон.
(обратно)610
Шеффель — старинная мера сыпучих тел, которая в XVIII в. была неодинаковой в различных европейских государствах. Поскольку в данном случае в муи (мойо) содержится 24 шеффеля, последний составляет около 35 л. О мойо см. примеч. 69.
(обратно)611
О Ш. П. Флерье и А. Г. Пингре см. примеч. 91.
(обратно)612
Наш астроном по ходатайству капитана Кука без затруднений получил разрешение произвести здесь наблюдения, чем он и занимался в саду консула. — примеч. Форстера
(обратно)613
Один р е й составляет примерно двенадцатую часть английского пенса, который равен без малого пфеннигу в нашей монете; канари — мера немногим больше четырех кварт.
(обратно)614
Вероятно, причиной этого заболевания является какай-то вид насекомых.— примеч. Форстера
(обратно)615
О к с о ф т — старинная немецкая мера жидкостей и сыпучих тел; ее величина в XVIII в. весьма существенно различалась в многочисленных немецких государствах. Поскольку здесь в одной пипе содержится 2 оксофта, он равен примерно 245 л.
(обратно)616
Сведения об этом (первом) странном вулкане можно найти в следующих изданиях: Mem[oirs] de l'Acad[emie] de Paris, 1721, p. 26; там же, 1722, p. 12; Philos[ophical] Transact [ions], abridged. Vol. 6, p. 154, Raspe, Spec. Hist. nat. Globi torraquei. Amst[erdam], 1763, p. 115. — примеч. Форстера
(обратно)617
Старт-Пойнт — мыс на южном побережье английского графства Девоншир, Эддистоун — отмель на подступах к Портсмуту.
Игольные скалы (Те Нидлс) — западная оконечность острова Уайт.
(обратно)618
Согласно европейской статистике смертельных случаев, на сто человек ежегодно умирают по меньшей мере три. Так что легко может случиться, что даже при самой большой осторожности и предусмотрительности ни одно другое судно в будущем не обойдется столь малыми потерями; и неизвестно еще, всегда ли профилактические съестные припасы и антицинготные средства оказывают такое хорошее действие. — примеч. Форстера
(обратно)619
Ты видишь полюс — первый и второй, И бег планет по их кривым орбитам, И как незорок глаз наш, видишь ты там. Петрарка[Сонет 288, 5—7. Пер. А. Эфроса]
(обратно)620
Капитан Фюрно привел «Адвенчер» в условленное место встречи через несколько дней после ухода оттуда «Резолюшн». От Новой Зеландии Фюрно отправился к мысу Горн. Безуспешно проискав некоторое время «мыс Сирконсисьон», он зашел в Капстад и в июле 1774 г. возвратился в Англию.
(обратно)621
Г. Форстер. Избранные произведения. Ред., вступит, ст. и примеч. Ю. Я. Мошковской. М., 1960.
(обратно)622
Немецкие демократы XVIII века Шубарт, Форстер, Зейме. Ред., вступит, ст. и примеч. В. М. Жирмунского. М., 1956, с. 172—218,
(обратно)623
К. С. А н и с и м о в а. Георг Форстер — немецкий писатель и революционер.— «Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. Герцена». Т. 26. Л., 1939; Ф. Я. Прийма. Георг Форстер — переводчик Ломоносова — «Доклады и сообщения Филолог, ин-та ЛГУ». Вып. 3. Л, 1951; Г. С. Слободкин. Георг Форстер, выдающийся немецкий мыслитель и революционер (1754—1794).— «Ученые записки Свердл. пед. ин-та», 1957, вып. 14; Ю. Я. Мошковская. Георг Форстер — немецкий просветитель и революционер XVIII века. М.. 1961; М.Н. К а р а в а е в. Г. Форстер как ботаник и его ботанические коллекции в СССР.— «Труды Ин-та истории естествознания и техники АН СССР». Т. 36. М., 1961; А. К. Скворцов. О путешествии И. Р. Форстера в Нижнее Поволжье в 1765 г.— «Ботанический журнал». 1961, № 1. М. Буянов. Кто скрывался под инициалами И. Г. Л. Ф.? — «Книжное обозрение». 1982, № 7.
(обратно)624
Г. Ш е е л ь. Германские якобинцы.— «Ежегодник германской истории, 1970». М., 1971; F. M. T h о m a. Georg Forster. Weltreisender, Forscher, Rovolutionär. В., 1954; H. Schulz-Falkenthal. Georg Forsters Gedanken über den Staat nnd die Revolution.— «Wissenschaftliche Zcitschrift der Martin-Luther-Universität Halle — Wittenberg», ges.— wiss. Reihe, 1956; W. Rödel. Forster und Lichtenberg. Ein Beitrag zum Problem deutsche Intelligenz und Französische Revolution. В., 1960; H. M i e t k e. Georg Forster Weltumseg er, Schriftsleller und Revolutionär. Halle. 1961: С T r ä g e r. Georg Forster und die Verwirklichung der Philosophie.— «Sinn und Form». 1962. H. 4; G. S t e i n e r. Johann Reingold Forsters und Georg Forsters Beziehungen zu Russland.— «Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts» (Red. H. Grasshoff und U. Lehmann). Bd 2. В., 1968; он ж е. Georg Forsters «Reise um die Welt».— G. F о г s t e r. Werke in vier Bänden. Bd 1, с 1019—1043 (в других томах этого издания помещены очерки Г. Штайнера о естественнонаучных, философских и других произведениях Форстера, его переписка); Н. S с h e e l. Unbekannte Zeugnisse aus der revolutionären Täligkeit Georg Forsters in und um Mainz 1792/93.— «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft». 1973. H. 1; Die Mainzer Republik. Hrsg., eingel., komment. und bearb. von H. Scheel. Bd 1—2. В., 1975—1981.
(обратно)625
К. К е г s t e n. Der Weltumsegler. Johann Georg Adam Forster, 1754—1794. Bern, 1957; M. E. Hoare. The Tactless Philosopher. Johann Reingold Forster (1729—1798). Melbourne, 1976.
(обратно)626
The Journals of Captain James Cook on his Voyages of Discovery. Ed. by J. С Beagehole. Vol. 2. The Voyage of the Resolution and Adventure, 1772—1775. Cambridge, 1961.
(обратно)627
Дж. Кук. Плавание к Южному полюсу и вокруг света в 1772—1775 гг. Пер. с англ. Я. М. Света. Вступит, ст. Я. М. Света и В. Л. Лебедева. Коммент. В. Л. Лебедева, П. Г. Морозовского и Я. М. Света. М., 1964.
(обратно)

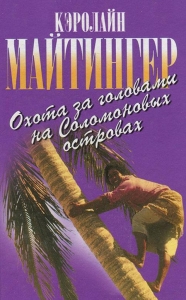

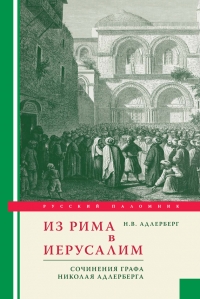

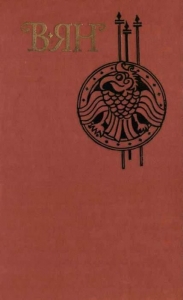
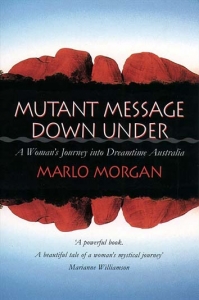
Комментарии к книге «Путешествие вокруг света», Георг Форстер
Всего 0 комментариев