Иван Павлович Кудинов Прошу взлёт
Я долго жил среди взрослых.
Я видел их совсем близко.
Сент-ЭкзюпериГлава первая
1
Отец шел быстро, чуть заметно прихрамывая. Он уже давно бросил костыли, нога зажила, кости срослись, но хромота, как бы на память, осталась. Врачи утверждают: пройдет. И только одного врачи не обещают — возможности вернуться в авиацию. Дома избегают разговоров на эту тему. Но отцу от того все равно не легче. «А как же Мересьев? — думает Женька. — Смог ведь он вернуться в авиацию. И воевал! И даже героем стал! Отец, тоже героем стал. Ну, не совсем героем, но все же…»
Женька пытается оправдать отца. А зачем? Никому ведь и в голову не придет в чем-то его упрекать. Наоборот. Но все равно Женька ищет оправдание. И не поступкам отца (они в том не нуждаются), а тому незавидному положению, в котором оказался отец.
Инвалид. Это звучало по отношению к отцу странно и оскорбительно. Иногда, заслышав гул самолета, отец вздрагивал, скулы его слегка бледнели, и он, запрокинув голову, долго и напряженно смотрел в небо, разлинованное серебристыми полосами. После этого отец становился мрачным и раздражительным. Все валилось у него изрук. Он много курил, много молчал и ходил, ходил из угла в угол, сильно припадая на правую ногу. Когда отец расстроен или чем-то взволнован, хромота особенно заметна. Но стоит ему успокоиться, взять себя в руки, и шаг становится твердым, походка ровной. Они идут рядом.
— Смотри там, — говорит отец, — будь осторожен.
— Ладно. Постараюсь.
— Все взял? Плащ не забыл?
— Нет. Я его в рюкзак запихал.
— Хм… Запихал…
— Положил, — улыбнулся Женька. Эта отцовская непримиримость к коверканью языка знакома ему с давних пор. Женька закидывает поудобнее за спину плотно набитый всякой всячиной рюкзак и старается идти прямо, не горбясь.
Они идут рядом, шаг в шаг, отец и сын; — первый чуть пониже ростом и пошире в кости, второй высокий и не сложившийся еще как следует, с крупным и будто надвое рассеченным подбородком, бровастый и по-мальчишески угловатый. Мальчик. Совсем еще мальчик, но все-таки уже взрослый мальчик. Отец смотрит на Женьку, вздыхает и думает… о себе. О себе прежнем, семнадцатилетнем. Он помнит, как по ночам опрокидывалось на него всей своей тяжестью небо, он проваливался в его бесконечную пустоту. И не было над головой спасительного парашюта, только небо, как громадный купол, колыхалось над ним, и земля неслась навстречу. Но он не успевал испытать ни страха от этого полета, ни боли от падения, может быть, потому, что вовремя просыпался. то были мучительные, трудные и однообразные сны. А днем он снова бросался вниз головой с километровой высоты, и земля, мчавшаяся навстречу, уже не казалась такой страшной, как в сновидениях. В семнадцать лет он был курсантом летного училища. Потом стал пилотом.
Он смотрел сейчас на сына и думал о себе, прежнем, и это было равносильно тому, что мысли его были о сыне, о его мальчике, которого он провожал в первый самостоятельный путь. И ему хотелось одного… Впрочем, что об этом говорить — все отцы хотят, чтобы сыновья повторяли их в лучшем качестве. И чтобы они обязательно достигли того, чего не удалось отцам…
Надо было его напутствовать, очень важные слова, сказать, а слова были обычные. И разговор выходил обычный.
И они надолго замолчали. Улица неслась им навстречу — потоком машин, человеческими голосами, улыбками, шорохом влажных после ночного дождя тополей… Асфальт сверкал под солнцем и, просыхая, дымился. С грохотом переламывались на повороте трамваи, вагоны двигались под углом, высекая из проводов трескучие искры…
Потом они сели в автобус, который каждое утро в восемь пятнадцать уходил с площади в аэропорт. Отцу уступили место. А Женьку оттеснили в угол, и чей-то локоть больно упирался ему в бок. Блестели пилотские кокарды.
Ехали летчики — молодые, веселые и безудержно остроумные.
Женьке всегда казалось, что в таком необычном автобусе и разговоры должны быть особенные — о каких-то исключительно сложных полетах, о высшем, пилотаже, о новых самолетах, об авиации вообще… Ведь летчики едут! Вот они. Рядом. И чей-то локоть больно упирается Женьке в бок.
— Фу, черт! Какая сегодня духота. С утра.
— Вчера мы карасей ловили на Круглом озере…
— Наловили?
— Ага. Десятка полтора.
— Крупные?
— Н-нет… так себе. Мелочь.
— Ха-ха-ха!.. Не выйдет из тебя, Скрынкин, рыбака.
— Почему? — Врать не умеешь.
Разговоры сверхобычные. О рыбалке. О футбольном матче: «Ни за что не назначил бы пенальти!..» О последней поэме Евтушенко.
А здорово он сказал: «Стоит все терпеть, бесслезно, быть на дыбе, колесе, если рано или поздно прорастают лица грозно у безликих на лице…» Опять о Скрынкине говорили, который, когда проигрывает в шахматы, так теряется, что начинает двигать коня по прямой.
Женька поискал глазами Скрынкина, но лицо его «не проросло» из множества других лиц, одинаково веселых, смеющихся, оживленных. Женьке была знакома только фамилий Скрынкина, с которым предстояло сегодня лететь в горы, а самого Скрынкина он не знал и ни разу не видел. Отец говорил, что прежний пилот отказался летать в горах. Женьку это удивило. Почему отказался? А вот так и отказался: не могу, говорит, летать в горах, где угодно буду летать, а в горах — нет. Может, не хотел? Может, и не хотел. Все равно отозвали. С этим не шутят. А Скрынкин? Отец подумал и ответил: Скрынкин дисциплинированный. Подумал еще и добавил: спокойный. …Автобус был новенький, со сквозной стеклянной крышей. Утреннее незамутненное небо текло над головой — если смотреть только вверх, сквозь стеклянную крышу, кажется, что не в автобусе находишься, а в кабине самолета.
Город кончился, и автобус побежал ровным зеленым полем, таким ровным, зеленым и огромным, что на нем можно было бы разместить добрую сотню футбольных площадок. Автобус резво и долго катился по этому полю, потом с разбега нырнул в ложок и, отфыркиваясь, вынырнул на другом его берегу… Промелькнул березовый лесок. А тут и аэропорт показался. Издали он был похож на большущий корабль — над крышей продолговатого здания возвышалась деревянная надстройка и мачты антенн.
Автобус остановился. Женька вышел и подождал отца. Гулкие металлические ступеньки вели наверх, в надстройку, где располагалась диспетчерская. Женька поднялся следом за отцом. Отец открыл окно, снял китель и повесил на ручку сейфа. Включил вентилятор. Прохладнее от этого не стало. Тополевый пух залетал в рубку, кружился, оседал на приборы. Пух набивался в каждую щель, нетающими сугробами лежал вдоль дорожек, в траве.
Когда самолеты взлетали, пух долго и суматошно вихрился над аэродромом. — Надо бы других деревьев побольше сажать, — сказал отец. — Этот пух… Дышать нечем.
— Тополь красивое дерево, — возразил Женька. — И растет хорошо.
— То-то и оно, что ухаживать за ним не надо. Садись, чего стоять.
Полетите еще не скоро, часа через полтора. Скажут потом.
Женька сел в винтовое кресло. Достал книгу, чтобы не мешать отцу, раскрыл и прочитал первые строчки: «Человек выделился из животного мира приблизительно миллион лет назад…» Совсем недавно! Женьку глубоко занимал этот вопрос. Он много читал. Докапывался. И думал: а в какой степени и в чем человек остался на уровне или почти что на уровне своих далеких предков?.. Удивительно! Значит, эволюция продолжается? Школьный историк Виссарион Иванович, грубоватый и прямой человек, любил повторять:
«Ах, как много еще в нас от животных!..» Он это с особым смаком говорил, когда кто-либо из учеников допускал непростительную глупость. Женька не любил историка за то, что он, близорукий и ехидный, умудрялся узреть в человеке «что-то от животного…» Это вызывало протест. Женька горячился. Спорил. Доказывал. «Но как же тогда, Виссарион Иванович, такие слова понимать: в человеке все должно быть прекрасным?» Историк снимал очки, протирал носовым платком, близоруко щурился и твердо, чуть даже насмешливо опровергал: «Должно. Понимаете: дол-ж-но!.. А это еще не означает, что все уже прекрасно. Отнюдь! Передовые люди всегда стремились к этому, боролись…» Женьке тоже — хотелось быть передовым и бороться. И он вдруг делал для себя открытие, что его неприязнь к историку — необоснованна и, более того, безжалостна. А поэтому он должен во имя чего-то большого побороть в себе это чувство… Он боролся добросовестно и упорно, но полюбить историка никак не мог. «Как же так?» — сокрушался и страдал Женька. Он много читал и слышал о доброте великих людей. В биографиях об этом так и пишут. «Он любил людей». Пушкин любил людей. Сталин любил.
И Гитлер тоже любил? Но каких людей? Не может же быть, чтобы Пушкин любил всех людей без разбора. Иначе бы он не стрелялся на дуэли…
Женька закрыл книгу, прищемив между страницами палец, и посмотрел на отца.
— Томишься? — спросил отец. Лицо у него было сосредоточенное, с печальной и строгой складкой, у рта. Вот уже несколько месяцев отец работал диспетчером в аэропорту. А был он до этого летчиком, и летать бы ему еще долго, долго. …Жили они тогда в небольшом городке. Странный и удивительный это был городок, низкий, деревянный, с похилившимися заборами, вдоль которых буйствовала «дурная» крапива… Оказывается, есть еще и другая крапива, мелконькая, с резными листочками, но злости и «дурости» в ней ничуть не меньше… По улицам города разгуливали нахальные длиннорогие козы. Их было множество. Машины уступали им дорогу. Козы ходили с деревянными «хомутами» на шее — это чтобы не лезли куда не следует. Но козы проникали всюду, прыгали через заборы, врывались в чужие дворы и даже в зрительный зал единственного в городе кинотеатра. Мальчишки враждовали с этим рогатым племенем и, естественно, с их крикливыми хозяйками. Но это, так сказать, одна часть города. Вторая его половина — большие кирпичные дома, отсутствие заборов и крапивы, стадион, а главное, в двух-трех километрах от этого района широко и вольно раскинулась степь. Туда уходили мальчишки и пропадали целыми днями, чувствуя себя с птицами наравне… Говорят, что без этого чувства мальчишки плохо растут. Может, это и так. Вполне возможно.
А воздух над степью то и дело взрывался сокрушительным низким гулом, и сигарообразные машины устремлялись ввысь.
Они вычерчивали в небе точные геометрические фигуры, размашисто «писали», и, наверное, каждый летчик имел свой почерк… По крайней мере, Женька был уверен в этом. И он узнавал по «почерку» отца и говорил мальчишкам: «Это отец». Отец был хорошим летчиком. Отличным. Классным. Но Женька говорил друзьям:
«Отец, будь здоров, как летает… Экстра-класс!» И это не было хвастовством, потому что об этом и другие говорили. Мальчишки чуточку завидовали Женьке и считали его будущее ясным, как безоблачное небо, — авиация. Женька пожимал плечами: почему авиация?
Впрочем, он и сам не знал…
Тот день, когда это случилось, Женька помнит отчетливо. Было жарко. Цветы в палисадниках и листья на деревьях сварились, будто их кипятком облили. Пыль на дороге накалилась, нельзя было на нее ступить. Женька вернулся домой, лег на диван. Он в том году закончил восьмой класс и чувствовал себя уже взрослым. Наверное, и отец считал его взрослым. Как-то он спросил: «Что ты думаешь делать дальше? После школы. Пора, брат, думать. Как ты относишься к авиации?» — «Положительно», — сказал Женька. — «То есть?
Конкретнее». Об этом отец никогда не спрашивал, теперь, видно, время настало, и он хотел знать, что думает об этом сын и чему он собирается посвятить свою жизнь. «Понятно, — сказал Женька. — Но я тебя должен разочаровать: летчиком я не стану». Отец засмеялся.
Видно, Женькины слова не разочаровали его. «А почему ты решил, что я именно этого хотел от тебя?» — спросил он. Женька лежал на диване и вспоминал этот разговор. Зазвонил телефон. Сначала он не хотел вставать. Но телефон звонил настойчиво, Женька встал, снял трубку и услышал голос матери:
— Женя…
Голос ее дрожал и прерывался.
— Женя, — сказала мать, — ты приезжай поскорее ко мне. Нужно.
Очень нужно. Поскорее приезжай… Сейчас же!..
— Хорошо, — сказал он озадаченно. — Но что случилось?
— Приезжай… — настойчиво повторила мать.
— Хорошо. Но…
Мать положила трубку. Что-то тревожное было и в ее голосе, и в недосказанности. Что-то ее удерживало, и она не могла сказать по телефону то главное, ради чего просила его немедленно приехать.
Женька мог представить все, что угодно, пока бежал до поликлиники, где работала мать. Все, что угодно, но не это… Этого он не мог представить! Он открыл дверь и молча посмотрел на мать. Она встала, держась за кромку стола обеими руками, будто боялась упасть.
Женька видел, как побелели ее пальцы, которыми она сжимала кромку стола. Потом он увидел, что мать не одна в кабинете, кроме нее тут было еще трое или четверо, нет, кажется, трое. Он стоял и молча смотрел на мать.
— Женя… Проходи, — сказала она каким-то ужасно изменившимся голосом. — Сядь.
Он не прошел. И не сел.
— Женя… Наш папа…
— Мама! — крикнул он. — Что случилось? Ну, говори же, говори!
— Успокойся. Ничего страшного, — это не мать, а кто-то другой сказал.
— Ничего страшного. Отец лежит в больнице. Все обошлось благополучно. То есть, конечно, не совсем благополучно. Авария…
С этой минуты Женькина жизнь как бы раскололась на две части — одна из них осталась позади, в прошлом, и это прошлое было таким близким и ощутимым, что если бы время пошло назад, через минуту Женька уже оказался бы в этом прошлом. Но время шло только вперед, и с этим надо было считаться. …Еще он помнил ослепительную белизну палаты, в которой лежал отец. Он увидел отца сразу же, как только открыл дверь. Он остановился в нерешительности, не сводя глаз с отца и не замечая, как сползает с плеч халат. И только одна мысль, острая и пронзительная, билась в голове: «Жив!.. Жив! Жив!..»
Отец лежал на спине. Глаза его были открыты. Голова забинтована.
— Подойди, Евгений, — тихо сказал отец. Он был жив, он говорил.
И время шло вперед. И не надо, чтобы оно возвращалось. Отец был весь с ног до головы забинтован и загипсован. Казалось, не осталось живого места на нем. Только глаза у него были живые, невредимые, прежние. Женька подошел к отцу, и отец улыбнулся. Улыбка получилась виноватой, какой-то болезненной.
— Как же так? Папа…
— Так вот… — сказал отец. — Ничего, Евгений, ничего. Я не мог иначе… А машина отличная. Пустяк подвел. Точно тебе говорю: пустяк.
Я сам виноват.
Женька не понял, в чем заключалась вина отца. Утром он купил целую пачку газет: там рассказывали со всеми подробностями об этом случае и даже портрет отца напечатали. Он показал газету отцу. Отец поморщился: «Я уже видел. Ни к чему это. Представляешь, каков бы я был, если бы оставил машину над городом! Ну да, врезалась бы она в улицу и натворила дел… А?»
Но тогда бы отец не лежал здесь. Ведь у него было время оставить машину… Было! …Отец долго лежал в больнице. Потом, когда выписался, почти каждый день, опираясь на костыли, уходил в сторону аэродрома…
Оставаться в этом городе было невыносимо. И вскоре они уехали.
Отец поправился. Некоторое время он работал механиком на номерном заводе. Работа интересная, спокойная, но отец заскучал, заскучал и вскоре уволился, сказав, что уходит в аэропорт. Диспетчером.
Это все же ближе к самолетам, к авиации и к самой возможности снова летать. Отец верил в это. Женька тоже верил: полетит еще отец!
А мать и слушать об этом не хотела: хватит с него, налетался. …Женька сидит сейчас напротив отца, поглядывает на него сбоку потом переводит взгляд на залитые солнцем стекла — сквозь них хорошо видна взлетная полоса и видно, как кружится над взлетной полосой и медленно оседает белый тополевый пух. Женька молчит и думает о том, что жизнь в общем-то разделена на две части — прошлое и будущее. А настоящее? Настоящее — это миг, мгновение. Это итог прошлого и залог будущего.
Рубка имела круговое обозрение: если смотреть прямо, видно, как взлетают и идут на посадку самолеты, а слева — город: частокол заводских труб, телевышка, элеватор, как небоскреб, вознесшийся над городом… Отличные ориентиры! Справа метеоплощадка, авиамастерские, из серых полукруглых «боксов» торчат каркасы разобранных самолетов. Чуть поодаль строго по ранжиру, как на параде, выстроились маленькие приземистые «яки».
— Наверное, это самая маленькая машина, да, пап? — спросил Женька. — Наверное, меньше и нет, да?
— Самая слабенькая машина, — уточнил отец. — Полтысячи километров без заправки не пройдет… Непрактичная машина.
— Ну да? — удивился Женька. — А зачем же их выпускают?
Отец не успел ответить, в рубку ворвался отчетливый голос:
— Семьсот первый просит взлет.
Отец как-то весь подтянулся, преобразился, словно это ему предстояло сейчас вести «семьсот первый» и совершить на нем сложнейший полет.
— Семьсот первый, — спокойно и даже весело ответил отец, — взлет разрешаю!
Видно было, как по зеленому полю разбежался самолет, поблескивая крыльями, оторвался от земли, косо прошел над аэродромом и вдруг, круто забрав вверх, ушел из поля зрения. Испарился. Только на экране пеленгатора подрагивал голубой лучик, показывая направление «семьсот первого». Да на схеме «штормового кольца» одна за другой вспыхнули три красные лампочки. Предупреждение: где-то нелетная погода. Вчера схема бездействовала, погода во всех районах была ясная.
— Досидимся мы тут, — вздохнул Женька нетерпеливо и встал. — Пойду.
Как будто от него что-то зависело. Отец взял Женькину руку и потискал в своей ладони, как бы говоря: не волнуйся, все будет хорошо, отлично. Но сам волновался не меньше.
— Напиши, как начнешь работать, — сказал отец.
— Ладно.
— Ну… счастливо. Старайся.
— Ладно. Постараюсь. Напишу.
Женька сбежал по металлическим ступенькам. Солнце стояло еще невысоко, и длинная тень от большого тополя протянулась к взлетной полосе. Рейсовый автобус шел по ней, как по дороге. Второй автобус стоял под тополем, будто на старте, и какой-то возбужденный, встрепанный парень в шляпе, съехавшей набок, отчаянно пытался в чем-то убедить дежурную, решительно и неприступно загородившую проход. Судя по всему, положение парня было незавидным, но он не терял надежды.
— Позвольте, как же так?.. — и не было в его голосе ни возмущения, ни обиды, а только удивление и просьба. — Как же так? — удивлялся он. — Мне же лететь… Обязательно! Понимаете?
— Улетите следующим рейсом, — сказала дежурная. — Вот протрезвитесь и улетите.
Подошел пилот, в тщательно отутюженном форменном костюме, с красивым желтым портфелем в руке.
— Ну, чего шумишь? — спросил он.
— Разве я шумлю? — сказал парень. — Я законно… с билетом. Вот, пожалуйста.
— Сказано нельзя — стало быть, нельзя.
— Но…
— Никаких «но».
— Но послушайте…
— И слушать не хочу. Пьяных не возим.
— Парень захохотал, откинув голову, шляпа у него ползла, ползла с головы и упала.
— Послушайте, — сказал он, все еще смеясь, — я же не пьяный. Я счастливый.
— Не валяйте дурака, — строго сказал пилот.
— Да я вам точно говорю: счастливый!
— Не валяйте дурака, — повторил пилот, сердито тряхнув портфелем. Ho парень не унимался:
— Не верите? Смотрите: вот телеграмма.
— Ну и что, что телеграмма?.. — поморщился пилот.
— Представляете, два сына родились!.. Двойня! Богатыри! А жена у меня год назад институт закончила. То есть, мы вместе закончили… Вот телеграмма: тут даже вес указан. Богатыри!
И он протянул синий отштемпелеванный листок пилоту, и тот долго и внимательно, как какой-нибудь важный документ, читал, беззвучно шевеля губами. Дежурная подняла шляпу, стряхнула с нее пыль и протянула парню.
— Возьми. Голову потеряешь от своего счастья…
— Ну и что? — сказал летчик, возвращая телеграмму. — Поздравляю, конечно. Но пьяных все равно не положено возить… И что за глупость, — сказал он возмущенно и презрительно, — что за глупость…
Пить от горя, от радости, по любому поводу пить… Глупость!
— Глупость, — охотно согласился парень. — Но я самую малость, с друзьями…
Пилот махнул рукой, не дослушав до конца и как бы всем своим видом говоря, что поступает он так исключительно из личных соображений, а в следующий раз, будьте уверены, этого не повторится. Парень благодарно улыбнулся, быстро прошмыгнул мимо утратившей власть дежурной, и автобус тронулся, побежал по теневой дорожке. Женька облегченно вздохнул, довольный, что именно так, а не иначе все это завершилось. Женьке стало весело. Бывает же так: какой-нибудь пустяк, одно слово, жест, неосторожное решение могут убить в человеке радость, а бывает, что вроде бы и незначительный случай, а вызовет в душе столько прекрасных чувств и так после этого захочется быть щедрым, отзывчивым, добрым, сильным и непременно совершать благородные поступки…
2
Женька залез в кабину вертолета, сел на откидную скамейку и посмотрел в иллюминатор. Далеко виднелась дорога, и по ней игрушечно маленькие двигались машины. Поближе зеленой кляксой расползался березовый колок, а еще ближе над продолговатой шиферной крышей, как над палубой корабля, возвышалась деревянная надстройка с круговым обозрением. «Прошу взлет…» — сказал Женька, вернее, не сказал, а подумал. И сразу же отозвался отец:
— Взлет разрешаю.
Женька сильно заволновался. Может быть, потому, что представил себе отца не в деревянной надстройке, возвышающейся над шиферной крышей старого аэровокзала, а в кабине самолета.
— Прошу взлет.
— Взлет разрешаю!
До свидания, отец, я верю, что ты еще полетишь. Как прежде. И даже лучше прежнего. Полетишь! И я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Хотя, наверное, зависит от меня немногое. Да и зависит ли от меня вообще что-либо? «Конечно, зависит, — показалось, услышал он голос отца, — очень даже зависит. То есть, не в прямом смысле зависит, а все же зависит. И я хочу, сын, чтобы у нас с тобой всё было хорошо, потому что, когда хорошо тебе, мне тоже хорошо… словом, контакт! Договорились?» Женька кивнул головой, словно отец был здесь, рядом, и снова посмотрел в иллюминатор. И увидел аэродром, уплывающий назад. Деревянный корабль вместе со своими надстройками и мачтами быстро уменьшался в размерах. Потом все это как-то враз заслонилось, потерялось из виду, и Женька почувствовал себя между небом и землей. Все окружающее утратило для него реальную основу и воспринималось абстрактно. Наверное, космонавты, оторвавшись от земли, тоже теряют чувство реальности. Со временем это проходит. И у Женьки прошло.
Он смотрел вниз. Внизу лежали пунктирно размеченные улицы — центральный проспект, стадион, вокзал, клуб речников… Он поискал глазами свой дом, нашел и, вздохнув, отвернулся. Сверху город казался незнакомым, чужим. «Все», — сказал себе Женька и не понял, что значит «все». Это слово стучало в висок, пульсировало, оно жило отдельно, само по себе: все, все!.. Для Женьки многое было неясным, даже вот эта поездка куда-то к чертям в горы, где геофизики делают свое дело, вертолетчики — свое. А Женька не имел за душой любимого, настоящего дела, и это как бы лишало его многих прав. Кроме того, он вовсе и не собирался стать летчиком-вертолетчиком, как Скрыякин, или геофизиком, как знакомый отца, от которого несколько дней назад пришло письмо и в отряд к которому Женька сейчас летел. Шраин его фамилия. Шрайн писал, что, если «малыш» имеет желание, пусть приезжает на лето… «Малыш» особого желания не имел, но отказать себе в удовольствии побродить по горам не захотел и летел с таким чувством, словно делал кому-то великое одолжение. Там, в горах, его ждут — не дождутся. Без Женьки там все дела, наверное, затормозились, стоят — не двигаются. «Ну, что ж, поработай, — сказал отец, когда письмо Шраииа было прочитано и обсуждено на семейном совете. — Полезно». А мать погрустнела: «Ну, вот и ты улетаешь…»
— Эй! — свесившись из пилотской кабины, кричит бортмеханик Миха, и зубы у него, редкие и крупные, просвечивают, как старый щелястый забор. — Эй, как ты там себя чувствуешь?
— Ничего чувствую…
— Не тошнит?
— Да ну-у!.. — мотает головой Женька.
— Ну, порядок тогда.
Горы скоро начнутся. Смотри. Горы — это впервые в Женькиной жизни. И много такого еще будет, о чем он скажет: впервые. Вообще, наверное, вся жизнь человеческая состоит из этих «впервые», а иначе жизнь потеряла бы интерес.
Женька вспомнил один школьный диспут.
Они долго и тщательно готовились к этому диспуту, читали соответствующую литературу, подыскивали примеры — один из литературы, другой из жизни… С литературой оказалось проще, литературных примеров хоть отбавляй, а вот из «жизни» никаких примеров вспомнить не удавалось… Программа диспута была разработана заранее, были назначены основные выступающие, задача которых заключалась в одном — задать тон — и они «задали тон», и все потом остались довольны — диспут прошел на славу. Потом даже в газете была заметка о диспуте, и Женькина фамилия упоминалась, была выделена черным шрифтом… Отец прочитал, усмехнулся, очень странно усмехнулся, и так же странно, почему-то с грустью посмотрел на Женьку.
— Да-а! — сказал он, не отводя своего насмешливо- грустного взгляда, и Женьке отчего-то стало неловко и он покраснел. — Инсценировали заранее, что ли? — спросил отец.
Женька дернул плечом и резко ответил: «Нет». Но прошло какое-то время, и Женька понял, что ни черта полезного он не извлек для себя из этого разговора на диспуте, потому что все, о чем они говорили и спорили до хрипоты, было давно известно и бесспорно.
И что они смогли сказать о себе, о своем понимании счастья, если пo-настоящему еще и не успели пережить, обрести или потерять что-то? Ну, что они могли сказать?
В сущности, им нечего было сказать, нечем было поделиться друг с другом.
— А ты как думаешь? — спросил тогда Женька отца. Отец перестал улыбаться, задумался. А через минуту заговорил:
— Мать! Послушай, мать, ты когда больше всего бываешь счастливой?..
Мать была на кухне, убирала со стола, мыла посуду. Она отозвалась не сразу.
— Слышишь, мать?
— Слышу.
— Ну?
Мать гремела посудой, что-то передвигала и уронила тарелку, та с грохотом ударилась об пол, — только осколки…
— К счастью! — засмеялся отец. — Что же ты молчишь?
— Осколки собираю.
— Когда ты бываешь счастливой?
— Будешь тут с вами…
— Нет, когда все же ты бываешь счастливой? — настаивал отец.
— Когда ты не летаешь, когда я уверена, что…
— Достаточно. Благодарим. Вот видишь, Евгений, — сказал отец, — а я бываю счастливым только там… Это называется: разложили по полочкам. А главного не сказали. Как считаешь, мать, не сказали главного?
— Нет, — согласилась мать. — Так просто не скажешь! Сложно все это, очень сложно. Иной раз кажется — вот оно счастье, здесь, а оно в другом… Проходит время, а ты счастлив, что именно так, а не иначе жил.
— И многие ошибки себе прощаешь, — добавил отец, — потому что через эти самые ошибки приходишь к истине.
— Умные вы у меня, — сказал Женька.
— Опытные, — уточнил отец.
Но Женька решительно возразил:
— Нет, умные. Опыт не может добавить ума…
— Но умудряет людей, — сказал отец.
Женьке вдруг пришло в голову, что было бы здорово пригласить на диспут отца или еще кого-нибудь из «умудренных» жизнью, опытных людей, и пусть бы они задавали тон, говорили о своем понимании одной из древнейших и никогда не увядающих человеческих тайн — что такое счастье? в чем оно заключается? и как понять, где настоящее счастье, а где «подделка» под него?
Женька подумал сейчас о парне, у которого родились два сына, вспомнил его лицо, ошалевшее и возбужденное… Улетел парень к своему счастью. Оно у него живое, конкретное, осязаемое. А куда Женька летит? Может быть, это одна из первых его ошибок на пути к истине? Женька улыбнулся: эх, вы, родители-прародители, собрали сына в дорогу — мешок, сменное белье в мешке, носки, свитер, щетка, мыло. Все есть. А все ли? Разве этого достаточно человеку, отправившемуся в дальнюю дорогу?
Временами ему казалось, что он хорошо понимает отца, мать, даже этого парня, у которого родились два сына, понимает. Не понимает себя. Наверное, это нелегко — разобраться в самом себе, чтобы потом все было ясно и чтобы знал, чего ты стоишь, чего ты хочешь от людей и что можешь дать людям. Эти мысли вертелись в голове, вернее сказать, не мысли, а только обрывки мыслей, еще не сложившихся как следует и не получивших строгую и четкую определенность.
— Миха! Миха! — позвал Женька. Он не очень-то уютно чувствовал себя, хотелось поговорить с кем-нибудь, хоть одним словом перекинуться. — Миха! — Но Миха не реагировал. Мотор гудел вовсю.
Ноги бортмеханика свешивались вдоль металлической лестницы как маятники, раскачивались. А голова торчала где-то в пилотской кабине, на уровне плеч Скрынкина, виднелся затылок «под канадку» и два розовых оттопыренных уха, будто Миха все время был настороже и к чему-то прислушивался. Иногда затылок вздрагивал, начинал двигаться и медленно уходил куда-то влево, и тогда Женька видел плечи и спину Скрынкина.
Вертолет шел над горами. Слоеные облака неподвижно белели над вершинами. Женька заметил, что одна вершина остроконечно вырастала прямо из облаков, и догадался: облака зацепились и потому неподвижны. Но он не очень был в этом уверен и еще раз окликнул бортмеханика:
— Миха, Миха.
— А? — свесился из кабины Миха, и Женьке показалось, что уши у него еще больше покраснели и оттопырились. — Что случилось? — Почему облака не двигаются? — спросил Женька.
Миха спустился вниз, выглянул в иллюминатор и улыбнулся.
— Какие же это облака, чудак-голова!.. Снег это, не облака. Не видишь разве?
3
Думалось, будут лететь долго, целый день, а летели всего около двух часов. Это по времени. По ощущениям и того меньше. Казалось — только взлетели и тут же пошли на посадку. Земля косо и крупно пошла навстречу. Мелькнул беленький поселок, речка, какой-то каменный карьер, обрывок дороги и снова тот же беленький, аккуратный поселок… Словно кто-то держал землю в руках, как яблочко, и поворачивал ее то одним, то другим боком. Земля кренилась, раскачивалась и стремительно наплывала. Женька весь напрягся и ждал толчка. Но Скрынкин посадил машину аккуратно.
Как только колеса ткнулись в траву, он оторвал вертолет на полметра, покачал его, будто уравновешивая, и уже мягко приземлил. Миха открыл дверку и первым спрыгнул на землю. Солнце ударило в кабину. Оно было необыкновенное, здешнее солнце, и Женька сразу не понял, отчего оно кажется таким. Он спустился следом за Михой, бросил к ногам вещмешок, ноги непрочно его держали, и Женька прошелся немного, чтобы размяться. Огляделся, пытаясь сориентироваться. Только по солнцу можно было сориентироваться на этой земле, и то вряд ли: солнце могло быть сейчас южнее и западнее.
Оно было несколько увеличено в размерах, здешнее солнце, и лежало над горой, касаясь белеющего хребта, отчего нижняя его часть казалась срезанной. Оно было не красное, не багровое и, тем более, не какое-нибудь там светло-оранжевое, здешнее солнце. Оно полыхало настоящим, живым пламенем, только, пожалуй, в тысячу раз сильнее и ярче обычного огня. На него невозможно было прямо смотреть, такое оно было ослепительно яркое. И снег, на котором лежало солнце, тоже был ослепительный, белый, без каких-либо цветовых примесей и оттенков. Как будто два этих цвета, столкнувшись, боролись и ни один из них не хотел уступать права оставаться самим собой, и оба в равной степени господствовали высоко над землей…
— Приветствую вас и поздравляю! — еще не дойдя до вертолета, издалека крикнул спешивший сюда мужчина. Он подошел и первому пожал руку Скрынкину. И все улыбался, радуясь или делая вид, что чрезвычайно рад этой встрече. Потом он глянул на Женьку, помедлил немного и пошел на него, не переставая улыбаться, словно считал острой необходимостью всех подряд одаривать улыбками.
Он шел и улыбался. И ждать, когда он перестанет улыбаться и чтонибудь скажет, становилось бессмысленно, поэтому, опережая его, Женька сказал:
— Здравствуйте. Вам от отца привет…
— Спасибо, — мужчина подхватил Жёнькину ладонь где-то в воздухе, тряхнул и бросил. — Ну, брат, и вымахал ты! — восхищенно сказал он, глядя на Женьку снизу вверх.
Сам он был маленький, кругленький — полное круглое лицо, большие и тоже круглые глаза, с круглыми желтоватыми зрачками, круглый подбородок, круглая улыбка и даже слова, которые он произносил, выходили какими-то сглаженными и круглыми.
— Я тебя помню вот таким… — и он показал, каким он помнил Женьку, опустив руку к самой земле. — А теперь ты вот какой!.. — и он поднял руку, едва дотянувшись до Женькиного плеча. — Молодец, что приехал. Мы тебя ждали. Тут у нас настоящая запарка: вертолета не было, рабочего не было, а план был. План у нас всегда есть. Нет, это славно, что вы приехали!..
И пока он все это выкладывал, Женька все больше и больше удивлялся тому, что на него здесь и впрямь возлагаются какие-то надежды. А он ничего не знал и ничего не умел. Надо было сказать об этом Шраину сразу, предупредить, чтобы потом не было никаких недоразумений. Но Шраин уже отошел к Скрынкину, не совсем отошел, а ровно настолько, чтобы чувствовать себя рядом одновременно и с тем, и с другим, и с третьим.
— Хорошо долетели?
— Отлично! — сказал Миха. — Как у вас рыбные дела? Хариусов ловите?..
— Случается.
Подошел еще какой-то мужчина, поздоровался.
Шраин представил его:
— Федор Егорович Крохмалев. Шофер. Абориген. Он тут каждый камень знает…
— Почитай, всю жизнь, с небольшими перерывами, прожил в этих местах, — сказал абориген. Женьке любопытно было, что это за «перерывы» случались в жизни аборигена, но повода спросить об этом не было, а разговор уже катился по какому-то новому руслу — говорили о геологах, поселок которых находился неподалеку, о том, что в последние два-три года снегу в горах заметно прибавилось. Лет двадцать назад, по словам аборигена, снега тут почти что и не было…
— Холоднее стало? — спросил Женька.
— Там холодно, — указал абориген на горы, — а тут, у нас, если хочешь, яблочки могут расти.
Он говорил обо всем этом и как бы между делом доставал то из Михиной пачки, то из портсигара Скрынкина сигареты и торопливо одну за другой выкуривал.
Пришли два техника, молодые, и до того похожие друг на друга, что Женька растерялся — отличить их было невозможно. Техники оказались братьями-близнецами. И Женька, глядя на них, сразу вспомнил парня, у которого родились два сына… Богатыри! Техники были очень серьезны, сдержанны, разговаривали по очереди и не перебивали друг друга.
— Ну, что, — сказал Скрынкин, — пойдемте отдыхать?
И летчики отправились в поселок, где приготовили для них комнату. А Женька пошел следом за Шраиным. Они опустились по тропинке к ручью, и Женька, навалившись грудью на камень, напился. Вода захлестывала и обжигала ему лицо. Вода была холоднющая, наверное, потому, что ручей рождался где-то высоко в снежных горах, и зеленоватая оттого, видно, что ручей прежде, чем сойти в долину, пробивался сквозь тайгу… Вода с грохотом катилась по булыжному дну… С одного берега на другой была перекинута гибкая плаха. Они пошли по ней. Вода грохотала под ногами и неслась дальше, сшибаясь на поворотах.
— Тут мы и живем, — сказал Шраин. — Колумбы двадцатого века… — последнее он явно рассчитывал на Женькино тщеславие.
На площадке, окруженной деревьями, играли в волейбол. Кто-то кричал: «Беру! Гоп!..» И мяч от его рук уходил в аут. И тогда раздавался насмешливый женский голос: «Не говори «гоп», пока не возьмешь…» Сетка была привязана к соснам, а площадка размечена канавками и не очень-то, наверное, соответствовала стандарту, но никого это, как видно, не смущало. Сражались две неравные команды: с одной стороны двое мужчин и женщина, с другой — женщина и трое мужчин. Один из них, подавая мяч, сопровождал его диким возгласом: «Ложись!» А другой, на противоположной площадке, растопырив руки, орал: «Беру! Гоп!..» И тут же спокойный, насмешливый голос: «Не говори «гоп»…»
Слева от волейбольной площадки выстроились в одну шеренгу четыре палатки — большая, средняя, поменьше и совсем крохотная, двухспальная. Справа, поближе к ручью, стоял продолговатый, грубо и прочно сколоченный стол, окруженный такими же прочными, наспех оструганными скамейками, ножки которых, как и ножки стола, были вбиты в землю. Рядом настоящая кирпичная печь, с плитой и двумя отверстиями в плите — полный комфорт.
— Эй, чемпионы! — позвал Шраин. Семь человек, как по команде, прекратили игру, остановились, посмотрели и молча двинулись в ту сторону, где стояли Шраин и Женька.
— Пополнение, друзья мои, — сказал Шраин. — Прошу любить…
— И не жаловаться? — сострил тот самый мужчина, который кричал «Ложись!»
— Как зовут?
— Евгений, — сказал Женька.
— Очень приятно. В волейбол умеешь играть?
— Немного умею, — ответил Женька. У него был второй разряд.
Скромность украшает человека.
— Научим, — пообещал мужчина. — Сделаем из тебя стройного юношу…
— Это наш геофизик, — сказал Шраин. — Олег Васильевич.
— Старший геофизик, — добавила девушка, стоявшая за спиной Олега Васильевича. С этими словами она вышла из-за его спины, как бы открываясь, и Женька ужаснулся — такой она оказалась красивой!
— А это наш топограф, — сказал Шраин и предусмотрительно уточнил: — Старший топограф Татьяна Самойлова.
— Видел фильм «Летят журавли»? — спросил Олег Васильевич. — Так вот, наша Таня никакого отношения к этому фильму не имеет…
Женьке вдруг стало все, о чем тут сейчас говорили, безразличным. Голоса как бы отдалились от него, слова потеряли смысл. Он перестал слышать, а видел перед собой только Таню, только Таню Самойлову. Таня тоже смотрела на него. Долго и упорно. И он, внутренне сопротивляясь, никак не мог отделаться, уйти от этого ее упорного взгляда. Собственно, не только она смотрела на Женьку, другие тоже смотрели, но так, как Таня, никто не смотрел. Потом она резко повернулась и пошла вдоль палаток, неслышно и цепко ступая по траве. И Женька все думал о ней, только о ней, вспоминал ее лицо и тонкую, неровную линию рта. Странно: больше всего он запомнил именно эту линию.
4
Поселили Женьку в большой палатке, где жило начальство.
Раскладушка, спальный мешок… Женька залез в мешок, застегнул изнутри «молнию» почти до самого подбородка. Было тесно и неуютно.
— Это тебе не человек в футляре, — сказал геофизик Олег Васильевич, — а человек в мешке. Разница! Заметь: человек «в футляре» со всеми своими мещанскими замашками живет где-нибудь на собственной дачке, спит на перине… А человека в мешке где можно встретить? На севере! В горах! В тайге! Это тебе не фунт изюму… Так что лезь в мешок и чувствуй себя первооткрывателем.
— Я уже залез, — отозвался Женька, пытаясь повернуться в мешке с одного бока на другой.
Шраин сидел за раскладным столиком (здесь все было раскладное: койки, столы, табуретки) и что-то записывал в блокноте. Попишет, задумается, покурит немного, положит на кромку стола папиросу и снова пишет, пишет, Авторучка торопливо бегает по бумаге, слева направо, слева направо, поскрипывает, оставляя за собой ровные дорожки строк… Нет, борозды, одна к другой, одна к другой, как будто крохотный плуг бежит слева направо, распахивая белое поле. Чудно! А что он пишет? Когда-то давно Женька побывал в цирке и больше всего запомнился ему иллюзионист. Иллюзионист просил желающих взять карандаш, бумагу и что-нибудь написать. Зрители делали это охотно. А он, маленький и сухонький, как старый гриб, наморщив лоб, поднимал глаза кверху, будто где-то там, под куполом цирка, отражалось написанное, и, восхищая зрителей, уверенно и точно угадывал чужие мысли. Женька решил тогда обмануть иллюзиониста. Он водил карандашом по бумаге, делая вид, что пишет, а на самом деле ничего не писал. «Мальчик хитрит, — сказал иллюзионист, — ничего он не написал… Может, он писать не умеет? А может, ему нечего написать?..» Зрители неистово аплодировали, а поверженный и посрамленный Женька с восхищением смотрел на скромно раскланивающегося иллюзиониста, наверное, единственного мудреца на земле, умевшего так безошибочно распознавать и читать на расстоянии человеческие мысли. Его не проведешь, он все насквозь видит и знает. И он запросто мог бы сейчас сказать, о чем думает Шраин и что он там пишет в своем блокноте.
Шраин отложил ручку и, повернувшись к геофизику, сказал:
— А, по-моему, мещанин где угодно чувствует себя хорошо. Случается, что и в спальном мешке… Почему вы думаете, что мещанство непременно поселяется на даче? Ишь какая одиозная фигура этот дачник!..
— Простите, — иронически отозвался геофизик, — не собираетесь ли вы дачку приобретать? Вопрос: где? В Саянах? Или в Заполярье? А может, в районе вечной мерзлоты?..
— Дачу мне не надо приобретать, — сказал Шраин. — Дача у меня, представьте, есть. Вблизи от города, в смешанному лесу… Люблю, знаете, смешанный лес, — говорил он насмешливо, округляя рот, и слова у него выходили опять круглые, но едкие, почти что видимые, как кольца дыма, которые он выпускал изо рта. — А вы, Олег Васильевич, что любите?
— Спальный мешок…
— И все? Негусто!
Геофизик промолчал. Он стоял в проеме палатки, прямые плечи его и плоская спина четко рисовались на сером фоне истлевающего дня. Он повернул голову и через плечо заглядывал на Шраина. И видно было по его взгляду, что он слегка смущен и растерян.
— Конечно, не каждый обладатель дачи — мещанин. Далеко не каждый, — сказал он после минутного замешательства. — Но чтобы мещанин поехал куда-нибудь на север, в тайгу, в район вечной мерзлоты, этому я никогда не поверю. Ни за что! И тут вы меня не убедите.
Шраин засмеялся.
— Да я вас и не собираюсь убеждать. Сами убедитесь. Только и мещанство, по-моему, не стоит на месте, а со временем прогрессирует, вернее сказать, приспосабливается к прогрессу, видоизменяется.
Иной раз простым глазом и не разглядишь… Может даже запросто и в компьютерах разбираться…
Голос Шраина становился глуше, как бы постепенно отдалялся и монотонно журчал. Под это журчание Женька незаметно уснул.
А когда проснулся, услышал тот же голос. И Шраин по-прежнему сидел за столиком, сигарета дымилась на кромке (видно, Женька спал совсем недолго), и геофизик стоял в проеме палатки в той же неловкой позе, глядя на Шраина через плечо. Но говорили они уже о чем-то другом, деловито и спокойно — о каких-то гранитных выходах, характерных для данного района, о радиусах съемок. Женька прислушивался к их разговору, стараясь понять.
— Надо хорошо прозондировать этот район… — говорил Олег Васильевич. — Помните, как в Горной Шории? Настояли и добились своего… И затраты оправдались, еще как оправдались!
— Горная Шория совсем другое, — возразил Шраин. — Там были основания настаивать и добиваться своего. А здесь смутные предположения…
— Разве это не основания?
— Слишком мизерные…
— Все равно… — …радиус не тот… — …нет…
Женька задремал и снова от какого-то внутреннего толчка очнулся. Открыл глаза. В палатке было тихо и темно. Все спали. Слева геофизик, справа начальник партии Шраин. В углу раскатисто, с присвистом храпел абориген. Женька ворочался, вздыхал, как бы стараясь освободиться от какой-то лишней тяжести, и мысли ворочались в его голове медленные и тяжелые: человек в футляре, человек в мешке… Он подумал, что между этими классическими человеками в «футляре» и «в мешке» великое множество людей обычных, ничем не выделяющихся, неприметных, которые живут просто, естественно и ни на что сверхъестественное не претендуют. Ему показалось — таких людей большинство. Женька отчаянной и лютой ненавистью ненавидел мещан, всяких крохоборов и приспособленцев и с такой же горячей страстью, но уже положительно противоположной относился к тем, кто по его мнению, являлся носителем добра.
Людей он делил на две категории: друзья и враги. Это было элементарно. И он считал, что задача человечества состоит в том, чтобы на земле как можно больше было друзей. Настоящих. А как это сделать? И почему, собственно, люди зачастую не понимают друг друга? Несовершенство человеческих отношений, несовпадение взглядов? Может быть. Он запутался и не мог разобраться во всей этой сумятице чувств и мыслей, нахлынувших на него. И не знал, как относиться к той части людей, которые, в отличие от него, не задумываются над жизнью, а просто живут, просто работают… Но откуда ему знать, что есть такие люди? Каждый человек — загадка, целый мир… Он совсем запутался. Голова разболелась. Измучившись он все же уснул, человек в мешке, тяжелым и неспокойным сном. И приснилось ему море. Почему море? Женька никогда и не мечтал о море, а вот поди ж ты, привиделось ему море. Не Черное, и не Красное, не Белое, а просто море, вообще море, огромное и гладкое, как зеркало. Женька наклонился над ним, опираясь на руки, и увидел глаза, но это были чужие, не его глаза. Они смеялись и смотрели на него в упор… И тогда он догадался, чьи это глаза, и повернулся спиной к морю. Он не хотел видеть эти глаза. Но море все равно оказалось перед ним, куда бы он ни поворачивался, а море было перед ним, и те же глаза упорно продолжали на него смотреть. Он не смог ни удивиться, ни возмутиться, потому что все это происходило во сне. И он это понял, во сне понял, что спит, и ему вдруг мучительно захотелось проснуться. Но прежде надо было как-то перехитрить море и… эти глаза. Удрать от них. И Женька побежал. Он долго бежал, до тех пор, пока не выросла перед ним высокая отвесная стена.
Он остановился и уперся рукой в эту стену, зная, что спит, а во сне можно и стену отодвинуть… Он уперся и толкнул рукой стену, и она легко подалась. Тогда он еще раз толкнул ее… И проснулся. Рука его упиралась в бок палатки. Снаружи дул ветер, и брезентовая стена зыбко и податливо двигалась, покачивалась и хлопала. Сквозь откинутый полог просачивался в палатку мутный рассвет.
Геофизик стоял посреди палатки, как привидение, в одних трусах и кроссовках на босу ногу, в руках он держал гантели.
— Проснулся? — сказал он сердито. — Можешь спать. Делать все равно нечего: погода нелетная.
Глава вторая
1
Это точно, что беды в одиночку не ходят — за одной следует другая. Утром появился в лагере Скрынкин в сопровождении Михи и второго пилота, красивого и стеснительного парня. Их ждали с нетерпением и встретили многозначительным: «Ну, как?»
— Без перемен, — сказал Скрынкин и опустился на корточки, около слабо тлеющего костра. Ворох сырых сучьев дымил и никак не разгорался. Шраин скомкал газету и, сунув под сучья, долго и яростно дул. В лицо ему летела зола. Он чертыхнулся и зажег спичку. Так-то вернее. Он был опытный таежник, Шраин, но иногда ему не хватало выдержки. И так во всем — в большом и малом. Когда-то он работал в научно-исследовательском институте, считался перспективным сотрудником, вообще счастливчиком, везучим человеком, умевшим так славно совмещать личное с общественным. Удачно женился. Удачную выбрал тему для диссертации.
И дома порядок — красивая, понимающая жена. Квартира в центре города. Дача. Машина. Но он не справился со всем этим, не хватило выдержки. Зимой машина стояла в гараже, под брезентом, не доставляя хлопот, а летом отнимала уйму свободного времени — каждый день он мыл, чистил ее, что-то подтягивал, подвинчивал, а она презрительно смотрела на него и фыркала, когда он пытался ее завести… И он не выдержал, плюнул и продал машину намного дешевле, чем она стоила. И, наконец, освободившись, облегченно вздохнул и взялся по-настоящему за диссертацию. Вскоре он мог бы стать кандидатом наук. И снова, в который раз, подвела его выдержка. Вдруг он потерял вкус к этой работе, тема показалась ему мелкой, хотя и не лишенной некоторой оригинальности. Но мало ли таких тем, которые дают право на присвоение ученой степени, а в практике — нуль, пустое место! Он бросил все и напросился в геофизическую партию и каждую весну теперь (с тех пор прошло уже около десяти лет) отправляется в тайгу, в горы. Он исходил за это время Саяны, Горную Шорию, Алтай, работал на Урале… А вкуса к бродячей жизни не утратил. Хотя и здесь ему подчас недостает выдержки, он это чувствует и старается быть настойчивым.
Костер разгорелся. Веселые ручейки огня потекли с ветки на ветку, потрескивая и постреливая искрами. Одна искра угодила ему в щеку, он поморщился.
— Черт подери! — сказал Шраин. — Что значит не везет… Все время была отличная погода, пока ждали вас. Дождались — и на тебе! Как вам это нравится? — спросил он, потирая щеку.
— Мне это совсем не нравится, — сказал Скрынкин. — Но что поделаешь?
— А ничего, — вмешался Олег Васильевич. — На земле спокойнее!..
Правда, Скрынкин? Ведь спокойнее?
В голосе геофизика прозвучала плохо скрытая ирония. Скрынкин усмехнулся и ничего не сказал. Женька вспомнил, как отзывался о нем отец: спокойный. И ему вдруг захотелось, чтобы он не молчал, а что-нибудь выдал такое… такое!.. Но Скрынкин промолчал, не счел нужным возражать геофизику, даже не посмотрел в его сторону.
— Послушайте, Скрынкин, я серьезно… — не унимался Олег Васильевич. — Дождя ведь нет. И облачность не такая уж низкая… Может, слетаем на ближнюю горушку? Здесь же рукой подать. От силы минут пятнадцать — пять туда, пять там и пять обратно. А?
— Нет, не слетать, — сказал Скрынкин. Шраин слушал, слушал и возмутился:
— Пустое говоришь. Нельзя, значит — нельзя!
— Ладно, я пешком туда доберусь, — пригрозил геофизик.
— Пешком, пожалуйста.
Но пешком Олег Васильевич, конечно, не пошел, а вертолет так и не поднялся в воздух, хотя не было в этот день дождя, и ветер был слабый, и облачность не такая уж низкая.
— Видали?! — возмущался Олег Васильевич. — День пропал даром!
Могли ведь слетать, я же не звал его в дальние районы. А здесь минутное дело. Ну, пусть бы объяснил своей метеослужбе, пусть бы хоть раз забыл о своей дурацкой инструкции…
— Вы это всерьез? — удивился Шраин. — Что за детский разговор…
Нельзя ему забывать о своей инструкции. Нельзя.
— Черт с ним! — буркнул Олег Васильевич. — Все это я хорошо понимаю: нельзя. Но я никогда не встречал таких осторожных летчиков.
Помните, Виталий Сергеевич, был у нас пилот. Горский? Вот это был пилот!..
— Помню, — сказал Шраин, — но я не помню, чтобы Горский нарушал инструкцию.
— Не в этом дело…
— А в чем?
— Не люблю слишком осторожных, слишком вежливых тоже не люблю, слишком добреньких… Во всех этих «слишком» — перестраховка. И больше ничего! А в каждом деле должен быть риск. Самостоятельность, наконец.
— Вы сами не знаете, чего хотите, — вздохнул Шраин.
— Знаю! Помните, как Горский летал?
Шрайн пожал плечами:
— Что вы прицепились к Горскому? Обыкновенно летал.
Женька не мог понять, за что геофизик невзлюбил Скрынкина.
2
Крохмалев собирался ехать за бензином, но случилось то, чего меньше всего ожидали. Когда он уже завел машину и подрулил к бочкам, чтобы погрузить их, пришли техники: «Бочки непригодны».
— Как это непригодны? Все время были пригодны.
— А сейчас, непригодные, — сказали техники. — Вы ведь знаете, что бензин гигроскопичен… Вот и заржавели бочки. Нельзя в них бензин возить.
— То есть как нельзя?..
— Нельзя — и точка.
Шраин начал было убеждать техников — возили же до этого! А техники заладили одно: нельзя, нельзя… И точка.
Крохмалев махнул рукой, уселся на крыло своей машины, стянул с головы потерявшую первоначальный цвет кепку и пригладил волосы. Наверное, хотел изобразить равнодушие, а может, ему и на самом деле была безразлично — есть бочки или нет. Пусть начальство думает, решает.
— Ну, так что мы будем делать? — поинтересовался он.
— Вот я и думаю, — сказал Шраин, поглядывая на техников, и в голосе его прозвучала надежда, мольба, но техники были неумолимы. И ко всем прочим заботам прибавилась еще одна забота, где достать бочки? — Вот и я думаю… — с какой-то даже растерянностью повторил Шраин. Однако придумать решительно ничего не мог. А Крохмалеву удалось-таки, наконец, изобразить на лице равнодушие, и он, слегка ухмыляясь и отворачивая лицо в сторону, чтобы эта ухмылка осталась незамеченной, думал: пусть начальство решает. На то оно и начальство — с высоким образованием и властью…
Командовать-то и дурак сумеет, а ты выход найди из создавшейся ситуации, решение придумай. Вот он, Крохмалев, человек простой, без всякого образования, и власть у него имеется только над собой.
Винтик, одним словом, вот его и закручивают кому не лень — потуже, потуже!.. Ничего, он крепкий, выдюжит. При этих мыслях губы у него шевелились, вздрагивали и складывались в хитрую, торжествующую ухмылку. Оттого и горечи никакой он не испытывал, хотя, конечно, и нельзя сказать, что все это случившееся доставляло ему удовольствие.
— Ну, так что будем делать?
Это уже не Крохмалев начальника спрашивал, а начальник обращался к нему. Абориген провел рукой по волосам, и широкая лопатистая ладонь его задержалась на затылке. Вдруг у него мелькнула мысль. Он встрепенулся весь от этой неожиданной и во всех отношениях выгодной для него мысли, но сдержался, не раскрыл ее сразу, а посидел некоторое время молча, стараясь продумать все до конца, как следует.
— Ехать в Бийск… — сказал он, как бы размышляя вслух, а на самом деле оттягивая время, чтобы хорошенько взвесить все «за» и «против». — Бесполезно, пожалуй, ехать в Бийск. Бочки так сразу все равно не достанешь…
Он еще помедлил, озабоченно покачивая головой и вздыхая и, наконец, со всей осторожностью опытного следопыта сделал первый шаг.
— А что, если… Мыслишка у меня завелась, — сказал он, глядя прямо в лицо Шраина. — Лесхоз тут один есть… Директора я хорошо знаю. Может, у них попросить? На время.
— Ну, конечно! — воскликнул Шраин, хватаясь за эту мысль, как утопающий за соломинку. — Где этот лесхоз, далеко?
— Километров семьдесят…
— Думаешь, у них бочки найдутся?
— Непременно.
— Ну, тебе и карты в руки!.. Езжай. Может, записку написать?
Официально чтобы…
— Не надо. Обойдусь. Лучше неофициально.
— Ну, хорошо. Езжай. Возьми вот с собой Евгения.
— Зачем? Не надо. Один управлюсь, — отмахнулся было Крохмалев.
Но Шраин вдруг проявил непонятное упрямство и настоял на своем.
— Возьми, возьми. Пусть прогуляется. Ему полезно.
3
До лесхоза езды оказалось не более часа, и Женька удивился, откуда тут семьдесят километров? Дома в поселке были, как на подбор, высокие, бревенчатые, с медово желтеющими двускатными крышами. Поселок был новый. Кое-где около оград лежали еще стружки, щепа, обломки кирпича, кучи ссохшейся глины — следы некой поспешности и необжитости. Около одного из таких домов, выходящих в улицу многоступенчатым крыльцом, Крохмалев остановил машину и пошел, как он сказал, разведать обстановку. Женька остался в кабине. Ждать пришлось долго. Видно, обстановка была сложная. Дверь поминутно хлопала, входили и выходили люди, а Крохмалева все не было. Женьке надоело бесцельное сидение, он выбрался из кабины и прошелся по улице туда и обратно. Над крышами домов струился легкий, расползающийся дым и к духмяному запаху тайги примешивался сытный дрожжевой запах деревенского хлеба.
Прошла девочка с коромыслом на плечах. Пустые ведра тихонько поскрипывали на металлических крючьях. А потом она шла обратно, чуть придерживая пальцами дужки отяжелевших ведер, и ведра плавно, в такт ее шагам, покачивались, расплескивая воду.
Крохмалева все не было. Видно, дела его не ахти как подвигались. «Вот работенка, — подумал Женька, — не бей лежачего…» Это он о себе подумал. И тут же успокоил себя: ничего, вот установится погода, тогда будет дел, хоть отбавляй.
Наконец, появился Крохмалев.
— Дело в шляпе! — сказал он весело.
— Дали бочки?
— А ты как думал! Кто ищет, тот завсегда найдет, — подмигнул.
Они поехали к складам, Крохмалев разыскал кладовщика и вручил ему записку. Мигом погрузили шесть металлических бочек, но возвращаться абориген, как видно, не спешил. Он походил вокруг машины, простукал каблуком колеса: «Резину бы поменять…» Подергал бортовые задвижки: «Подюжат». Все это он проделал обстоятельно, неторопливо и только после того, как убедился в полной исправности машины, как бы между прочим заметил, что есть одно попутное дело и надо его провернуть… Возможно, директор лесхоза попросил?
Они поехали в другой поселок. Дома там были поменьше, старые, с потемневшими крышами. Улица тянулась вдоль речки, в точности повторяя все ее изгибы. Сразу за селом с одной стороны виднелись горы, а с другой, где текла речка, сплошным массивом подступал лес. Оттого и казался поселок стиснутым, вытянувшимся в одну улицу на целый километр.
Они проехали почти всю улицу до конца, когда увидели маленького небритого человека, стоявшего обочь дороги. Крохмалев приоткрыл дверцу.
— На ловца и зверь идет, — сказал он. — Здорово, Семен.
И вылез из кабины с той же неспешностью, с какой он делал сегодня все свои дела. Они о чем-то посовещались, пришли к согласию, как видно, и Семен, потеснив Женьку, сел рядом.
— Теперь направо, — сказал Семен. Дорога пошла мелколесьем, гибкие лапы молодых лиственниц хлестали по стеклам. Почти поверху тугими жилами протянулись через дорогу корневые свитки, и машину крепко на них встряхивало. …Был еще один домик в лесу, обнесенный высоким тесовым забором, из-за которого виднелась только труба да крыша. «От кого они тут отгородились? — подумал Женька. — От медведей?» Семен вышел, открыл ворота, и абориген зарулил в ограду. Бочки скатили и поехали дальше порожняком. Женька не знал, куда и зачем они едут, терялся в догадках и сгорал от любопытства. Дорога все так же шла через лес, погруженный в зеленоватую сумеречь. Здесь, наверное, и в солнечную погоду свет едва проникал сквозь густое сплетение деревьев.
— Что-то я не пойму, — сказал Женька, — куда мы едем?
Крохмалев покосился на него и еще ниже склонился над рулем, почти налегая грудью.
— А ты не волнуйся шибко. Надо — вот и едем. И бочки привезем, и дело свое сделаем…
Как будто бочки — постороннее, чужое дело, а есть еще и «свое», ради которого едут они вот уже целый час.
— Береги нервы, — грубо посоветовал Семен, — а то загнешься раньше срока.
— Кто мне его положил, этот «срок»? — огрызнулся Женька. Семен не понравился ему с первого взгляда, даже прикосновения его костлявых плеч были неприятны и вызывали брезгливость.
— Природа положила, — сказал Семен. — Я вот недавно у одного профессора читал: человек по всем законам природы должен жить полтораста лет. Пол-то-рас-та! Понял? Это как минимум. А живет сколько? То-то и оно!.. А ты говоришь…
Женька ничего не говорил. Он не мог отвести взгляда от пробегавших мимо прямых и высоченных сосен, с бугристыми утолщениями снизу, и вольно, почти недосягаемо разветвившихся поверху.
Округлые стволы словно были подсвечены изнутри: янтарными подтеками проступала на них смола, и стойкий колобродящий запах носился в воздухе.
— Полтораста? — удивленно переспросил абориген. — Вот это да!..
Отчего же не получается такая длинная жизнь? Положено, говоришь, а не получается…
— Психика подводит, — сказал Семен и покосился на Женьку. — Профессор так и пишет: самоуничтожением занимается человек, жизнь свою укорачивает вдвое, втрое, а то и больше.
Крохмалев вздохнул.
— Как же без психики? Нельзя человеку без этого…
Семен загадочно посмеивался:
— А что, Егорыч, хотелось бы лет этак сто пожить? Вот бы наделали мы с тобой делов!..
— Кому нужны наши с тобой дела?
— Нам с тобой. Кому же еще!
— Только-то и всего…
Все вокруг было так прекрасно и чисто и столько жизни было в каждой веточке, в каждой травинке, что думать о смерти сейчас казалось нелепо и смешно.
Такого леса Женька никогда еще не видел и не представлял, что лес может его так поразить необычайностью красок — не пестротой и яркостью, а мягким отливом зеленого, желтого, синего… И таким же мягким переходом зеленого в синее или желтого в зеленое…
— Вот лесу-то! — воскликнул Семен, не замечая, вероятно, того, что видел сейчас Женька: ни буйства красок, ни едва уловимого дыхания тайги.
— Да, да, — покивал головой, Крохмалев, — лесу тут море. Сгинуть в нем можно.
— Прошлое воскресенье мы тут гоняли маралушку…
— Так запрет же на них…
— Ха, запрет! Много тут запретов… — сказал Семен с явным намеком на что-то известное только им двоим, и Крохмалев опять торопливо и согласно покивал головой:
— Оно, конечно, запретов хоть отбавляй.
— Теперь левее держи, — приказал Семен. Машина зашуршала по траве, с хрустом ломались под колесами сучья, их становилось все больше, они лежали ворохами, и пришлось их объезжать. Семен привстал с сиденья и весь подался вперед, то и дело покрикивая:
— Левее, левее… Да левее же, дьявол!.. В яму угодишь.
Абориген крутил баранку молча и остервенело, машина вздрагивала, подпрыгивала, и при каждом толчке в металлическом ее нутре что-то подозрительно булькало и громыхало.
— Стоп! Приехали!
Семен толкнул дверцу и вывалился наружу. Женька тоже вышел и задохнулся — так вольно, свежо, покойно было вокруг. Не хватало легких, чтобы вобрать в себя разом всю эту чистоту и свежесть воздуха, пронизанного острыми запахами леса, какихто трав, причудливо сплетавшихся и не успевших еще просохнуть, волгло и мягко стелившихся над землей. А от самой земли, устланной прошлогодними листьями и слежавшейся хвоей, исходил спиртовой запах, и он слегка кружил голову… Женька расстегнул ворот рубахи и привалился спиной к шероховатому стволу лиственницы. Сухая кора шелушилась и опадала к его ногам. Чуть поодаль, в траве, едва приметно желтели бревна. Они лежали рядышком, одно к одному, ровные и прямые, с уже захолодевшими подтеками смолы. Семен сел на одно из них, достал папиросы, пошарил по карманам и вытащил коробок. Тряхнул — есть спички. И лицо у него при этом было какое-то закаменевшее, без выражения. Абориген взял из его рук папиросу, опустился рядом, и они жадно и торопливо задымили. Женьку они не замечали, как будто его и не было рядом с ними.
— Заберем все? — спросил Семен. — Многовато. Попробуем. Хороши сутунки! Куда ты их сплавляешь-то?
Семен неопределенно махнул рукой, закашлялся, глубоко затянувшись, и постучал себе по груди:
— Вот бес… аж слезы из глаз!.. Сплавляю, говоришь, куда?.. — глянул коротко, недоверчиво и отвернулся. — А это уж мое дело. Лес нынче в ходу. Ну, пошли!..
Крохмалев встал и отбросил в сторону окурок. Семен опасливо покосился на него:
— Спалишь, тайгу-то.
Крохмалев зачем-то потрогал комель бревна, скинул пиджак, и поплевал на ладони.
— Эй, паря! — сказал Семен, поглядывая на Женьку исподлобья. — Давай-ка разомнемся…
Открыли задний борт и один боковой, положили два крепких сосновых стяжка, и Крохмалев скомандовал: «Взяли!» Он упирался в один конец бревна, а Семен и Женька накатывали с другой стороны. Бревно чуть сдвинулось с места, подмяв под себя хрусткие и сочные стебли бадана. Смола клеилась к рукам.
— Еще взя-яли! — яростно выдыхал Крохмалев. — Раз-два… взяли!..
Бревно туго подавалось. Ладони ошпаренно горели, но Женька не обращал на это внимания. Рядом сопел, покряхтывая, Семен.
— Ну, что ж вы… мать вашу!.. — выругался абориген. — Налегайте как следует. Разом, разом налегайте. Ну! Взяли!
«Сколько же весу в этом бревне?» — подумал Женька, нащупывая ногами опору. Пошло помаленьку, подалось. Еще разом!.. «Наверняка полтонны…» Вот эта работка так работка! Они упирались изо всех сил, лица их побагровели, рубахи сразу же взмокли и неприятно липли к телу. Хоп! Бревно грохнулось в кузов и откатилось к борту.
— Эх вы, слабаки! — сказал абориген.
— Тяжелая, стерва! — оправдывался Семен, струйки пота стекали у него со лба, он облизывал пересохшие губы и шумно, сипло дышал.
Вид у него был жалкий, загнанный. Несладко, видно, такому хилому ворочать тяжести. Женька перешагнул через бревно, наклонился над ним и снизу весело, вызывающе посмотрел на Крохмалева:
— Взяли?
— Смотри, не надорвись, — предупредил тот. — Кому отвечать-то?..
Но Женька уже подхватил бревно, напружинив ноги, и каждая жилка в нем напряглась, натянулась предельно, будто таившаяся до поры где-то внутри сила вдруг проступила и расплескалась по всему его телу. И Женька ощутил прилив внезапной радости от сознания собственной силы, от того, что эта сила принадлежит ему и он может ею распоряжаться, как захочет. Семен молча и с интересом следил за ним и словно бы подзадоривал: а ну-ка, покажи, на что ты способен, покажи! Женька рывком толкнул бревно, подхватил обеими руками и покатил — пошло, пошло, пошло!.. Семен тоже пристроился посередине, но они и без него бы справились. Второе бревно показалось легче, а третье и вовсе само катилось… Крохмалев даже командовать перестал. Работали молча, споро. И все же последние бревна снова потяжелели, будто свинцом налились. Пришлось повозиться.
Когда погрузку закончили, Крохмалев подошел к Женьке и поощрительно похлопал его по плечу:
— А что? Ничего!.. Сила в тебе есть. Сноровки маловато. Напарник из тебя добрый… — польстил он. Семен сидел прямо на траве, побабьи вытянув ноги, лицо у него было в грязных потеках, мокрые волосы выбились, из-под кепки. Досталась ему эта погрузка.
— Первобытная работка, — сказал он. — Нажал кнопку — и спина мокрая!
— А ты как думал? — презрительно усмехнулся Крохмалев. — Легкая бывает музыка. И то только, когда ее слушаешь.
— А ты ее слушаешь? Нет? Чего же тогда? Ну и распустил нервы, ужас… — сказал Семен и встал. — Психом так можно стать. Намотало тебя, брат, видно…
— Ладно, без сочувствия… Обойдусь.
— Ну, обходись…
Они пошли к машине на почтительном расстоянии друг от друга.
— Вот здесь! — сказал вдруг Семен и остановился, и в глазах у него мелькнуло что-то горячее, затаенное. — Вот здесь мы ее прижучили, маралуху… Медвежьим зарядом. Наповал.
Крохмалев рванул на себя дверцу:
— Поехали, поехали, хватит рассусоливать!
— Женька подремывал в нагретой кабине, и по телу его горячо растекалась усталость. Спина побаливала, но боль не доставляла ему мучений, а скорее наоборот, приятно было, расслабившись, ощущать, как ноют руки, плечи, поясница, будто тонюсенькими иголочками покалывает кожу… Приятно было еще и от того что, он сознавал себя человеком, славно и крепко поработавшим. Голова слегка кружилась, наверное, от поездки, от массы впечатлений, нахлынувших разом, а может, от чистейшего воздуха, которым он дышал целый день. Семен вкрадчиво, вполголоса о чем-то говорил с аборигеном:
— Слыхал, за Чинеком леспромхоз новый открыли?.. Ученые понаехали…
— Ну?
— Шастают по тайге. Хозяева… Медведь тут хозяин!
— Обижают, что ли?
— Кого? Кого обижать-то? — вздыбился Семен. — Меня обидеть нельзя, я сам кого хошь обижу…
— Зачем же так? — примиряюще сказал Крохмалев. — Тайга большая, места в ней хватит всем — и зверю, и человеку.
Помолчали с минуту. И Крохмалев продолжал:
— Хотя иной человек хуже зверя…
— Ты это о ком? — насторожился Семен.
— Ни о ком конкретно, вообще говорю. Неужто тебя я назову зверем!
Ты, Семен Гаврилыч, до зверя-то и не дорос, это я тебе точно говорю.
— Так… А до кого же я, по-твоему, дорос?
Крохмалев ответил не сразу, думал, взвешивал, поточнее искал словцо и, наконец, нашел и со вкусом выложил, словно голыш в воду запустил, — и пошли круги!..
— Грызун… Грызешь помаленьку, точишь. Обираешь тайгу. Грызун ты!..
Семен почему-то не обиделся, по всей вероятности, он ждал худшего, а Крохмалев говорил с ним мягко, хотя и недружелюбно, просто нашла на человека блажь, выговориться захотел, вот и старается, лезет из кожи.
— Ну, ну, — сказал Семен, — грызун, стало быть? Тайгу, значит, обираю? А я ее не обираю, взаймы у нее беру.
— Без отдачи?
— Ничего, не обеднеет. А ты?
— Я работаю.
— Ха-ха-ха!.. Он работает… Хе-хе!.. Работничек!..
Их голоса становились раздражительнее, по всему видно, они сводили какие-то старые счеты, но и в то же время, их связывало нечто большее, чем обычное знакомство, и эта связь была им в тягость, но порвать ее, освободиться по каким-то непонятным причинам они не могли. Ясно было одно: их разделяла ненависть. Они ее и не скрывали. А что их связывало?
Они оборвали разговор в тот самый момент, когда спор грозил перейти в ссору.
— Теперь направо, — сказал Семен. Проехали еще немного и остановились на берегу речки. Вода кружилась, схлестывалась на скатах и устремлялась дальше. Бревна свалили в папоротниковых зарослях, и тут Женька заметил, что бревен здесь было навалено изрядно, они лежали внакат, одно к одному, скрытые густо сплетавшейся высокой травой, лежали у самой воды, где беpeг был положе и ровнее… А чуть подальше, по течению, виднелся уже готовый плот из таких же ровных и крепеньких бревен. «Причем же тут бочки?» — подумал Женька.
На обратном пути заехали в лесничий домик, погрузили бочки.
Вышла из дома женщина в теплой кацавейке и пригласила «откушать чего-нибудь». Это странное приглашение — «откушать чегонибудь» — рассмешило Женьку и одновременно обрадовало: он был голоден. «Заходьте, заходьте», — сказала женщина. Они вошли в просторную полупустую комнату — большой стол в переднем углу, покрытый клеенкой, вдоль стен массивные лавки, справа русская печь…
Женщина быстро собрала на стол, подала стаканы, и Семен, наполнив их какой-то мутноватой, тягучей жидкостью, придвинул один стакан Женьке. Их взгляды столкнулись.
— Ну… — сказал Семен. Абориген поднял стакан и вдруг подмигнул женщине, стоявшей у стола. Она улыбнулась ласково в ответ и мягко, певуче произнесла:
— Пейте, пейте…да кушайте.
А когда они выпили, и Женька, вытаращив глаза, с минуту сидел, не дыша, тот же певучий голос мягко прозвучал над его ухом:
«Ешьте, ешьте…»
Женька взял из тарелки кусок мяса. Оно было сухое, жесткое и показалось ему безвкусным. То есть вкус, конечно, имелся, но какой-то не «мясной», пресноватый.
— Не доводилось такого есть? — спросил Семен.
— Какого? — не понял Женька.
— Царского! Маралина — вялена…
— Нет, — сказал Женька, — не доводилось…
Он не мог понять, чего в этом пресном мясе «царского»: Абориген ел молча, старательно и не спеша. Женщина принесла и поставила на стол большую тарелку с пельменями: «Ешьте, ешьте, ешьте…» — трижды произнесла, будто заклятие.
— Когда теперь заявишься? — спросил Семен и хотел налить по второму, но Крохмалев решительно прикрыл ладонью стакан:
— Будет! Когда приеду, тогда и приеду. От меня не зависит.
— Зависит, — твердо сказал Семен.
— Ну, да… Жди!
— Нам бы еще раз пять-шесть обернуться… — уже просительно сказал.
— Ладно. Там видно будет.
Они помолчали. Пожевали пельменей. Семен отложил вилку и долго шелестел бумажками под столом, шевелил губами, будто молитву творил.
— На-ка, вот… — сказал он и протянул Крохмалеву деньги. Тот, не считая, сунул их в карман и сразу же встал из-за стола: «Благодарствую».
— Что же вы? И не ели почти ничего… — встрепенулась хозяйка. А Семен пошел их провожать и несколько раз еще говорил об одном и том же:
— Нам бы ездок пять-шесть… А?
— Ладно, ладно, — сердился Крохмалев. — Там видно будет… Бывай!
Сел в кабину, включил зажигание и захлопнул перед самым носом Семена дверцу.
Женька сидел нахохлившись. Муторно было на душе — то ли от выпитой настойки, то ли еще от чего-то, но он вдруг почувствовал, что прежней радости нет. И той приятной усталости, какую он испытывал после погрузки бревен, тоже не было. Осталось только ноющая боль в перетруженных руках и в пояснице.
— Кто этот Семен? — спросил Женька.
— Хороший человек, — сказал абориген.
— Грызун…
— Не твоего ума дело.
— Вы же сами сказали: грызун!
— Это я сказал, а ты помалкивай. Молод еще… опьянел вон от самогонки.
— Я не опьянел, — обиделся Женька.
— Ну и хорошо, — поспешно отозвался абориген. И мягче, словно спохватившись и стараясь сгладить случайно вырвавшуюся грубость, добавил: — Ну и хорошо, что не опьянел. Крепкий ты парень.
Молодец! А Семен этот не стоит того, чтобы разговоры о нем вести.
Не стоит.
Вернулись они часа через два. Ничто тут, в лагере, за день не изменилось — те же палатки, выстроившиеся в одну шеренгу, костер горел, голоса доносились, смех… И вертолет стоял на том же месте, где он стоял утром, с зачехленными и притянутыми к земле лопастями.
— Долго вы что-то, мужики, — сказал Шраин. — Привезли бочки?
— А то как же! — похвастался абориген. — Кое-как уломал своего дружка-приятеля. Сами, говорит, бедствуем. Ну, я ему на сознательность ударил… Дал. Только, говорит, просьба одна — не в службу, а в дружбу: подкинь кирпич к мастерской… Машины все в разъезде, а дело стоит. Вот и пришлось задержаться…
Женька поморщился: о каком он кирпиче говорит? Ну и врет, проклятый абориген, врет и денег не берет… Не берет?
— Ладно, — сказал Шраин, — идите отдыхайте.
— Ах, как скверно было на душе у Женьки! Словно и он оказался соучастником этой лжи. Хотя он и не сказал ничего. Вот именно: не сказал. Абориген изворачивался и лгал, а он стоял молча, как бы поддакивая и соглашаясь… Значит, и он обманул Шраина! А может быть Шраину все это безынтересно и неважно — главное, что бочки привезли? И за это спасибо надо сказать Крохмалеву. Какая разница, что он там возил — бревна или кирпичи! Важно, что достал бочки.
Женька остановился на переходе через ручей и увидел в воде свое колеблющееся отражение. Может быть, этот ручей впадает в ту речку, по которой Семен сплавляет куда-то ворованный лес?.. И вода на него работает! Грызун!
Пойти сейчас и обо всем рассказать Шраину. Пусть знает. Но тут же он раздумал: может, и в самом деле он пьян? Голова кружилась.
Женька вернулся, поднялся на бугор, где стоял вертолет, и лег на траву. И лежал до тех пор, пока не стемнело совсем. Звезды зажглись. И он увидел, как одна из них, мигая, медленно двигалась по темному небосводу, с севера на юг, и сразу же догадался, что это новый спутник, кажется, семидесятый по счету, как сообщали об этом газеты, усовершенствованный… Странно все это было: кто-то строил и запускал спутники в сторону Луны, кто-то летал в космос, а кто-то воровал лес и сплавлял его по реке…
Женька встал и пошел в лагерь. Через ручей. И чем ближе он подходил, тем больше и острее чувствовал свою неуверенность и шаткость своего положения. Кто он в отряде? И кто в отряде Крахмалев? «Вот именно, — сказал себе Женька. — Вот именно!» Как будто это могло что-то изменить. «Вот именно!» — кричало в нем все существо, и ему стало неприятно и холодно от этого мерзкого, бессмысленного крика. Просто, в довершение ко всему, он еще и себя пытался обмануть. Но себя обмануть трудно. Невозможно себя обмануть.
Глава третья
1
Утром дали погоду. Первым принес эту радостную весть Миха.
Он прибежал, сияющий, нетерпеливый, в расстегнутом кителе, с такими же сияющими пуговицами, как и его лицо, и весело покрикивал:
— Давай, давай, гео-братцы-физики, завтракать будем потом!..
Никто, собственно, и не собирался завтракать, все суетились, торопились, довольные, что наконец-то кончилось безделье.
Удивительный парень этот Миха, все в нем настежь: если радуется — во весь голос, если недоволен чем-то — скажет, не задумываясь, как это он сделал, когда Олег Васильевич расхваливал на все лады какие-то необыкновенные достоинства пилота Горского… Миха тогда прямо сказал: «Гадости вы сейчас говорите. Извините, конечно… Но гадости есть гадости! И самое гадкое, что вы об этом знаете… Вот!»
Скрынкин не такой. Скрынкин всегда одинаков, лицо его как бы раз и навсегда обрело ровное и спокойное выражение и ни при каких обстоятельствах не меняется — не знаешь, когда и как он настроен. А может, он всегда одинаков — несокрушимо спокоен.
— Спасибо, Михаил, — сказал Олег Васильевич, — вы нас спасли… как некогда гуси спасли Рим… — ирония опять сквозила в его голосе, видно, геофизик не мог забыть тех Михиных слов и, как мог, мстил ему за это. Но «укус» был слабый, и Миха его не почувствовал или сделал вид, что не почувствовал, и этим самым обезоружил геофизика.
— Мальчики, как думаете, плащ брать? — спросила Таня.
— Бери, Татьяна, бери… в горах все может быть.
— Ну, пошли, пошли… Что вы еще там забыли? Эй, топографы, а где ваши анероиды? Ха-ха-ха!.. Анероиды забыли! Позор! Что-то я не видел, чтобы вы за стол садились без ложек…
— Послушай, Олег, ты так много говоришь! Помоги лучше.
— Всегда готов! Давай понесу твои ящики. А ты возьми спиннинг… Пошли.
— Хороший спиннинг. Ты его где купил, Олег?
— Мне его подарили.
— Тайменья уха будет сегодня?..
Рядом с длинноногим геофизиком Таня выглядела девочкойподростком, девятиклассницей. Косички бы еще ей, с ленточками розовыми… Красивая она все же, не в отдельности что-то у нее красивое — глаза, губы, брови или нос, а вообще она красивая, все вместе у нее красиво — и походка, и голос, и взгляд…
Все вместе.
Когда она говорит, Женька не может ничем другим заниматься, даже если она и не с ним говорит. Он притворяется только занятым, делает вид углубленно занятого человека — перелистывает книгу, разглядывает образцы горных пород на столе Шраина, — на самом деле заняты у него только руки и глаза, а сам он весь, и слух и мысли его, во власти Таниного голоса. Братья-близнецы, техники, сделали свое дело и отошли в сторонку, стоят рядом и посматривают на вертолет, который гудит вовсю, размахивает винтами. Рубчатый воздухозаборник делает вертолет похожим на большую, неуклюжую рыбину, с раскрытыми жабрами. Низко по земле от винтов идет ветер, пригибая траву.
— Эй, десантники! По местам… — Это Миха.
Скрынкин, высунувшись из кабины, протирает стекло. Женька ждет, когда он обернется и, уловив момент, машет ему рукой. Скрынкин тоже помахал: привет! привет! Женька поднялся в кабину и сел рядом с Таней.
— С первым тебя полетом, — сказала Таня.
— Спасибо.
Женька доволен, что Таня догадалась поздравить его, вообще приятно, когда тебя с чем-то поздравляют, но вдвойне приятно, когда тебя поздравляет человек, к которому ты относишься немного иначе, чем ко всем остальным.
Миха захлопнул дверцу, задраил. Поехали. А погода сегодня не просто летная — замечательная погода! Небо чистое, без единой помарки, горы со всех сторон открыты. Сухо посвистывает рассекаемый винтами воздух. Вертолет гудит все сильнее (Скрынкин прибавил обороты), дрожит, вибрирует лихорадочно, потом толчком отрывается от земли и сразу набирает высоту…
Мелькнул внизу темный островок кедрача, поплыли горы с лиловыми склонами, иссеченными тонюсенькими жилками речек.
Сверху вода кажется застывшей, неподвижной. Застыл водопад над ущельем. Красиво сверху! Как будто рассматриваешь картину художника Сарьяна в раме горизонта… А горизонт уходит все дальше и дальше, и горы как бы раздвигаются, и оттого картина кажется бесконечной и еще более прекрасной.
— Таня, вам нравится Мартирос Сарьян?
— Поехали!
Олег Васильевич снял резиновую заглушку с иллюминатора и закурил.
2
Первую посадку сделали у барометра, оставили здесь младшего топографа Симочку. Барометр закреплен на толстой сосновой горбылине, а сбоку, наискось, почерком Олега Васильевича написано: «Государственная собственность». Замысел геофизика прост: если кто-то и забредет сюда, так все равно не решится трогать «государственную собственность». Таня говорит:
— Да кто сюда пойдет! Кому он нужен, наш барометр! Медведь разве… так он читать не умеет. — глаза ее при этом испуганно расширяются, видно, она представила себе, как этот таежный хозяин посетит Симину «резиденцию»…
— Медведь сюда не поднимется, — успокоил ее Олег Васильевич. — Тут ему делать нечего.
Поставили палатку. На случай дождя. И вообще на всякий случай. Таня говорила, что в позапрошлом году в Саянах она просидела у барометра почти трое суток. Вертолет сломался, а иным путем добраться до нее не было возможности… Вот и ждала.
Симочка грустно улыбнулась и вяло подняла руку, не помахала, а только подняла руку и подержала ее на уровне глаз, будто разглядывая. Какая-то она вся вялая, Симочка, и непонятно молчаливая.
За все эти дни Женька почти не слышал ее голоса. Молчит и молчит.
Женька сказал об этом Тане. Она спросила:
— А ты ничего не знаешь?
Женька повел плечами: что он может знать?
— Знаешь, какой у Симочки голос!.. Прелесть… божество!..
— Не знаю, я его не слышал…
— Чудак, — оказала Таня, — она же в консерватории училась… Талант! А потом у нее что-то там получилось такое, и она ушла…
У каждого что-нибудь такое получается или, наоборот, ничего не получается.
Вертолет перевалил через плоский, будто срезанный сверху хребет, слева и справа выросли скалы, подсвеченные солнцем. Вертолет увиливал от них, то снижаясь и проваливаясь между двумя каменными грядами, то поднимаясь над ними. Наконец, вырвался из этого плена и пошел над обширной долиной, распугав оглушительным стрекотом пестрое стадо сарлыков. Животные, задрав головы, шарахнулись во все стороны. Видно было, как топорщилась и развевалась над их спинами длинная шерсть…
Пролетели над юртами. Около одной из них стоял мотоцикл с коляской. Собаки гнались за бегущей по траве тенью вертолета, но не выдержали состязания и вскоре отстали. Тень вертолета неуловимо скользила по земле, по горам, скатывалась по желтеющим осыпям, ныряла в узкие расщелины. Летели над тайгой, и тень бежала по верхушкам деревьев, легкая, неуловимая, всюду проникающая.
Таня встала и подергала Миху за торчавшую из люка ногу. Он спустился, а Таня заняла его место, достала из планшетки, висевшей у нее на плече, карту, развернула, и Скрынкин заглядывал в нее и кивал головой. Уточняли маршрут. Сейчас важно выдержать курс, потому что за одно и то же летное время можно сделать пять съемок, а можно и семь, восемь. Ясно, что лучше восемь, чем пять. И тут от старшего топографа, прокладывающего маршрут, очень многое зависит, хотя, конечно, в большей степени зависит от выдержки и мастерства первого пилота. А что зависит от Женьки? …Едва колеса коснутся земли и Миха распахнет дверцу, Женька как-то боком вываливается наружу, отбегает метров пятнадцатьдвадцать и начинает долбить землю. Лопата ударяется в камни, скрежещет. Женька торопится, нервничает, и у него, естественно, ничего не получается. Олег Васильевич стоит рядом, смотрит и молчит. И это хуже всего, когда он стоит тут рядом и смотрит. Наконец, он не выдерживает, берет из Женькиных рук лопату и ловко, ровненько сдирает верхний слой.
— Ставь, — говорит.
Женька устанавливает гравиметр — прибор такой, которым, как объяснил геофизик, определяется сила тяжести… То есть, как понял Женька и если он правильно понял, в разных точках земли существуют различные силы притяжения. Наука!
— А вообще иногда и без лопаты можно обходиться, — говорит Олег Васильевич. — Видишь камень? Вот тот…
— Вижу.
— Гладкий? Можно на него поставить прибор?
— Можно… — неуверенно соглашается Женька.
— Можно, — подтверждает Олег Васильевич. — Вот тебе и площадка готовая.
Потом он долго заглядывал в окуляры, прикладывался то левым, то правым глазом, что-то записал в свою клеенчатую тетрадь и, свернув трубочкой, сунул в боковой карман штормовки.
— Между прочим, все это брех собачий, будто упавшее яблоко явилось причиной открытия закона тяготения, — сказал он вдруг, и лицо его сделалось сердитым. — А если бы оно не упало? Все равно бы Ньютон сделал свое открытие. Как думаешь, сделал бы?
— Не знаю, — сказал Женька. — Может, и сделал бы. А может, и нет.
— А я знаю: сделал бы! И яблоко тут вовсе ни при чем. И тебе советую: побольше думать, а не ждать яблок с нёба… Понял?
— Понял.
— Вот и отлично. Поехали.
Женька подхватил гравиметр и побежал к вертолету.
Он сел на скамейку, опустив на колени прибор, и вдруг почувствовал прикосновение Таниных пальцев. Он повернулся, но Таня смотрела в другую сторону. На лбу у нее отложились две морщинки, губы сжаты и линия рта была тонкой и строгой… Видно, движение это было случайным. Он осторожно убрал руку, но ничто уже не могло измениться — чувство необыкновенности и какого-то странного ожидания сохранилось. И он весь был поглощен этим и все время только и думал о Тане, хотя она сидела рядом и с ней можно было запросто и о чем угодно поговорить. Но говорить ему сейчас не хотелось. Следовало помолчать, чтобы привыкнуть к новому чувству, возникшему в нем так внезапно и сильно. Но Таня заговорила:
— Ну, как, нравится?
— Что?
— Все… тайга, горы, полеты, — сказала она с какой-то строгой задумчивостью, глядя на геофизика. Она разговаривала с Женькой, а смотрела на геофизика. И так продолжалось все время, пока они разговаривали.
— Татьяна любит летать, — усмехнулся Олег Васильевич. — Она все летает и уже разучилась как следует ходить по асфальту…
— Ничего я не разучилась, — возразила Таня.
— И в туфлях на гвоздиках-каблучках разучилась…
— Не разучилась! — сказала Таня. — И вообще плевала я на ваш асфальт!..
— Грубо. Очень грубо, Татьяна. Зачем плевать? По асфальту тоже люди ходят. Некрасиво.
— А что красиво? — спросила Таня и все смотрела, смотрела на геофизика. — Что такое, по-твоему, красота, Олег?
— Красота? Красота то, что красиво…
— Неубедительно.
— А ты знаешь, ты можешь сказать?
— Красота — это то, что любишь.
— Не вижу разницы.
— Разница большая.
— Красивое, независимо от того любишь ты его или нет, остается красивым…
— О нет, не всегда!
— Вот хотя бы горы… Посмотри. Или красивые женщины, наконец…
— Нет, нет, — сказала Таня, — ты не прав, Олег, ты заблуждаешься.
— То есть?
— А если я не люблю горы, покажутся они мне красивыми? А если ты любишь некрасивую женщину? Ведь любят же в конце концов и некрасивых женщин… Что тогда?
Олег Васильевич махнул рукой и подвинулся поближе к иллюминатору. Сейчас закурит. Спасительное средство. Нет, не закурил.
Смотрел в иллюминатор. Внизу плыли горы. Тень вертолета скользила по скалам чуть впереди. Олег Васильевич повернулся — видно, что все это время он думал лад тем, что ему тут наговорила Таня.
— Ты хочешь сказать…
— Да, Олег, я хочу сказать, — опередила Таня, — все прекрасное озарено человеческой любовью… Не думай, что я такая умница и открываю тебе Америку. Об этом и до меня знали.
— Черт-те что! — сказал Олег Васильевич. — Ну, хорошо, пусть моя любовь к красивой женщине будет субъективной… Но ведь существуют же, черт побери, и объективно красивые женщины… Объективная красота. Независимо от нас с тобой, от наших желаний и чувств… Существует!
Женька был согласен с Таней. И с Олегом Васильевичем он тоже был согласен. Наверное, так нельзя. А может быть, они, и Таня и геофизик, в чем-то были правы и в чем-то неправы? Наверное, существовала в природе какая-то еще третья истина, сложнее и той, которой придерживалась Таня, и той, которую отстаивал Олег Васильевич.
3
Сима сидела на опрокинутом ящике, изнывая от безделья. Работы у нее тут немного, а ждать приходится долго — пока не вернется вертолет.
— Как вы долго! — сказала Сима, когда вертолет опустился неподалеку от палатки и Таня подбежала к ней. — Я думала, что-нибудь случилось…
Таня обняла ее за плечи и села рядом:
— Все в порядке. А у тебя?
— Хорошо. Надоело только — одна и одна.
— Потерпи немножко. Скоро переедем в предгорье Чана. Там неподалеку метеостанция. Закроем твой барометрический пункт. Олег!
Как насчет рыбы?
— Есть предложение, — отозвался Олег Васильевич. — Двое остаются здесь, готовятся, разводят костер… — Он, видно, имел в виду Симочку и Таню. — Остальные на Бишпек хариусов ловить.
— Я тоже полечу, — встала Сима. — У вас, надеюсь, лишняя удочка найдется?
— Лишних нет. Я думал…
— Нет, я полечу.
— Пусть летит, — поддержала Таня. — Симе надоело здесь одной.
Пусть летит.
— Я могу остаться, — сказал Женька. Олег Васильевич озадаченно посмотрел на него, и Женька пояснил: — Удочки у меня все равно нету…
— Да ну вас всех! — рассердился геофизик.
Он пошел к вертолету и залез в кабину, не оглянувшись. Сима тоже ушла. Улетела. А Таня сидела на прежнем месте, на опрокинутом фанерном ящике, вытянув ноги, обутые в тяжеленные альпинистские «бутсы», смотрела прямо перед собой и чему-то улыбалась.
— Ты сумеешь развести костер? — опросила она.
— Да. Я первое место занимал на соревнованиях по разведению костров… — ответил Женька. — В пионерском лагере.
— О, тогда все в порядке!
Таня встала, и они пошли вдоль ручья, через густые заросли карликовых березок, цеплявшихся за одежду.
— Слышишь? — обернулась Таня. Женька остановился рядом и долго, напряженно вслушивался. От ее волос исходил какой-то свежий летучий запах — возможно, этот запах шел от воды, от березок, низко стелющихся над землей, от камней… Ничего другого Женька не слышал.
— Ветер, — сказала Таня. Женька удивился. Было тихо, спокойно.
Редкие облака текли высоко над их головами.
— Почему ты остался? — спросила Таня. Женька взял гладкий увесистый камень, размахнулся и бросил в ручей. Вода всплеснулась, расступившись, и камень осел на дно. Видно было, как он слегка подрагивал и пошевеливался, будто живой еще, но уже обреченный.
Женька не хотел отвечать на Танин вопрос. Пусть спрашивает, а он будет молчать. И тогда она все поймет. Таня, наверное, поняла, потому что ни о чем его больше не спрашивала. И они долго молчали.
И через какое-то время Женька и в самом деле услышал, как что-то тихонько, протяжно, бесконечно протяжно и тонко посвистывает.
Вскоре этот звук обозначился явственно, Женька даже почувствовал легкое прикосновение (если только звук может прикасаться), но звук все же прикоснулся к его щекам и промчался дальше… Над головой что-то прошелестело. Потревоженно вскрикнула пичуга, нырнув в заросли березок.
— Дождь будет, — сказала Таня. — Пойдем в палатку.
Но откуда было взяться дождю, если небо сияло, и только редкие сизые облака бежали по нему, как отбившиеся от стада барашки?..
Они насобирали сушняка и пошли обратно. И пока они шли, ветер обогнал их и умчался вперед, а следом хлынула, обрушилась на них новая волна уже более крепкого и ощутимого ветра. Женька оглянулся и увидел, как из-за гор перевалило и надвигалось на них что-то тяжелое, лилово-черное, как будто, сдвинулись и пошли на них сами горы. Повеяло холодам. Они побежали. Ветер настигал их и толкал в спины. И пока они бежали, надвинувшаяся туча подмяла под себя солнце. Стало темно. Они нырнули в палатку, закрыли полог и сидели, смиряя дыхание, прислушиваясь к хлестким порывам ветра.
— Вот это да!.. — сказал Женька. — Так внезапно…
— Здесь всегда так, — пояснила Таня и пошарила вокруг, все еще не привыкнув к темноте. Под рукой у нее зашуршала жесткая трава.
— Тебе удобно? — спросила она.
— Да.
— Садись ближе. Что-то холодно стало.
Он покорно подвинулся. Их плечи соприкоснулись, вздрогнули и замерли.
— Как там наши рыбаки?
— Вот разбуянился… И холод какой-то ужасный.
— Возьмите мою куртку. Мне и так тепло.
— Не надо.
— Нет, правда, возьмите. Я же в свитере.
— Спасибо.
— Правда, что разбуянился. Палатку рвет. Вы давно, Таня, работаете в отряде?
— Третий год.
— Вы уже ветеран! Стаж имеете. А что вы кончали, геологоразведочный?
— Да. Топографическое отделение. Поступай, Женя, на топографическое. Не пожалеешь.
— Не знаю. Я вообще-то в институт международных отношений собираюсь… — признался Женька.
— Ого! — сказала она. — Дипломатический представитель в ООН!
Или посол в республике Мали… Подходяще?
— Вполне, — согласился Женька. Прямо перед ним смутно светилось Танино лицо.
— Зачем же ты сюда приехал? — спросила Таня.
— Просто так… интересно. С таким же успехом я мог бы поехать и к археологам.
— Думаешь, у них интереснее?
— Не знаю.
— А что ты знаешь? — спросила она.
Он улыбнулся, но вряд ли Таня увидела его улыбку.
— Дважды два — четыре. Обь впадает в Северный Ледовитый океан… — сказал он.
— Ты уверен?
— Не совсем. Я не был в устье Оби.
— Что еще? — настаивала она.
— Еще? Ветер… Слышите?
— Слышу. Что еще?
— Будущий дипломат должен хорошо знать жизнь, — пошутил Женька.
— Верно. А что еще?
Он вдруг увидел, как дрогнуло белое пятно ее лица и поплыло, поплыло, медленно приближаясь.
— Таня…
Она промолчала. А может быть, Женька оглох от ветра, может быть, что-нибудь она говорила, а он не слышал.
— Таня!.. — сказал он почти что уже в отчаянии. Ему стало жарко.
И показалось, что ветер легко, как пушинку, поднял палатку и понес над землей, над горами… выше, выше!..
— Таня… Таня… — сказал он в пространство и задохнулся. И снова потом что-то такое говорил, говорил, но слова терялись где-то по пути, падали, как в вату, беззвучно отлепляясь от языка. Потом он сидел неподвижно и ошарашенно смотрел в темноту. Танино лицо отодвинулось. Он не думал, что все это так просто бывает… И горьковатый привкус Таниных губ кружил ему голову.
— Посмотри, пожалуйста, что там… — сказала Таня, дотронувшись рукой до его плеча. Его удивил ее спокойный голос. Он выглянул и воскликнул:
— Снег?! Посмотри, какой снег!..
Они выбрались наружу. Лиловая туча закрывала небо. Темными краями она упиралась в вершины гор, чуть провисая посередине — рыхлая и ненадежная крыша над головой. Сквозь эту крышу сыпалась белая крупа.
— Я никогда не видел такого снега, — сказал Женька, вытягивая перед собой руку, холодные кристаллы падали ему на ладонь и моментально таяли. Ладонь стала мокрой.
Они вернулись в палатку и сидели, тесно прижавшись друг к другу. И не было на всем свете более счастливого человека, чем Женька. Окажись он в эту минуту жадным и завистливым, он, прежде всего, позавидовал бы себе — своему счастью. Но разве можно себе завидовать? Таня была рядом, он чувствовал ее дыхание, запах волос, щекотавших ему лицо. Голова у него шла кругом от этого запаха, от ее близкого дыхания. Ее доверие пугало Женьку, и он не знал, как себя вести. Он чувствовал себя в чем-то виноватым, но толком не знал, в чем его вина. Он думал, что так нельзя, надо как-то иначе, но что-то горячее наполняло его, захлестывало, и он, содрогаясь от этой внутренней переполненности, забывал обо всем на свете.
— Таня… Таня, мне с тобой так хорошо, — сказал он, словно оправдываясь. — Так хорошо!..
Она провела пальцами по его щеке, как это делают слепые, когда хотят запомнить чье-то лицо, и вздохнула:
— И мне хорошо. Ты такой славный.
— Таня… Таня, если хочешь, мы поедем с тобой в наш город. Ты не была в нашем городе?
— Ни разу.
— Поедем? А? Таня…
Он был в том опьяненном состоянии, когда кажется, что нет ничего невозможного, а все возможное надо решать немедленно.
— Хорошо, — сказала Таня. — Но как это мы сделаем?
Он задумался, всего лишь на минуту задумался и радостно воскликнул:
— Это же просто! Таня, это можно сделать просто… — повторил он.
— Скрынкин полетит на профилактику со своим вертолетом. И мы сможем улететь. А? Таня! Полетим?
— Конечно, конечно, — согласилась она поспешно и вдруг спохватилась: — А костер? Костер пора разжигать…
Но оказалось, что спичек у них нет. А без спичек что можно сделать? Это первобытные люди могли обходиться без спичек…
Туча прошла. Открылось солнце. И снег расплавился. Как будто его и не было. Как будто все это им почудилось. Или приснилось.
Глава четвертая
1
Скрынкин и Олег Васильевич играли в шахматы. Они сидели на скамейке в озарении бушующего неподалеку костра и, не глядя друг на друга, двигали фигуры. Шахматная доска разделяла их, служила как бы границей. Не хватало только разноцветных флажков… Две стороны. Два мира. Два взгляда. Две застывшие фигуры в ярком озарении костра.
И звезды над ними, тихие и беспечальные звезды — свидетели вечности. Если от угловой нижней звезды Большой Медведицы провести прямую, воображаемая линия коснется Полярной звезды.
А какие линии могут соединять людей?
Вообще звезды вызывали у Женьки смутные и сложные чувства — он думал, что вот этот семизвездный Ковш висел над головой Саши Пушкина, когда тот, тайком выбравшись через окно, спешил на первое свидание. «Все любовники желают и того, чего не знают…» — написал юный Пушкин. И, наверное, так же задумчиво, потрясенно смотрел на звезды, излучающие таинственный и холодный свет. Звезды не приносят тепла — слишком они далеки. А люди нуждаются в тепле, и потому они боготворят солнце. Да здравствует Солнце!.. Но ведь и к солнцу люди могли бы относиться иначе, если бы оно не посылало им тепло, не дарило жизнь…
Женька на ощупь, с трудом пробирался к той мысли, которая мучила его все эти дни, временами ему казалось, что вот она, эта мысль, дозревает, и он уже ухватился за нее, но в последний момент она ускользала… Он подумал сейчас, что люди тоже могут быть солнцами, солнышками и могут дарить друг другу тепло, как можно больше тепла.
Это удивительно! Он даже тихонько засмеялся, подумав так. И посмотрел на Скрынкина и Олега Васильевича, сидевших друг против друга в каких-то канонически холодных позах.
Трескучие искры, как маленькие спутники, взлетали над костром и, мгновенно обуглившись, падали в ведро, висевшее над пламенем. Шраин большой деревянной ложкой вылавливал их и выплескивал в золу. Шраин был серьезен и молчалив. Он варил тройную уху. А это не простое дело, и он его никому не доверял.
— Экспериментальный ужин, — сделав очередной ход, заметил Олег Васильевич. Шраин молча и снисходительно покосился на него.
Абориген сидел чуть в стороне, наблюдал, как колдует над ведром начальник, и цедил сквозь зубы:
— А соль надо сразу ложить.
— Не ложить, а класть, — въедливо отвечал Шраин.
— А рыбу первой закладки недоваривают… А то развалится, как труха.
— И это знаю.
— А лавровый лист…
Отступать больше некуда, и Шраин делает авантюрный ход, утверждая, что «по его рецепту» лавровый лист и вовсе не обязательно класть… Но все же в последний момент бросил в ведро горсть сухого лавра.
— Шах! — сказал Олег Васильевич. И тут Скрынкин почему-то оторвал взгляд от доски, где черному королю грозила смертельная опасность, и перевел на геофизика.
— Шах, шах… — повторил геофизик.
Женька подумал, что первый пилот двинет сейчас своего коня по прямой… Скрынкин, действительно, взял коня и повел его сначала по прямой, а потом в сторону — буквой «Г». Как и полагается. Они играли упорно, долго. На доске почти не осталось уже фигур, погибли офицеры и ладьи, порубаны были кони, а короли все еще никак не могли примириться. И звезды сияли над ними холодные, равнодушные, недосягаемые… с названиями, которые придумали им люди.
Возможно, те же самые звезды имеют и другие названия? Ведь не исключено, что кто-то и где-то (может, на Марсе или на другой какой планете) открыл их по-своему и дал им свои названия!.. Женька подумал о Тане. Он мог бы придумать ей тысячу разных имен, каждый день новое имя, самые красивые имена… Таня! Таня! Он несколько раз повторил ее имя и ему показалось, что лучшего не придумаешь. Таня… Таня…
Он подошел к Скрынкину и, постояв немного, спросил:
— Алексей Иванович, а когда у вас профилактика?
Он опустился с неба на землю, и вид у него был в этот миг очень земной и заурядный.
— Домой, что ли, захотелось?
— Не то, чтобы захотелось… — вывернулся Женька. — Нужно.
Скрынкин продолжал смотреть на опустевшую доску. Все было ясно, трагедии не предвиделось… Шах королю! Шах другому!
— Нужно, говоришь? Ну, так считай… Задачка: сто часов надо налетать, а налетали семнадцать. Сколько осталось?
— Ничья, — сказал геофизик. — Предлагаю ничью.
— Повременим.
Скрынкин не согласился. И хотя Женька не видел в этой позиции путей к победе, он все равно одобрял решение Скрынкина. Скрынкин не согласился! Может, он найдет свои пути и добьётся победы.
Ход. Еще ход! Шах королю. Шах другому!.. Ход. Еще ход…
Скрынкин не согласился. Не согласился. Молодец, Скрынкин!
2
— Таня, знаешь, Таня, а я у Скрынкина спрашивал насчет профилактики… Вот тебе задачка! 100 часов налетать надо. 17 уже налетали. 100-17 =… Чему равняется сто минус семнадцать? — 83, - говорит Таня, и голос ее звучит сухо, нет в нем ни радости, ни удивления, ни презрения или хотя бы насмешки — какой-то совершенно пустой голос, без выражения.
— Таня… — растерянно и глухо говорит Женька и берет ее руку, горячую и твердую ладонь, и чуть-чуть прикасается к ней губами. И Таня, качнувшись назад, подается потом к нему, прижимается, и они, словно слившись, долго стоят неподвижно. И звезды уже не мерцают над ними, а раскачиваются, будто привязанные на длинных нитках, как в цирке, и небо колеблется; они стоят так минуту, вечность, и кажется, нет ничего на свете такого, что могло бы их разъединить, разорвать кольцо их чувств… И они сами не в силах разорвать это кольцо.
— Таня… Таня, — шепчет он, — а я думал… Я думал, что…
— Ты не думай, — говорит Таня, освобождаясь, наконец, из его объятий и как-то сразу отдаляясь. — Ты не думай… Или нет, нет, нельзя не думать. Надо думать, Женечка, думать.
— Мне и Олег Васильевич советует: думай! И ты тоже: думай, Женечка…
— А как же иначе? Иначе, Женечка, и голову можно потерять.
— Но я люблю тебя. Слышишь, Таня?
— Да.
— Только обидно, — сказал он, — что так банально я говорю тебе об этом… — Он засмеялся. — Я люблю! Так, наверное, и сто лет назад говорили: люблю…
— Женечка…
— Люблю.
— Женя…
— Люблю!
— Послушай, Женя…
— Люблю! Люблю! Люблю!
— Тише. Ну, зачем ты?..
— Почему «тише»? Хочешь, я буду кричать?
— Нет. Не надо. Никому это не нужно, кроме нас.
— Ты права. Я, наверное, глупый мальчишка… Да?
— Нет, ты умный мальчик — сказала она и провела пальцами по его щеке. — Не надо. Мы с тобой должны быть благоразумными.
Нельзя же, очертя голову, бросаться в омут.
— Но я люблю тебя.
— Но ты не знаешь меня…
— Странно. А как это должно быть? Так, наверное: вот он встретил ее, они познакомились, условились встречаться… И он начал ее изучать — повадки, манеры, капризы и всякие там другие стороны характера… На это ушел год. За это время он подрос на три сантиметра, а она… похорошела. И однажды он сказал: «Теперь я знаю тебя, дорогая. У тебя положительных качеств больше, чем отрицательных… Я люблю тебя»!
Таня засмеялась.
— Выдумщик ты. Конечно, так не бывает. Но нельзя же подчиняться только чувству.
Он пожал плечами и промолчал. Ему стало грустно.
— Пойдем ужинать, я ужасно есть хочу… — сказала Таня.
Женьке есть не хотелось, но он пошел за Таней, потом резко повернул и зашагал прямо, через густо сросшийся молодой соснячок, через сухой кустарник, обдирая себе лицо и руки и не замечая этого, он шел напролом…
Куда? Зачем? Но вдруг, словно опомнившись, остановился, и мысли пришли к нему ясные и здравые: «Вот чудак — голова! Ведь ничего же не случилось… и ничто не изменилось». Он медленно побрел обратно, обходя кустарник, вышел на тропинку и зашагал к костру; сел за стол, напротив Тани, и она ему улыбнулась (нет, ничего не случилось!) и показала большой палец:
— Во уха! Ешь.
Экспериментальный ужин удался.
Женька взял ложку и, обжигаясь, начал хлебать уху.
3
Олег Васильевич сунул ноги в стоптанные кроссовки, прошлепал по земляному полу, отбросил брезентовый полог, и Женька увидел на пригорке вертолет с пришвартованными к земле лопастями несущих винтов, желтые бочки на кромке взлетной площадки. Чуть поближе, в лощине, грохотал ручей. Отсюда его не видно, а сверху, когда пролетаешь, он кажется тонкой и непрочной ниточкой — вот-вот оборвется. Однако ниточка не обрывалась, ручей не иссякал, бурлил день и ночь, вода в нем кипела и пенилась, как свежее пиво.
— Сегодня, как думаете, погода летная? — спросил Женька.
— Ну, и спишь ты!.. — сказал Олег Васильевич.
— А что?
— Крепко, говорю, спишь. Я тут приемник настраивал… А ты спишь и хоть бы хны!.. Не слышал?
— Нет.
— И прогноз сообщали: ветер с усилениями… кратковременный дождь… Возможна гроза… Ты никогда не видел грозу в горах? О, брат, это зрелище!..
Олег Васильевич перекинул через плечо полотенце и ушел к ручью.
Женька взял из-под раскладушки геофизика гантели, помахал немного руками, поприседал…
Зашел в палатку Крохмалев, мрачный, в мокрых сапогах, с налипшей на них травой, на Женьку даже не посмотрел. Женька свернул спальный мешок и связал тесемочками.
— Послушай-ка, — обратился к нему абориген, — ты уже, поди, решил, что я прикарманил твои денежки…
— Какие денежки? — не понял Женька.
— Думаешь, забыл Егорыч? Нет, за мной, не пропадет. Я еще тогда тебе хотел…
— Ничего не пойму, — дернул плечами Женька. — О чем вы говорите? О каких деньгах?
— Мы с тобой тогда ездили? Ездили. Работали? Работали. Вот и получай… — он пошарил в одном, в другом кармане, вытащил несколько мятых бумажек, разгладил их на ладони и сложил пачечкой. — На, бери, — сказал он, протягивая эту пачечку Женьке, — все твои… Заработанные. Бери, бери. Мне чужого не надо…
Женьку словно обожгло изнутри. Ему стало не то что жарко, а неуютно как-то от этого горячего внутреннего прилива, неприятно.
Он смотрел прямо в глаза аборигена, излучавшие сплошную доброту, смотрел долго и упорно и заметил, как холодно и беспокойно подрагивали в них рыжеватые темные зрачки…
— Сколько? — спросил Женька.
— Считай.
— А почему так много?
Абориген качнулся — качнулись его плечи, руки, голова, глаза и весь он качнулся, славно потеряв равновесие, — и неожиданно мягко и сдержанно засмеялся:
— Бери, бери. Не стесняйся. Знаешь поговорку: дают — бери, бьют — беги.
Женька подумал, что если бы он сейчас ударил его справа снизу вверх, наверное, он перестал бы раскачиваться. Но он не мог этого сделать. Не потому, что абориген был старше его чуть ли не втрое, а по какой-то другой причине, не очень-то ясной и самому.
Что-то сдерживало его, может быть, сознание превосходства. А в этом он не сомневался. И это почувствовал абориген, понял и както сник сразу.
— Это хорошо, что вы вспомнили, — сказал Женька. — Ну, как там поживает ваш друг и коллега Семен? Отец, слышишь, рубит, а я отвожу?..
— Поживает… Ничего… — усмехнулся аборитен, но усмешка на этот раз получилась у него невеселой, настороженной, будто он опасался в чем-то Женьку и в то же время глубоко его презирал.
— Спасибо, Федор Егорыч, — сказал Жеька. — Деньги себе оставьте.
И, чтобы не растрачивать больше попусту слова, вышел. Было свежо и сыро. Снаружи палатка влажно темнела. Изредка с нависших над палаткой веток лиственницы срывались тяжелые капли и гулко, свинцово стукались о брезент. Женька постоял немного, успокоился. Подумал: «Спасибо, Федор Егорыч… И тебе, Семен, тоже спасибо… Грызуны! Я вам покажу… Гады!..» Но он еще не знал, что он им покажет и как он это сделает…
Сизыми волнами плыл над лощиной туман, спустившийся с гор, а может, это был и не туман, а поднимавшийся от воды пар, невесомый и мягко обволакивающий деревья.
Снизу, от ручья, доносился радостный вопль геофизика:
— У-ух!.. А-а-ах!.. Черт! Чер-р-р-т!.. — рычал он восторженно. И всплески воды. И Танин смех. А затем ее ласковый и приглушённый голос:
— Простудишься, смотри…
— Ничего. Я закаленный. А-а-ах-х! Черт…
И снова всплески. Видно, геофизик разделся до трусов и забрел в воду. А Таня стоит на той гибкой плахе, перекинутой через ручей, и тихо смеется.
— Закоченеешь, смотри…
И легкий, почти невесомый пар струится, течет над ней, как воздушная река, и все вокруг свежо и чисто, будто прибрано перед большим праздником.
Глава пятая
1
Он посмотрел вниз и отшатнулся — черная пасть ущелья дохнула на него сыростью. Он взял камень и бросил в эту разверзнутую пасть. Камень улетел, но звука не было слышно. Он прислонился спиной к скале, а ноги все равно не слушались его, не двигались, и он постоял так неподвижно, спиной к скале, несколько минут, соображая, что ему делать. Потом он внимательно посмотрел на свои ноги, как будто и в самом деле все зависело от них. Ноги его были чуть выдвинуты вперед, и вся тяжесть была перенесена на пятки — так ему удобнее было стоять. И он еще немного постоял, помедлил, не решаясь оттолкнуться от скалы и перенести тяжесть на всю ступню. Можно было вернуться. Его никто не посылал сюда. А если бы послал? Глупости.
Никто его не пошлет. Он испугался, что передумает сейчас и вернется, и вслух, каким-то хриплым голосом, будто кто-то сдавливал ему горло, сказал:
— Перестань, пожалуйста… — получилось это просительно, и он изменил тон и твердо повторил: — Перестань! Успокойся. Ты же видишь, что здесь уже кто-то не раз проходил. Ты не первый. Постыдись. Эх, ты!.. — сказал он и засмеялся, чтобы дать понять тому, второму, поселившемуся у него внутри, что он вовсе и не собирается отступать, возвращаться. Тот, внутри, немного успокоился. Ну, вот и хорошо…
— Вот и хорошо, — сказал он.
Прямо над головой на скальный выступ опустилась огромная птица. Она скосила на него красноватый глаз и замерла, будто окаменев.
— Кш-шы! Проклятая… Ну!.. — крикнул он. Птица лениво приподняла одно крыло, но не улетела.
Тогда он крикнул погромче. Птица насторожилась, подвигала крыльями и, взлетев, как вертолет Скрынкина, по вертикали, примостилась на следующем выступе, немного повыше. Он оставил ее в покое. Подумал: «Это, наверное, беркут, хозяин скалы». Издали снизу скала напоминала взмахнувшую крыльями птицу… Поэтому и назвали ее — «Беркут». Подняться сюда нетрудно, а вот пройти к Зеленому озеру…
— Можно пройти! — перебил он того, второго, поселившегося у него внутри. — Надо только быть уверенным… Здесь всего метров пятнадцать, ну, может быть, от силы двадцать. Это же совсем пустяк… — И он опять засмеялся. — Мы же с тобой стометровку пробегаем меньше, чем за двенадцать секунд… Здесь, конечно, не побежишь, но идти-то ведь можно. Пошли!
Птица все сидела на скале и смотрела на него сверху, как будто чего-то ожидая. Двадцать метров надо пройти осторожно и медленно, так медленно, как, может быть, никто и никогда не ходил. Карниз тянется вдоль серой неровной стены — местами стена заметно выступает и тут, наверное, особенно трудно идти… Местами темнеют впадины, как бы специальные ниши, тут можно постоять и перевести дух… Всего пятнадцать, ну, от силы двадцать метров. А там Зеленое озеро, снег и множество жарков… Он их нарвет целую охапку и принесет в лагерь. И все будут удивляться, где он нарвал таких цветов, — это же невозможно, какие необыкновенные огоньки!.. Он отдаст их Тане и скажет: «Не обожгись». И уйдет в палатку, залезет в спальный мешок… А завтра, если синоптики дадут погоду, опять полеты. Осталось двенадцать часов… Только он один знает, что это значит — двенадцать часов!..
— Пошли, — сказал он и, оттолкнувшись от скалы, уверенно шагнул вперед. Скорее даже не уверенно, а поспешно, как бы лишая себя возможности заколебаться и раздумать. Шаг, еще один… Раз, два, три!.. То есть это и нельзя было назвать шагами — он весь соприкасался с камнями, одновременно работали руки, ноги, глаза и мозг. Он осторожно передвигал сначала одну ногу, не отрывая ее от поверхности «карниза», правая рука в это время скользила по стене, а левая плавно балансировала и готова была в любую секунду прийти на помощь. Потом таким же способом он передвигал другую ногу. А глаза и мозг улавливали малейшие изменения и как бы проецировали следующий шаг…
Собственно, сам по себе карниз не таким уж и узким оказался.
Не будь слева этого черного провала, можно было пробежать его за несколько секунд… Но слева был провал, напоминавший чьюто чудовищно огромную пасть, в глубине которой, как зубы, торчали деревья…
Он шел медленно, прямо и старался не смотреть вниз.
2
И все же один раз он не выдержал и глянул в темнеющий провал и потерял равновесие. Плоский камень выскользнул из-под ноги (а может, нога соскользнула с камня), и он увидел, как, ударившись об острую кромку карниза, камень развалился надвое и улетел вниз… Он судорожно схватился обеими руками за выступ и сразу почувствовал, как тот, внутри у него, встрепенулся и ожил. Но он счел нужным промолчать и выждать время. Это была тактика. Он, разумеется, не предполагал, что двадцать метров эти окажутся такими коварными. А если бы и знал? Но он не знал! Надо идти. Но ведь обратно он пойдет, уже зная обо всем? Тем лучше. Он должен пройти. Эта мысль была единственной сейчас, за которую он держался так же судорожно и цепко, как он держался руками за каменный выступ. Он должен, обязан пройти! А почему он должен?.. И ради чего он это обязан сделать?
Кажется, подал голос тот, внутри…
— Ради себя, — насмешливо проговорил он, понимая, что таким тоном легче спорить с тем, вторым, который снова зашевелился… Надо было избавиться от него. Он вспомнил отца и очень обрадовался. — Послушай, — сказал он, — а что подумал отец, когда машина перестала его слушаться и пошла вниз?
А внизу город, дома, улицы… а по улицам автобусы, люди ходят… детишки гуляют… Что он подумал? Он ведь мог оставить машину? Но он, когда все это увидел внизу, не оставил машину, а постарался увести ее подальше… подальше от домов и улиц… Да! Но отец знал, что делает и ради чего он идет на такое!.. Тут и сравнивать нечего. А цветов, за которыми ты потащился к Зеленому озеру, точно таких же, полно в полукилометре от лагеря… Ха-ха!.. Если так рассуждать, цветов и дома, в палисадниках, под окнами много… И на рынке цветы продают. А вечером прямо на центральной площади, около театра музкомедии, выстраивается целая рота старух с полными ведрами. Покупайте, пожалуйста: «Поздняя сирень, ранние георгины»… Чудак ты, голова садовая, разве только в цветах дело?..
Он шел сейчас еще более осторожно и осмотрительно. Двадцать метров. Сто шагов, всего двадцать метров…
3
И озеро перед ним открылось внезапно. Оно лежало в круглой впадине, как в чаше, неподвижное, словно застывшая лава. Оно было зеленое. Он погрузил в воду руку, холод сковал ее так сильно, что он вскрикнул. Он пошел вдоль берега, под ногами шуршала галька. Справа лежал снег. Крупнозернистые кристаллы отливали синевой. Он зачерпнул их в ладонь, и подбросил, кристаллы сверкнули в воздухе и со звоном рассыпались.
И тут он увидел жарки. Он и до этого видел немало цветов, но такого обилия, такого сочетания красок, оттенков ему никогда еще не приходилось видеть. Жарки росли сплошным массивом, словно их здесь посеяли. Сверху они горели однотонно, ровными оранжевыми огоньками (так и называют их здесь: огоньки), а сбоку, если долго и внимательно смотреть, начиналось смешение красок — зеленоватое сливалось с оранжевым, или вдруг в нежнейших лепестках вспыхивали красные сполохи… Но это лишь до того, пока не надломишь хрупкий стебель.
Сорванный цветок, лишенный связи со своими корнями, как бы сникал, утихомиривал буйство красок и становился однотонным. А когда они легли один к одному, в охапку, Женька опять увидел зеленоватые и красные оттенки. Значит, это свойство — менять оттенки — они сохраняли только вместе и теряли в одиночку.
Удивительно! Чудо! Он сорвал еще несколько огоньков и приложил к букету — получился настоящий костер! Он посидел на берегу озера: отчего же вода такая зеленая? Потом он быстро поднялся и сказал: «Пора. Надо засветло перейти «карниз»…
4
На подъем он затратил много времени и, когда подходил к скале, вдоль которой тянулся «карниз», уже заметно потемнело. Камни, окружавшие его со всех сторон, потеряли рельефность, точно растворившись в быстро надвигавшихся сумерках. Идти стало труднее. Теперь надо быть особенно расчетливым.
Один неосторожный шаг и… Он не стал думать дальше — не хотел знать, к чему это может привести. Смутно и мрачно вырисовывалась перед ним скала Беркут, какая-то плоская и бесформенная с этой стороны.
Он вдруг отчетливо различил голоса и остановился, прислушиваясь. Голоса повторились. Совсем близко. Тут кто-то был, и Женька обрадовался этому несказанно, будто он лет сто не слышал человеческого голоса, хотя, впрочем, он и представить не мог, кто тут мог быть.
— Ау-у!.. — закричал он, чувствуя, как сильно и гулко стучит сердце, будто движок настоящий. — Эй, кто тут есть?
— Шагай, шагай побыстрее, — сказал кто-то Михиным голосом. Он удивленно пошел на этот голос и через минуту столкнулся лицом к лицу с первым пилотом Скрынкиным и бортмехаником Михой.
Это было так неожиданно, что он встретил их здесь… Он не поверил своим глазам. Он стоял и смотрел то на одного, то на другого — осталось только подойти и пощупать каждого из них, убедиться, что они — это они.
— И вы тоже? — спросил Женька растерянно.
— И мы тоже… — усмехнулся Миха, но усмешка его не обещала ничего доброго.
— Ладно, пошли, — сказал Скрынкин. — Закрепляй веревку. Сначала я пройду.
Миха обмотал конец веревки вокруг ствола лиственницы и завязал каким-то хитрым узлом. Другим концом обмотался Скрынкин и медленно двинулся по узкому каменному карнизу, а Миха и Женька молча смотрели ему вслед.
— Готово! — сказал он потом и стал закреплять свой конец с той стороны. Миха подтолкнул Женьку в плечо:
— Иди.
Женька пошел. Потом Миха размотал конец веревки с той стороны и, обвязавшись, тоже перешел. И только тут его прорвало.
— Дурак! — сказал он Женьке и поднес к самому его носу кулак. — Вот чего не хватает тебе… Псих! Поросенок необразованный!.. Филин лопоухий!.. — кричал он. — Осел!.. Пингвин несчастный!..
— Ну, хватит, — сказал Скрынкин, — пошли.
— Морду бы ему набить за это. А? Набить, что ли? — устало и опустошенно прозвучал Михин голос.
Женька молчал. Миха опустил руку и отвернулся, и видно было, как он тяжело и неровно дышит и как вздрагивают у него плечи. Так здорово он разошелся, Миха… Женька смущенно посмотрел на Скрынкина.
— Додумался тоже… — сказал Миха, когда они двинулись один за другим, цепочкой — впереди Скрынкин, за ним Женька, а сзади Миха, как будто они его конвоировали. — Додумался, — сказал Миха. — Ты вообще-то имел какое-нибудь представление об этой скале?
— Имел, — ответил Женька.
— То-то и видно, что имел! Как же ты прошел?
— Как? Просто. Взял да и прошел.
— Лунатик! Тип несчастный! Тут же без страховки ни один дурак не пойдет… — уже мягче и примирительнее сказал Миха.
Они вернулись в лагерь, когда уже совсем стемнело. Горел неизменный костер. Трепещущие отблески падали на брезентовые бока палаток, скользили по стволам деревьев, по лицам людей, сидевших вокруг костра. Женька поискал глазами Таню, но Тани не было у костра. Он опустился прямо на землю, не выпуская из рук букета.
— Ты где был? — спросил Шраин. — Ты что, за цветами ходил?
— Ага, — Женька испытывал желание лечь на спину, закрыть глаза и забыть обо всем; усталость размагничивающе на него подействовала. — К Зеленому озеру, — сказал он. — Там этого добра хоть комбайном коси…
Оранжевые блики на лице начальника побагровели, но он сдержался и почти спокойно сказал:
— Мальчишка! Как ты смел? Мальчишка!.. — повторил он, вкладывая в это обычное слово всю силу накипевшей злости, обиды, уязвленного самолюбия. — Ведь это же случайность, что ты не расшиб себе голову. Тоже мне анархист! — он хотел сказать «альпинист», но у него вырвалось «анархист». — Ты где находишься? В отряде? Вот и будь любезен уважать людей, с которыми ты живешь… И работаешь с которыми.
— Извините, — сказал Женька, поднявшись, и, помедлив немного, пошел к палатке. Никто его не окликнул, не остановил. Он увидел стоявшего у входа аборигена и, странно, не испытал к нему прежней неприязни, словно острое это чувство стерлось и осталось в душе только равнодушие… Да и, собственно, при чем тут абориген!.. Он его не посылал к озеру…
Женька молча прошел мимо. Тут же влез в палатку абориген.
Женька положил цветы на стол, сел на свою раскладушку и стал расшнуровывать ботинки.
И вдруг услышал голос и даже вздрогнул, так неожиданно прозвучал этот голос и замер, и снова возник, словно ручей пробился и шелестел по камням, растекался, ширился… и ктото осторожно шлепал веслом по воде… и до того все вокруг виделось разумным и чистым… И песня, собственно, песней это и не назовешь, потому что голос жил отдельно и как бы независимо от слов, а слова были невнятны и не доходили до Женьки…
— Кто это? — удивился он. — Сима?
— Сима и есть, — сказал абориген. — Неужто к Змеиному озеру ходил?
Женька снял ботинки, брюки и залез в спальный мешок. Человек в мешке — это тебе не фунт изюму!.. Абориген тоже начал раздеваться, пыхтел, как паровоз, устраиваясь в своем мешке… Улегся, наконец, и через минуту подал голос:
— А у нас тут событие. Ты вот проходил, а тут помолвка была…
— Какая помолвка?
— Олег Васильевич и Татьяна Семеновна, значит, обоюдно решили… Подходящая пара! — сказал он. — Ты им цветы-то свои подарика… Поздравь. Мы уже поздравили, счастья им пожелали. Добрая пара… Чего молчишь-то? Как сурок! Скажи, чего ты взъелся на меня?
Какие у тебя ко мне претензии? Ишь, выискался… Разболтал Шраину. Только я тебе вот что скажу, милок, начнут раскапывать это дело, тебя тоже не помилуют. Вот увидишь, не помилуют. А как ты думал? Ездил в тайгу? Ездил! Помогал грузить? Помогал! И водочку пил, маралинкой закусывал… Свидетели есть? Есть!
— Не водочку, а самопал какой-то, — буркнул он.
Женьке показалось, что все это специально подстроено, что ктото жестоко и безжалостно решил его разыграть. А Шраину он ничего не говорил, хотя и должен был сказать. Почему не сказал? Он расстегнул мешок и приподнялся на локтях.
— Послушайте, — сказал он, — это правда, что… ну Олег Васильевич и Таня решили?..
— Врать я тебе стану? — ответил абориген и вдруг весело хохотнул и посоветовал. — А ты загляни-ка иди в палатку… Теперь они, подика, вместе живут. И спят вместе, как, значит, муж законный и жена…
— Замолчите! — крикнул Женька.
— Да ты что, парень, ты что… разве я что-нибудь… Я что ль виноват?
Действительно, Крохмалев тут ни при чем. Он, так сказать, лицо третье… Но Женька не мог и не хотел его слышать.
— Замолчите. Я же вас прошу…
И он опять услышал Симин голос и подумал: почему она здесь поет? У нее же такой голос… интересно, почему она из консерватории ушла? Таня… Таня, зачем ты так?.. И он еще ничему не поверил, полагая, что это какое-то недоразумение, розыгрыш, наконец, но жить ему стало труднее…
И Симин голос. Может, и не было никакого голоса, а он вообразил…
Глава шестая
Утром он пришел к вертолету — Таня уже была в кабине. Женька поздоровался и сел на другую скамейку.
— Как дела? — спросила Таня. — Ты, говорят, покорил скалу Беркут?
Женька промолчал. Он снял резиновую заглушку с иллюминатора и закурил.
— Один грамм никотина убивает слона, — сказала Таня.
— Лошадь, — поправил Женька. — А я, между прочим, человек.
Он говорил и старался проследить за выражением Таниного лица, но лицо ее осталось непроницаемым и спокойным.
— А я и не думаю иначе.
— Это правда, что вы и Олег Васильевич…
— Правда, — кивнула она.
— Поздравляю, — сказал Женька.
— Спасибо, — улыбнулась Таня, но вовсе не виновато, как этого хотел Женька, а скорее снисходительно. — А уговор наш остается в силе. Мы обязательно поедем в твой город. Поедем? Сколько там осталось часов? Сто минус…
— Нет, — глухо и отчужденно сказал Женька. — Не поедем.
Таня пожала плечами.
— Скажи, Таня, зачем все это было? — спросил он. — И что это было?..
— Женечка, милый, ну считай, пожалуйста, что ничего не было…
— Как это не было? Ведь было же!.. Зачем?
— Пойми, Женя, ты еще совсем мальчик. А мне уже двадцать четыре…
— Ну и что? Это имеет значение?
— Да, имеет. Мне двадцать четыре года. И у меня… Ты самого главного не знаешь… У меня… — сказала она, помедлив, — у меня есть ребенок. Мальчик. Сын. Антон. Ему скоро два года…
— Не надо, Таня! Ни о чем не надо говорить.
— Я хочу, чтобы ты понял.
— Я все понимаю. Но я все равно люблю тебя.
— Женя…
— Не надо, Таня, — сказал он. — Завтра я уеду.
— Как уедешь?
— Буду готовиться в институт…
— В институт международных отношений? Но тебе же еще одиннадцатый класс…
— Ну и что? А может, я заранее буду готовиться…
Женька попытался изобразить на лице улыбку, но улыбка не получилась, и он отвернулся.
— Нельзя же так вдруг… — сказала Таня.
Пришел Олег Васильевич, сел рядом с Таней. Вертолет почти неслышно оторвался от земли, набрал высоту и пошел знакомым курсом — над темнеющим кедрачом, над горами. Взмахнула каменным крылом скала Беркут… «До свидания», — мысленно сказал Женька горам, тайге, ущельям, в которые, как сгущенное молоко, стекал туман, небу, которое сияло над горами опаловой синевой…
— Знаешь, Олег, — сказала Таня, — а Евгений собирается уезжать.
— Как это собирается? — удивился Олег Васильевич. — Полевые работы в самом разгаре… Это же надо быть безответственным человеком, чтобы уехать сейчас…
Женька искоса посмотрел на геофизика, лицо у него было серьезное и немного усталое.
Из пилотской кабины торчали ноги бортмеханика.
— Миха, Миха… — позвал Женька. Ноги качнулись и медленно поползли вниз. — А почему в озере такая зеленая вода? — спросил Женька.
— Много будешь знать — скоро состаришься… — сказал бортмеханик, втягивая ноги обратно в кабину.




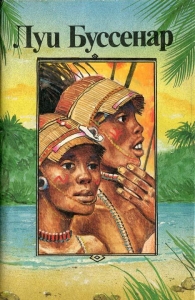
Комментарии к книге «Прошу взлёт», Иван Павлович Кудинов
Всего 0 комментариев