Via est vita: Бог велик – а лес больше
«Бог велик – а лес больше» – в этой древней индейской мудрости решили убедиться на собственном опыте участники второй российской научно-исследовательской экспедиции в южноамериканскую сельву, состоявшейся спустя четыре месяца после первой, которая, впрочем, была совместной – итальянско-российской и проходила в приграничном районе между Венесуэлой и Бразилией. Об этом путешествии мы уже писали.
Частота хождения россиян в джунгли Южной Америки может показаться удивительной, во всяком случае, на первый взгляд. И то верно: что они, собственно, там забыли? Что влечет их туда, причем с завидным упорством и настойчивостью? Ответ прост – жажда познать неведомое, то, к чему еще недавно не мог близко подступиться ни один, даже самый упорный и настойчивый из русских исследователей. Ведь сельва – уж если по большому счету – и сегодня остается наименее изученной областью нашей планеты… Итак, в сентябре 1994 года в Бразилию вылетела российская экспедиция – во главе с Анатолием Хижняком, членом Русского географического общества, – куда также вошли: Андрей Куприн, организатор и финансовый директор экспедиции и, кроме того, видеооператор; Владимир Новиков, фотокорреспондент; Александр Белоусов, видеооператор Российского телевидения, и Николай Макаров, художник. Средний возраст участников экспедиции, проходившей при финансовой поддержке банка «Столичный», – тридцать пет. Ив бразильскую сельву они отправились затем, чтобы, проникнув в неисследованные районы Амазонии, снять на видео– и фотопленку, равно как и описать, дождевой реликтовый лес, а также собрать семена некоторых экзотических видов тропических растений – по заказу Главного ботанического сада Российской академии наук. Ну и, помимо всего прочего, для того, чтобы попытаться вступить в контакт с дикими племенами индейцев яномамской группы. О том, как проходила экспедиция, рассказывает один из ее участников – Андрей Куприн. Так что, уважаемые читатели, вам предоставляется возможность узнать о приключениях молодых отважных россиян в Амазонии, что называется, из первых уст. Итак, в путь!..
Барселус
Был уже второй час ночи, когда дизельный речной пароходик со звучным названием «Принцесса Амалия» подошел к барселусской пристани. Торопливо перекидав на причал, с помощью команды, наш громоздкий, мало поддающийся учету багаж, мы проводили взглядом быстро удаляющиеся кормовые огни. Более неудобного времени для прибытия в этот затерянный в бескрайней сельве городок, что в пятистах километрах от Манауса, выбрать было сложно. Перспектива заночевать на пристани была вполне приемлемой, хотя особой радости не вызывала, учитывая, что последние две ночи мы провели на крыше палубной надстройки парохода. А пошедший под утро дождь привнес в надвигающийся промозглый рассвет еще больше уныния.
Барселус… Это слово позднее стало для нас символом всего цивилизованного мира, городом возвращения. Ну а пока я с интересом вглядывался в каменные ступени, уходящие метров на двадцать вверх по довольно крутому берегу. Сезонные перепады уровня воды в реке доходят до десяти метров. И лишь высота берегов спасает город от затопления.
Несколько улиц, сплошь уставленных магазинами, католическая церковь, заводь, поскрипывающая деревянными бортами баркасов… Скользнув по городским строениям, взгляд невольно останавливается на зеленой стене, возвышающейся на противоположном берегу. Хотя это только один из бесчисленных островов, разрывающих сорокакилометровое русло Риу-Негру, мне кажется, что именно там скрывается древнейшая тайна Земли – реликтовый дождевой лес Амазонии.
Мы остановились в единственной в Барселусе гостинице. В наши планы входило пробыть здесь около двух суток. Предстояла еще масса дел: надо было закупить продовольствие, оружие и выяснить обстановку в окрестностях. Самым сложным оказалось найти проводника с моторной лодкой, который согласился бы подняться, насколько это возможно, по Демени, левому притоку Риу-Негру.
Анатолий Хижняк, как единственный из нас, знавший португальский, отправился в порт – искать проводника, а мы разбрелись по магазинам. Володя Новиков, фотограф, проявив истинную страсть к сбиванию цен, существенно снизил возможные затраты на продукты. То из одной лавки, то из другой, – а иногда казалось, что из нескольких одновременно – я слышал его неодобрительно-пронзительное «не жирная!». Причем это высказывание чаще всего относилось к вещам, имевшим к «жирности» весьма отдаленное отношение. Как ни странно, это все же производило впечатление, и наши гермомешки для продуктов тяжелели с пугающей быстротой. К вечеру нашлись и проводники: их оказалось двое – метис Лопорино и индеец Педро, хорошо знавший район Демени. В общем, все шло более или менее по плану. Правда, некоторое беспокойство вызывал груз, состоящий из трех разобранных лодок, палаток, фото– и видеоаппаратуры и невообразимого количества «нужных» вещей. Прошедший день добавил к этому списку карабин с патронами, продукты в расчете на полтора месяца, а также восемьсот литров бензина для японского лодочного мотора марки «ямаха». Стало ясно, что в одной лодке нам не уместиться.
Вообще все наши предыдущие перемещения можно условно разбить на несколько этапов: ИЛ-62 «Аэрофлота» доставил нас из Москвы в Рио-де-Жанейро, «боинг» «Транс-Бразил» – из Рио-де-Жанейро в Манаус, речной пароходик – из Манауса в Барселус. И лишь на другой день, почти через полторы недели пребывания в Южной Америке, мы уходили в мир, ради которого и ступили на эту землю.
Но, прежде чем покинуть Барселус, мне бы хотелось сказать еще пару слов об этом своеобычном городке. Между прочим, это бывшая столица бразильской Амазонии, однако со временем она утратила свое первенство и медленно пришла в запустение. Обветшалые монументальные каменные пристани, аэропорт с кассой, залом ожидания и баром, где все двери закрыты на замки, где нет ни служащих, ни пассажиров, вызывают ощущение, что город начинали строить с размахом и даже некоторой помпезностью, от которой теперь не осталось и следа. Количество машин и мотоциклов на главной улице города невольно вызывает улыбку. Дело в том, что из Барселуса не проложена ни одна дорога, вся связь с внешним миром – черная лента Риу-Негру да редкий самолет. Поэтому машины здесь встретишь, пожалуй, только на единственной асфальтированной улице, что тянется параллельно берегу. Перед каждой поездкой хозяева с любовью натирают свои автомобили полирующим составом, садятся за руль и отправляются кто куда – но не далеко, от силы на полкилометра от дома. Едут по делам или просто покататься.
Демени
Около часа дня наш караван, состоящий из двух связанных алюминиевых лодок, приводимый в движение сорокасильной «ямахой», наконец тронулся в путь. Барселус располагается как раз напротив устья Демени, и прежде всего нам предстояло, огибая многочисленные острова, пересечь русло Риу-Негру, на что при нашей скорости – около пятнадцати километров в час – могло уйти часа три. То, что гигантская река осталась позади, мы поняли, лишь когда Педро, махнув рукой прямо по курсу, произнес: «Демени». И только чуть позднее мы заметили, что плывем вверх по течению однорусловой реки шириной около двухсот метров. Теперь можно было свободно ориентироваться на местности, сопоставляя крутые повороты Демени с имеющейся у нас «пятикилометровой» картой, составленной по данным спутниковой съемки.
На ночь остановились в деревне, состоящей из двух хижин, покрытых пальмовыми листьями. Весьма любопытно, что этот населенный пункт значился на нашей подробной карте. Население – уже приобщенные к современной цивилизации индейцы тукано, встретили нас довольно приветливо. У одной из хижин горел костер, где-то рядом в темноте неслышно несла свои воды река. И надо всем этим раскинулось звездное экваториальное небо, как бы поддерживаемое ветвями могучих деревьев.
Первая ночь в сельве… Она заставляет думать каждого о своем. Ночь, наполненная ожиданием. Таким же откровением для меня позже стал наш последний ночлег в тропическом лесу. А пока мы были лишь на пороге этого чарующего мира, и только собирались войти в дверь, которая открывается далеко не каждому.
Тужужу
Наутро снова в путь. До сегодняшнего дня все шло как по маслу. Равномерный шум мотора, вспугивающий прибрежных птиц, на нас действовал успокаивающе, и мы наслаждались видами Демени и красотами прибрежных пейзажей. Я сидел на носу первой лодки, как зачарованный, всматривался в каждый поворот реки, словно в ожидании чуда, и лишь иногда доставал из защитного кофра видеокамеру – чтобы заснять самое интересное. Хижняк делал пометки на карте: ведь за десять лет, прошедших со дня ее выпуска, река в некоторых местах уже успела изменить свое русло. Чем дальше мы уходили вверх, тем очевиднее становилось, каким долгим и трудным будет возвращение. О том, что его могло не быть вообще, мы старались не думать.
Вдруг мотор снизил обороты, и я увидел, как Педро достает из-под канистры с бензином дробовик, внешним видом напоминавший мушкет. На берегу, метрах в пятидесяти от нас, прохаживалась, ничего не подозревая, напоминающая цаплю птица. Мотор смолк, и лодки по инерции бесшумно заскользили вдоль берега. Педро показал пальцем на добычу и тихо произнес странное слово – «тужужу». Грянул выстрел. Пятна крови выступили на белоснежной шее и левом крыле птицы. Она не упала и, видимо, не имея сил взлететь, заковыляла в сельву, тяжело переваливаясь с лапы на лапу. Лодка тем временем уткнулась носом в берег. Я мигом соскочил на сырой песок. Сначала у меня было желание догнать подранка, но я тут же смекнул: Бог с нею, птицей, пусть последнее слово останется за охотником-индейцем. И Педро сказал свое слово. Дальнейшие действия своей неторопливостью напоминали покадровый просмотр фильма: медленно идущая «тужужу» и неспешно преследующий ее Педро поочередно скрылись за кустами. Прошло еще минуты три, и Педро вернулся такой же неторопливой походкой обратно – пустой. А на наши недоуменные взгляды – где же, мол, птица? – он ответил очень просто – ушла. В голосе индейца не было ни тени разочарования. Но это уже вопрос психологии. Индейцам вообще свойственно жить, затрачивая лишь необходимый минимум усилий: они довольствуются только тем, что легко взять. Казалось бы, такой подход к жизни свойствен бездельникам, но у всего есть своя обратная сторона: индеец берет у природы лишь то, что она сама готова ему отдать, – он живет, не разрушая свой хрупкий мир.
На веслах
За два дня пути вместе с Лопорино и Педро мы прошли около четырехсот километров – аккурат до того места, где в Демени впадает ее правый приток река Куэйрос. Дальше начинались земли индейцев яномами. Здесь нам пришлось расстаться с проводниками, как, впрочем, и с «ямахой», которая до сегодняшнего дня с легкостью вытягивала нас вверх по реке. Прощание было коротким: рассчитались с индейцами да пожелали им благополучного возвращения. Хотя, как мне показалось, они сильно усомнились, что нам, пятерым «странным» белым из далекой неведомой страны, будет суждено когда-нибудь снова появиться в Барселусе. Лодки скрылись за поворотом, и, когда стих шум мотора, мы поняли, что остались один на один с сельвой. С этой минуты нам предстояло рассчитывать только на свои силы да еще на везение, от которого в большой степени зависела судьба экспедиции и каждого из нас. Гора рюкзаков и гермомешков на берегу озадачивала: удастся ли разместить весь груз в лодках? Их было три: трехместная байдарка «Таймень», наибольшей вместимости, способная принять на борт двух человек, да килограммов двести груза, и две двухместные «Нерпы» – легкие, юркие, больше подходящие для спортивного сплава, чем для длительного автономного путешествия по воде. С большим трудом уложив всю кладь, мы наконец отчалили. Я с Николаем Макаровым втиснулся в готовый, кажется, затонуть от распирающего его груза «Таймень». Александр Белоусов и Владимир Новиков разместились в первой «Нерпе», а во вторую уселся Анатолий Хижняк, прихватив с собой огромный мешок с продуктами.
Течение Демени не сильное, но грести на перегруженных лодках несколько часов подряд – занятие довольно утомительное. Тяжелее всего пришлось Хижняку: он был один и работал веслами почти без передышки; к тому же в его байдарку через плохо заделанные швы стала проникать вода. Взошедшее в зенит солнце безжалостно обжигало не защищенные одеждой участки кожи: ведь мы еще не успели привыкнуть к его испепеляющим лучам.
Около двух часов дня небо затянули облака, послышались близкие раскаты грома, налетел шквальный ветер, покрывший поверхность Демени полуметровыми валами, и следом за тем обрушился ливень. В первое мгновение показалось, будто мы попали под сплошной поток воды, лишь самую малость разбавленную пузырьками воздуха. Черная поверхность реки буквально кипела. Наверное, безудержное буйство сил природы передалось и нам: мы еще дружнее налегли на весла – лодки упорно продвигались вперед. Я сидел на носу «Тайменя» и сквозь струи, бьющие в лицо, видел, как волны, продавливаемые байдаркой, обрушиваются на ее брезентовый верх. Сквозь рев сзади прорвался Колин крик: «Нас сейчас сломает… Каркас на пределе… Давай к берегу!» «Тайменю» и правда приходилось туго – при его почти шестиметровой длине и запредельной загрузке он поневоле старался вписаться в профиль волн. Алюминиевые трубы пока держались, но надолго ли хватит у них крепости? Мы стали смещаться с середины бушующей реки шириной двести метров ближе к берегу, где волна была меньше. Тем временем «Нерпа» Хижняка отстала – легкое ли дело грести одному в эдакую бурю? Стена дождя почти скрыла нашего товарища. Мы начали разворачиваться, вал ударил в левый борт, перехлестывая через край, «Таймень» накренился, но выдержал. Еще удар, еще… и вот уже волну режет острие кормы. Ветер уперся нам в спину, несколько взмахов веслами – и Хижняк рядом. Я кричу ему, чтобы он бросил нам веревку. Пока Коля берет «Нерпу» на буксир, я лихорадочно вычерпываю эмалированной кружкой воду, готовую вот-вот залить лодку полностью.
Тропический ливень продолжался около часа, и все это время мы упрямо шли против ветра и течения. И только с последними каплями дождя три лодки сошлись вместе, пришвартовавшись к нависшему над водой стволу пальмы. Амазония, подобно хищной птице, лишь легко взмахнула над нами своим грозным крылом…
На ночь встали на высоком берегу. Место для палатки пришлось вырубать. С трудом набрали дров для костра. В тропическом лесу сделать это непросто. Живые ветви совершенно непригодны не только для разведения, но и для поддержания огня. Казалось бы, ничего страшного, ведь вокруг столько погибших растений, но все, что коснулось земли, моментально пропитывается влагой и вскоре превращается в труху. В дело идут только сучья, высохшие, но не упавшие, а оставшиеся висеть, запутавшись в плотной сети ветвей и лиан. Здесь же мы первый раз столкнулись с колючими пальмами, которые впоследствии доставили нам немало неприятностей. Причем главную опасность представляют не покрытые огромными шипами стволы взрослых растений, а молодая поросль и опавшие листья на почти метровой длины стеблях. Тонкие черные, пятисантиметровые иглы, к тому же твердые, как стекло, легко прокалывают одежду и впиваются в тело. Не приведи Господь наступить на пусть даже полусгнивший стебель пальмового листа ногой, не защищенной толстой подошвой армейского ботинка. Колючки почти не поддаются гниению и остаются такими же острыми, как на живом дереве. Отломившиеся концы шипов, засев глубоко под кожей, причиняют нестерпимую боль и вызывают нагноение.
Ночью стало довольно холодно, а тут еще одежда и спальники промокли, хоть выжимай. С рассветом, в шесть утра, мы снова были на воде. Пройдя за несколько дней около сотни километров вверх от того места, где состоялось наше прощание с Педро и Лопорино, мы неожиданно вышли к индейской деревне.
У журикабо
Первое, что мы увидели, были пятеро индейцев: они стояли на берегу и внимательно разглядывали нас, нежданных гостей. Вообще мы являли собой довольно впечатляющее, красочное зрелище – особенно бросался в глаза «Таймень». Ярко-зеленого цвета, почти шестиметровой длины, украшенный двумя голубыми крышами-надстройками, которые мы позднее сняли за ненадобностью, и красным механизмом рулевого управления. На фоне долбленых индейских лодчонок наш «Таймень» поистине производил впечатление линкора. Две «Нерпы» – одна синего, другая коричневого цвета, образовывали что-то вроде эскорта. Картину дополняли желтые майки с непонятным символом и надписью «Банк „Столичный“ да лежащий на носу „Тайменя“ арбалет.
Похоже, наше появление вызвало легкую панику среди индейцев. Трое из них остались на берегу, чтобы не спускать с нас глаз, а двое других скрылись в зарослях – вероятно, чтобы предупредить остальных.
Подплываем ближе – на лицах индейцев, обрамленных полукругом черных волос, смесь любопытства и страха. А страх может сослужить плохую службу – от него один шаг до агрессии.
Трое оставшихся – молодые мужчины – были почти полностью обнажены – только одна веревка вокруг пояса, которую никак нельзя было принять за элемент одежды: скорее всего, она служила чем-то вроде перевязи – чтобы можно было подвешивать разные мелкие вещи. На телах никакой раскраски. Все трое худощавые, низкорослые, с выступающими вперед животами.
Я незаметно прикрываю арбалет брезентом. Хижняк приветствует индейцев на португальском. Вижу – они его не понимают.
Пока мы причаливали, на берегу уже собралась толпа человек в десять-двенадцать, в том числе четыре женщины. У многих мужчин в руках прямые двухметровые луки. Высаживаемся, Хижняк судорожно роется в рюкзаке – индейцам нужно что-то подарить. На свет появляются рыболовные крючки и леска. Индейцы, видя, что мы не вооружены, успокаиваются и с радостью принимают подарки. По времени, которое понадобилось, чтобы позвать подмогу, я прикидываю, что деревня совсем рядом. Вперед выходит индеец и обращается к нам по-португальски. Хижняк вступает с ним в разговор, обильно подкрепляя слова мимикой и жестами. Обоим явно не хватает словарного запаса. Время от времени обе переговаривающиеся стороны доводят краткий смысл сказанного до «соплеменников». Так мы узнали, что эта яномамская деревня – своего рода форпост на границе индейских земель. Бразильцы не часто бывают в этом глухом месте. Самые долгожданные гости – миссионеры, они привозят лекарства, одежду, железные ножи, мачете, огромные (до полутора метров в диаметре) сковороды для обжаривания маниоки. Изредка появляются представители ФУНАИ – государственной службы защиты индейцев. Кстати, перед отплытием из Манауса мы побывали в штаб-квартире этой организации, где узнали трагическую новость о том, что недавно в один из районов Национального парка Де-Неблино вторглись гаримпейрос – бразильские золотоискатели и что в борьбе с ними погибло несколько сот индейцев. В конце концов яномами все же удалось изгнать вторгшиеся на их земли хорошо вооруженные отряды. Однако нас предупредили, что в результате последних событий общение с яномамскими племенами, даже не участвовавшими в военных действиях, дело отнюдь не безопасное…
Пока все, кажется, идет нормально, на лицах индейцев наконец появляются улыбки. Многие подходят к нашим лодкам – они явно произвели на них впечатление. Луки из грозного оружия превратились в товар для обмена. Вымениваем на веревки и материю три лука со стрелами. Лук изготовлен из черного как смоль, плотного и необыкновенно упругого дерева, стрелы – из какой-то разновидности бамбука; они необычайно легкие, на одном конце – костяной или деревянный наконечник, на другом – темное оперение. Тетива искусно сплетена из растительных волокон, но на большинстве луков она синтетическая – так прочнее и надежнее. Как нам рассказал Антонио, индеец, знавший по-португальски, даже у племен, никогда не вступавших в контакт с современной цивилизацией, все чаще можно встретить тетиву из капрона. Это – продукт обмена с жителями приграничных деревень, вроде той, где мы сейчас находились. Кстати, тут же уточню: Антонио, конечно же, не индейское имя, настоящие свои имена яномами тщательно скрывают от пришлых. По индейскому поверью, человек, узнавший твое имя, при желании может легко наслать на тебя порчу. Поэтому индейцы в общении с внешним миром называют себя библейскими именами, которыми их окрестили миссионеры.
Антонио показывает нам свое искусство стрельбы из лука – выпускает стрелу, она взмывает далеко ввысь. Затем передает лук Хижняку – теперь ты, мол, покажи, на что способен. Индейцы, которых к этому времени стало заметно больше, внимательно следят за ними. И вообще, происходящее уже напоминает импровизированное спортивное состязание. Анатолий, вероятно, тоже почувствовав это, делает красивый жест – передает лук мне.
Ощущение глупейшее! Антонио и я оказываемся посредине живого круга, образованного коричневыми телами мужчин и женщин. И в центре всеобщего внимания – мы, пятеро пришельцев в защитного цвета одежде, с дурацкими ухмылками на лицах. У меня в руках двухметровый лук и такой же длины стрела. Судорожно вспоминаю, когда последний раз держал в руках лук. Вспомнил: в четвертом классе. Изумительно! Хорошо еще, что в небо – а если бы в мишень? Стрела выскальзывает из пальцев – того и гляди упадет. Раздается смех. Понемногу вхожу в азарт. Крепко зажав между пальцами стрелу, медленно натягиваю тетиву, направив деревянный наконечник в ослепительно голубое небо. Что-то сейчас будет! В общем, одно из двух: либо сломаю эту палку, хоть она и чертовски упругая, либо… Ну да Бог с ним, со всем, не корову же, в конце концов, проигрываю. Черный лук сгибается в дугу, слышится слабый треск – но пальцы уже послушно разжались, и стрела с резким свистом уходит в небо. И скоро скрывается из вида. Зрители, придя в легкое замешательство от увиденного, тотчас бросаются врассыпную. Каждый индеец думает, что стрела, падая обратно, попадет точно в него. Я вскидываю голову – и, успев разглядеть мчащуюся вниз стрелу, отскакиваю в сторону. Летящая с долгим, протяжным свистом стрела, достигнув земли, вонзается в плотный песок сантиметров на двадцать. Похоже, наша взяла.
Ну что же, начало знакомству положено – нас приглашают в деревню. Пройдя по тропе через довольно плотный кустарник и небольшую банановую плантацию, выходим на вытоптанную площадку. Посередине стоит огромная шатрообразная хижина-деревня молока. С некоторым трепетом заходим внутрь. После яркого света глаза не сразу привыкают к полумраку. В круглое помещение метров тридцати в диаметре свет проникает только через центральное отверстие в конической, покрытой пальмовыми листьями крыше и дверной проем. Пол – утрамбованная земля. В центре молоки пусто, а вдоль стен на столбах, поддерживающих кровлю, развешаны гамаки. В некоторых из них сидят индейцы, их глаза внимательно следят за нами. Гамаки располагаются как бы группами; каждая из групп принадлежит отдельной семье. Между гамаками разложены костры. Молока не имеет внутри перегородок – это одно огромное помещение, в котором могут жить до восьмидесяти человек. У стен стоят луки и духовые трубки, предназначенные для стрельбы отравленными стрелами…
Со времени высадки мы не успели снять ни одного кадра – боялись разорвать тоненькую, едва-едва обозначившуюся нить, связавшую нас с индейцами этого яномамского племени, которые, как выяснилось, называли себя журикабо. Потом мы не раз сожалели, что вовремя не воспользовались ни фотоаппаратом, ни видеокамерой. Но было уже поздно. Удача отвернулась от нас так же внезапно, как и улыбнулась нам.
Снаружи послышался шум – и мы, в сопровождении Антонио, поспешили к выходу из молоки.
Давид
То, что обстановка изменилась, было заметно сразу. Выйдя наружу, мы оказались в полукольце воинов. Чуть впереди стоял плотный индеец средних лет, в поношенных шортах и майке. Антонио заговорил с ним, пытаясь что-то объяснить, – как видно, насчет нас, но тот его не слушал. И пристально глядел в нашу сторону. Дело, похоже, принимало серьезный оборот. Перед нами, судя по всему, стоял вождь – для него мы были незваными гостями, вторгшимися в его владения. Хижняк попробовал заговорить с вождем по-португальски, и тот начал ему отвечать. Я ни слова не понял из их диалога, однако тон предводителя журикабо не сулил ничего хорошего. «Надо уходить», – бросил нам Хижняк. Индейцы расступились, и мы двинулись по тропе, ведущей к берегу. Шли не оглядываясь, спиной чувствуя недобрые взгляды воинов журикабо. От былого радушия не осталось и следа.
У кромки воды остановились – хотелось узнать, что сказал вождь, и обсудить, как быть дальше. Через некоторое время к нам подошел Антонио и передал решение Давида – так звали вождя, которому индейцы, все до одного, подчинялись беспрекословно.
«Вы должны немедленно покинуть деревню», – коротко сообщил Антонио.
Однако, поскольку дело близилось к вечеру, нам было позволено остановиться на ночь километрах в двух выше по течению Демени (ниже не было подходящего места для стоянки), с тем чтобы уже наутро покинуть территорию этого яномамского племени.
Всю ночь рядом с нами был молодой индеец по имени Луис – вождь отрядил его следить за нашими действиями.
Кроме того, Антонио, перед тем как проститься, добавил, что, если мы не подчинимся требованиям Давида, яномами применят силу.
Итак, выбора у нас не было. Мы стали лагерем и решили дождаться утра, а потом, воспользовавшись тем, что по договоренности кому-то из нас предстояло доставить Луиса обратно в племя, – еще раз попробовать договориться с вождем. Индейская деревня непреодолимым заслоном встала на нашем пути в неисследованный район Амазонии, раскинувшийся у подножия Гвианского нагорья.
Ночь прошла спокойно. Накормленный до отвала и задаренный подарками, Луис безмятежно спал, свернувшись калачиком в тамбуре палатки, никак не реагируя на то, что мы то и дело через него перешагивали. Утром, как и договорились, Хижняк с Луисом сели в «Таймень» и поплыли в деревню. Компанию им составил наш оператор Саша Белоусов – в глубине души он надеялся отснять хотя бы несколько планов. Вернулись они вдвоем с Хижняком часа через два с половиной – лица у обоих безрадостные. Однако, хотя нам и в этот раз, как говорится, дали от ворот поворот, Хижняку удалось кое-что разузнать о вожде журикабо.
Оказывается, Давид, остановивший наше продвижение в глубь яномамской территории, был вождем не только журикабо. Этот человек объединил под своим началом многие яномамские племена, живущие по эту сторону Гвианских гор. Теперь, вступив в контакт с представителями бразильского правительства, он пытается договориться о том, чтобы на землях яномами было создано нечто вроде индейской автономной республики. Таким образом, судьба столкнула нас с человеком, о котором, возможно, последующие поколения индейцев буду слагать легенды. Правда, при более близком знакомстве «живая легенда» оказалась довольно капризной, самолюбивой, меркантильной и жестокой. Вместе с тем не могу не согласиться, что дело, которое задумал Давид, может сыграть полезную роль в сохранении не только самих индейцев яномами и их культуры, но и природы этой, пока не тронутой цивилизацией части Амазонии.
Базовый лагерь
Итак, мы возвращались. Осталась позади с таким трудом найденная деревня. Пройденные участки реки, мозолями и потом отвоеванные у течения, таяли один за другим. Настроение у всех по давленное. Спустившись километров на пятнадцать-двадцать, пристаем к обширному пляжу напротив заводи с живописным островом посередине. Здесь и решаем ставить базовый лагерь. Нужно искать выход из сложившейся ситуации. О возвращении не могло быть и речи. Но нам необходимо время, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Первый раз за время путешествия устанавливаем обе палатки: ведь нам предстоит пробыть здесь несколько дней.
Хижняк предлагает – видимо, вспомнив свое первое странствие по амазонским джунглям, – идти пешком, в обход злополучной деревни, сокращая путь вдоль сильно петляющей реки, и километров через сто выйти в район так называемого «белого пятна». Сто километров по сельве на своих двоих – не шутка. Решаем делать пробную вылазку. Дело в том, что скорость продвижения в сельве сильно зависит от характера растительности. Прибрежная полоса – сплошное переплетение зарослей, но Анатолий уверен, что она не может быть очень широкой, скоро должен начаться первичный лес, по которому за день можно проходить не менее пятнадцати километров. Это-то нам и предстоит выяснить.
Уходим вчетвером. Николай Макаров остается обустраивать лагерь и приводить в порядок лодки.
Хижняк идет первым и прорубает тропу, стараясь придерживаться северо-западного направления. Я – следом за ним, с рюкзаком за плечами, – одним на всех. За мной – Белоусов с видеокамерой; замыкает шествие Новиков, с увесистым кофром для фотоаппаратуры. Идти тяжело, заросли настолько плотные, что без мачете не сделать ни шага. Движемся по азимуту.
Как ни странно, заблудиться не боимся: тоннель, оставшийся за нами, в случае чего выведет обратно…
А вот и первая встреча: на уровне лица Хижняка замерла небольшая древесная змея. Она довольно ядовитая, так что главное – вовремя ее заметить. Пот пропитывает одежду насквозь, но снять защитную форму нельзя – кругом кишмя кишат насекомые, да и от многочисленных колючек не поздоровится. Лес так и не стал реже, а нам уже пора назад. Возвращаться по прорубленному коридору очень легко, и скоро мы выходим к лагерю. С наслаждением залезаем в кажущуюся прохладной двадцативосьмиградусную воду. Вылазка заняла около шести часов, и мы порядком вымотались. Однако от попыток продраться как можно глубже в сельву решаем не отказываться. Постепенно начинаем вживаться в окружающую природу.
Запас продуктов пока велик, но нужно экономить: впереди, даже при благоприятном стечении обстоятельств, еще почти полтора месяца автономного существования. Самый простой и оптимальный способ сохранить съестные припасы в наших условиях – рыбная ловля. Отправляюсь за кольями, чтобы потом установить сети. Единственные подходящие для этого растения в непосредственной близости от лагеря – молодые цекропии. По рассказам Хижняка, догадываюсь, что меня ожидает. Дело в том, что ствол цекропии полый и в нем обычно находят себе пристанище мелкие, но необычайно агрессивные муравьи, которые с яростью набрасываются на любого, кто осмелится их потревожить. Но деваться некуда – надеваю перчатки, беру в руки мачете и делаю первый взмах. Рубится очень легко, словно имеешь дело с гигантским травяным стеблем, – и буквально после третьего удара дерево падает. Почти одновременно ощущаю жгучую боль в области шеи. Вскоре уже кажется, что боль, точно яд, растеклась по всему телу. Хватаю упавший ствол, и волоку его к реке – только в воде и можно найти спасение от кровожадных муравьев. Досталось мне прилично: руки, лицо и шея горят, спасу нет. А нужно еще пять кольев… Хорошо еще, что этот вид муравьев не так опасен, как «буно», десять укусов которых могут оказаться смертельными.
Ставим сети и рыбачим на донку, толстую леску с металлическим поводком на конце да куском рыбы, насаженной на огромный крючок. В качестве поводков используем металлокорд, служащий для изготовления автомобильных покрышек. Так вот: несколько раз они перекусывали и его.
Страна Амазония
Пиранья… Об этой южноамериканской рыбке слышали многие. Попробую рассказать о ней, основываясь на том, что сам успел увидеть за два месяца пребывания рядом с «бичом» амазонских рек. Кого-то, наверное, разочарует созданный мною образ, довольно сильно расходящийся с широко распространенным представлением об этой маленькой рыбке-убийце. И тем не менее, когда смотришь на бьющуюся на песке тридцатисантиметровую пиранью, понимаешь, насколько может быть опасной эта рыба. Тупая голова с мощными бульдожьими челюстями, усаженными острыми, как бритва, треугольными зубами. Пиранья готова вмиг впиться ими во все, что движется. Так, один раз пиранья, которую мы бросили в «Таймень», со скрежетом вцепилась зубами в алюминиевую трубку лодочного каркаса, оставив на ней вполне различимые следы. Так что брать эту рыбку в руки рекомендуется лишь после того, как вы оглушите ее чем-нибудь тяжелым, – например, мачете. А в том, что пиранья может запросто отхватить вам палец, я ничуть не сомневаюсь.
Пираньи оставляли от рыбы, попавшей в наши сети, лишь головы да ошметки кожи. А запутавшись сами, резали прочный капрон, как ножницами, правда, это мало помогало им выпутаться. Все это так, но я позволю себе сказать, что пираньи не столь кровожадны, как их описывают в приключенческой литературе. Купание в кишащей ими реке отнюдь не самоубийство. И если сначала мы с опаской поглядывали на поверхность воды, а войдя в нее, старались держаться у самого берега, чтобы успеть вовремя выскочить, то, пообвыкнув, просто перестали обращать на них внимание. Рассказы о моментально обглоданной до кости руке, неосторожно опущенной в воду, не более чем легенда. Хотя допускаю, что в принципе стечение таких обстоятельств, как массовое скопление пираний в ограниченном пространстве, наличие крови в воде (небольшие, пусть даже кровоточащие раны не в счет) может спровоцировать нападение этих хищниц.
А вообще пиранья очень вкусная рыба, правда, костлявая. Нам встречалось около десятка ее разновидностей, добрая половина из которых исключительно растительноядные. Нередко в сети попадали различные виды сомов. Жирные, без мелких костей, они были для нас самой желанной добычей. Нельзя не упомянуть и хищную рыбу, отдаленно напоминающую щуку, с одной интересной особенностью: на конце нижней челюсти у нее находятся два иглообразных, пятисантиметровых клыка, тогда как общая длина рыбы составляет не больше сорока сантиметров. Естественно, зубья-клыки не помещаются в ротовой полости, но, когда рыба смыкает челюсти, они не выступают по бокам, как это можно предположить, а проходят сквозь отверстия в передней части головы, выходя наружу наподобие шипов. Однажды в наши сети угодила довольно необычная добыча. Да и попалась она, когда снасти сохли на берегу. Полуметровая зеленая игуана, наверное, долго барахталась в цепких капроновых нитях, тщетно пытаясь освободиться. И к тому времени, когда мы ее заметили, она уже была мертва. Сельва не прощает беспомощности – солнце и насекомые сделали свое дело. При взгляде на безвольно повисшую голову, облепленную прожорливыми трехсантиметровыми мухами, всем нам почему-то стало немного не по себе.
Наш лагерь, в принципе, можно было бы назвать экзотическим курортным местечком. Роскошное экваториальное солнце, белоснежный песчаный пляж, сочная зелень вокруг, теплые воды реки да фантастическая рыбалка! Но постепенно райское наслаждение испортили насекомые. За несколько дней наши лица, да и остальные части тела покрылись сплошным «узором» из кровавых точек, остающихся после укусов местной мошки. Больше всех страдал Володя Новиков, и, хотя он не жаловался, отшучиваясь, что, мол, мошки тоже хотят есть, смотреть на него было страшно. На теле, кроме солнечных ожогов, появились кровоточащие язвы, руки и ноги опухли – организм нашего товарища с трудом боролся с ядом, поступавшим в кровь с тысячами укусов насекомых…
Между тем мы вот уже несколько дней живем на берегу дикой реки, затерявшейся посреди неоглядного тропического леса.
Если отплыть в заводь – тут же, неподалеку от лагеря, – образовавшуюся на крутом повороте русла, можно часами наблюдать, правда, с приличного расстояния, многочисленных обезьян, с веселыми криками прыгающих по ветвям склонившихся над водой деревьев. Во время одной из вылазок в сельву мы более близко познакомились с крупной паукообразной обезьяной. Вышли на нее неожиданно – она оказалась в каком-нибудь десятке метров от нас. Сначала обезьяна, видимо, опешила и несколько секунд удивленно смотрела на непонятные создания, вторгшиеся в ее обиталище. Новиков полез за фотоаппаратом. Дальше все произошло молниеносно. Схватив огромную палку, «милое существо» метнуло ее в непрошеных гостей. А точнее, в одного из нас – многострадального Новикова. Володя едва успел отскочить. Слава Богу, все обошлось. Получив этот урок, мы уже совсем по-иному – с опаской – глядели на скачущих по верхушкам деревьев обезьян, наших длинноруких соседей.
В реке водились и кайманы. Огромные дыры в наших сетях и характерные следы на песке были тому убедительным подтверждением. Но днем мы их, к сожалению, не видели. Только к ночи они выползали на берег, недалеко от палаток. В свете фонаря хищные глаза кайманов горели оранжевым огнем. Но стоило подойти ближе пятнадцати метров, как животные с шумом бросались в воду. По ночам слышен крик анаконды, где-то совсем рядом. Она ревет, как могучий бык, и от этого невольно идет мороз по коже. Мир звуков вокруг очень необычен: крики попугаев, обезьян, постоянный звон цикад. Но как-то утром на нас обрушился шум, который по своей cиле ни в какой степени не мог сравниться со всем, что мы слыхали ранее. Вы когда-нибудь слышали, как кричит обезьяна-ревун? Судя по названию, я всегда думал что эта обезьяна и впрямь издает громкий, пронзительный рев. На самом же деле… Описать этот крик нельзя – сравнить его можно разве что с шумом двигателя реактивного самолета или гулом турбины, или визгом циркулярной пилы. Но даже столь громкие сравнения вряд ли помогут получить истинное представление о том, как голосит обезьяна-ревун. Это нужно слышать – крик ужасающей силы, который, кажется, никак не может принадлежать живому существу.
Окончание следует
Андрей Куприн | Фото Александра Белоусова и Владимира Новикова
О странах и народах: Марки княжества Фуджейра
В неблизком уже детстве я, как и многие мои тогдашние сверстники, коллекционировал почтовые марки. И однажды выменял у приятеля серию марок Фуджейры. Учился я неплохо, по географии у меня была стабильная «пятерка», но о существовании такой страны я не знал. Пришлось пойти в библиотеку и углубиться в справочники. Поиски увенчались успехом. Оказалось, что Фуджейра – маленькое арабское княжество на востоке Аравийского полуострова, один из семи эмиратов британского протектората Договорный Оман.
Интересно, как выглядит эта загадочная Фуджейра? – думал я. – Что там – пески, горы, пальмовые рощи? Чем занимаются подданные эмира? Ловят рыбу, пасут верблюдов и коз, выращивают в оазисах финиковые пальмы? И какой у эмира дворец? Наверно, он похож на средневековый замок, за стенами его плетутся дворцовые интриги и хоронится королевская стража, вооруженная кривыми саблями. Эх, взглянуть бы на все это хоть одним глазком!» Но мечта эта тогда, в начале шестидесятых, казалась, осуществимой ничуть не более, чем полет на Луну. Повзрослев, я роздал свою коллекцию друзьям – и забыл про Фуджейру…
Вспомнил я про маленькое княжество много лет спустя, когда впервые попал в Объединенные Арабские Эмираты (АОЭ) – так после получения независимости в 1971 году называется бывший Договорный Оман. И конечно, не упустил возможности съездить в Фуджейру. Причем влекло меня туда не только мальчишеское любопытство, но и профессиональный интерес. Дело в том, что, как я выяснил, уже находясь в ОАЭ, среди семи эмиратов этого государства Фуджейра – «белая ворона». В отличие от остальных, она лежит на берегу не Персидского залива, а Индийского океана, рядом с Оманом, и не в пустыне, а в горах. Кроме того, в Фуджейре нет собственной нефти – главного источника богатства и процветания ОАЭ. Не сказывается ли это на развитии самого отдаленного от столицы эмирата? Словом, причин для поездки было предостаточно.
Рынок на перевале
Мы выехали из Дубая, второго по величине и значению города ОАЭ, столицы одноименного эмирата. Мы – это шофер Ахмед и ваш покорный слуга. Ахмед, немолодой йеменец, зарабатывает на жизнь тем, что сдает свою старенькую «тойоту» в аренду министерству информации и культуры, когда по линии министерства приезжают гости вроде меня. Живет он в Эмиратах почти двадцать лет; семья – жена, четыре дочери и три сына – осталась дома, под Саной. Ахмед регулярно посылает им деньги и раз в году наведывается в отпуск.
Судьба Ахмеда типична для основной массы жителей ОАЭ. Три четверти двухмиллионного населения страны – иностранцы. Большинство из них – выходцы из Индии и Пакистана, но немало и арабов. Когда в семидесятые годы, после получения независимости и резкого повышения цен на нефть, руководство страны взяло курс на ее всестороннюю модернизацию, население Эмиратов не достигало и полумиллиона человек. Рабочих рук не хватало. Тогда-то в страну и устремились иностранцы. В массе своей – без семей, по контрактам на три-четыре года. Заработки здесь хорошие. Тот же Ахмед, к примеру, получает четыре тысячи дирхамов в месяц – а это больше тысячи долларов. Ради такой зарплаты можно вынести и тяжелый климат – жаркий и влажный. А потом, скопив деньжат, вернуться домой и открыть свое дело. Но возвращаются далеко не все. Иные, как Ахмед, надолго оседают в Эмиратах, становятся, по существу, эмигрантами.
Устраиваясь поудобнее на переднем сидении рядом с Ахмедом, я чувствовал себя так, будто отправляюсь в никому не ведомую даль, где нас поджидают, если и не опасности, то, по крайней мере, приключения. Но стопятидесятикилометровый путь до Фуджейры оказался спокойным и будничным. Сначала мы доехали до соседнего с Дубаем княжества Шарджа, а затем свернули направо, на восток. Великолепное двухполосное шоссе, вьющееся через барханы, привело нас в просторный оазис Дайд. За оазисом начались горы – невысокие, скалистые. За первым перевалом дорога пошла вниз, в долину, и по сторонам ее я увидел неожиданную картину: десятки импровизированных лавок с разнообразным товаром. Ну как тут было не остановиться!
Место это, на границе Шарджи и Фуджейры, называется «сук аль-джумаа» – «пятничный базар». Как и во всех мусульманских странах, пятница в ОАЭ – выходной день. В пятницу движение по шоссе особенно интенсивно: люди едут навестить друзей и родственников, отдохнуть на пляжах Фуджейры или сделать покупки в Дубае.
Первое, что бросилось в глаза, – развешенные на веревках ковры. Очень много ковров! Больших и маленьких, шерстяных и шелковых, ярких и не очень. У крайней лавки, развалившись на циновках, терпеливо поджидали покупателей два продавца.
– Откуда ковры? – спросил я.
– Отовсюду! – был ответ. – Вот этот – из Китая, тот, побольше, – из Ирана, а те, маленькие, – из Афганистана.
Собственная промышленность в Эмиратах развита пока слабо, зато благодаря нефти с деньгами нет проблем. Национальный доход на душу населения – один из самых высоких в мире – превышает здесь 17 тысяч долларов в год. И потому разнообразные товары текут в ОАЭ буквально со всего света. В первую очередь – из сравнительно близких государств Азии: Японии, Китая, Индии.
Оглядев рынок, я обнаружил, что, кроме ковров, у него есть и иная специализация. Под сколоченными кое-как солнцезащитными навесами были разложены овощи и фрукты, специи, сушеная рыба – продукция крестьян из соседних оазисов и рыбаков Фуджейры. Но между местными помидорами и огурцами, выложенными в сплетенные из пальмовых листьев корзины, красовался в картонных коробках импортный розовый лук, а рядом с сушеными финиками и мелкой рыбешкой – привозные яблоки и мандарины. Хоть день был и будничный, торговля шла бойко. Одни автомашины отъезжали, другие приезжали. По тому, как решительно люди сразу же направлялись к определенной лавке, было ясно, что они здесь не новички.
Но, признаться, овощи и фрукты меня волновали мало. Я устремился в ту часть рынка, где торговали керамикой. С первого взгляда было видно: товар – местный. Вот и отлично! Посещая разные арабские страны, я давно заметил: в их традициях и материальной культуре много общего, но немало и своего, особенного. Возьмем, к примеру, кофеварки. На первый взгляд, все они одинаковые. Но нет, у саудовской кофеварки носик длиннее, чем у египетской, а йеменская более округлая, чем сирийская. Отличается и декоративный орнамент. То же и с керамикой. Тут даже типы ее подчас не совпадают. В странах Аравии издавна принято курить благовония и для этой цели здесь делают специальные керамические курильни. Формой своей они похожи на рюмку, но квадратную, с высоко поднятыми углами, и расписанные геометрическим или растительным орнаментом. Подобные курильни я увидел и на «пятничном рынке». Они слегка напоминали те, что я привозил когда-то из Йемена. А еще там была масса всевозможных сосудов, блюд, ваз для цветов, пузатых копилок, из которых можно достать монеты, лишь разбив саму копилку.
Но времени на этнографические изыскания не было, так что через полчаса мы с Ахмедом вновь сели в машину и тронулись в путь. Поплутав немного по горам, мимо небольших селений, дорога, столь же хорошая, как и прежде, выскочила на равнину. Вдали мы увидели море, а на берегу – просторный, утопающий в зелени город.
Старое и новое
Эмират Фуджейра совсем мал. Его площадь – всего 1630 квадратных километров.
Самый большой из трех десятков населенных пунктов – столица, которая называется тоже Фуджейра. В ней около ста тысяч жителей, а всего в эмирате – примерно четверть миллиона. Поскольку, своей нефти здесь нет, то и доходы невелики. Так, если в самом большом и богатом нефтью эмирате, Абу-Даби, национальный доход на душу населения превышает 20 тысяч долларов в год, то в Фуджейре он в десять раз ниже. Так что, если бы маленькое княжество жило лишь на собственные деньги, оно недалеко ушло бы от того времени, когда продажа почтовых марок была едва ли не главным источником дохода. Но в ОАЭ принято так: каждый эмират отчисляет в федеральный бюджет половину своих заработков, и эти деньги правительство распределяет более или менее равномерно между всеми субъектами федерации, в зависимости от численности их населения и нужд первостепенной важности.
Тем не менее я не ожидал увидеть в Фуджейре роскошных многоэтажных зданий, не уступающих по своей красоте небоскребам Абу-Даби или Дубая. Национальный банк Фуджейры, международный коммерческий центр, гостиница «Плаза» блистали на солнце цветными зеркальными стеклами. Впрочем, такая красота оказалась лишь на центральной улице города. Слева от нее недавно построен новый микрорайон с многоэтажными белоснежными домами. В целом же столица эмирата выглядит «низкорослой» – с двухэтажными административными зданиями и кварталами небольших особняков на одну семью. Большинство из этих домов не блещут оригинальностью архитектуры, но некоторые походят на настоящие маленькие дворцы. Равнина между морем и горами достаточно велика для того, чтобы не экономить место при застройке города.
Чуть ли не к центральным кварталам Фуджейры примыкает международный аэропорт. Среди десятка самолетов на летном поле стоял и наш ТУ-154, принадлежащий «Аэрофлоту». Авиалайнеры из России и других бывших советских республик ныне не редкость в Фуджейре. Но сам эмират пассажиров обычно не интересует. В последние годы поток наших новоявленных коробейников хлынул в Дубай, ведущий торговый и коммерческий центр Ближнего Востока. В 1994 году там побывали почти полмиллиона русских и узбеков, латышей и казахов, украинцев и туркменов. Аэропорт Дубая перегружен. Вот и начали летать «чартеры» в другие эмираты, включая Фуджейру, откуда до Дубая недолго добраться на автобусе.
Аэропорт принимает не только гражданские, но и военные самолеты. Особенно он был загружен во время Кувейтского кризиса. Здесь, в Фуджейре, садились американские военные самолеты, прилетавшие с огромной воздушно-морской базы США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Отсюда стратегические бомбардировщики отправлялись бомбить иракские позиции в оккупированном Кувейте.
Неподалеку от аэропорта, на площади, раскинул крылья гигантский бронзовый орел. Поездив по городу, мы обнаружили, что ему вообще свойственна монументальная скульптура. На одной площади установлен пятиметровый кофейник с чашками, на другой – столь же внушительных размеров курильня для благовоний, на третьей – раковина. Нечто подобное я видел в саудовском городе Джидда.
От аэропорта мы выехали на набережную – тихую, зеленую. Ни машин, ни людей.
Лишь проехали вдоль кромки воды рыбаки на «джипе», нагруженном сетями. Последовав за ними, мы оказались возле маленькой рыбачьей бухты, отгороженной от океана волнорезами. Рыболовство все так же остается одной из основных отраслей экономики эмирата. Здесь свыше четырехсот рыбацких судов, а улов составил в прошлом году почти одиннадцать с половиной тысяч тонн. Это – примерно восьмая часть общей добычи рыбы в ОАЭ.
В рыбачьей бухте неторопливо текла будничная жизнь. Механики что-то чинили на своих кораблях, бронзовые от загара люди развешивали для просушки сети.
– Как улов? – спросил я одного из рыбаков.
– Нормальный! – коротко ответил он. – Ты здесь живешь?
– Да нет, – говорю, – я приезжий. А где тут у вас рыбу продают?
– Сегодня уже поздно, – ответил рыбак. – Рыбный рынок закрывается в десять утра – он тут недалеко, в центре. Приходи завтра – да не проспи! – улыбнувшись, прибавил он.
Покупать рыбу я, конечно, не собирался – куда ее девать? Но хотелось посмотреть на дары Индийского океана. Жаль, что опоздал.
Да, рыбная ловля продолжает оставаться одним из основных занятий жителей Фуджейры. А вот чем здесь, в отличие от других эмиратов, никогда не занимались – так это ловлей жемчуга. Жемчужные раковины водятся на мелководье Персидского залива, но их нет в глубоководном Индийском океане.
Получив представление о том, как выглядит город, мы отправились в местное министерство информации и культуры. Не вежливость гостя влекла меня туда, а желание узнать как можно больше об эмирате. Директор пресс-центра Сейид Обейд уже ждал нас—его предупредили по телефону из Абу-Даби. Прежде чем начать беседу, нас угостили традиционным аравийским кофе – светлым, приготовленным из едва прожаренных зе-рен.ПомощникСейдаразливалегоизбольшо-го кофейника в маленькие пиалы. Не успел я выпить кофе, как получил вторую порцию.
– Если больше не хочешь, покачай пиалой, – с улыбкой напомнил мне Ахмед аравийский обычай.
Я так и сделал.
– Чем занимаются жители эмирата? – спросил я, отставив пиалу, у Обейда.
– Не только рыбной ловлей, – ответил он, – но и сельским хозяйством. Примерно треть земель плодородна. Главная проблема – вода. В Фуджейре нередки дожди, есть колодцы. И все же пресной воды не хватает, так что пришлось строить опреснительные установки. А еще горы богаты сырьем для стройматериалов, часть его даже экспортируется. Есть кое-какая промышленность – переработка сельскохозяйственной продукции, швейные фабрики, производство пластмасс. И конечно, торговля.
Я спросил собеседника, как насчет туризма. Обейд оживился. По его словам, туризм – отрасль для Фуджейры сравнительно новая, но очень перспективная. Прежде всего потому, что климат здесь лучше, чем в остальных эмиратах, – летом чуть прохладнее и немного суше. Прекрасные песчаные пляжи. Никаких экологических проблем. Есть минеральные источники и лечебные грязи. В горах – очаровательные маленькие оазисы, где люди живут еще по старинке. Есть и исторические памятники. Потому-то в эмирате уже построены несколько хороших гостиниц и строятся новые.
– А что бы вы, в первую очередь, посоветовали осмотреть в городе? – поинтересовался я.
– Исторический музей, – ответил Обейд.
Ну что ж, поехали в музей. Сопроводить нас вызвался местный корреспондент национального агентства ВАМ по имени Насер.
Музей, как и все в этом городе, оказался недалеко. В нем всего два зала. Один посвящен археологическим находкам, другой – традиционному быту жителей Фуджейры. Как можно судить по экспонатам музея, люди селились на территории эмирата с незапамятных времен. Директор не без гордости показал нам керамику, бронзовые наконечники стрел, украшения, которым без малого четыре тысячи лет. Любопытно, что еще в ту далекую пору люди стремились украсить свой быт. Глиняные сосуды, например, не просто емкости, но произведения искусства. По бокам выведен затейливый орнамент.
– Скоро наш музей станет значительно просторнее, – с радостью сказал директор. – Заканчиваем строить новое здание.
На стене в коридоре музея я увидел фотографию небольшой, с тремя башнями, крепости. Кажется, что-то похожее было изображено на одной из моих почтовых марок.
– Бывший дворец эмира, – пояснил директор музея.
– А он сохранился?
– Да, но здорово разрушен. Правда, эмир приказал восстановить дворец и весь старый город вокруг него, но работы еще не начались.
– А можно туда съездить?
– Конечно!
Попрощавшись с директором музея, мы с Ахмедом и Насером поехали смотреть дворец. Он возвышался на холме, на фоне гор, над развалинами старой Фуджейры, построенной из смеси глины и некрупных камней.
Будто восседающий на коне князь оглядывает строго своих пеших подданных. Пока я фотографировал дворец, Насер вылез из своего черного «мерседеса», вытащил из кармана переносной телефон и с кем-то увлеченно заговорил. Сцена выглядела символической. Старина и новь Фуджейры, и между ними – жизнь всего лишь одного поколения.
Морской перекресток
Океанские корабли – что курьерские поезда. Если бы они заходили в каждый порт, куда предназначена часть их груза, то добирались бы до места назначения месяцами. Судно, идущее, скажем, из Японии в Европу, останавливается только в четырех-пяти крупных портах. Там оно дозаправляется топливом, продовольствием, водой, оставляет часть груза, который затем развозится небольшими судами по более мелким портам. Подобная система морских перевозок стала особенно удобной и выгодной с появлением контейнеров.
Фуджейра – одна из таких узловых «морских станций». Ее порт расположен у входа в Персидский залив, что очень удобно: оставил груз для всего региона – плыви себе дальше. По словам Алистера Артура, коммерческого директора порта, больше трех четвертей грузов – транзитные. В прошлом году порт переработал 700 тысяч контейнеров, что вывело его на второе место в регионе после Дубая. Продано 6 миллионов тонн горючего. Коммерческий директор доволен. Грузооборот порта стабильно увеличивается на 10-15 процентов в год.
На машине Артура медленно объезжаем порт. Он отгорожен от моря двумя мощными волнорезами. В одной части искусственной бухты толкутся мелкие суда, занимающиеся снабжением стоящих на рейде кораблей. Центральная часть причала отведена под контейнерный терминал. А дальняя, если смотреть от здания управления порта – под сыпучие грузы. Причалы оборудованы самой современной техникой.
– Заказали еще два портальных крана, – говорит коммерческий директор. – Иначе скоро нам не справиться с растущим потоком грузов.
Неплохой доход дает и мастерская по ремонту контейнеров.
Англичанин Артур – представитель сравнительно небольшого контингента иностранцев, живущих в Фуджейре. В отличие от других эмиратов, их тут не больше 20 процентов. Условиями труда и быта он доволен, только вот жалуется на летнюю жару и влажность.
Порт Фуджейры резко пошел в гору в середине восьмидесятых годов, во время ирано-иракской войны. Тогда иранские военные катера пиратствовали в Персидском заливе, периодически совершая нападения на торговые суда. Ведь те шли либо в Ирак, либо в другие арабские государства Персидского залива, которые в той или иной степени его поддерживали. Плавать в Заливе стало небезопасно, страховые ставки резко выросли. Так что многие суда предпочитали не заходить в Залив, а разгружаться в Фуджейре. Отсюда, по только что построенному шоссе грузы развозились по всему региону.
После окончания ирано-иракской войны в 1988 году грузооборот порта, а с ним и доходы эмирата, заметно снизился. Надо было придумывать что-то новое – и придумали. Рядом с портом создали «свободную зону».
Директор «свободной зоны» Шериф аль-Авады подробно рассказал, что это такое. На территории зоны разрешена стопроцентная иностранная собственность. На ввозимые материалы, оборудование, товары нет таможенных пошлин. Компании освобождены от налогов и могут свободно репатриировать свои капиталы и доходы. Но, если нет налогов и таможенных пошлин, какая же тогда от всего этого польза для эмирата?
Шериф улыбается. «Во-первых, – объясняет он, загибая палец, – районы, где широко представлен иностранный капитал, как бы застрахованы на случай нестабильности, ибо о них позаботятся государства, имеющие там экономические интересы. Во-вторых, иностранные компании арендуют у нас землю для своих экономических объектов. В-третьих, они используют местную рабочую силу, в-четвертых, энергию, в-пятых – сырье. Расплачиваются они за все твердой валютой, и это укрепляет наши банки. И, наконец, работники „свободной зоны“ живут в городе, ходят в магазины и рестораны, а от этого выигрывают и строительство, и торговля».
Словом, выгода есть, хотя и не прямая, а косвенная. Правда, «свободная зона» в Фуджейре пока еще доходов не дает. Государство потратило на ее оборудование миллиард дирхемов (один доллар равен 3,65 дирхема), а иностранные капиталовложения, не говоря уже о доходах, не достигли и половины этой суммы. В зоне сейчас работают около полусотни небольших компаний, в основном из стран Южной Азии. Аль-Авады хотел бы расширить географию своих клиентов. Среди прочих он надеется привлечь и предпринимателей из бывших советских республик.
«Свободная зона» Фуджейры – не единственная в Эмиратах. Раньше была создана такая же зона в местечке Дже-бель-Али, неподалеку от Дубая. Философия и порядки там те же, а вот масштабы значительно больше. Порт в Джебель-Али, без которого немыслима «свободная зона», считается крупнейшим искусственным портом мира. Чтобы выкопать бухту, пришлось переместить столько грунта, что, если построить из него стену в метр шириной и три метра высотой, то этой стеной можно опоясать по экватору весь земной шар. Под стать масштабам порта и размеры «свободной зоны». Ее площадь – сто квадратных километров. Там уже представлены свыше 750 компаний, но две трети из них ничего не производят. Они лишь арендуют складские помещения и используют их как региональную базу для экспорта своих товаров. Как и в Фуджейре, «свободная зона» Джебель-Али еще не окупались, там немало пустого места, и, опять-таки, как в Фуджейре, дубайцы ищут новых клиентов, в том числе в СНГ. По-видимому, им мешает одна серьезная проблема: хотя ОАЭ – государство процветающее и стабильное, находится оно в регионе, где в последние пятнадцать лет произошли две большие войны, где воды Персидского залива до сих пор бороздят иностранные военные суда, а между соседними странами решены далеко не все проблемы. Так что элемент риска налицо, и не столь уж малое число бизнесменов этот элемент отпугивает…
Ближе к вечеру, усталые и проголодавшиеся, мы с Ахмедом решили наконец пообедать. Зашли в небольшой ресторанчик в центре города, заказали салат и рыбу. Кроме нас, в зале был лишь молодой парень. Услышав наши разговоры и поняв, что мы – приезжие, он подсел к нам.
– Что хорошего в Фуджейре! – убеждал он нас. – Тут имей хоть пять магазинов – все равно не заработаешь столько, сколько с одним в Дубае или Абу-Даби. Да и скучно!
– А сколько тебе лет? – спросил я.
– Двадцать.
Да, в таком возрасте и у нас многих провинциалов притягивают, как магнит, столичные сутолока и огни. Но с годами это проходит. И хорошо, что Фуджейра – не такая, как Дубай или Абу-Даби, что есть еще в модерновых Эмиратах уголок, где жизнь, хоть и быстро меняясь, течет все же неторопливо, в гармонии с океаном и горами. И в согласии с вековыми традициями предков.
Фуджейра – Дубай
Владимир Беляков | Фото автора
300 лет Российскому флоту: Корабли, флаги и крепости…
К предстоящему юбилею Российского флота на страницах журнала открывается новая рубрика. Читателя ждут публикации о выдающихся русских моряках-путешественниках, об их участии в эпопее великих географических открытий.
Многие имена этих людей знакомы читателю, но восстановленные на основе архивных документов малоизвестные и драматические эпизоды их жизни вряд ли кого оставят равнодушным. И, конечно, мы будем рассказывать о тех моряках-путешественниках, чьи имена давно, но незаслуженно забыты. Открывает рубрику публикация о начале Российского флота.
Предуведомление автора
Наверное, клеши старшего брата и непоседливость моих предков – кубанских и запорожских казаков – подвигли меня на морскую карьеру. Я окончил курс Высшего военно-морского училища – наследника Петровской Навигацкой школы, – носящего имя всеми любимого советского сухопутного полководца М.В.Фрунзе. Тридцать лет отплавал штурманом, из них двадцать – на Северном флоте. В большие командиры не рвался, понимая, что георгиевские кресты моих предков рано или поздно этому помешают. Другое дело – специальная служба…
Еще петровский устав обязывал штурмана быть историографом. А для меня легенды, недомолвки, запреты из давней истории были всегда притягательны. Хотелось знать ответы на волнующие всех вопросы. Пришлось прочитать сотни редких книг, покопаться в архивах…
Предстоящий юбилей Российского флота – первый за все триста лет его истории. До сих пор юбилеи флота не отмечали. Но он интересен и тем, что летописцы этой истории, пытаясь примирить западников и славянофилов – радетелей и противников «норманнской теории» в развитии флота и самой России в целом, многое не досказали о самом процессе становления флота. Захватывающие дух события, великие и ничтожные личности, тяжкий труд и отвага первых матросов и офицеров… Корабли, флаги, крепости – символы флота. Без любого из них флот немыслим. Есть еще пленяющие воображение якоря, компасы и бело-синие одежды. Но эти заметки не о морском быте. Все написанное здесь основано на подлинных документах. Юбилей – хороший повод поднять забытые детали в пластах истории и не предаваться при этом отчаянию и тоске от знания правды…
I. …Аки от доброго семени
Попытки создать Российский флот предпринимались задолго до Петра I. На Белом море, Дону и Волге на бесчисленных плотбищах строились кочи, лодии, ушкуи, струги, чайки, бусы, дощаники и другие малые и большие суда. Нет счета дерзким набегам донских и запорожских казаков, вольных и служилых людей на самые дальние берега Каспия, Азова и Черного моря. Не раз турецкие крепости подвергались разрушению на протяжении всего XVII века. Турки боялись малых маневренных лодок и абордажных налетов и решались сражаться только при явном преимуществе или в открытом море. Но как раз регулярного флота, состоящего из крупных парусных кораблей, россиянам недоставало. На что были способны «государевы верфи», видно из одного лишь эпизода.
Из распроссной Кирилла Петрова – плотника по Государеву указу :
«…государев дворянин Володимер Еропкин твоим государевым посошным плотникам велел струги делать наскоро в мерзлом и сыром лесу в зимнюю пору в два дня один струг. А у нас, государь, делают морские струги недели по две и больше».
Естественно, «еропкинские струги» тонули не дойдя до моря. С «виновных пеня взялась»: кого кнутами сечь, кого живота лишить, и все же к весне 1660 года у села Торбеево на реке Воронеж и у села Романове на Дону было построено 500 стругов. Из них лишь 30 смогли выйти в Азовское море…
Несомненно, что до деда Петра I – царя Михаила Федоровича – доходили слухи о корабельном хождении вокруг света и прочих чудесах из области судостроения и мореходства. Живучий у россиян принцип – «а мы чем хуже?» – сработал, и царь, позарившись на хорошие деньги, предложенные голштинскими купцами, дал согласие на транзитную торговлю с персами: ведь немцы обещали при этом построить десять судов в «землях царского величества», покупать лес, нанимать плотников и, главное, «от этих плотников корабельного мастерства не таить». Первым таким кораблем стал построенный в Нижнем Новгороде трехмачтовый с 24 веслами плоскодонный «Фредерик». Однако, мачты у корабля оказались слишком длинными для шквальных ветров Кюльзюма – так называли Каспий персы-мореходы. В первом же морском плавании на «Фредерике» сломалась грот-мачта. Он потерял управление и был выброшен на берег…
Однако царские думные дьяки не оставили попыток овладеть искусством строительства кораблей европейского типа. В 1660 году голландец ван Сведен набирает на русскую службу корабельных мастеров и капитанов. Человеком, побудившим царя на строительство флота для Каспия, был боярин Афанасий Ордин-Нащокин, шеф приказа Новгородской Чети.
Указ Алексея Михайловича Никите Кутузову – Коломенскому о воеводе от 19 июня 1667 г.:
«Указали мы. Великий Государь, для посылок из Астрахани на Хвалынское море делать корабли в Коломенском уезде, в нашем, Великого Государя, дворецком селе Дединове иноземцам полковнику Корнелиусу фон Буковену да корабельным мастерам Ламберту Гельтус товарищи. А у того корабельного дела быть Якову Полуектову да подьячему Степану Петрову».
Шесть голландских мастеров, получив задаток, сбежали, и пришлось Полуектову «имать» нужных ему людей по «грамоте Великого Государя». По указу Новгородской Чети, верфь обеспечили тридцатью плотниками, «которые наперед сего бусы и струги делывали», а также веревками, киндяком на знамя, железом и углем кузнечным, пушками, мушкетами, пистолетами, бердышами с нужным количеством пороха, свинца, фитиля, ядер.
Полуектов – Великому Государю мая 15 1668г.:
«И у меня, холопа твоего, корабль и яхту делают; а у корабля, Государь, дно и стороны основаны, и кривые деревья все прибиты… Корабль опущен и доделывается на воде, а яхта и шлюпка поспеют в скором времени». Но лишь в сентябре Полуектов писал: «Корабль, яхта, два шлюпа и бот сделаны совсем, и истрачено на все 9021 рубль 25 алтын и полденьги».
Несмотря на указы «о поспешании» строительства, корабль, яхта и шлюпки остались на зимовку в Дединове. Фон Буковен доносил в Москву о низком уровне воды в Оке. Полуектов – напротив: «Вода велика и кораблям идти мочно, а подъячий с полковником пьет и бражничает и о государственном деле не радеет…» Царским указом корабль был наименован «Орлом» в честь главного символа России. Капитан нового корабля Да-выд Иванович Бутлер, которому Государь указал «служити на море Хвалынском капитаном и кормщиком-генералом», все еще был в Голландии, пытаясь вернуть в Россию сбежавших с деньгами мастеров. К весне 1669 года он появился в Дединове и 7 мая дал команду «якоря вынимать». Вся флотилия, достраиваясь на ходу, 21 июля прибыла в Нижний Новгород.
Благодаря книге Яна Стрейса, оснастившего корабль парусами, мы имеем представление о нем. Длина его была 24,5 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,5 м. Три мачты несли прямые паруса, поэтому «корабль» такой иногда называют «барком». И, наконец, 22 пушки и команда из 20 голландцев и 35 русских стрельцов. Не случайно Петр I в предисловии к своему уставу писал: «От начинания того, аки от доброго семени, произошло нынешнее дело морское». Почему-то историки не учли это мнение Петра. Возможно, в этом виноват сам царь, напомнивший, дабы усугубить облик «вора и смутьяна», о «разорении» «Орла» повстанцами Разина. На самом дел версии о разорении и даже сожжении – ошибочны! Вскоре после того, как «Орел» прибыл в Астрахань, с него сняли пушки для защиты города. Команда корабля разбежалась с появлением Разина, а «Орел» остался доживать свой век в тихой протоке, всеми забытый.
Три года спустя после разинской смуты астраханский воевода доносил в Москву: «…корабль да полукорабелье (яхта – В.Г.) стоят в Кутумове реке. Корабль ветхой, дно и бока сгнило, в ход не годится».
Вывод о качестве строительства напрашивается сам собой, если вспомнить, что петровские корабли плавали по двадцать с лишком лет. Так что действительно нет резона считать началом Российского флота эпопею с «Орлом». И все же помянем добрым словом дединовские труды: это был первый опыт отечественного кораблестроения.
Спасшийся от разинского «воровства» голландский матрос с «Орла» Карстен Брандт вернулся в Москву и много лет спустя латал дыры на «дедушке русского флота», найденном Петром I. Но об этом впереди.
II. Меня хотят сделать адмиралом…
Хрестоматийная и романтическая история находки в 1688 году молодым Петром английского ботика – в сарае его двоюродного деда Никиты Ивановича – известна всем. Прозванный «дедушкой русского флота», бот бережно хранится в Военно-морском музее в Петербурге по сей день. Все это могло показаться смешным и обидным для ревнителей русской морской истории. Но будем снисходительны. Просто ботик произвел впечатление на Петра, до того понятия не имевшего о море. Своей оснасткой и качеством он отличался от прежде виденных им судов, и главное, обладал способностью ходить под парусами против ветра. Весь груз знаний, полученных Петром от Зотова и Тимермана по морской части, вылился в неукротимое желание все попробовать самому. И началась в России эпоха «потешного флота», приведшая – благодаря навязчивой идее Петра о настоящем флоте – к неожиданно великим последствиям.
По приказу царя Франц Тимерман отыскал в Москве Карстена Брандта, бывшего матроса с «Орла», пребывавшего, впрочем, «в великой старости». Ботик живо починили, и, к удивлению Петра, он резво ходил по Яузе и на Просяном пруду, лавируя против ветра. Царь осыпал милостями Брандта, и в следующем году потешая команда Петра переместилась на Плещееве озеро под Переяславлем-Залесским. Здесь сам царь и его верные семеновцы и преображенцы овладевали корабельным ремеслом. Брандт и Петр состязались в постройке двух малых фрегатов, а солдаты строили еще три яхты. Плавания по озеру, с салютами и игрищами, продолжались все лето. Весной 1693 года Петр задумал поездку на Белое море – в Архангельск, ведомый ему до того как поставщик «всепьянейшему собору» всяких вин и пива, а еще заморских любимых цитрусов и мореходных инструментов. «Охота к морю», поддерживаемая в первую очередь его приближенными – Федором Апраксиным, Федором Головиным и особенно Францем Лефортом, становилась государственным делом. Лефорт, этот «дебошан французской», названный так за веселый нрав, общительность и неиссякаемую энергию в осуществлении любой, самой неожиданной новации или проделки, уже распорядился построить в Архангельске яхту к приезду Петра. На беду скончался легендарный Карстен Брандт. Петр отстоял отпевание в храме и проводил в последний путь подельника потешного флота по генеральскому разряду… В сопровождении Зотова, Апраксина, Лефорта и сотни разнообразной челяди Петр покинул столицу и уже в начале августа подрубил топором канаты, удерживающие на слипе яхту, названную в честь покровителя царя «Св. апостол Петр». На этом судне Петр впервые отправился в морское плавание, достигнув Терского берега. Заложив в Соломбале 24-пушечный торговый корабль и оставив его на попечение Апраксина, назначенного воеводой Архангельска, Петр поспешил домой. По пути, на заводе в Олонце он сам отлил пушки и выточил такелажные блоки для заложенного корабля. В самый конец распутицы следующего, 1694 года Петр снова спешит в Архангельск и 20 мая спускает на воду «Св. Павел» – пожалуй, первый русский торговый корабль, получивший вскоре «проездную грамоту» на право заграничной торговли…
Пребывание русского царя на Белом море – уникальные страницы истории. Скажем о главном. Дождавшись купленного в Голландии торгового корабля «Св. Пророчество», Петр поднял на нем трехцветный «штандарт царя московского» и в сопровождении «Св. Петра», «Св. Павла» и эскорта из восьми английских и голландских торговых и военных судов отправился на выход из Белого моря. Достигнув мыса Св. Нос и пожелав иноземцам счастливого плавания, Петр со своей эскадрой вернулся к устью Двины. Правда, до этого Петр совершил рискованное плавание на Соловки с известным крушением у Пертоминского монастыря. У голландцев он прошел школу морского ликбеза – от подачи пива капитану до уборки парусов. Получалось неплохо, тем более, что голландским языком царь владел в совершенстве.
Несомненно, 1694 год был переломным в истории флота. Петр понял: потешные игрища – лишь начало… В Архангельске он встречал торговое посольство из Голландии во главе с Николаем Витсеном – владельцем верфи в Роттердаме. Петр заказал ему построить «образцовую» 32-весельную галеру с тем, чтобы после прибытия ее в разобранном виде в Архангельск тотчас же отправить в Москву. По пути на пир, устроенный им для голландских и английских капитанов, Петр неожиданно прыгнул в реку. Нарядно одетые гости, наслышанные о крутом нраве царя, не замедлили последовать за ним. По преданию, Петр, страдавший водобоязнью, так снял с себя порчу и усугубил веселье за столом.
С голландскими кораблями уплыл за море не только петровский заказ на галеру, но и секретное письмо Лефорта своему старшему брату, как результат серьезных «консилий» в Архангельске на тему о будущей войне с турками.
Франц Лефорт – в Женеву, брату Ами. 4 июля 1694 г.:
«Меня непременно хотят сделать адмиралом, я отказываюсь, но Их Величество того желают. Это доставит мне большое содержание и беспримерную честь быть генералом и адмиралом. Мне поручено командовать всеми судами».
Оставалось ждать прибытия «образцовой» галеры, чтобы приступить к строительству флота, генерал-адмирал коего уже нашелся. Ждать не меньше года, это уж точно. Потому Петр после сухопутных маневров попытался с кондачка овладеть Азовым. В марте 1695 года 150-тысячное войско, из которого 30 тысяч должны были штурмовать Азов, двинулось на юг, но желаемой виктории не достигло. Понеся большие потери, русские отступили от Азова. Неудача объяснялась отсутствием блокады крепости с моря. Конфуз этот добавил энергии строителям нового флота, и в наступившую зиму в лесах верхнего Дона и Воронежа вовсю застучали топоры…
III. По возвращении от невзятия Азова…
Слякотная осень в Москве – не помеха для спешных «консилий». Собрались: Шереметев, Гордон, начальник канцелярии Зотов, Аникита Репнин, самые причастные к делу морскому Лефорт и Головин и, конечно же, шутейный «государь» и шеф грозного Преображенского приказа «костолом» Федор Ромодановский. Здесь и умнейший Яков Брюс с картами и всякими инструментами, ласкаемый взглядами царя. Прислуживал, подавал и распоряжался «Алексашка» – будущий адмирал и генералиссимус – Александр Данилович Меншиков.
Флот порешили строить в Преображенском: 22 галеры по образцу голландской и четыре брандера, и везти их для сборки на Воронеж. На ближних к Воронежу плотбищах – Козлове, Добром, Сокольске сделать 1300 сплавных стругов для войска да триста лодок и сто плотов. В Воронеже учинить Адмиралтейство и цейхгауз, заложить два корабля, и дома для работных людей рубить неустанно…
Писцы скрипели перьями, Алексашка курьеров налаживал, копиистов рассаживал, сургуч на огарках расплавливал.
– Гони в Вологду курьера, вели тамошнего плотника Осипа Чеку с товарищи 24 человека быть в зиму на Воронеже для сборки готовых членов моей «Принципиум» и прочих. В Нижний пиши, чтоб каторжные (то есть галерные – В.Г.) мастера с главным у них Яковым Ивановым, не мешкая, в путь тронулись.
Андрею Кревету, посольскому толмачу, отпиши о присылке математических инструментов, кои могли бы люди носить на себе, понеже дорог наших не ведали и к кораблям песок да стекло везут взамен песочных часов.
Дворовому моему Лукьяшке Верещагину вели на Воронеже «государеву шатру» поставить с двумя горницами, баней и протчим…
Нанятым полковникам Георгу Лиму и Карлу Лозеру быть: первому вице-адмиралом, другому шаутбенахтом на воронежских караванах и капитанов обучать морскому строю…
Петр – Федору Апраксину, губернатору. Архангельск, ноября, в 30 день.
«По возвращении от невзятия Азова с консилии господ генералов указано мне к будущей войне делать галеи, для чего удобно, мню, быть шхип-тиммерманам всех от Вас сюды…»
Между тем Архангельск дождался груза из Голландии. Ранняя зима понесла по Двине первые льдины. Пришлось «члены» галеры – мачты, стрингеры да шпангоуты мостить на дровни в путь до самой Москвы. В конце ноября разобранная галера на двадцати дровнях тронулась берегом вдоль Двины. 3 января 1696 года подводы с галерой прибыли в Преображенское. Историк флота прошлого века Сергей Елагин писал:
«Положения консилии начали исполняться. Преображенское обратилось в верфь. На ней к концу февраля были срублены из сырого замерзшего леса члены двадцати двух галер по образцу доставленной из Архангельска и четырех брандеров. Галеры эти длиной 38 и шириной 9 метров с двумя мачтами и числом весел от 28 до 36. Первыми строителями флота были солдаты Семеновского и Преображенского полков, а также нанятые купцом Гартманом голландцы. Главным сервайером был знаток „каторжного дела“ Франц Тимерман. Тихон Стрешнев отвечал за поставки леса и „имание“ людей. Андрей Кревет – толмач Посольского приказа – улаживал с иноземцами поставки по парусной и такелажной частям – дела тонкого и мало кому понятного из-за обилия иностранных терминов…»
Ранней весной 1696 года началось драматическое «шествие» 27 судов из Москвы на Воронеж. По снегу, по воде и на дровнях – в распутицу. Солдаты дорогою «много дуровали» – беглых и пьяных нещадно «штрафовали». Под угрозой «всякого разорения и смертной казни за оплошку и нерадение» оказались и солдаты, и окрестные жители на 600-верстном пути к Воронежу… Затеянное в XIX веке интеллектуалами пари на более лаконичное изложение сути петровских преобразований, кажется, выиграл Пушкин, сказав всех короче: «Все дрожало, все безмолвно повиновалось».
Сам Петр путь до Воронежа одолел в два дня с остановкой в селе Становая Слобода. Место это, выбранное для Путевого дворца, вскоре было одобрено Петром для постройки «примерной крепости немалой». Забавная история с этой «крепостью», воздвигнутой Меншиковым и нареченной Петром Ораниенбург («Апельсиновый город»), еще впереди. А пока…
В последний день февраля Петр прибыл в свою «Шатру» на берегу реки Воронеж и с месяц пропадал на верфях с топором и линейкой, нещадно работая, понуждая к работе всех и раздавая «штрафы» за нерадение.
На петровской галере «Принципиум» работали самые близкие соратники Петра – будущие знаменитые мастера кораблестроения: Таврило Меншиков, Лукьян Верещагин, Федосей Скляев и «мастер разных художеств» Анисим Моляров. Эти и другие в следующем году отправились с царем за границу совершенствовать свое мастерство.
Весь флот состоял из трех караванов, возглавляемых тремя флагманами под общим командованием генерал-адмирала Лефорта на голландской галере. Для вице-адмирала Лима и шаутбенахта Лозера флагманскими стали два корабля: «Апостол Петр» и «Апостол Павел». Петровскую галеру чаще называли просто «Его Величество» или «Кумандера». 3 мая Петр покидает Воронеж.
Петр – Андрею Виниусу в Москву:
«Сегодня с осмью галерами в путь свой пошли, где я от господина адмирала учинен есмь командором».
Из путевого журнала «Кумандеры».
«В третий день. От города Воронежа с восемью галерами пошли в путь свой при доброй погоде; плыли парусом и греблей… В четвертый день. На свету якорь вынули… перед обедом вошли в реку Дон из реки Воронеж и на устье стали на якоре. День был красный, с погодою».
Остальные караваны уходили по мере готовности, ведя достройку на ходу, пользуясь материалами, которые везли на стругах. В пути Петр лихорадочно сочинял «Указ по галерам о порядке морской службы». Вот, к примеру, одна из статей его: «Под великим запрещением должны друг друга не оставлять и всячески о том радеть. Понеже пока в корабле доски плотно стоят меж себя, тогда всю Вселенную могут объехать и никакого шторма не бояться»… 15 мая Петру салютовал Черкасск – казачья столица. Казаки, встретившие караван, преподнесли сюрприз: три десятка лодок уже сделали попытку взять на абордаж турецкие суда, да борта у тех оказались слишком высокими…
IV. …Потребен есть флот или караван морской
Известие о первой стычке казаков с турками было хорошим подарком Петру – гетман левобережной Украины Иван Мазепа заслуживал всякого одобрения. На первом в Черкасске военном совете казаки вновь предложили свои услуги при нападении на Азак – так турки называли древний Азов. Вся морская эпопея 1696 года, положившая начало Российскому флоту, выглядела следующим образом…
Хотя два других каравана были еще в пути, Петр решил один из полков генерала Гордона посадить на галеры и двинуться к устью Дона вслед за 40 казачьими лодками во главе с войсковым атаманом Фролом Миняевым; на каждой лодке было по 20 бойцов. Однако из-за мелей галеры стали на якорь в самих протоках. Петр на казачьей лодке отправился в разведку на азовское взморье и увидел 13 судов неприятеля, стоявшие на якорях. Дальнейшие действия Петра остаются непонятными. Он спешно снимается, и все галеры поднимаются вверх по протокам и Дону к Новосергиевску – укрепленной базе русских кораблей выше Азова. Видимо, Петр решил дождаться подхода двух своих караванов, поскольку девять русских галер против тринадцати кораблей оказались бы в слишком невыгодном положении.
Между тем оставшиеся в засаде в камышовых зарослях казаки продолжали наблюдения за действиями турок. 19 мая атаман Миняев, обнаружив турецкий десант, направлявшийся с кораблей к Азову, решил напасть на 13 тумбасов со снарядами и продовольствием и прикрывающие их 11 вооруженных ушколов. Натиск сорока казачьих лодок был столь внезапным, что почти все тумбасы были захвачены в абордажном бою. Перегрузив припасы и пленных на один из тумбасов, девять других сожгли. Турки в панике бежали. Три тумбаса все же прорвались к Азову, а ушколы – к кораблям. Турки начали спешно сниматься с якорей. Два корабля не успели поднять паруса, и казаки напали на них. Один из кораблей турки затопили сами, второй был захвачен и сожжен казаками. Другие, пользуясь свежим ветром, бежали с позором.
Это была единственная морская баталия в Азовской кампании, и она была проведена с казачьих лодок. Значит, первой победе на море русский флот был обязан казакам. Потому, вероятно, Петр I в донесении «кесарю» не смог не слукавить:
Петр I – Ромодановскому в Москву:
«И того же дня (19 мая) мы, холопи твои, в малых судах, а казаки в лодках ударили на неприятеля. Те вышеописанные суда разбили, из которых 9 сожгли, одно взяли… С моря, майя, 31 дня. Петр».
В тот же день к вечеру казачьи лодки с захваченным снаряжением и пленными приплыли в Новосергиевск и были встречены салютом. Через неделю салют повторился по случаю прибытия к войскам генералиссимуса Алексея Шеина и к флоту генерал-адмирала Франца Лефорта. Первый российский адмирал не по своей воле задержался: рана, полученная в прошлой кампании, привела к тяжелой болезни. Теперь-то корабли, не мешкая, по протокам Каланча и Кутюрьма, в обход Азова, вышли, наконец, в море. Было это 27 мая. На беду разыгрался шторм. Уровень воды от нагонного ветра стремительно поднимался, и палатки с солдатами штурмового полка, высаженного на острова, стало подтапливать. Солдаты пересели на лодки, но шквальный ветер разметал их, выкидывая утлые суда на илистый, поросший камышами берег. Однако, корабли отстоялись на якорях без происшествий. На следующий день «великая погода» продолжалась…
2 июня к флоту присоединился отряд вице-адмирала Георга Лима с семью галерами. Десять дней спустя показалась галера шаутбенахта Карла Лозера и четыре брандера. Теперь весь флот, расположенный поперек залива, преграждал путь с моря к осажденному Азову, над которым давно уже клубился дым боя.
14 июня турецкий флот в составе шести кораблей и семнадцати галер стал на якоря в виду русского флота. Молчаливое противостояние продолжалось две недели, но 28 июня турки рискнули высадить десант в помощь окруженному Азову. Наши галеры тут же стали сниматься с якорей, чтобы сорвать высадку и ударить по кораблям. Турки, видя это, спешно поставили паруса и ушли в море. В последующие дни, как отмечал историк Елагин, «флот наш оставался в наблюдательном положении до взятия Азова войсками». 19 июля – в день славной виктории – флот вошел в устье Дона и с пушечным салютом стал на якорь у стен поверженной крепости…
Неделю спустя Петр проводил вновь заболевшего Лефорта водным путем в Москву и вышел с флотом в северную часть залива для осмотра Таганрога. Выбрав место для буду-ющей гавани и крепости, Петр приказал флоту стать на якоря в виду обретенного берега. Утром флот возвратился в Азов. Историк Елагин писал: «Кампания кончилась. Без громкой славы, скромно, но вполне, флот выполнил свое назначение – дать возможность не только покорить крепость, но приобрести край и кончить войну, искупив таким образом значительные издержки и почти нечеловеческие усилия, употребленные на его постройку».
Три года спустя Петр I проводил до Керченского пролива российского посла Украинцева для заключения мира с турками. Впервые в истории флота военный корабль России «Крепость» с послом на борту вышел в Черное море и направился в Стамбул…
Последствия Азовской победы отозвались по всей России. Осенью 1696 года в Москве состоялась пышная «триумфания» в честь взятия турецкой крепости. У триумфальной арки наряженный Гением стихотворец приветствовал первого российского адмирала и идущего следом Петра I:
Генерал-адмирал,
морских всех сил глава,
Пришел, узрел, победил
прегордого врага»…
Собранная Петром в Преображенском Дума выслушала историческое предложение Петра «…воевать морем, понеже зело близко и удобно многократ паче, нежели сухим путем. К сему же потребен есть флот или караван морской, в 40 или вяще судов состоящий, о чем надобно положить не испустя времени: сколько каких судов и со много ли дворов и торгов и где делать?»
Дума приняла «Статьи удобные, которые принадлежат к взятой крепости или фортеции от турок Азова». Приведем более пространный отрывок из этого исторического документа, чем широко известное троесловие:
«205-го , октября в 20 день приговорено:
Морским судам быть, а скольким, о том справитца о числе крестьянских дворов, что за духовными и за всяких чинов людьми, о том выписать и доложить, не замолчав».
Азовская победа привела ко многим переменам в России. Возросло и национальное самосознание русского народа, надо было позаботиться о символах державы и флота. Азовская победа подвигла Петра на учреждение высшего ордена страны – Андрея Первозванного. Кстати, первыми кавалерами ордена стали: преемник Лефорта на адмиральском поприще Федор Головин и гетман Иван Мазепа за храбрые действия казаков. Учреждение ордена в свою очередь привело к появлению главной гордости Российского флота –Андреевского флага, но об этом –дальше.
Окончание следует
Василий Галенко, штурман дальнего плавания
О странах и народах: Рим на бегу и навсегда
Знаменитые города мира тем, прежде всего, и знамениты, что у любого человека, независимо от того, бывал он там или нет, есть свой собственный образ Города, складывающийся, как мозаичный узор, из запомнившихся по книгам и фильмам каких-то отрывков, кусочков, пусть случайных и поверхностных, но зато для каждого по-своему ярких и незабываемых. Чтобы оживить эту мозаику в памяти, достаточно бывает всего лишь произнести мысленно название города. Произносишь, например, слово «Рим», и… ну, конечно, Колизей, Ватикан, фонтан Треви и прочие достопримечательности Вечного города, хотя бы в самом общем виде, представляешь. Особенно если билет на самолет до Рима уже в кармане…
И вот я брожу по его улицам, и не понимаю, что со мной: мне отчего-то, против ожидания, скучно угадывать в том, что я вижу направо, налево, прямо перед собой – всюду, заочно знакомые достопримечательности. Наверное, мешает собственное заученное, запрограммированное восприятие великого города. «Рим, Рим, откройся!» – переделала я на свой лад старинное сказочное заклинание, прошептала его про себя и пошла куда глаза глядят, дав себе домашнее задание по возвращении прочитать заново, другими глазами все известные мне книги о Риме, и в спину мне дул ледяной, порывистый ветер. В январе на Апеннинах частенько дуют такие ветры. Было не очень уютно, но зато ветер разогнал облака, обложившие небо над городом накануне вечером, утреннее солнце светило, казалось, по-летнему ярко, но стояло по-январски невысоко, и контраст между светом и тенью был резким и четким.
Освещенные солнцем колонны собора Сан-Джованни-ин-Латерано казались почти белыми, но там, где их линии уходили в тень – угольно-черными. А внутри, под сводами этого, одного из четырех кафедральных соборов Рима, клубился жемчужно-серый полумрак. В соборе шла своя обыденная жизнь. Какие-то тени то входили, то выходили из кабинок-исповедален, откуда доносилось едва слышное мерное бормотание – это священники отпускали грехи всем страждущим – на всех основных европейских (кроме русского) языках. И вдруг я отчего-то совершенно отчетливо начинаю осознавать: такой город, как Рим, с лету, с наскоку, на бегу – все равно не понять, за ним – века, а у тебя день всего – ничтожная малость, но как это много, если прожить его с открытыми, не затянутыми роговицей быта глазами… Тогда Рим, может быть, и откроется. Поэтому самое разумное – просто побродить по нему и попутно попытаться уловить его сегодняшнее настроение, атмосферу, запомнить запах его воздуха и оттенки его камней, отпробовать его вина и «капуччино», а – если очень повезет, то и с людьми пообщаться.
Выйдя из собора, становлюсь частицей неторопливой толпы, текущей по улицам центра. Она многолика и многоцветна и временами возникает иллюзия, что ты – на каком-то вечном празднике, потому что все как-то воодушевлены. Самые заметные в толпе – японцы. Не потому, что азиаты, – китайцев, особенно из Гонконга, и монголов в толпе тоже много, но японцы – особо, я бы сказала, старательные, можно сказать, образцово-показательные туристы. До всего (где это не возбраняется, конечно) стараются дотронуться – очень деликатно, слегка, лишь самыми кончиками пальцев, но непременно дотронуться, словно хотят удостовериться, что все, что они прежде видели на открытках, – существует в реальности. Римские власти много делают для того, чтобы город выглядел импозантно и респектабельно, реставрация, то тут, то там идет практически беспрерывно, но когда я увидела, как весело и споро работают на лесах молодые парни, то мне почему-то показалось, что их хорошее настроение объясняется не только перспективой вечера с друзьями в ближайшей остерии за обсуждением последних событий в мире футбола, но и мимолетными наблюдениями за этими нежными прикосновениями маленьких ладоней хрупких японок. Помните знаменитый фильм «Римские каникулы» с Одри Хепберн и Грегори Пеком? Из вечерней программы телевизионных новостей в Риме уже в гостинице я узнала, что специально для туристов из Японии, идя, так сказать, навстречу пожеланиям японских трудящихся, городские власти организуют экскурсию по тем местам, на фоне которых развивалась «лав стори» героев «Римских каникул», даже девушку-гида специально подобрали – вылитая Одри Хепберн, с наивной челочкой на лбу и задорным «конским хвостом» на затылке, и спецодежду ей подобрали соответствующую – платьице по моде пятидесятых годов, с узкой талией и длинной, пышной юбкой, туфли на шпильках.
Чуть отойдешь в сторону от проторенных туристских маршрутов, и лица уже другие. На изысканно овальной пьяцца Навона, с красивейшим фонтаном Четырех Рек (в котором, помню, купались ночью герои «Сладкой жизни» Феллини) и церковью Сант-Аньезе слышишь вокруг в основном итальянскую речь.
Согласно расхожим мнениям о чисто итальянском характере типичные носители этого самого характера должны, разговаривая, экспрессивно жестикулировать, громко, на виду у всех ссориться, время от время восклицая что-нибудь вроде: «О, мадонна мия!» или (бранный вариант): «О, порка мадонна!», а также, никого не стесняясь, демонстрировать свою нежность по отношению друг к другу. Стереотипы возникают, конечно, не на пустом месте, но таково уж свойство человеческой натуры, что люди другой национальности, другой культуры при поверхностном знакомстве с ними кажутся в чем-то карикатурными персонажами. Среди иностранцев, никогда не бывавших в России, всегда найдутся люди, которые имеют примерно такое мнение о нас – русские, мол, все пьют водку, закусывая икрой, при этом еще играют на балалайке, а в домах своих повсюду расставляют матрешек и вешают портреты Карла Маркса.
Если, присев случайным гостем на скамейку на римской площади, специально выискивать примеры того, что стереотипы верны, их можно, разумеется, найти – вон, две женщины, встретившись на улице, всплескивают то и дело руками, громко хохочут, любуются друг другом, потом повторяют все эти мизансцены, словно специально работают на публику, еще раз – чем не театр? – но если искать характерное для большинства римлян, то можно убедиться, что они в чем-то очень похожи на москвичей, впрочем, жители всех столиц и прочих больших городов имеют нечто общее в своем облике и поведении – смотрят на тебя приветливо и благожелательно, но как-то мимо, вскользь, ну точно, как мы на «приезжих», – устаешь ведь от их обилия на улицах, понятное дело. Но стоит заговорить с человеком, благожелательность из чисто внешней превращается во вполне искреннюю, и это чувствуешь. Римляне, как и москвичи, всегда готовы дать добрый практический совет: «Синьора, сумку лучше снимите с плеча, возьмите в руки и держите крепко. Очень крепко!», «Вы русская… О! Послушайте, верните своего Горбачева в правительство, он такой симпатичный парень!» «Как, вы еще не были на пьяцца ди Спанья? Обязательно сходите, добраться туда очень просто: три квартала прямо, потом направо и по длинному тоннелю, потом пройдете еще немного и как раз туда попадете. До свидания». Последние два слова вполне могут быть произнесены по-русски, во всяком случае, мне приходилось их слышать, из чего позволю себе сделать вывод, что каждый римлянин немного полиглот. Понимаю, что это до некоторой степени натяжка, может быть, только мне так повезло, но ручаюсь: если вы знаете хотя бы один иностранный язык даже в самом скромном объеме, в Риме вы сможете объясниться на элементарные темы совершенно спокойно.
Осмелев, я уже завязывала беседы, состоящие из нескольких фраз с барменами и уличными художниками, продавцами сувениров и молодыми мамами, гуляющими с детьми. При этом применяла заранеее обдуманную тактику: запомнив самые употребительные фразы из разговорника, варьировала их составные части так, чтобы, задавая свои вопросы, получать на них, по возможности, односложные ответы. Надо сказать, этот мой прием срабатывал не всегда, все-таки итальянцы – это вам не финны, иногда меня ставили в тупик их словесные фейерверки, но тут помогало умение слушать, и по каким-то ключевым словам смысл фразы в целом становился понятен. Конечно, все беседы так или иначе касались достопримечательностей Рима. И очень часто при этом на все лады склонялось слово «элегантный» – элегантная площадь, элегантный собор, элегантная улица, словом, с третьего раза я уже твердо усвоила, что Рим – город элегантный, кроме того, что древний, прекрасный, знаменитый и прочая и прочая. Однако что-то мешало мне согласиться с этим на все сто процентов. Ну, ладно, подумала я, церковь Сант-Аньезе с ее вогнутым фасадом, плавно следующим за линией овала площади, собор Сан-Джованни с его торжественной, монументальной, но в тоже время изящной и легкой колоннадой, дворцы, дома в аристократической части города можно назвать элегантными, но Колизей или Форум вряд ли: здесь более органичны эпитеты другого понятийного порядка. Все стало понятно, когда я вспомнила, что все мои собеседники, как один, имели в виду исключительно Рим эпохи барокко – все эти купола, фронтоны с обилием декоративных деталей и аллегорических скульптур, колонны, фонтаны, террасы и лестницы. Говорит ли это о том, что Рим античный, раннехристианский или средневековый для них, сегодняшних жителей Вечного города, значит меньше, чем Рим барокко?.. Нет, скорее всего, дело тут вовсе не в значимости: античными памятниками можно гордиться, но только то, среди чего живешь, те места, с которыми связаны какие-то принадлежащие только одному тебе воспоминания, – любить по-настоящему, сердцем. Великий Бернини и другие знаменитые римские архитекторы барокко были очень мудры – они создавали не просто отдельные здания, а ансамбли улиц и площадей, строили город для жизни, лишенной монотонности и скуки, и построили всего столько, что сегодняшний Рим – это, главным образом, и есть те здания, что были возведены в XVII – XVIII веках, тогда же перестраивались и многие древние базилики раннехристианского периода, становясь величественными соборами.
Чтобы стал несколько понятнее дух этого времени, надо вспомнить о той, кто его наилучшим образом воплощала самим своим существом, одной из самых известных римлянок XVII века Кристине-Августе, королеве шведской, отказавшейся от престола, даже сменившей протестантскую религию на католическую, чтобы жить так, как ей нравится, и там, где она сама предпочитала. Это была женщина умная от природы, кроме того, прекрасно образованная, знавшая семь языков и владевшая лучшей библиотекой своего времени, эмоциональная и увлекающаяся, сам папа робел перед ней, римские аристократы считали за честь принимать ее у себя и, зная ее любовь к праздникам, устраивали их, соревнуясь друг с другом в изобретательности по части всяческих представлений, розыгрышей и развлечений. «Мое времяпрепровождение, – откровенно говорила Кристина-Августа, – состоит в том, чтобы хорошо есть и хорошо спать, немного заниматься, приятно беседовать, смеяться, смотреть итальянские, французские и испанские комедии и вообще жить в свое удовольствие».
Прошли века, но дух времени барокко, без сомнения, сохранился в «элегантном» Риме. Многими людьми, путешественниками, знатоками итальянской жизни и просто теми, кому посчастливилось провести в этом городе довольно продолжительное время, замечали, что жизнелюбие, переходящее временами в откровенное валяние дурака, – характерная черта римлян.
Есть на этот счет, как мне кажется, свидетельство и более весомое, хотя и не прямое: Гоголь писал первый том своих «Мертвых душ», живя в Риме, на Виа Феличе (Счастливой улице), что неподалеку от пьяцца ди Спанья. Отсюда он посылал многочисленные письма своим друзьям и знакомым, и почти в каждом были строчки о том, что он влюблен в этот город. А может, город, как живое существо, тоже был влюблен в него? Мне это кажется вполне вероятным. Дар иронии, умение создавать фантастически прекрасные гротески – это ведь жило в них обоих… Вернее, живет. Мог ли уникальный талант Гоголя найти более благоприятную для себя подпитывающую среду, чем эта площадь с ее знаменитой лестницей? Во все времена здесь устраивались выставки и базары цветов, а в середине девятнадцатого века на лестнице собирались еще и натурщики и натурщицы, предлагавшие свои услуги художникам, обитавшим в окрестных кварталах. Само собой, на хорошие заработки в таком деле, как позирование, рассчитывали достаточно пригожие молодые люди. Одевались они, приходя на площадь Испании, как правило, в живописные национальные костюмы жителей Балкан – то ли мода тогда была такая, то ли специализация, как сказали бы мы сегодня… Как здесь, должно быть, было тогда весело, как искрилась шутками и белозубыми улыбками на молодых загорелых лицах атмосфера теплого летнего вечера…
…В январском Риме 1995 года цветов на площади Испании не выставляли – нежные лепестки южных цветов и холодные ветры несовместимы – но молодых и красивых лиц здесь было много, правда, одета была молодежь не в фольклорные костюмы. Впрочем, кожаные куртки-«косухи», «банданы» (платки такие, с этническими или «металлическими» орнаментами) на головах – чем не фольклорный костюм молодого горожанина в конце нашего века? Это ведь тоже знаки определенного стиля и образа жизни, принадлежности к особому роду-племени. А может, уже бродит и среди них свой, какой-то новый Гоголь?..
Гоголь не Гоголь, но, может быть, некий дух, что знаком был и ему, принял на себя роль моего покровителя и гида с того момента, как я покинула площадь Испании. Во всяком случае, мне хочется в это верить, потому что дальше меня ждали удивительные в своем роде встречи.
Итак, сориентировавшись по карте, я направилась к церкви Санта-Мария-ин-Космедин, считающейся одной из самых прекрасных достопримечательностей Рима, и, насколько я могла судить по виденным ранее снимкам и репродукциям, совсем не «элегантной», а какой-то иной (мне очень хотелось своими глазами убедиться в том, в чем заключена здесь разница). И вдруг заметила, что рядом со мной явно туда же идут два пребывающих в прекраснейшем расположении духа, невысоких коренастых мужичка такого, знаете, особого вида, который приобретает всякий крестьянин, когда принарядится, – типажи этаких пройдох-труффальдино, но с таким же успехом они могли сойти и за гоголевских хуторян. Мы познакомились совершенно естественно, было бы даже странно, если бы этого не произошло. Слово за слово, и оказалось, что Антонио и Луиджи шли, действительно, к той же церкви, но не столько к ней самой, сколько к так называемым Устам правды – древнегреческой мраморной маске, которая украшает одну из стен древней базилики. Кто в те уста положит свою ладонь, врать не должен, а то уста ее откусят. Рассказывают, один римлянин приладил ее здесь еще в незапамятные времена, потому как имелись у него серьезные сомнения относительно верности своей супруги. Но супруга, однако, испытание выдержала.
– А ты, а ты, Луиджи? В последний раз спрашиваю: не боишься руку туда сунуть? – подначивал приятеля Антонио.
– А чего мне бояться? У нас в Виджевано всякий знает, что я самый правдивый парень, – не смущаясь ответил Луиджи.
– Да-да, тебе всегда попадается самая большая рыба, самые красивые девушки сходят от тебя с ума и скоро на тебя свалится большое наследство.
– Ну-ка, давай, давай повтори все это тут, перед русской синьорой.
– Ну ладно. Признаю, что мы с тобой оба – самые правдивые парни в Виджевано. Ты лучше расскажи русской синьоре, как это ты выиграл в шахматы у Карпова, ей будет интересно послушать.
Русская синьора, признаться откровенно, с детства обожала вралей и хвастунов – лучших украшателей серых будней, а потому, пользуясь уже апробированным методом – соединив кусочки заученных выражений, произнесла на доступном ей итальянском примерно следующее:
– Уважаемые синьоры! Я вижу, вы оба – очень правдивые люди. Поэтому позвольте запечатлеть вас на память.
Как ни удивительно, меня поняли. И руки в Уста правды Луиджи и Антонио засунули одновременно. Пережив столь волнующее испытание, мои новые знакомые решительно объявили, что им необходимо срочно восстановить душевное равновесие, и пригласили русскую синьору в ближайший бар, но мне хотелось еще побродить по Риму. Расстались со взаимными пожеланиями доброго здоровья и общества веселых людей.
А где в Риме можно быстро найти общество веселых людей? Ну конечно же, вернее всего у фонтана Треви. От толпы, говорящей на всех языках мира, то и дело отделяется человек десять-двадцать и, повернувшись к бассейну спиной, через плечо (чтобы не подглядывать за Фортуной) бросают монетки в прозрачную бирюзовую воду – просто на счастье и с практической целью – чтобы еще раз побывать в Риме. Небедные, должно быть, люди – чистильщики этого бассейна, даже если и сдают в муниципальную казну какую-то часть своих ежедневных сборов. Фонтан появился здесь как обрамление древнего источника, называемого Аква Вирго (Вода Девы), содержащего самую свежую и чистую в Риме воду. По преданию, воинам Марка Випсания Агриппы на него указала прекрасная девушка, и было это еще в I в. до н.э., в эпоху императора Августа. Вспомнив об этом предании, я почему-то оглянулась, и сделала это не зря: Господи, да вот же она, та самая девушка, красивая, стройная, со смеющимися глазами, только в полицейской форме, и лошадь рядом! Действительно: как же без лошади-то говорить на равных с воинами? Ну что ж, подумала я, сегодня мне явно везет на собеседников… Решаюсь и спрашиваю:
– Это вы указали солдатам Агриппы источник?
– Я! – с ходу отвечает красавица-полисменша и заразительно хохочет.
Потом с нарочито серьезным видом добавляет:
– Это было, это было… две тысячи лет назад. Не так давно.
Очень хорошо: условия игры приняты.
– Так, значит, вы здесь для того, чтобы охранять свой источник?
– Да!
– А почему вода в нем такого необыкновенного цвета?
– Это мой секрет! Но одной вам, синьора, скажу: к этой воде примешан кусочек неба Италии. Вы, наверное, из Москвы. У вас там есть фонтаны?
– Есть, – ответила я, представляя в тот момент почему-то только монументальные золоченые тела представительниц пятнадцати республик – «пятнадцати сестер» фонтана «Дружба народов» на бывшей ВДНХ.
Ничего удивительного, что девушка сразу распознала во мне москвичку: постоишь на площади Треви несколько часов, быстро станешь физиономистом. Тем более, что на самом деле ее задача тут – отнюдь не воплощение образа Девы Источника; мелких воришек по центру Рима снует едва ли не столько же, сколько туристов. Нашу столь интересно завязавшуюся беседу неожиданно пришлось прервать, потому как одного из них, видимо, новичка среди истинных римских виртуозов этого древнейшего ремесла, схватили за руку туристы… Тут-то я и вспомнила данный мне с утра совет держать покрепче свою сумку и непроизвольно схватилась за нее обеими руками.
Выглядела я в этот момент со стороны, наверное, достаточно комично – как перепутанная провинциалка, потому что бородатый сеньор, стоящий на узком тротуаре перед дверью в его собственную, судя по всему, лавочку, не мог сдержать улыбки. «А вот не на ту напали, синьор, – мысленно ответила я ему, – нечего нам ваших карманников бояться, мы и своих-то не боимся, даром что кошельки из сумок непонятным образом то и дело исчезают». И улыбнулась в ответ. На что последовало приглашение войти внутрь. Вот тут мне стало опять страшно – лавочка-то была особая, то, что называется «артбутик», а художественная продукция в Риме, если только это не грубый кич, стоит немало. Но марку надо было держать, да и любопытство подстегивало. И правильно, как оказалось: хозяин был не просто художником, а отчасти и колдуном, на каждом его произведении присутствовал некий магический знак.
После того, как я осмотрела всю эту небольшую авторскую галерею, художник с гордостью произнес: «Ио соно арджентино», что означало «Я аргентинец» и, по-видимому, должно было объяснить мне важную особенность его творчества. Я задумалась, стараясь понять, в чем тут может состоять объяснение, но потом вспомнила об известном факте – аргентинцы европейского происхождения (а в этой стране пускали корни в свое время не только испанцы, но и итальянцы, немцы, шведы, французы), слегка заблудившись в собственных корнях, с необычайным трепетом относятся к древним верованиям в магические знаки и обряды коренных жителей страны – индейцев. Всем известно: с колдунами вокруг да около ходить бесполезно – видят насквозь, и я —"была не была! – спрашиваю прямо, не скрывая своего, воспитанного еще в пионерском детстве скептицизма по отношению ко всяким таким штукам:
– Вы полагаете, ваши картины влияют на судьбу человека?
– Нет-нет, – мягко и с деликатной улыбкой отвечает колдун. – Они – только маленькие свечки для большого зала судьбы. Захочет человек – возьмет свечку, что-то разглядит в этом зале, а не готов он к этому —
значит ему это и не нужно.
Я откровенно созналась синьору Альфредо, что не чувствую себя готовой. Может быть, только пока…
– Тогда, – сказал он, – чтобы это проверить, вам придется еще раз приехать в Рим.
– С радостью, если получится! – ответила я.
На том и расстались. По закоулкам узких улиц тем временем поползли первые тени вечерних сумерек. День начался в соборе, прошел чудесно, и значит, закончить его следовало тоже в соборе. И я поспешила к еще одному знаменитейшему римскому собору – Сан-Пьетро-ин-Винколи, где хранятся в специальном саркофаге цепи, которыми царь Ирод сковал Петра, и еще этот собор знаменит тем, что там находится Моисей Микеланджело на надгробии папы Юлия II.
Возле Моисея время от времени загорались направленные на него лампы, выхватывая его могучую фигуру, изваянную рукой гения, из полумрака собора и мрака времени, словно лучом киноаппарата… Бронзовые цепи, как следовало из тех сведений, которые на разных языках (по выбору) выдавал за небольшую плату небольшой специальный видеоаппарат, непонятным образом сплелись так, что разделить их теперь практически невозможно.
Закат – а большинство римских соборов своими фасадами обращены на запад – золотил колонны, когда я медленно стала спускаться по лестнице Сан-Пьетро-ин-Винколи. Под ногами что-то блеснуло. Я наклонилась – это был обрывок цепочки желтоватого металла. Я подняла неожиданную находку.
…Уже в Москве ювеЛир, осмотрев ее, сказал, что цепочка сделана из сплава, в котором преобладает бронза. Как странно… Уж не штучки ли это синьора Альфредо? И, отогнав от себя эту бредовую мысль (а может, верную догадку?), берусь, как обещала себе, за книгу об Италии – прекрасный труд Павла Муратова, недавно, после нескольких десятилетий забвения, изданный у нас в полном виде, – «Образы Италии». И вот ее самые первые строки (П. Муратов цитирует для зачина французского писателя Ж.Ампера): «Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силу этого очарования понимают друг друга с полуслова; для других это загадка». Это так.
Людмила Костюкова, наш спец. корр. | Фото автора
Исторический розыск: Три дня с графом Клейнмихелем
Прямая, как стрела, была изначально линия Николаевской железной дороги. Отчего же тогда вдруг она стала кривой? И какую роль сыграл тут палец императора?
Маленькая экспедиция любителей железных дорог пыталась ответить на эти и другие вопросы, призвав в помощь…самого графа Клейнмихеля.
Редкого пассажира судьба ссаживает с электрички на станции Веребье, одной из многих между Окуловкой и Малой Вишерой, что по Октябрьской, бывшей Николаевской, железной дороге. Полюбовавшись местными ракитами с округлыми, будто садовником подстриженными кронами, он, возможно, зашагает по грунтовой дороге в сторону деревни Лескуново и тогда не замедлит очутиться в огромном овраге, пологом и лесистом; речка, прокопавшая его, и дала название станции. Вскоре, однако, путник остановится, пораженный, перед двумя громадными, явно искусственными сооружениями. Странные узкие лбы выпирают из обоих склонов оврага, сравниваясь с ними по высоте и глядя прямо друг на друга. Словно древние пирамиды, они подавляют и хранят тайну: какие племена воздвигли их, каким богам? А узнай любознательный странник, что ось одного капища указывает точно на Санкт-Петербург, а другого на Москву… Не в силах более терзаться догадками, он (автор этих строк) взбегает на загадочную гору и спешит вдоль по ее хребту. Не проходит и пяти минут, как перед ним открывается широкая поляна, где уже дымит костер. Вокруг огня сидят посвященные, а на почетном месте – Александр Сергеевич Никольский. Он – зампред Всероссийского общества любителей железных дорог и руководитель экспедиции по несуществующему ныне отрезку Николаевской дороги. У него и папочка уже раскрыта, он достает оттуда темную фотографию, на которой смутно проглядывает какой-то барельеф.
– В Санкт-Петербурге, – рассказывает Никольский, – на Исаакиевской площади стоит памятник Николаю Первому. Знаменита статуя тем, что вздыбленный конь, на котором восседает император (не путать с Медным всадником), имеет всего две точки опоры. Однако мало кто обращает внимание на фигуры, опоясывающие постамент. А они показывают четыре важнейших события царствования этого монарха. Один из них – на снимке.
И мы разглядываем. Изображен какой-то высоченный мост, по которому резвый паровозик тянет вагончики. Внизу – толпа вельмож с эполетами и аксельбантами. Все смотрят на одного – явно Николая, двое что-то ему разъясняют. Год 1851.
– Год открытия железной дороги из Петербурга в Москву, – продолжает Никольский. – Император, вместе с супругой поехал первым поездом, и в самых примечательных местах выходил. А это сооружение как раз и считалось на трассе самым-самым. Веребьинский мост – 590 метров длины, 53 высоты. Насыпь по берегам реки, вы поняли, – от него, а наша поляна – бывшая станция Веребье – третьего класса. Так вот, когда Николай принимал дорогу, на этом грандиозном мосту случился казус. Поезд, ведомый американской бригадой, взял и забуксовал! Оказалось, рельсы были ржавые, и мастер, желая выслужиться перед государем, покрасил их не только с боков, но и сверху. Понятно, Клейнмихель – он спиной на барельефе – сразу побежал наверх, морду машинисту бить, а иностранцы принялись под колеса песок сыпать. Общими усилиями состав покатил дальше.
– Да, – ввертываю я, – мы по Некрасову только и знаем, что эту дорогу построил русский народ. А вот в Белозерске, на берегу Белого озера, у канала, который огибает весь южный берег, я видел обелиск: «Соорудил Петр Андреевич Клейнмихель». Значит граф и здесь след оставил…
– Клейнмихель, – отзывается Никольский, – был главноуправляющим путями сообщения и общественными зданиями…
Но сам-то Александр Сергеевич, сам Никольский каков! Ведь медиум же он, маг, шаман, я сразу понял. Ведет нас по старой трассе, будто хадж это у него, путешествие по святым местам. И направляет его дух самого графа Клейнмихеля. Чащоба невероятная, уже и не разберешь, где была насыпь, а где выемка. В одном месте бобры засеку устроили, в другом промоину перелезаем, а где-то, по слухам, даже бомба неразорвавшаяся с войны засела. Сухостой, крапива гигантская. Но мы все равно грезим, как пробегали тут, гудя, паровозы, обдавали дымом. А на привале достает наш предводитель заветную тетрадочку, где выписки у него из мемуаров прошлого века:
– Был у Клейнмихеля старый слуга-дворецкий. И вот однажды, при госте, граф говорит ему: «Закрой окно!» А тот и ухом не ведет. Петр Андреевич снова: «Закрой!» Слуга вообще поворачивается и уходит. А граф смотрит на гостя и с восхищением произносит «Каков, каналья!»
Выползаем наконец-то со старой трассы на новую. Торжественно переваливаемся через знаменитую оградительную сетку Октябрьской железной дороги. Но и о гравий бить ноги по жаре немногим слаще.
Привал в красненьком придорожном здании, какие часто видишь на этой магистрали из окна поезда, совершенно разрушенные и разоренные. Что это, старые станции? Нет, бывшие казармы для рабочих-путейцев. Никольский обходит дом и грустнеет: такое запустение! Да, думаем, Клейнмихель тоже бы не одобрил. Садимся за стол в комнате-кузне, качаем рычаг от мехов, которых давно нет.
Конечный наш сегодня рубеж – станция Мстинский мост. Пытались ли вы, читатель, когда-нибудь переходить реку по железнодорожному мосту? Автор пытался. Однажды в Чарджоу пошел по шпалам через свою любимую Аму-Дарью: завернула его стража через сто метров. И вот теперь представьте: мост, вознесшийся высоко над Метою, прямо-таки летит над нею. Какая удобная мишень для террористов! Вот они и появляются – шесть человек в сапогах и защитных куртках, явно вышли из лесу. Это, конечно, мы. Взбираемся по нескончаемой лестнице на насыпь и вслед за Никольским смело шагаем вдоль путей на тот берег. На Александре Сергеевиче – фуражка железнодорожная, а еще для верности – оранжевый жилет. Навстречу, уже на той стороне, встает караульный с винтовкой наперевес. Страшно, конечно, против шести диверсантов. Но лицо каменное, как и положено при исполнении. Обрядовый костюм Никольского, однако, производит требуемое магическое действие. Застыв с ружьем ниже пояса, охранник пропускает всю цепочку. И только когда замыкающий не выдерживает и задает мучащий всех нас вопрос «А пиво-то где здесь?», лицо часового смягчается, а затем принимает уже вполне человеческое, озадаченное выражение.
– А здесь нет, внизу надо было. Что же начальник-то вас ведет, не показывал?
Ох, шаман наш начальник!
Пиво есть. А когда ищем удобное место для отдыха – и чтобы тень, и вид на мост с поездами пробегающими – то обнаруживаем еще нечто. В пристанционном овраге, высовываясь из болотины прутьями своего ограждения-лукошка, являет себя настоящая реликвия. Тендер его величества, что там – божества Паровоза! 70-х годов прошлого века! (Для непосвященных: тендер – это тот ящик на колесах для угля и воды, что цепляется к паровозу. Штыками и топорами освобождаем драгоценность от зарослей кустарников, и судя по тому, сколько внутри грязной йоды (не вытекает!), находка в прекрасном состоянии. Никольский произносит речь перед видеокамерой: возможно, говорит он, тендер именно от того паровоза, который унес жизнь Анны Карениной.
Воодушевленные находкой, уже на электричке возвращаемся в Веребье. В голове звучат строки: «И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колени».
Достойное завершение дня!
На следующий день нашей маленькой экспедиции предстоит трейнспоттинг. Да еще какой!
Что это такое – трейнспоттинг? Еще одно ужасное иностранное слово. Не пугайтесь и не путайте с армреслингом и бодибилдингом. Трейнспоттинг – это занятие сытых западных дяденек, предпочитающих в свободный часок убежать от супруги на железнодорожную насыпь и засесть там в каком-нибудь живописном месте. Человек терпеливо поджидает поезд, а когда тот появляется, делает фотографию и записывает у себя в книжечке. Допустим: «4.15 из Паддингтона. Опаздывает на три минуты». Потом, с сознанием не зря прожитого дня, наблюдатель идет домой и шлет снимок с отчетом в любимый журнал, издаваемый для просвещенных.
Так вот, в четвертом часу дня по нынешней трассе, по величественной дамбе, которая пересекает веребьинский овраг, промчится несравненный скоростной поезд ЭР-200. Никольский ведет отряд вдоль реки напролом. Пути и в самом деле нет: заросли жуткие, тропинка чуть что исчезает.
Но мы все-таки продираемся и выходим к дамбе. Любуемся поездами, громыхающими высоко над нами. По дощатому балкону смело устремляемся в трубу, под которой течет Веребья. В полутьме журчит вода, стиснутая старым камнем; плиты свода тверды и шершавы. Ласково ощупываем маленькие сталактитики. Наконец устраиваемся под насыпью и ждем.
– Кончился век государя, и кончилась карьера Клейнмихеля, – рассуждает Александр Сергеевич. – Не нужен оказался новому царю такой крепостник. Дамбу эту возвели уже после его смерти, в 1881 году. На Мете тогда деревянный мост меняли на нынешний, железный, а здесь проложили объезд – так вышел на прямой Николаевской дороге заметный крюк. Но иначе участок веребьинского моста был слишком крутой, приходилось постоянно держать наготове паровоз-толкач, который помогал составам идти в гору.
– А история о том, как Николай чертил линию трассы по карте? Что у царя был кривой палец, который выехал за линейку как раз на Веребъе? И государь обвел его, а никто не посмел возразить.
– Просто вымысел. Шли по прямой, потому что топографию будущей трассы не знали.
Использовали петровскую еще просеку-«першпективу».
Чу, гремит – Что делать? Падать ниц? Нет, фотографировать! Его величество ЭР-200 проносится по верху серебристой ракетой. Один только кадр, а насыпь уже пуста. Можно раскупоривать тушенку.
– И все-таки, – возвращается к теме руководитель экспедиции – царь сыграл в строительстве этой дороги огромную роль, и, по справедливости, на Ленинградском вокзале надо было не Ленину ставить памятник, а ему. Весь кабинет государев – сорок министров – проголосовал против того, чтобы ее строить. И тогда Николай сам решил – монаршьей волей. Однако строительство велось неспешно. Но вот однажды на каком-то банкете император оказался лицом к лицу с графом Клейнмихелем. И сразу вспомнил: «Когда построишь?». Тот опешил и тут же брякнул: «Через год!» И построил.
Пешком от нашего лагеря к ближайшей здесь станции Оксочи пройти невозможно: дорога напрочь залита навозом с местной фермы. Сидим, ждем электрички на Веребье…
Что рассказать про день третий? Копаем. Вернее, копают Никольский с миитовцем Леней. Роют, ломая лопаты о древнюю щебенку, профили по верху насыпи. Миитовец Дима бродит с миноискателем. Тем временем трактор подвозит целый прицеп «добрых поселян», в основном женского пола, которые принимаются убирать сено. Наши серьезные археологические работы их вовсе не удивляют.
Оказывается, насыпь очень любима местными жителями. Женщины наперебой хвалят ее, указывая, какая она ровная и прямая, прочная и высокая. Подъезжает «москвичок», и водитель, тоже желая помочь науке, делится старинным преданием. Было-то как – Николай, едучи первым поездом, испугался веребьинского перехода, и состав провели по мосту без государя. А сошел царь именно на том месте, где стоит дом этого автомобилиста. Однако Никольский тут только хмыкает. Что бы сказал Клейнмихель?
Понемногу из-под земли вылезают разные железнодорожные мелочи – костыли, огромные болты с проржавевшими гайками, прокладки для скрепления рельсов. Но самих рельсов, конечно, нет. Внизу, ближе к реке, обнаруживаем остатки мостовых опор, использованных местными жителями на фундаменты домов.
Кажется, что дух графа безмолвно следит за раскопками, но в конце концов не выдерживает и прорываемся в словах Никольского.
Мы ведь все сокрушаемся, что не отыскиваются косточки русские, которые по бокам-то все…
– Действительно, – говорит Александр Сергеевич, – в документах отмечено: собралась раз голодная толпа, потому что не завезли вовремя хлеба и мяса. Заметьте, и мяса! Но хлеб срочно доставили, а с мясом дело разрешилось само собой по причине начавшегося поста. Вот так-то!
Этот последний день завершаем волнующим обрядом. Живой картиной. Участники экспедиции встают под насыпью и представляют в лицах сцену с питерского барельефа. Конечно, Клейнмихеля подобало бы играть Никольскому, но ему все-таки отходит роль государя. Мы тоже хотим, чтобы наш начальник предстал перед историей лицом, а не со спины. По очереди выбегаем из картины и щелкаем затворами.
На следующее утро пути наши разойдутся. Никольский с Леней отправятся в Шушары (это под Питером), в железнодорожный музей. Будут колдовать над грудами старых железок, свезенных туда со всей страны. И кто знает, каких еще духов им удастся вызвать, восстанавливая старые паровозы? Мы же, остальные, на почтово-багажном поездке – а с иными в Веребье туго – едем в Москву. Тендер, ЭР-200, килограммы находок – экспедиция увенчалась успехом, и это не случайно. Граф был с нами.
Алексей Кузнецов | Фото автора и А.С. Никольского
О странах и народах: Дорога на Сантьяго-де-Компостелу
Жители испанской деревушки Ла-Вирджен-дель-Камино давно привыкли к тому, что к ним то и дело обращаются с расспросами странного вида путники мужчины и женщины, почтенные старцы и совсем еще молодые парни и девушки: перепачканные пылью, они, несмотря на зной, добираются сюда из разных стран Европы, и не только. Местные тут же безошибочно определяют, кто эти странники и куда держат путь, по характерному талисману, что висит у каждого на шее. Это плоская раковина морского гребешка с изображением креста.
Минуя Ла-Вирджен-дель-Камино и сотни похожих на нее северных испанских деревень, паломники бредут в Сантьяго-де-Компостелу, к усыпальнице святого Иакова, покровителя Испании и едва ли не самого почитаемого великомученика римской католической церкви.
Отсюда до конечной цели еще двести долгих миль пути через равнины Леона и горы Галисии. У тех, кто идет к святым местам пешком, дорога занимает обычно недели две. Путешествующие верхом или на велосипедах поспевают к заветной цели, конечно лее, быстрее.
От испанской границы до здешних мест будет миль триста, если не все пятьсот. А весь путь из северной Франции, откуда для большинства иностранцев» собственно, начинается паломничество, составляет вдвое больше.
Город Сантьяго-де-Компостела еще не всякой карте сыщешь, но право-верным католикам в разных концах света он, тем не менее, даже очень хорошо известен. Ведь именно там стоит Знаменитый собор святого апостола Иакова. А паломнический «маршрут», к нему ведущий, – один из самых почитаемых. И старейших: пути этому уже более тысячи лет.
В истории того или иного святого места нередко случается, что правда причудливом образом переплетается с вымыслом, причем и подлинных фактов зачастую бывает раз-два и обчелся. Что же касается Сантьяго-де-Кампостелы, единственное, пожалуй, не вызывает сомнений даже у самых стойких скептиков, – поистине незыблемое величие святого Иакова.
Иаков – сын Заведея и Саломеи. Отец его был рыбаком из Галилеи, а мать приходилась сестрой деве Марии, и стадо быть – теткой Иисусу Христу. Так что Иаков и Иисус – двоюродные братья, Новообращенные Иаков и брат его Иоанн (Имеется в виду Иоанн Евангелист, доводившийся Иакову младшим братом.), настолько были ревностны в своей вере, что Иисус в благодарность нарек обоих Ораторами, Сыновьями Грома. По преданию, Иаков воочию видел, как распяли Христа. Но даже столь сильное потрясение не остановило его – он продолжал нести веру Христову людям, за что был схвачен и, в конце концов, по велению царя Ирода обезглавлен.
Эти прискорбные события происходили вдали от испанской земли. Но, как твердо убеждены многие испанцы, здесь Иаков тоже некогда проповедовал. Что до истории, связанной с местом захоронения апостола, который, согласно легенде, был погребен в Испании, тело его – причем с головой, чудесным образом приросшей к туловищу, – впоследствии было выкопано и переправлено морем в галисийский порт Падрон. И здесь-то, неподалеку от Падрона, – заново предано земле на старом римском кладбище.
На этом, однако, история святого места не заканчивается. Однажды, незадолго до смерти – а было это в начале IX века – императору франков Карлу Великому привиделся во сне усеянный звездами путь, простиравшийся к святому месту через Францию и Испанию. И Всевышний призывал императора расчистить «дорогу» от мавров, захвативших часть Иберии. Внявший голосу Господню Карл повел свой войско через Пиренеи. В бой его воины шли под хоругвью святого Иакова, которую украшал уже знакомый нам символ – раковина морского гребешка. Великий поход закончился победой франков: от владычества сарацинов были избавлены Кастилия и Леон, Галисия, Наварра и Ла-Риоха.
Ну и наконец – некоторое время спустя – галисийский отшельник Пелагий узрел как-то над равниной яркую звезду. С благословения церковных властей взялся он копать в том месте, над которым она воссияла, – и наткнулся на хорошо сохранившееся тело, по всей видимости, обработанное специальными мазями. Голова была там, где положено. А в свитке, приложенном к телу, указывалось, что усопший есть не кто иной, как святой Иаков, сын Зеведея и Саломеи, родной брат Иоанна, коему Ирод отсек голову в Иерусалиме».
По указанию папы римского останки святого были торжественно перезахоронены в местечке Кампусстелле. («Campus stellae» (лат.) – буквально – «Звездная поляна».) Чуть позже там была воздвигнута часовня, которая со временем – трудами не одного поколения архитекторов – выросла до размеров нынешнего собора Святого Иакова…
Но оптимистам тут же возражают пессимисты, и у них, разумеется, есть на то свои основания. Возьмем хотя бы само название Компостела, – говорят они, – которое никак не вяжется с романтической историей о воссиявшей-де звезде. Тем более что у латинского слова «compostus» самые что ни на есть прозаические значения – выдуманный, вымышленный, ложный. Что же до свидетельств о якобы имевшем месте перезахоронении, то тут мы имеем дело с обыкновенной опиской, которую вполне мог допустить близорукий монах-переписчик. Ведь между латинскими словами «Hierosolyma» и «Hispania», обозначающими соответственно Иерусалим и Испанию, и правда, есть некоторое сходство, хоть и весьма отдаленное. Столь же сомнительно для скептиков и значение раковины морского гребешка, которая, по преданиям, была символом христиан, сражавшихся против мавров. Помимо всего прочего, раковина была еще и символом Венеры и своего рода «членским значком» последователей особого культа, известного своими разнузданными оргиями.
Насколько достоверны и убедительны доводы той и другой стороны, пусть каждый решает для себя сам. Некоторые из числа уверовавших «голосуют» ногами.
Хождение в Сантьяго-де-Компостелу можно назвать испытанием, скорее, духа, нежели, к примеру, кошелька: бесплатный – или за чисто символическую плату – кров, грубая, но здоровая крестьянская пища… И подобную житейскую прозу не следует сбрасывать со счетов, отправляясь в путь-дорогу к собору Святого Иакова. Однако настоящим паломникам все нипочем – ими движет вера. Впрочем, среди пилигримов нередко попадаются люди, которыми больше руководит охота к перемене мест и вполне понятное любопытство – желание полюбоваться красотами испанской природы и архитектуры.
Да и не только это. А еще – поиск ощущений, казалось бы, навсегда ушедших из нашего рационального, прагматичного мира, в котором все мы разобщены.
Американский журналист Саймон Винчестер, решивший пройти с паломниками до святого места, разговорился в пути с одной англичанкой из Ливерпуля, которая, по ее словам, отнюдь не ревностная католичка.
– Зачем же вы, в таком случае, пустились в столь трудный путь? – поинтересовался Саймон.
– Дело в том, – ответила «странная» паломница, – что в путешествие я отправилась, чтобы познакомиться не только с простыми и, как я теперь вижу, радушными испанцами, но и познать саму себя. В дороге очень хорошо думается. Вот я и размышляю – о многом. Знаете, есть некоторые темы, которые, например, у нас, в Англии, обсуждать не принято.
– Ну и как, оправдались ваши ожидания? – допытывался журналист.
– Думаю, да, – призналась странница. – Даже несмотря на сбитые в кровь ноги и прочие не приятности, подстерегающие всякого в пути.
А чтоб было легче выносить все тяготы многонедельной кочевой жизни, каждый паломник непременно берет с собой раковину («дарующую успокоение», как утверждает в одном из своих стихотворений Уолтер Рэли (Уолтер Рэли (1552 – 1618) – английский мореплаватель, организатор пиратских экспедиций, а также поэт и драматург.), посох, огромную шляпу и бутыль из тыквы с запасом питьевой воды.
Кстати, состав паломников со временем менялся. В средние века это была довольно разношерстная компания. Монахи и миряне, кающиеся грешники и жаждущие чудесного исцеления больные, рыцари, давшие обет совершить паломничество, если уцелеют в битвах, и те, кого можно было бы назвать прапрадедушками современных туристов, – другими словами, люди, жаждавшие вкусить прелести жизни на живописном испанском побережье между Сан-Себастьяном и Ла-Коруньей. В свое время среди паломников можно было увидеть и венценосных особ – к примеру, французского монарха Людовика VII или короля Шотландии Якова III и духовных пастырей, таких, как итальянский проповедник и основатель ордена францисканцев Франциск Ассизский. Основную же массу составляли и составляют, разумеется, люди безвестные.
Чуть позже среди странников стало попадаться и откровенное отребье. Скажем, французские суды той поры нередко ставили обвиняемого перед выбором: «темница или паломничество». И потянулись к святым местам отпетые злодеи – воры и убийцы, в поисках продажных церковников, которые за определенную мзду были готовы продать любому так называемый «компостельский сертификат», удостоверявший, что его владелец действительно совершил паломничество.
Проторенный маршрут облюбовали купцы и прочий торговый люд, а также разбойники, грабившие всякого зазевавшегося путника. Попадались на пути к святым местам и девицы известного сорта – закоренелые блудницы и совсем еще юные создания, которые приобщались к древнейшему ремеслу чуть ли не на дороге. «Пойдешь паломницей – вернешься блудницей», – такая присказка появилась в те времена, когда «благое дело» оказалось под нешуточной угрозой.
Начавшаяся еще во время оно коммерциализация дожила и до наших дней, а вот криминальных элементов нынешним путникам не стоит так уж опасаться – теперь им на пилигримов ровным счетом наплевать.
Паломничество в Компостелу можно начать также из Португалии, Ирландии, Швейцарии и Германии (кстати, немцы самые фанатичные паломники среди «неиспанцев»).
Первые впечатления вознамерившихся отправиться в дальний путь – смесь идиллии с кошмаром: перегруженность дорог и плохая организация – вот что поражает прежде всего. Добираешься до Испании – совсем другое дело. В Памплоне, неподалеку от французской границы, там, где наконец-то соединяются четыре паломнические «тропы», число странников заметно возрастает. Да и организовано здесь все на порядок лучше.
Особо стоит отметить одно новшество. Дело в том, что стараниями чиновников в Мадриде и Брюсселе тысячелетний паломнический путь в Сантьяго-де-Компостелу получил официальный статус «Культурного маршрута» по Европе. Теперь паломникам то и дело попадаются в дороге новенькие сине-желтые указатели (с непременным изображением раковины морского гребешка). Вещь, в общем-то, нужная: порой дорога так петляет среди холмов Испании, что разобраться, куда же, собственно, дальше идти, без посторонней помощи бывает довольно затруднительно. Кому-то в голову пришла идея создания символического логотипа, и, скажем, на борту многих самолетов авиакомпании «Иберия» теперь можно увидеть стилизованное изображение посоха и бутылки из тыквы. Но этим дело не ограничилось. В Галисии уже создана модель пластмассовой статуэтки под названием «Пилигрим», которая вот-вот должна быть запущена в массовое производство. По замыслу создателей, это «позволит Галисии явить свой новый облик остальному миру». Идея, конечно же, достойная, но вот ее воплощение вызывает немало иронических замечаний как в самой Испании, так и за ее пределами. Американцы, например, не без ехидства приметили, что этот Пилигрим больше напоминает Дональда Дака, созданного фантазией Миро. (Миро, Жоан (1893 – 1983) – испанский живописец, скульптор, график; с утонченным декоративизмом имитировал наивность детского рисунка.)
Как бы то ни было, по признанию паломников, сами по себе мирные идиллические пейзажи, открывающиеся взору, и новые ощущения, которые дарит эта дорога, освежающе действуют на разум и душу. Путь в Сантьяго-де-Компостелу становится событием с большой буквы, а не жалким подобием некоего «забега» на сверхдальнюю дистанцию.
Кстати, как утверждают очевидцы, когда приближаешься к конечному пункту маршрута, вид двух соборных шпилей издалека особого впечатления не производит: поначалу кажется, что собор Святого Иакова заметно уступает своим «собратьям» даже в той же Испании. Возможно, портят впечатление и современные здания, хорошо заметные на расстоянии. Истинную же красоту и величие собора можно оценить, лишь стоя на площади перед этим грандиозным сооружением.
Кстати, всем вновь прибывшим в Сантьяго-де-Компостелу, надлежит обращаться в специальное учреждение, где выдают сертификаты, в которых указывается, откуда и когда вы пустились в путь и сколько дней продолжалось ваше паломничество. Установлен обязательный минимум. Для того, чтобы можно было рассчитывать на получение заветной бумаги, необходимо пройти или проехать на лошади не менее шестидесяти миль, велосипедистам же надо «накрутить» все сто двадцать. И это должно быть документально подтверждено. Если все в порядке, вы удостаиваетесь личного рукопожатия секретаря соответствующей службы и получаете сертификат, скрепленный печатью местного епископа.
Но программа на этом не заканчивается. В ней остаются еще три пункта. В пять часов пополудни все прибывшие паломники собираются в соборе на специальную службу и возносят хвалу Господу за то, что Он дал им сил пройти весь путь до конца. Сам святой Иаков представлен у алтаря в трех ипостасях: вельможи, воина и пилигрима. Есть там и четыре статуи, олицетворяющие Благоразумие, Справедливость, Силу и Сдержанность.
Больше всего присутствующим запоминается ритуал, сопровождающийся весьма оригинальным способом курения благовоний с помощью специального серебряного сосуда метровой высоты. Внутри огромной курильницы – тлеющие угли и ладан. С самой высокой точки собора свешивается толстый канат, к которому прикреплена вся эта махина. Пять дюжих галисийских рыбаков начинают что есть силы раскачивать ее туда-сюда. Курильница со свистом пролетает над головами собравшихся, распространяя вокруг божественный аромат. Зрелище, действительно, производит впечатление, особенно когда эта увесистая штука наберет приличную скорость. Однажды – в далеком 1622 году – рыбаки «упустили» курильницу, и она рухнула вниз. К счастью, никто не пострадал…
После молитвы паломники по очереди заходят за алтарь, где находится изваяние святого Иакова Пилигрима, встают на небольшую ступеньку у него за спиной и, приложив руки к его плечам, целуют вделанную в спину статуи раковину.
Потом странники, опять же по одному, подходят к ковчегу с мощами святого. Преклонив колена, они замирают на время в молчании. После чего направляются к выходу. На воздух. На залитую вечерними огнями соборную площадь.
Теперь – домой. Кому поближе, те отправляются ночным поездом. Остальные – на самолет. В Сантьяго-де-Компостеле есть и железнодорожная станция, и аэропорт. Тамошние служащие говорят, что, наверное, больше нигде в Европе не продают столько билетов в один конец.
По материалам журнала «Smithsonian» подготовил К.Ищенко
Дело вкуса: Удобный наряд хакама-сита
Старинные гравюры и даже современные фото, где изображены японцы в традиционных костюмах, в объяснениях не нуждаются: кимоно и есть кимоно, хакама же – хакама.
– И это знаменитое японское кимоно?! – несказанно удивились мы. Было это много лет назад, когда студентами-стажерами мы впервые приехали в Японию в университет Токай. Одна из наших преподавательниц пришла на студенческий вечер, облаченная в этот широко известный в мире наряд.
Он оказался совсем не таким, каким представляют его иностранцы, воспитанные красочными рекламными календарями. На них изображены загадочно улыбающиеся молодые японки, одетые в кимоно, – раззолоченные, белые, вышитые фигурами журавлей, грациозно раскинувших крылья. Такая экзотическая женская одежда служит образцом непривычной для нас и – потому – совершенно неуловимой красоты.
Но тогда мы увидели нечто совершенно другое: кимоно учительницы было свекольно-бурым, темным. Его перехватывал широкий пояс совершенно не подходящего светло-желтого цвета. Кимоно показалось нам нарочито некрасивым, почти отталкивающим. На наш взгляд, более неподходящего сочетания цветов нельзя было отыскать…
Лишь потом мы узнали, что почти все кимоно – свекольно-бурые, мутно-зеленые, зеленовато-серые, коричнево-желтые. Они напоминают и о сером морском песке, и о разбросанных на нем сухих водорослях, и о замшелых камнях, и о свинцовой дали океана. Эти цвета японской природы удивительным образом соответствуют мировоззрению буддизма, находящего в них непостижимую красоту.
Расшитые же золотом роскошные кимоно, чей образ глубоко вошел в сознание иностранцев, предназначены для свадебных церемоний и других торжественных случаев. Вышитые вручную или на особо точном станке, они очень дороги, а – главное – совсем не нужны в повседневной жизни, и потому даже среди не бедных людей их принято брать напрокат в специальных бюро, существующих в отделах национального платья всех больших японских магазинов.
Обута была наша преподавательница в традиционные соломенные сандалии, крепящиеся петлей за большой палец, – «дзори», которые носят с кимоно. Их коротенькие подошвы не доходили и до середины пятки, отчего при ходьбе носки сами собой сходились под тупым углом, и казалось, что дородная учительница так и норовит рухнуть вперед… Впрочем, эта неудобная на наш взгляд, обувь делала ее шажки мелкими, семенящими, торопливыми – как раз такими, что издавна считаются грациозными и правильными для выступающих в кимоно женщин.
Как бы то ни было, мы громко восхитились ее нарядом, и преподавательница польщенно улыбнулась. Похоже, она и в самом деле чувствовала себя в нем совершенно свободно – ведь не случайно же так одеваются каждый день тысячи японских домохозяек.
С утра до вечера ковыляют они в коротковатых туфлях по близлежащим лавкам, закрывая узкие проходы между полок кряжистыми телами в блеклых кимоно.
Каждый новый шаг они делают, похоже, без всякой охоты, и потому иной магазин, расположенный лишь в сотне шагов, кажется им непомерно далеким.
Вообще, национальная японская обувь не очень удобна. К примеру, «гэта», деревянные сандалии на двух высоких каблуках. В «гэта» хорошо ходить по лужам, переваливаясь с каблука на каблук и движениями этими напоминая цаплю, но за отходящим автобусом в них не погонишься. Зато «гэта», как и «дзори», очень легко сбрасывать с ноги, приходя в дом. Короче говоря, нигде за пределами Японии ее национальная обувь распространения не нашла.
Как японист, живший в Японии, желающий познать жизнь изучаемой страны во всех мелочах, я пытался освоить гэта. Было это у моря, отдыхающие японцы, сняв обычную обувь, переобувались.
Поначалу мне показалось, что ходить в этих двухэтажных башмаках невозможно, а главное, совершенно не нужно: ведь вместо них можно надеть на ноги что-нибудь более удобное.
Но я послушно просунул ступню в широкую петлю, обшитую черным бархатом, и заковылял на двух высоких каблуках к кромке моря. Признаюсь, что мне, несмотря ни на что, доставлял удовольствие скрежет гальки, раздвигаемой сосновыми каблуками…
Желания привезти гэта в Москву и ходить в них дома у меня не возникло.
И иностранцев, возлюбивших гэта, я тоже не знаю.
Всего этого не скажешь о кимоно, действительно удобной и свободной одежде. Его длинные рукава с непривычки мешают, но их можно и подвязать, что вполне соответствует здешним правилам; зато в этих же рукавах, прошитых до середины, помещаются глубокие карманы, из которых, как ни размахивай руками, ничего не выпадет. Да и вору не забраться в такой карман.
Кимоно не сковывает движений, постоянно продувается ветром, в нем чувствуешь себя вольготно. Наверное, потому и к европейской одежде японцы неосознанно предъявляют те же требования. Но она стягивает человеческое тело множеством застежек и пуговиц, и потому при малейшей возможности жители Страны Восходящего Солнца спешат освободиться от чуждых им уз, сбрасывая пиджак, ослабляя узел галстука, расстегивая и даже приспуская брюки. В последнем обстоятельстве нет ничего удивительного: ведь у народов Востока, чья национальная одежда – халат, пояс располагается не на талии, как у нас, а чуть ниже, на бедрах.
Именно так и поступают многочисленные служащие японских учреждений и фирм в обеденный перерыв, когда, наскоро перекусив, они в оставшиеся полчаса предаются Морфею. Огромные конторы тогда мгновенно превращаются в спальни, и чиновники засыпают прямо за столами, сняв пиджаки, расстегнув пуговицы на рубашках, брюках и положив ноги на специальную деревянную подставочку.
…Кимоно пришлось по душе европейцам, особенно тем, кому удалось хоть немного пожить в Японии. Почти все они носят теперь дома кимоно «юката». В нем они чувствуют себя еще более свободно, чем в пижаме или спортивном костюме.
Иностранных любителей кимоно довольно много – настолько, что для них здесь шьют особые кимоно больших размеров, украшенные не полосками бледно-голубого цвета, как принято у японцев, а портретами гейш, крупными разлапистыми иероглифами, изображениями игральных карт и прочих местных сувениров. Продаются такие европейские кимоно всего в одном токийском магазине – «Восточный базар», также рассчитанном на иностранцев.
Да и само слово «кимоно» сразу вошло в европейские языки. Его легко выговаривать, и на каком из «о» ни сделаешь ударения, на первом или втором, все будет правильно. Этого не скажешь о других японских словах, обозначающих всемирно известные реалии этой страны, вроде «сакуры» или «самурая». Переводится слово «кимоно» так же просто: «одежда»…
Есть у кимоно один существенный недостаток: оно не греет. И поэтому сами японцы носят дома легкие кимоно «юката» только в жару, зимой же предпочитают теплые свитера и брюки: японские дома слабо обогреваются, и зимой в них о «юката» нет и помина.
Обязательно надевают кимоно лишь в первый день Нового года – раззолоченное, праздничное, – чтобы, по обычаю, посетить всей семьей ближайший буддийский храм. Каждому празднику подобает кимоно особого оттенка; новогоднее – веселит глаз обилием красного цвета.
По дорожкам храмового парка шествуют отцы семейств, одетые в одинаковые тускло-синие кимоно, похожие цветом на конторские халаты. Из-под длинных подолов мелькают при ходьбе краешки белых кальсон, обтягивающих худые щиколотки.
Это не считается здесь зазорным, потому что никаких брюк к кимоно не положено, и мужчины гордо возглавляют семейное шествие, неторопливо переступая ногами, обутыми в высокие тэта.
За каждым семенит жена, и ее кимоно на сей раз действительно напоминает те, что изображают на рекламных календарях. Она тоже утеплилась по-своему, накинув на плечи норковый палантин…
Еще несколько десятилетий назад такое сочетание казалось немыслимым, ибо исторически японцы никогда мехов не носили. Считалось, что в этой стране они не нужны, хотя здешние зимы ой какие холодные! Да и сама мысль о том, чтобы соединить изящное кимоно со шкурой убитого зверя, показалась бы кощунственной. Ведь буддизм запрещал убивать животных, хотя жизнь заставляла все-таки это делать. Однако работа кожевенных дел мастеров все равно считалась нечистой, а сами они – отверженными. Прикасаться рукой к такому человеку было нельзя.
По традиции, среди японских обувщиков и меховщиков и по сей день немало «буракуминов», «отверженных», потомков тех, кто занимался обработкой шкур несколько столетий назад. Официально они признаны равными нормальным гражданам, но холод общественного отчуждения сопровождает их и поныне.
– Но как же одевались японцы в старину, чтобы уберечься от холода? – спросит читатель.
Они прибегали к старому дедовскому способу, напяливая на себя по нескольку кимоно и подбивая их ватой. Такое одеяние было неудобным, тяжелым и стесняло движения. При первой же возможности от него отказались. Кстати, слово «вата» – единственное общее и одинаково звучащее в японском и русском языках, оно пришло в каждый из них самостоятельно через страны Южной Азии, со своей родины – Китая…
В наши дни японцы защищаются от холода, надевая под верхнюю одежду теплое белье, всеми возможными видами которого переполнены здешние магазины. Однако в людях, кажется, и по сей день живет страх застудить поясницу, утратив и трудоспособность крестьянина, и боеготовность воина-самурая.
Поясница считается у японцев сердцевиной человеческого тела, средоточием его глубинной энергии. Недаром в японской борьбе каратэ удары наносятся не наотмашь, а как бы исподтишка, из центра, от поясницы. Во всех здешних национальных видах спорта поясницу лелеют, укрепляют специальными упражнениями. И конечно же, заботливо кутают, чтобы не застудить.
Каждое утро японские мужчины старшего и среднего поколений, а иногда и экстравагантная молодежь, оборачивают поясницу специальным теплым поясом телесного цвета, крепящимся кнопками. Захватывает он не только крестец, доходит до середины груди. Это – чисто японское изобретение, не применяемое больше нигде в мире.
Вероятно, этот пояс восходит к набедренной повязке – важному элементу национальной японской одежды. В средние века бытовал особый вид набедренной повязки, наматывавшейся во много витков до груди. Поверх надевали свои боевые кимоно благородные самураи. Видимо, нынешний японский пояс-набрюшник произошел как раз от средневекового белья.
И в кимоно поясу придается большое значение. Он не только утепляет халат на случай холода, но и служит самым главным его украшением. К примеру, женский пояс «оби». Широкий, также доходящий до груди, подпирающий ее и сияющий ровным шелком, на нем не увидишь ни единой складочки, потому что натянут он на твердую картонную основу.
Сзади, над талией, «оби» складывается большим декоративным узлом в виде коробочки. В Японии существует несколько способов завязывать такой пояс. Здесь работают даже специальные кружки и школы его изящной завязки, и японские женщины, не слишком обремененные тяготами повседневного быта, проводят в них долгие часы, тренируясь в этом сложном деле, попивая зеленый чай, обсуждая с подругами детали, а заодно и все другие вопросы, пришедшие на ум…
Для того, чтобы «оби» не съезжал в сторону при ходьбе или когда обладательница кимоно садится на пол, пояс перехватывают сверху еще и плетеным шнурком, затянутым прочным морским узлом на пояснице.
Поясок мужского кимоно без лишних затей завязывают на боку. Иногда, впрочем, его узел помещают сзади, как и у женщин, – на кимоно мальчиков и подростков да и то только в праздники. Глядя на мальчишек, бегающих в своих легких кимоно с разлетающимися полами по токийским улицам, удивляешься тому, как не расходятся их пояса, повязанные на спине пышным бантом. Иногда в такой бант бывает воткнут даже веер, который почему-то не выпадает во время бега.
Разумеется, искусные банты они завязывали не сами. Это сделали их бабушки, матери, но странно: при этом те почему-то не заставляли своих внуков и сыновей надеть колготки или кальсоны под кимоно. Несмотря на любой мороз, их ноги остаются голыми.
Скауты в Японии, как и везде в мире, ходят в коротких штанах цвета хаки и в рубашках с короткими рукавами – с одной лишь разницей: в холодных странах (за исключением разве что Англии) в такой одежде ходят только в теплое время года, в Японии – круглый год.
В таком виде японские скауты поднимаются даже на знаменитую на весь мир гору Фудзи, где, между прочим, нередки снежные метели и холодные дожди. Ни один из альпинистов средних лет не мог бы достигнуть вершины этой весьма почитаемой горы с голыми коленками и обнаженными руками, но юнцам-скаутам это под силу. Может быть, оттого, что они с детства, закаляя свое тело, закалили и душу?..
Пояса на кимоно взрослых мужчин неширокие, темные, как и сами халаты. Сейчас уже не увидишь узорчатых мужских поясов, в которых щеголяли японские франты конца девятнадцатого века, хотя именно от его названия – «син» происходит японское слово «джентльмен» – «синей», что буквально переводится так: «господин с узорчатым поясом»…
Глядя на густую толпу японских прохожих, одетую и в строгие деловые костюмы, и в кокетливые платьица, и в вечно модные джинсы, и в черные мундиры школьников и студентов, где лишь изредка мелькнет вдалеке блеклое кимоно старушки, с трудом веришь в то, что вся эта европейская одежда пришла сюда не так уж давно, немногим более ста лет назад.
Как и всякая новая одежда, приживалась она не сразу, и не вся разом. Первой завоевала Японию шляпа-котелок.
В Японии издавна было принято передавать одежду по наследству. Это особенность бедных стран. Вспомним и мы о том, что в наших деревнях сапоги порой были чуть ли не фамильной драгоценностью, связующей отца и сына, но надеваемой лишь несколько раз в год, и то ненадолго, пока идет праздничная церковная служба. От избы же до храма обладатели сапог шествовали босиком, с гордостью неся их перед собою.
Нечто подобное сохранилось и в Японии, которая до сих пор, как бы по привычке называет себя бедной страной.
– Хочешь увидеть одежду, которую носил мой прадед? – заговорщическим тоном обратился ко мне молодой японец, у которого я был однажды в гостях.
– Конечно, хочу! – горячо согласился я, зная, что в Японии почти нет музеев и с историческими реликвиями любознательный путешественник может познакомиться только в частных домах.
Мой приятель тотчас раздвинул двери стенного шкафа, и из его недр появился не такой уж большой узел. Приглядевшись, я понял, что завязан он был с особой, благоговейной тщательностью.
С торжественным выражением на лице мой друг развязал его и горделиво раскинул концы.
В узле лежало большое темное кимоно, сложенное квадратом. Складки толстой материи были четко обозначены, однако сама она отливала свежим шелковым блеском. Поверх кимоно маленьким твердым узелком лежал узенький пояс, на котором угадывалась яркая вышивка, изрядно, впрочем, истертая от каждодневных повязываний.
Все это – проникновенно японское – нимало не удивило меня, если бы не фетровый котелок, лежавший поодаль. Тонкая шелковая лента, опоясавшая тулью, была совершенно не пропотевшей, как это часто бывает на шляпах европейцев.
– А это что? – спросил я.
– Котелок? Он как бы заполнил собой пустующее место в нашем национальном наряде, – отвечал с улыбкой японский приятель.
В Японии, разумеется, и до реформ Мэйдзи, когда страна в прошлом веке открылась для западных влияний, существовали головные уборы: рогатый самурайский шлем, черный шелковый колпачок, завязанный тесемками под подбородком. Их носили синтоистские жрецы и люди благородного происхождения. Среди простолюдинов бытовал тряпичный убор, уклончиво именуемый на других языках словом «капюшон», но бывший на самом деле обыкновенным бабьим платком, так же обматывавшимся вокруг головы или подвязывавшимся под подбородком… Образ головного платка исторически близок японцам, понятен им, и не случайно название всемирно известной сказки Шарля Перро «Красная шапочка» переводится здесь как «Красный платочек». Должно быть, слово «шапка» ассоциировалось бы в сознании японца с черным дворянским колпачком…
Иной раз новое заимствование в области быта в Японии несколько закостеневает и само становится традицией, и даже сейчас, хотя и очень редко, здесь можно увидать дряхлых стариков в шляпе котелке.
Именно в те годы возник среди японцев и обычай носить кимоно с обычной фетровой шляпой. Правда, в этом случае ее надевают не несколько набок, как принято в Европе, а строго прямо, чтобы поля были параллельно поверхности земли, – так, как принято носить традиционные шляпы в соседних дальневосточных странах.
Так же быстро привились в Японии и кожаные перчатки, столь необходимые в здешнюю прохладную зиму.
Тогда же, в последние десятилетия прошлого века, здесь была внедрена европейская военная форма, этот идеал мужского костюма. Вместе с ней пришли и кальсоны, так полюбившиеся жителям этой страны. Теплые кальсоны помогли здешним мужчинам почувствовать себя дома в зимний день более уютно.
Кальсоны и по сей день не теряют здесь своей популярности. Может быть, ей способствовали старинные самурайские штаны «хакама», которые можно увидеть на актерах традиционных театров Кабуки и Ново время многочасовых спектаклей.
Во времена оные «хакама» представляли широченные брюки, штанины которых волочились за их обладателем метра на три, образуя шлейф. Передвигаться в таких штанах было очень трудно. Для этого при каждом шаге нужно было выбрасывать ногу далеко вперед, чтобы не запутаться в ткани. «Хакама» были созданы для очень медленного, торжественного шага, практикуемого во время дворцовых церемоний.
В течение веков хакама немного укоротились. Под них в качестве нижнего белья надевали белые штаны до щиколоток. Прежде они именовались «хакама-сита», то есть, «то, что надевают под хакама», а в наши дни называются просто «хакама». Высокими белыми горками лежат они на полках всех японских магазинов готового платья. Отличие хамака от кальсон состоит в том, что их штанины не собираются гармошкой около щиколоток, а свободно болтаются, как у брюк.
«Хакама» до сих пор в ходу у людей старшего поколений. Здесь не считается зазорным прогуляться в одних хакама по пляжу или по своему крошечному домашнему садику – впрочем, как допустимо все это проделать и в одних кальсонах.
Кальсоны вообще очень милы мужчинам Дальнего Востока, и в первую очередь – соседнего с Японией Китая. Едва там подует прохладный ветерок, как китайцы надевают легкие розовые кальсоны, – так, на всякий случай. Поверх напяливают сиреневые – потеплее. Затем белые, повседневные. А уж потом натягивают коричневые рейтузы, особенно теплые, из верблюжьей шерсти…
Когда у нас в стране в семидесятые годы вошли в моду шерстяные синие спортивные костюмы, которые очень трудно было купить, – назывались они «олимпийские» и доставались в основном генералам и партийным работникам; – этот обычай тотчас был перенят многочисленными начальниками в Китае, которые надевали штаны от «олимпийских» костюмов под брюки поверх всего вышеупомянутого набора кальсон, отчего их ноги напоминали слоновьи.
Японцы же поддевали под весь этот чрезмерный набор еще пояс-набрюшник (советские «олимпийские» костюмы у них, разумеется, не привились). Это позволяло им обходиться даже в самые холодные дни без пальто.
Впервые приехав в Японию студентом в начале семидесятых годов, я еще застал это время. Каждое утро толпа мужчин пробиралась по улице меж недолговечных снежных сугробов, одетая в пиджаки, куртки, брюки и белые резиновые сапоги. И дело бы не в том, что шерстяные зимние пальто дороги, хотя японцы тогда еще не были так богаты, как сейчас, и это обстоятельство имело значение.
Основная причина была в другом: привычки ходить в пальто здесь никогда не было. Да, в Японии существует мужское кимоно-пальто с широкими рукавами, но простой народ его никогда не носил, и оно ассоциируется у него лишь с высшими чиновниками. Обычный человек здесь привык широко размахивать руками при ходьбе в любое время года, даже в холодное…
В наши дни, разумеется, все японцы носят пальто, а женщины полюбили роскошные норковые шубы.
В послевоенное время утвердился в Японии и европейский деловой костюм. Сотрудники одной фирмы выбирают себе костюмы одного и того же цвета, чтобы подчеркнуть свою общность. Да и манера ношения их отличается от нашей: элегантной, свободной, оставляющей верхнюю пуговицу пиджака расстегнутой. Японскую можно уподобить той, что в ходу у наших военных и сотрудников спецслужб, вынужденных, по причине секретности, приходить на службу в гражданском костюме. Однако, за внешним видом офицеров осуществляется такой же жесткий контроль, как если бы они были в мундирах. Строгость костюма японских чиновников отражает жесткий полувоенный порядок на тамошних фирмах, восходящий к воинским самурайским кланам. Костюмы всегда отглажены и почищены.
Зато, обувь… Темные кожаные ботинки прочно вошли в местный быт. Они никогда не бывают грязными, поскольку японцы уделяют особое значение чистоте ног, и всегда жирно блестят, словно женская лаковая сумочка. Этот темный блеск красиво оттеняют белые носки, символ чистоты, которые японцы стараются надевать в любую погоду.
Однако задники ботинок обычно безжалостно стоптаны от частого снимания при входе в любое помещение, а также от того, что вековой инстинкт велит японцам просовывать ногу в ботинок не до конца, – так, чтобы пятка все-таки была на весу. Так им привычнее…
Универмаги полны европейской одежды, да и покупают японцы сейчас в основном только ее, – но импортных изделий тут почти не найдешь: ведь пропорции тела у японцев иные, чем у представителей европеоидной расы: тело удлинено, а конечности, наоборот, укорочены, да и самый центр тяжести находится ниже, чем у белых людей. (На этом принципе, кстати, основана знаменитая японская сумо, – борьба тяжеловесов, отчего европейцы не могут ею заниматься.)
Как и европейцы, японцы любят одежду, сшитую из естественных тканей – хлопковых, шерстяных, шелковых, и известная на весь мир японская синтетика достается лишь самым бедным. Однако расцветку они все же предпочитают азиатскую – диссонансную, яркую, непривычную нам: розовые брюки, петушиные костюмы. Попадаются изделия и нарочито блеклые, скучные, хотя и сшитые порой из дорогой ткани. И все же есть в них своя красота, напоминающая о бессмертном кимоно, и поныне главным символе японской одежды.
Константин Преображенский
Летучий голландец: Катафалки океана
Открывая рубрику «Летучий голландец», мы, уважаемые читатели, откликаемся на ваши многочисленные просьбы рассказывать о загадках и тайнах, связанных с морем. Под этой рубрикой будут опубликовываться очерки современного французского писателя-мариниста Роберта де Лакруа. Все они построены на реальных фактах и событиях, происшедших в разное время с разными людьми. Одним из них повезло – они выжили в борьбе со стихией; другие – нет, оставив безмолвных свидетелей своей гибели – покинутые корабли…
В дальнейшем под этой рубрикой будут печататься и материалы, написанные нашими соотечественниками – теми, которые располагают какими-либо новыми, никогда прежде не публиковавшимися сведениями обо всем таинственном и загадочным, что когда-либо проходило на море ив его глубинах.
Что такое корабль, потерпевший крушение, покинутый экипажем и гонимый волнами и ветром в никуда? Воплощение извечного человеческого страха перед смертью… Он появляется под заунывные звуки, исходящие будто из преисподней, они похожи на жалобные стоны и плач. Громыханье, напоминающее неуверенную поступь охмелевшего великана, – это стук, что издает перо руля, безвольно бьющееся о корму; чуть слышное поскрипывание – стон деревянной обшивки, терзаемой качкой. Странные звуки, похожие на тяжелое, прерывистое дыхание, что доносятся из-под палубы, издает вода, хлюпающая в полузатопленном трюме. Медленно крутящийся на полуюте штурвал означает, что рядом нет рулевого, который держал бы его твердой хваткой. И вдруг скрипнет дверь, будто кто-то незримый тронул ее, и так – в каждом отсеке, в каждой каюте.
Потерпевший крушение корабль дрейфует сразу в двух стихиях. Одна из них – море. Другая – тайна. И стоит глазу заметить зарубку на планшире, пятно краски, сломанный брус рангоута, как воображение тут же рисует кровавую драму: вдруг слышится лязг топоров, шум драки не на жизнь, а на смерть, повсюду мерещатся лужи крови. Пробоина в борту или оторванный кусок обшивки – чем, кажется, не свидетели пиратского нападения? Нет судового журнала и прочих бумаг – значит, кому-то нужно было скрыть страшные улики, доказательства вспыхнувшего на борту мятежа.
«У каждого корабля есть свои права, – писал когда-то Джозеф Конрад, – как и у всякого человека, способного дышать и разговаривать. Корабль никогда не был рабом человека…» И любой моряк, понимающий это, встретив корабль-призрак, невольно проникается суеверным страхом.
Задавшись целью составить летопись таких встреч, очень скоро обнаруживаешь, что их было множество, особенно во времена больших парусников. Так, в декабре 1902 года к югу от острова Реюньон было замечено судно «Гертруда» со сломанными мачтами и вздыбленной кормой. А за полгода до этого у берегов Канады с корабля «Сен-Донасьен» видели большую шхуну, рыскавшую по морю под полощущимися парусами, – на ее борту не было ни одного человека.
Или вот еще примеры. Однажды впередсмотрящий трехмачтового барка «Федерасьон» – дело было в Южной Атлантике – воскликнул: «Земля!» Однако матрос ошибся: то, что он сначала принял за землю, оказалось груженной лесом шхуной, возникшей как будто из морских глубин. Судя по тому, что корпус шхуны сплошь оброс ракушками, экипаж; покинул ее очень давно. В 1908 году в прибрежных водах Тасмании «Бэбин Чевей» чуть было не наскочил на торчавшие на поверхности обломки неизвестного судна, которое, похоже, дрейфовало в течение нескольких лет. А лет за тридцать до этого «Гланез» наткнулась на пассажирский транспорт, перевозивший эмигрантов. На борту было полно трупов – и от корабля исходил такой смрад, что его не в силах был развеять даже крепкий ветер. Причиной массовой смерти – пассажиров и команды, вероятно, была эпидемия чумы. Как назывались эти плавучие призраки? Попробуйте отыскать их названия среди имен восьмидесяти двух крупных кораблей – французских, американских и английских, – пропавших без вести у мыса Горн за каких-нибудь полвека, с 1887 по 1927 год? И это не считая небольших каботажных суденышек, шхун и бригов, которые так никогда и не дошли до порта назначения.
Даже в наше время чуть ли не каждый год можно прочесть сухое, умещающееся в одну-две строчки сообщение типа: «Обнаружено неизвестное Дрейфующее судно, покинутое экипажем». Иногда, правда, случаю бывает угодно сохранить название корабля – и тогда он становится знаменитым, превращаясь в некий зловещий символ. Одним из таких кораблей стала «Джоита».
В тридцатых годах это была большая прогулочная яхта, которая служила для увеселения голливудских звезд и крейсировала только вдоль берегов Калифорнии. В годы второй мировой войны «Джоиту» перестроили под небольшой противолодочный корабль. После войны яхта сменила не одного владельца. Наконец, в 1955 году, она бросила якорь в Апиа, на острове Уполу, входящем в состав Западного Самоа. Новым хозяином «Джоиты» стал некий Томас Миллер, который запросто мог бы сойти за героя Роберта Луиса Стивенсона, чей прах покоится на вершине одного из зеленых холмов, опоясывающих апианскую бухту. Будучи авантюристом по натypе, этот болтун с вечно красным лицом бежал из Уэльса от жены в поисках приключений в южных морях. Став владельцем «Джоиты», Миллер сначала попытался промышлять рыболовством, но безуспешно. За полгода, проведенные в Апиа, он познал и нищету, и удары судьбы. Но вот, в один прекрасный день, случилось чудо: Миллеру подвернулся выгодный фрахт – груз копры – до островов Токелау. Кроме того, к нему на борт напросились пассажиры – несколько чиновников и туземцев.
И Миллер воспрянул духом, поверив, что удача наконец повернулась к нему лицом. Отныне, если с первым фрахтом все сложится удачно, он будет выполнять регулярные рейсы между Апиа и Токелау, не говоря уже о каботаже. Миллер нанял помощника, некоего Симпсона, матроса и механика. Корпус «Джоиты» заново проконопатили и покрасили, так что теперь никто бы и не догадался, что она проплавала уже больше четверти века. Помимо этого, на «Джоиту» установили два дизельных двигателя мощностью 225 лошадиных сил. А вот систему приводов и трубопровод, успевшие к тому времени проржаветь чуть ли не насквозь, поменять не смогли – не хватило денег. Но не беда: выручки с первого рейса вполне хватит, чтобы потом привести все это в порядок. К тому же плавание будет коротким: сорок часов на какие-то жалкие 270 миль, да еще при хорошей погоде – всего-то делов… Ранним утром 3 октября на борт яхты поднялись все пассажиры.
«Джоита» должна была прибыть на Токелау вечером 5 октября. Однако 6 октября верховному комиссару в Апиа господину Смиту доложили, что ни на факаофа (Факаофа – юго-восточный атолл в архипелаге островов Токелау.), ни в прибрежных водах судно не только в глаза не видели, но даже не получили от него ни одного радиосообщения. Тем не менее комиссар Смит не проявил ни малейшего беспокойства: Миллер, слывший на Самоа тем еще проходимцем, о чем комиссару было хорошо известно, вполне мог зайти за попутным грузом на любой другой остров – куда ему было торопиться? Да и потом, у «Джоиты» не было строгого рейсового расписания, как, например, у грузовых пароходов, обслуживавших регулярные морские линии. Но почему все-таки молчал ее радиопередатчик? Наверное, сломался.
Дальше история разворачивалась по обычному сценарию: надежда переросла в беспокойство, беспокойство – в тревогу. Радиостанция в Апиа уже запрашивала острова, находящиеся на значительном удалении от Токелау. Но отовсюду приходил один и тот же ответ: «Джоиту» нигде не видели. Не заходила она ни на Феникс (Феникс – острова, расположенные к северу от Токелау.), ни на Эллис (Эллис, или Тувалу, – острова, лежащие к западу от Токелау.), ни на острова Гилберта. (Острова Гилберта – группа атоллов к северу от Тувалу.)
С островов Фиджи в воздух каждый день поднимались гидросамолеты –они обследовали обширные районы океана на малой высоте. Впередсмотрящим на всех судах, заходящих в воды, где пропала «Джоита», было приказано глядеть в оба – и днем, и ночью. В Апиа ежедневно поступали доклады летчиков и капитанов. Пока еще никто не терял надежду обнаружить «Джоиту» либо, на худой конец, обломки яхты, шлюпку или спасательный плот.
Прошел октябрь, а о «Джоите» по-прежнему не было ни слуху ни духу – яхта точно испарилась, не оставив после себя ничего, кроме тайны, которую, казалось, не постичь уже никому. Исчезновение яхты люди объясняли по-разному. Одни предполагали, будто на «Джоите» взорвались двигатели или она получила пробоину и дала течь, которую не успели ликвидировать. Другие – таких, правда, было меньшинство – утверждали, что на яхту наверняка напали японские пираты, переодетые в рыбаков. Дело в том, что, хотя после войны минуло уже десять лет, на тихоокеанских островах помнили о «желтых дьяволах»: легенды об их жестокости, пережив время, теперь возникали всякий раз, когда нужно было объяснить нечто необъяснимое.
Двумя годами раньше в водах между Новой Каледонией и островами Луайоте бесследно пропало каботажное судно «Моник»; спустя месяц после случившегося выловили спасательный круг – все, что осталось от несчастного корабля, – и виновниками трагедии, конечно же, были японские пираты – во всяком случае, так считали многие.
Единственным таинственным кораблем, который удалось обнаружить поисковым самолетам, была внезапно всплывшая у восточного побережья Новой Зеландии советская подводная лодка – на нее-то и попытались было возложить вину за исчезновение «Джоиты», однако вовремя опомнились. И то верно: зачем советской подлодке было охотиться за какой-то жалкой яхтой?
Но вот, 10 ноября, «Джоита» словно восстала из пучины. И случилось это в 240 километрах к западу-юго-западу от Апиа: оказывается, она взяла курс не на Токелау, а на Фиджи. Яхта сильно кренилась на один борт; в трюме было полно воды; труба и часть палубных надстроек были разрушены; на корме, развеваясь на ветру, хлопал кусок парусины, служивший когда-то навесом. На борту не было ни души – ни живой, ни мертвой. Яхту-призрак взял на буксир какой-то сухогруз и доставил в Суву, главный порт архипелага Фиджи.
Любое кораблекрушение – загадка. В данном случае загадка была двойной: она касалась как вероятных причин аварии, произошедшей на «Джоите», так и причин, побудивших экипаж и пассажиров покинуть судно. Корпус яхты не пострадал. Не было видно и следов течи – как ни странно. Двигатели оказались выведенными из строя. Цилиндры, поршни, насосы, форсунки, хоть и выглядели изношенными, похоже, были в исправном состоянии. Следов взрыва также нигде не было заметно – ни внутренняя, ни внешняя обшивка не пострадали. В таком случае как при внешне неповрежденном корпусе в трюм «Джоиты» могла попасть вода?
Следственная комиссия пыталась объяснить эту загадку, изучив все возможные предположения, и в конце концов разгадка была найдена. Дело в том, что охлаждение вспомогательного двигателя на «Джоите» обеспечивалось за счет подачи забортной воды по трубопроводу. После тщательного осмотра выяснилось, что трубопровод, проржавев в одном месте насквозь, лопнул, и вода, вместо того, чтобы уходить обратно за борт, мало-помалу скапливалась в трюме. Заметив это, Миллер, видно, включил помпы, однако выпускные отверстия шлангов оказались наглухо забитыми грязью. Так что вскоре двигатели залило водой, и они заглохли.
Эта версия объясняла первую загадку. А как же быть со второй? Объема воды, заполнившей трюм, было явно недостаточно, чтобы «Джоита» затонула. Тогда почему люди покинули судно?
Вот вам яркий пример будоражащей воображение, захватывающей морской тайны: один вопрос неизбежно порождает другой, а истина проскальзывает между пальцами, как юркая рыбешка.
Раз корабль, образно говоря, хранил молчание, стало быть, ответ должны были дать сами люди. Тогда члены следственной комиссии попытались представить себе такую картину: «Джоиту» развернуло бортом к волне – началась сильная качка. Пассажиров охватил страх. И они принялись умолять Миллера, чтобы он спустил на воду спасательные плотики. В том-то и заключалась роковая ошибка: на борту люди были бы в большей безопасности. Но Миллер уступил мольбам пассажиров. А дальше волны и ветер сделали свое дело – люди погибли.
Однако эта версия объясняла далеко не все – в частности, было неясно, куда подевался груз. Бесследное исчезновение груза на корабле, покинутом людьми, – явление редкое и довольно странное. Конечно, палубный груз – доски – вместе с пустыми бочками могло смыть в море. Но как быть с находившимися в трюме ящиками с алюминиевой стружкой, копрой, а также семьюдесятью мешками риса, муки и сахара? И тут все снова заговорили о пиратах. Но когда грабители захватили «Джоиту» – до того, как ее покинули люди, или после? Следственная комиссия, как водится в подобных случаях, старалась не упустить из виду ни одной более или менее существенной детали и даже вычислила наиболее вероятное место, где экипаж и пассажиры могли покинуть «Джоиту». Было измерено и количество топлива, оставшееся в бункерах, – с учетом курса и средней скорости хода комиссия предположила, что «Джоита» остановилась через восемнадцать часов после выхода в море, то есть примерно в 120 милях к северу от Апиа. Зная силу и направление ветра и течений в здешних водах, можно было без труда определить и направление дрейфа спасательных плотов. Следствие не преминуло установить также, какие суда проходили тот район в начале октября, – однако ни с одного из этих кораблей не заметили никаких следов «Джоиты». Еще одна загадка. А вот и следующая. В очередной раз осматривая палубу «Джоиты», следователи обнаружили среди груды разбросанных вещей скальпель, иглы, марлевые повязки в бурых пятнах и даже стетоскоп. В списке пассажиров яхты значился врач – он отбыл на Токелау к месту своего нового назначения. Выходит, на борту «Джоиты» были раненые и врачу пришлось ухаживать за ними. Но, как бы то ни было, следствие шло фактически по замкнутому кругу. Добытых сведений, причем весьма обрывочных, было явно недостаточно, чтобы понять, что же произошло с «Джоитой».
Но вот в июне 1962 года в американском журнале «Аргези» появилась статья, отчасти объясняющая загадку «Джоиты». Автором статьи был писатель Робин Моэм, новый владелец яхты, которая после основательного ремонта снова могла выходить в море. Чтобы разгадать тайну «Джоиты», Моэму, разумеется, пришлось обратиться к материалам следствия – на них он и построил свою версию.
Суть ее заключалась в том, что раненым, за которым ухаживал находившийся на борту яхты врач, был сам капитан Миллер. «Джоита» стала после того, как ее двигатели залило водой и они заглохли. Потерявшая управление яхта подверглась сильной бортовой качке. Миллер, должно быть, упал и здорово расшибся. Пока врач приводил его в чувство и перевязывал, за борт сбросили весь палубный груз и бочки – чтобы уменьшить крен. Однако охваченные паникой пассажиры все же захотели покинуть судно. Старший помощник Симпсон пребывал в нерешительности. Но оставаться на обреченном корабле, где не было света, и дрейфовать в кромешной ночной тьме, да еще выслушивать причитания женщин и детей и настойчивые требования мужчин было невыносимо, и Симпсон, потеряв хладнокровие, в конце концов уступил. Вскоре все, кто находился на борту «Джоиты», покинули ее на трех спасательных плотах (шлюпок на яхте не было). Действительно, все? Нет, Миллер не захотел или не смог оставить свою яхту. Его примеру последовал и один из матросов. А плоты между тем уносило все дальше и дальше. Спустя некоторое время они, скорее всего, перевернулись – ведь море сильно штормило, – а оказавшихся в воде людей сожрали акулы.
Но что сталось с Миллером и его матросом? На этот счет Робин Моэм выдвинул вот какое предположение. После довольно продолжительного дрейфа, который мог длиться много дней и даже недель, «Джоиту», наверное, заметили с какого-нибудь проходящего мимо судна. Моряки с неизвестного корабля спустились на борт яхты. Миллер к тому времени, должно быть, уже умер. И оставшийся в живых матрос рассказал своим спасителям все, как было. Тогда моряки с неизвестного корабля решили завладеть грузом и продовольствием, хранившимися в трюме «Джоиты». Матрос хотел было им помешать, завязалась драка, и он либо сам упал за борт, либо его сбросили, после того как убили. Захватив добычу, неизвестное судно убралось восвояси, а «Джоита» осталась дрейфовать в полном одиночестве…
Можно ли считать версию Робина Моэма убедительной? А почему бы и нет? Ведь всякое происшествие чаще всего – результат случайного стечения обстоятельств и фактов, совершенно неподвластных законам логики. Хотя версия писателя, впрочем, как и любого другого человека, вполне может быть плодом его воображения. И классический тому пример – история «Марии Целесты», знаменитой шхуны-брига, ставшая, пожалуй, самой зловещей тайной морей и океанов, которую мы не сможем вычеркнуть из памяти, как бы ни старались. А началась эта история так.
4 декабря 1872 года впередсмотрящий американского трехмачтового барка «Деи Грация» просигналил, что видит какой-то странный корабль. Все паруса на нем, за исключением кливера, убраны; штормовой фок и марсель закреплены. Поскольку неизвестное судно не отвечало на сигналы, на его борт поднялись старший помощник капитана и двое матросов. Для начала они покричали. Но им никто не ответил. На нижней палубе и в носовом трюме плескалась вода. Крышки грузовых люков были открыты. Нактоуз компаса поврежден – вероятно, каким-то острым предметом. Камбуз забит провиантом – на полгода. Не видно ни одной шлюпки. Последняя запись в судовом журнале сделана 25 ноября. В тот день парусник находился милях в пятистах от того места, где был обнаружен.
Вот так. На первый взгляд, все очень просто. Экипаж: парусника – «Марии Целесты», порт приписки Нью-Йорк, – должно быть, спешно покинул корабль. Но почему? Наверное, потому, что взорвалась одна из бочек со спиртом в грузовом трюме, а может, оттого, что корабль дал течь, размеры которой переоценили. Выходит, никакой тайны не было? Да нет, была – хотя бы потому, что не удалось обнаружить ни одной шлюпки и ни одного уцелевшего моряка с «Марии Целесты».
Но самое поразительное в этой истории – тот резонанс, который она получила в мире, породив множество домыслов и легенд, возникших вокруг вполне реальных событий, но исказивших три основных факта: кто-то придумал версию, что «Мария Целеста» шла под всеми парусами, на ее борту остались шлюпки, а в кают-компании еще дымился поданный на стол обед. Все это свидетельствовало о том, что команда исчезла с судна якобы за час до подхода «Деи Грация», причем самым загадочным образом, потому как шлюпки находились на борту «Марии Целесты», а поблизости не было видно ни одного корабля, который мог бы подобрать моряков.
Так подлинная история «Марии Целесты» перешла в категорию непостижимых тайн – тех, что обычно обрастают самыми изощренными измышлениями. В 1884 году появился рассказ под названием «Свидетельство Хабакука Джефсона». Его герой, с таким чудным именем, был якобы одним из уцелевших моряков с «Марии Целесты». Вы спросите, кто же был автором сего откровения? Молодой человек, лет двадцати пяти, который шестью годами позже начал публиковать знаменитые «Приключения Шерлока Холмса», по имени Артур Конан Дойл. Почти в то же время один бостонский журналист, Уильям Клейн, выпустил в свет роман о дрейфующем паруснике, покинутом экипажем.
По версии британского журнала «Стрэнд мэгэзин», «Марию Целесту» доставили в Англию, а французский «Тан» утверждал – что во Францию. Гипотезы росли как грибы после дождя: одни люди во всем винили гигантского спрута, другие считали, будто несчастный парусник наскочил на вулканический остров, третьи уверяли, что на борту корабля произошло поголовное отравление людей или что всех охватило массовое безумие. Кроме того, высказывались предположения, будто на «Марии Целесте» вспыхнул мятеж, что на парусник напали пираты. А кое-кто даже пытался приплести к этой истории кровожадных пришельцев из космоса. Тайне «Марии Целесты» и по сей день посвящаются десятки книг, журнальных и газетных статей. За многие десятилетия невероятные домыслы успели настолько перемешаться с реальными фактами, что даже серьезные исследователи уже теряются в догадках, будучи не в силах определить, где правда, а где вымысел. Сторонники так называемой классической версии основывают свои предположения на материалах следственного дела и предают анафеме «еретиков», полагающихся на показания пресловутых очевидцев. Одни утверждают, что на борту покинутого экипажем парусника осталась дочка капитана; другие это решительно отрицают. Некоторые вспоминают про кошку, гармонь, вышитый платок, старинное оружие. Самые дотошные исследователи оспаривают точность, с какой были определены координаты того места, где обнаружили «Марию Целесту». А их не менее дотошные коллеги спорят по поводу правильности названия таинственной шхуны-брига, которую как только не называли – и «Мэри Челест», и «Мари Селест», что, собственно, относится и к барку «Деи Грация»: его, например, нередко называли «Деос Грацияс». Историки-маринисты часто обвиняли несчастных дилетантов, с пеной у рта доказывавших, будто «Мария Целеста» была бригом, а не шхуной-бригом. Любая несущественная деталь, трактовавшаяся как ложный факт, бросала тень на серьезную, вполне заслуживающую внимания версию. Коротко говоря, тайной «Марии Целесты» занимались все, кому не лень: фантасты и ученые, оптимисты и скептики. И даже астрологи, пытавшиеся объяснить трагедию роковым для судна расположением планет.
Отправной точкой в истории «Марии Целесты» стало реальное событие – находка шхуны-брига. Но… О состоянии покинутой экипажем «Марии Целесты» мы можем судить лишь со слов трех очевидцев – лейтенанта Дево и двух матросов с «Деи Грация». Однако даже свидетельства этих трех моряков, в сущности, недостаточно убедительны. Как показывает практика, свидетельства только десяти процентов очевидцев достоверны во всех деталях. Дево мог и ошибиться. Не исключено и то, что он попросту солгал – по наущению Морхауза, капитана «Деи Грация». Но почему тому потребовалось выдавать ложь за правду? Ну, хотя бы потому, что, как было установлено, незадолго до выхода «Марии Целесты» в море Морхауз обедал вместе с ее капитаном – Бриггсом. Возможно, капитаны затеяли какую-то хитрую игру, которая породила затем величайшую из морских тайн. Ведь такое тоже могло быть, не правда ли? Во всяком случае, именно это утверждал писатель Лоуренс Китинг, якобы разыскавший кока с «Марии Целесты», некоего Джона Пэмбертона.
По словам Китинга, Морхауз, также отплывавший в Европу, дал Бриггсу, у которого была недоукомплектована команда, трех своих матросов; капитаны договорились, что, когда будет преодолена самая трудная часть перехода, корабли встретятся в условленном месте – у Азорских островов и Бриггс переправит трех матросов обратно к Морхаузу. Но на борту «Марии Целесты» оказался пассажир, вернее, пассажирка, – жена капитана Бриггса, из-за которой, собственно, и произошла трагедия. Во-время сильной качки жену Бриггса задавило пианино, и капитан, обезумев от горя, кинулся за борт. Между пьяными матросами вспыхнула ссора, и одного из них убили в драке. Испугавшись предстоящего суда, остальные члены команды, кроме кока и трех матросов с «Деи Грация», сели в шлюпки и поплыли к ближайшей земле – Азорам. Когда Морхауз обнаружил «Марию Целесту», он снял с нее троих матросов и кока, которому обещал денег, если он будет молчать о том, что случилось, а сам потом заявил, будто на «Марии Целесте» не было ни одной живой души. Больше того: за спасение покинутой экипажем шхуны-брига Морхауз потребовал премию – пятую часть стоимости корабля, – которую ему, конечно же, выплатили.
Версия Китинга вполне логична, однако главный ее недостаток в том, что она основана на показаниях одного-единственного свидетеля – восьмидесятилетнего старика, который мог забыть многие подробности трагедии неумышленно, а может, с умыслом. Не исключено также, что старый кок был подставным лицом – потому как, когда речь заходила о том, где он его откопал, Китинг всякий раз отвечал уклончиво. Журналистам же он говорил, что Пэмбертон уже умер. Тогда Китинга попросили показать фотографию кока. Что Китинг и сделал. Значит, Пэмбертон действительно существовал? Утверждать это определенно нельзя, поскольку, как потом выяснилось, на фотографии был изображен отец самого писателя. Что ж, выходит, Китинг попросту разыграл дотошных журналистов, чтобы скрыть собственный подлог? Однако Китинг клялся и божился, что его версия – чистая правда.
Впрочем, если это и был подлог, он удался на славу, даже невзирая на то, что Китинг без всякого зазрения совести писал в своей книге буквально следующее: «Знаменитая „Мария Целеста“ была самым обыкновенным суденышком, каких много, а якобы связанная с нею тайна – не более чем плод гнусного надувательства». После выхода книги в свет на несчастного Китинга набросились истинные ревнители тайны «Марии Целесты». Хэнсон Болдуин, к примеру, заявлял, что, по сути своей, книга Китинга «нелепа, и все в ней ложь – от начала и до конца». Такого же мнения придерживается большинство историков и в наши дни. А некоторые исследователи продолжают упорно настаивать на том, что «Мария Целеста» – очередная жертва Бермудского треугольника или каких-то магических лучей, исходящих из океанских глубин, где покоятся руины Атлантиды, или космических пришельцев. «Человеческое сознание охотнее и легче всего воспринимает всякий вздор», – писал Доносо Кортес, А мы добавим, что человека всегда притягивало неведомое, необъяснимое и сверхъестественное…
В 1951 году появилось новое объяснение загадки. Очередное. Однако на этот раз его высказал не фантазер-дилетантишка, а профессиональный моряк, который основывал свою версию на собственном опыте. Моряка звали Дод Орсборн. По натуре он был типичным авантюристом и избороздил все моря – вокруг Европы, Америки и Африки. Случись Орсборну родиться лет эдак триста назад, он наверняка был бы знаменитым флибустьером.
В своих воспоминаниях, вышедших под названием «Капитан „Герл-Пэт“, Орсборн пишет: „11 марта 1936 года в восьмидесяти милях от берегов Мавритании наша шхуна внезапно дала крен, закачалась, а потом вдруг застыла как вкопанная. Мы наткнулись на выступавший из воды песчаный островок – так называемый плавающий остров“.
А плавающие, или плавучие, острова, которые существуют на самом деле, есть бесспорное доказательство того, что море хранит куда больше тайн и загадок, нежели любая книга. Так, например, в 1890 году французский трехмачтовый корабль «Федерасьон» наткнулся у побережья Китая на неизвестную мель. Следом за тем на полубак «Федерасьон» обрушилось дерево, а другой ствол рухнул поперек фок-мачты. Этот островок, состоявший из переплетенных корнями деревьев глиняных пластов, оторвало от берега во время паводка крупной реки и отнесло в море. В 1894 году парусник «Жюль Верн» наскочил в Зондском проливе на подводную плиту из пористого камня и просидел на мели около суток, пока плавучую платформу наконец не раздробили, сбрасывая на нее якоря. А в 1902 году похожая неприятность приключилась с кораблем «Венсенн».
Что же касается Дода Орсборна, его шхуну обступили сразу несколько мелей, которые образовывали как бы единый песчаный остров. На поверхности одной из них торчала проржавевшая корма крохотного пароходика, почти целиком зарывшегося в песок. Просидев на мели целый день и целую ночь, Орсборн наконец решил покинуть шхуну и добраться до берега на шлюпке – но на другой день, на рассвете, произошло чудо. Орсборн вдруг услышал, что вокруг его корабля снова плещется вода; палубу закачало, и она начала то подниматься, то опускаться. И шхуна, оказавшись снова на плаву, двинулась своим курсом.
Интересно, что за злоключение постигло шхуну Орсборна? Разгадку капитан узнал в Порт-Этьенне – в Мавритании. И виной всему оказалась большая подземная река, протекающая под песками Сахары. Время от времени в ее устье скапливается огромное количество наносного песка, который слипается в огромные глыбы; под напором водного потока глыбы сносит в море, и потом они всплывают на поверхность в виде небольших островков. На один из таких плавучих островов и наткнулась шхуна Дода Орсборна «Герл-Пэт».
Дод Орсборн знал историю «Марии Целесты» и был убежден, что получил ключ к разгадке этой великой тайны. По мнению Орсборна, легендарная шхуна-бриг тоже стала жертвой плавающего острова, а что до ее экипажа, он попросту утонул, пытаясь добраться на шлюпках до Азорских островов. После того, как люди покинули якобы обреченный корабль, остров снова погрузился в морские глубины и «Мария Целеста» начала дрейфовать по воле ветра и волн.
Версия Орсборна кажется любопытной. Но, к сожалению, «Марию Целесту» обнаружили не у берегов Мавритании, а между Азорами и Португалией, где, судя по геологической структуре морского дна, плавающих песчаных островов просто быть не может. Однако Орсборн, словно предчувствуя подобное серьезное возражение, отвечает так: нет-де никаких доказательств, что экипаж покинул «Марию Целесту» близ Азорских островов, где к тому же ее никто не видел. А как быть с последней записью в судовом журнале «Марии Целесты»? Там могли быть указаны лишь ожидаемые координаты точки, через которую должен был пройти парусник. До выхода на широту Азорских островов «Мария Целеста» дней восемь-десять шла через штормовую зону. Это известно из отчетов капитанов, которые пересекали тот же район Атлантики в то же самое время. А в шторм, когда небо сплошь затянуто черными тучами и не видно ни одной звезды, не говоря уже о линии горизонта, точно рассчитать координаты невозможно. Так что «Марию Целесту», положенную в дрейф, вполне могло отнести на несколько сот миль к востоку от Азор, где она, вероятно, и наскочила на плавающий песчаный остров; экипаж покинул парусник, надеясь добраться до земли на шлюпках, но не смог. Позднее «Марию Целесту» отнесло туда, где ее обнаружил барк «Деи Грация».
Однако на эту версию можно ответить сразу несколькими возражениями: во-первых, песчаные острова никогда не сносит так далеко от берега; во-вторых, пассаты отнесли бы «Марию Целесту» не на север, а на юг; в-третьих, согласно утверждению некоторых исследователей, последний раз координаты «Марии Целесты» были сняты в пяти милях от Санта-Марии, одного из Азорских островов, – то есть в пределах видимости берега. Но доказать это с точностью потом уже было невозможно: в один прекрасный день судовой журнал «Марии Целесты» таинственным образом исчез из канцелярии Гибралтарского суда. Но, как бы то ни было, версия Орсборна заслуживает внимания хотя бы потому, что она основана на теории и практике навигации. Быть может, «Мария Целеста», попав в сильный шторм – о чем свидетельствовали сорванные крышки люков, разбитый компас и наглухо задраенные иллюминаторы, – просто-напросто сбилась с курса. А история морей и океанов знает немало примеров, когда то или иное событие, явно противоречащее научной истине, логике и здравому смыслу, тем не менее имело место на самом деле. Так что, если тайна «Марии Целесты» действительно существует, она принадлежит морю и ключ к ее разгадке навсегда затерялся в безмерных океанских просторах.
Роберт де Лакруа | Перевел с французского И.Алчеев
Неведомые тропы: О гигантских сверчках, прилежных ленивцах и поднадзорных коалах
Крупнее не бывает
Майкл Мидз изо всех сил старался походить на прочих пассажиров автобуса, следовавшего из Пиктона в Хавлок. Это два небольших городка, расположенные на северном побережье Новой Зеландии. Но ему мешали четыре ящика, которые он вез с собой. И хотя снаружи ящики были замаскированы под обычные упаковочные коробки, выглядели они все же громоздкими. У Майкла явно не было желания, чтобы пассажиры узнали, что в этих ящиках он везет гигантских сверчков…
Три вида гигантских сверчков, обитающих в Новой Зеландии, относятся к самым тяжелым в мире насекомым. Возможно, акция по спасению одного этого вида, проведенная Мидзом в начале 80-х годов, покажется кому-то малозначительной, но то, что он сделал, вполне может быть приравнено к подвигу. Мидз, в прошлом фермер, а сегодня – эколог, перевез в безопасное место значительное число из оставшихся в живых гигантских сверчков. Его безобидные на вид ящики на самом деле были сконструированы учеными специально для перевозки необычных существ, внешний вид которых мог перепугать любого из пассажиров автобуса.
У этих огромных бескрылых существ, не способных прыгать, – жирное тело коричневого цвета и большие, похожие на пуговицы, темные глаза. Их внешний вид остается неизменным вот уже несколько миллионов лет. В отличие от некоторых других видов сверчков они спокойные и кроткие.
Когда Мидз начал осуществлять свою программу по спасению этих живых ископаемых, у многих возник вопрос: а зачем, собственно, их спасать? И хотя далеко не все понимали ценность этих крупных реликтов класса насекомых, Мидз настаивал на том, что «они являются частью нашего новозеландского наследия, и мы обязаны сохранить их для потомков».
Подобно не умеющей летать киви, национальной птице Новой Зеландии, гигантский сверчок, или вета, являет собой пример удивительного витка эволюции форм жизни на этих островах. Расположенная в отдаленном уголке Тихого океана, Новая Зеландия в течение почти 100 миллионов лет укрывает на своей территории самых примитивных животных. При отсутствии врагов многие птицы здесь утратили способность летать, а насекомые выросли до гигантских размеров. Но 1000 лет назад на острова проникли полинезийцы, вместе с ними пришли и крысы. А в прошлом веке здесь появились европейские поселенцы, которые привезли с собой множество милых и горячо любимых домашних животных, а заодно прихватили и их паразитов. Очень скоро многие из местных диких животных, привыкших жить без врагов, были почти полностью уничтожены.
Крысы-то и сожрали почти всех гигантских сверчков. Только на трех свободных от крыс островах в проливе Кука (между островами Северный и Южный) эти насекомые смогли выжить, и только на одном из них – острове Мана – сохранилась относительно небольшая популяция. Однако эти острова вряд ли смогут надолго сохранить статус «свободных от крыс». Поэтому Мидз, штатный эколог Новозеландского управления научных и промышленных исследований, и его коллега Генрих Моллер отловили на острове Мана четыре десятка гигантских сверчков и переправили их на более отдаленный остров Мауд, где не было крыс и где, как надеялись ученые, они смогут процветать.
Подготовкой к этой уникальной операции Мидз занимался шесть лет. Скромному экологу, полностью погруженному в свои исследования, наука обязана почти всем, что нам известно об этих гигантских насекомых. Они – вегетарианцы, проводящие всю жизнь возле одного из видов вечнозеленых кустарников, где и размножаются. В возрасте полутора лет самец выбирает себе подругу, с которой будет делить облюбованный на всю жизнь куст. Достигнув к двум годам своего максимального размера, самка откладывает 200-300 яиц. Странно, но родители умирают прежде, чем через шесть месяцев из яиц вылупятся дети.
Только в сентябре 1977 года, обладая знаниями, приобретенными за многие годы научных исследований, Мидз «созрел» для отлова и перевозки гигантских сверчков. Поскольку эти насекомые ведут ночной образ жизни, он и его коллега днем отыскивали лишь характерный полосатый помет. Обнаружив его возле куста, делали пометки. Ночью, в полной темноте Мидз и Моллер возвращались к помеченным кустам с фонарями, укрепленными на голове, и прочесывали местность до пяти часов утра, осторожно раздвигая колючие ветви кустарников и разгребая листву под ними в поисках насекомых.
Поездка на остров Мауд на моторной лодке, пароме, автобусе и почтовом пароходе заняла два дня. Для выпуска насекомых (по-научному это называется реинтродукция) Мидз подобрал место на северо-восточном оконечности острова. Было выбрано 20 кустов любимых сверчками видов, которые отметили врытыми около них металлическими столбиками. Затем, сильно волнуясь, Мидз стал вынимать из мешка гигантских сверчков, выпуская их с ладони на новое место жительства.
«Когда они уползли, мне стало как-то грустно, – признавался впоследствии Мидз, рассказывая журналистам об эксперименте. – Я уже привязался к ним и очень нервничал. Когда вы пытаетесь кого-то спасти, а у вас что-то не получается, то зачастую кажется, что работа не удалась. Но было и прекрасное ощущение, когда я видел, как они уползали в траву на острове Мауд, – точно так же, как делали это на родном острове Мана».
С тех пор Мидз возвращался на остров Мауд много раз. «Вначале шансы найти хотя бы одного из моих подопечных были примерно такими же, как и при поисках иголки в стоге сена», – рассказывал Мидз. Но в 1980 году он нашел пять сверчков – доказательство того, что насекомые размножались, так как из числа перевезенных никто не мог прожить три года. Вот удача!
С тех пор при каждой проверке Мидз обнаруживал все больше и больше вет. Успех этой программы, по мнению ее руководителя Ричарда Садлера, не только сильно увеличивает шансы на выживание этого «динозавра» в мире насекомых, но и вселяет надежду на спасение многих других беспозвоночных, находящихся под угрозой исчезновения.
Роберт М.Пайл, специалист по охране насекомых, вполне с этим согласен. «Конечно, переселение насекомых никогда не заменит охрану мест обитания на их родине, – подчеркивает он, указывая, что беспозвоночные составляют девять десятых всех животных на Земле, – но оно может быть весьма ценным, что и доказала осуществленная Мидзом программа».
Что же касается того, нужно ли людям беспокоиться о спасении насекомых, Мидз вспомнил эпизод, происшедший на одной из полевых станций. Когда на стол, за которым они завтракали, села моль, кто-то из сотрудников поднял руку, чтобы прихлопнуть ее. Другой успел перехватить руку в воздухе. «Вот когда вы сможете создать что-либо подобное ей, – сказал он, – тогда вы можете убить эту».
Не ленивы они совсем!
Ленивцев всегда называли ленивыми и глупыми. Без сомнения, очень медлительные, они были названы в честь одного из семи смертных грехов. И нет ничего удивительного в том, что французский естествоиспытатель Жорж Бюффон, изучавший их в конце XVIII века, пришел к заключению, что «инертность этого животного есть… следствие его несовершенного строения».
Выводы Бюффона были глубоко ошибочны, но так, как он, думали многие. С тех пор, как люди стали описывать это животное, на него клеветали и ученые, и натуралисты. В действительности же это загадочное, живущее на деревьях существо одно из наиболее приспособленных к жизни в тропическом лесу.
Имеются два рода ленивцев. Оба обитают под пологом тропического леса и встречаются только в Центральной и Южной Америке на территории, простирающейся от Южной Мексики через Венесуэлу и Бразилию до северной части Аргентины. Ленивцы двупалого рода весят около семи килограммов и, судя по описаниям (в основном недоброжелательным), похожи на сумасшедших поросят. Представители этого рода едят листья различных деревьев, цветки и плоды. Активны только ночью. Трехпалые ленивцы, в отличие от двупалых, весят значительно меньше (около 4 килограммов), обладают более спокойным характером и… еще медлительнее, чем их более крупные и более раздражительные собратья. Они бывают активны и днем, и ночью, живут поодиночке на лиственных деревьях и по численности превосходят своих двупалых родственников. Оба современных рода ленивцев – близкие родственники недавно вымерших ленивцев, некоторые из которых были размером со слона. Они, естественно, жили на земле.
Репутация ленивцев стала меняться к лучшему лишь в 1970 году. В этот год Джин Монтгомери и Мел Санквист, биологи из зоопарка в Вашингтоне, специально приехали в Панаму изучать этих животных. Причина была в следующем. Если двупалых ленивцев можно содержать в зоопарках, то трехпалые – погибают; даже несмотря на то, что зоопарки уже отказались от попыток показывать их посетителям, они все равно умирали от голода, причем… с полными желудками листьев. Это явление вызывает особый интерес ученых до сих пор. Непонятно, что за секрет таится в диете трехпалых ленивцев, что делает невозможным содержание их в неволе? Чтобы ответить на этот и другие вопросы, Монтгомери и Санквист использовали радио– и телеметрическую аппаратуру, то есть прикрепляли маленькие радиопередатчики, чтобы следить за передвижением животных. Несмотря на то, что ленивцы не бегают, поймать их оказалось непросто. Для этого нужно было забираться на деревья, в самую гущу листвы на высоту 30 метров и более с помощью веревок, сложного альпинистского оборудования, да еще подтаскивать шесты для ловли животных. Санквисту казалось, что они специально выбирают деревья с колючками, ползучими лианами и кусающимися муравьями. Лазали по ним они с большой ловкостью.
Когда передатчики были укреплены на ленивцах, то наблюдатели начали получать такие данные об их образе жизни, о которых Монтгомери и Санквист и не мечтали. Первым было развенчано утверждение, что ленивцы проводят всю жизнь на деревьях одного из видов цекропии. Так считалось с давних пор. На самом же деле обнаружилось, что ленивцы используют, по крайней мере, 96 видов разных деревьев и лиан, а некоторые животные вообще никогда не посещают цекропии, хотя отдельные ленивцы навещали это дерево в определенное время года.
Все объясняется очень просто. Если вы стоите на земле во влажном тропическом лесу и смотрите вверх на сплошную запутанную массу переплетенных веток, листьев и лиан, то, скорее всего, не увидите ленивцев. В отличие от большинства растущих вокруг деревьев цекропия имеет довольно открытую крону – крупные листья растут пучками на концах веток. Поэтому ленивца на цекропии увидеть легче, чем на деревьях других видов.
Как только Монтгомери и Санквист получили, благодаря датчикам, возможность находить ленивцев, то обнаружили, что в гуще деревьев их прячется множество!
Как же ленивцы умудряются жить при такой плотности? Отчасти ответ заключается в том, что они питаются листьями, то есть самой обильной пищей в тропическом лесу. Но не так-то просто жить на деревьях. В тропическом лесу ветви и листья сотен деревьев стремятся перехватить как можно больше света. Листья – это средство переработки солнечного света в энергию, и поэтому жизненно необходимы дереву. Ведя постоянную борьбу с существами, поедающими листья, деревья обзаводятся различными средствами обороны. Так, у некоторых тропических деревьев в листьях содержится яд; листья других деревьев бедны белками или трудно перевариваются и не обеспечивают питающихся ими достаточной энергией. Не удивительно, что так мало животных может существовать на диете, состоящей из одних только листьев.
Трехпалый ленивец ухитряется жить исключительно листьями, но ему приходится идти на некоторые компромиссы. Мышечная масса у него наполовину меньше, чем у других млекопитающих тех же размеров, потому что на поддержание мускулов требуется энергия. Кроме того, температура его тела ночью резко падает: экономится энергия. Немногие другие животные способны на такое (за исключением впадающих в зимнюю спячку). Утром ленивцы лезут на верхушку дерева погреться на солнышке и поднять температуру до нормальной – так же, как это делают змеи и ящерицы.
Длинная косматая шерсть ленивца – хороший термоизолятор. Шейных позвонков – девять вместо семи, обычно встречающихся у большинства млекопитающих. Это позволяет ленивцу питаться, поворачивая только голову, не передвигая все тело. Чтобы спасаться от хищников, требуется много энергии, поэтому ленивец предпочитает оставаться на месте и не пытается бежать. В его шерсти растут водоросли, придавая ей зеленоватый оттенок. Замаскированный таким образом, зверь становится почти невидимым, особенно когда спит, свернувшись где-нибудь в развилке толстых сучьев дерева.
Но самым удивительным и важным из того, что обнаружили Монтгомери и Санквист, было другое: каждый отдельный ленивец наследует индивидуальный способ питания. Даже если листьев вокруг очень много, ленивцы не будут жить группами, ибо это не соответствует их изысканным вкусовым привычкам. В тропическом лесу на каждом акре (0,4 га) растет более 200 видов деревьев и лиан, и у каждой самки имеется свое уникальное меню из листьев примерно 40 видов деревьев, на которых она и кормится. Таким образом, несколько ленивцев могут жить в близком соседстве, не конкурируя в пище.
Сложная система предпочтения одних деревьев другим передается матерями-ленивцами следующим поколениям. Они не только учат детенышей, какие листья есть, но и передают в их кишечник микроорганизмы, требующиеся для переваривания определенного вида листьев. Такая специализация питания приводит к тому, что трехпалые ленивцы в неволе обычно умирают. Владельцы зоопарков не догадываются, что у отдельных животных может быть диета, присущая только им. И, по незнанию, ленивцам дают такую еду, которую они не могут переварить.
Хотя Монтгомери и Санквист завершили свои наблюдения над ленивцами несколько лет назад, животные, которых они «снабдили» радиопередатчиками, добавили к рассказанной истории еще один факт – долгожительство. По всей вероятности, век ленивцев – 30-40 лет.
Отпечатки пальцев… коалы
Резким движением детектив Гэвин Риккетс распахнул дверь и быстро вошел в комнату. «Ну, Джорджеус, – воскликнул он, – пройдемте со мной!» Но Джорджеус никак на это не прореагировал. Он остался совершенно спокоен и не двинулся с места. Взрослый самец-коала только поднял голову и уставился на детектива. В помещении столпились операторы и журналисты, приехавшие из Брисбека (Австралия). Жужжали кинокамеры… Вошел Фрэнк Каррик, зоолог из Квинслендского университета. Он снял Джорджеуса с ветки и перенес его на стол, где лежало все необходимое для снятия отпечатков пальцев.
В то время, как помощник Каррика удерживал немного взволнованного «преступника», зоолог осторожно наносил тонкий слой краски на подошву задней лапы коалы, а затем прижал ее к чистой поверхности белой карточки. После снятия отпечатков и соответствующей записи «арестованный» Джорджеус навсегда вошел в компьютерную память полиции, то есть стал меченым коала.
Снимая отпечатки лап коал, живущих в неволе, Каррик и его помощники надеются с их помощью спасти диких сородичей этих животных. Жизнь самого примитивного из сумчатых животных Австралии нелегка. С начала века началось массовое истребление коал из-за их шкур, и численность симпатичных сумчатых «мишек» стала сокращаться с ужасающей быстротой. Только в 1924 году было убито два миллиона коал! Это привело в итоге к полному запрету охоты на них в 1927 году. Однако после ликвидации одной угрозы возникла другая – сведение лесов, мест обитания этих животных. Кроме того, с разрастанием городов и их предместий, появились во множестве бездомные собаки, транспорт и прочие смертельные опасности для коал.
По оценкам Австралийского фонда охраны коал, на тех землях, где когда-то жили миллионы этих животных, сегодня осталось всего около 60 тысяч. По-прежнему существует угроза со стороны браконьеров, но еще большую опасность представляет нелегальная ловля диких коал для замены ими тех, что погибли в неволе. В зоопарках и национальных парках Австралии содержится около тысячи коал, являющихся также участниками различных аттракционов. Каждый год около ста из них умирает естественной смертью. Большая часть умерших животных восполняется за счет потомства, приносимого в неволе. Однако отдельные владельцы зоопарков пополняют свои коллекции и за счет диких животных, охраняемых законом.
Огромный спрос на коал в других государствах, особенно в Японии и США, еще больше влияет на удручающее состояние популяций этого вида. Правда, на законном основании ежегодно за рубеж продается всего около десяти коал. В то же время представители «черного рынка» нелегально отлавливают никем не учитываемое количество диких животных, которых и вывозят за рубеж.
У каждого коалы, живущего в неволе, имеется в ухе металлическая бирка, и он зарегистрирован в Национальной службе парков и живой природы Австралии, которая два раза в год проверяет свое поголовье. Но проблема состоит в том, что эти металлические пластинки очень легко переставить с умершего в неволе животного на незаконно приобретенное дикое. Однако теперь метод отпечатков пальцев уже не позволит допустить этого. С помощью отпечатков пальцев можно легко опознать каждого «медведя», содержащегося в неволе.
Группа Каррика собирает отпечатки лап у коал, живущих в парках, а затем передает их в архив полицейской службы в Тувумбе (штат Квинсленд). В дальнейшем, если какой-нибудь коала будет заподозрен как «обманщик» (по вине человека, разумеется), специалисты смогут сравнить отпечатки его лап с теми, что хранятся в архиве. По этой программе на начало 1993 года было зарегистрировано около 60 животных, но Каррик не теряет надежды, что когда-нибудь сумеет подвергнуть такой маркировке всех коал, живущих в неволе.
По материалам журнала «International wildlife» подготовил Е.Солдаткин
Чтение с продолжением: К югу от мыса Ява (1)
Роман
Глава I
Густой и удушливый черный дым плотной пеленой окутал умирающий город, каждый его дом и каждый квартал – жилой и деловой, уцелевший и разрушенный бомбежкой. Дымовая завеса, увенчанная темным, чуть завихряющимся коконом, скрыла улицы, переулки, акваторию порта. Теплый воздух тропической ночи был буквально отравлен едкими, зловонными клубами.
Поначалу дым исходил только из полыхавших зданий, в его плотной завесе зияли широкие бесформенные бреши – сквозь них наверху, в пустынном небе, проглядывали мерцающие звезды. Однако вскоре ветер залатал прорехи, принеся колышущееся облако маслянистой, разъедающей глаза копоти, валившей из расположенных за пределами города прорванных топливных резервуаров, и к полуночи уже не видно было ни зги. Наступила кромешная тьма. Теперь даже догоравшие дома почти не отбрасывали света: на практически полностью уничтоженных огнем, обуглившихся руинах лишь изредка вспыхивали крохотные языки пламени, медленно угасавшие, как сама жизнь Сингапура.
Город будто погружался в безмолвие смерти, время от времени нарушаемое жутким свистом шального снаряда, что, пролетев над головой, либо падал в море, издавая при этом безобидный всплеск, либо ударял в стену какого-нибудь дома, разрываясь с коротким, оглушительным грохотом и мгновенной яркой вспышкой. Однако и грохот, и вспышки казались естественной и неотъемлемой частью этой фантастической ночи с ее глубокой, давящей тишиной.
Иногда со стороны Форт-Кеннинга и Перлс-Хилла или с северо-западной окраины города доносился треск винтовочных выстрелов и пулеметных очередей, которые также казались нереальными, – точно в кошмарном сне. И даже люди, бредущие по вымощенным булыжником пустынным улицам Сингапура, больше походили на призраков, – безразличные ко всему, они ощупью, спотыкаясь, с вытянутыми вперед руками, пробирались сквозь клубы дыма, словно сбившиеся с дороги слепцы.
Медленной, неуверенной поступью солдаты – отряд числом не более двух дюжин – продвигались по темным улицам к порту, низко склонив головы и ссутулившись подобно старикам, – хотя самому старшему из них едва перевалило за тридцать. Солдаты просто смертельно устали – и им было легче волочить ноги, чем стоять на месте. Измотанные, больные и покалеченные, они двигались чисто механически, ибо у каждого мозг истощился до предела. Однако крайнее умственное и физическое истощение подобно наркотическому опьянению, и, какие бы физические страдания они ни испытывали, ощущение боли мгновенно стиралось из их памяти.
Только один солдат был, похоже, не безучастен к происходящему вокруг. Он медленно брел во главе выстроенной по двое колонны и время от времени включал фонарь, выбирая путь через заваленные обломками домов улицы. Он был невысок и худощав, и на нем одном была юбка шотландского полка и национальная шотландская шапочка. Откуда взялся килт, знал только сам капрал Фрейзер: во время отхода на юг Малайского полуострова его на нем определенно никто не видел.
Капрал Фрейзер устал, как и все. Глаза его были воспалены и налиты кровью, изможденное осунувшееся лицо – с явно сероватым оттенком – свидетельствовало о перенесенной малярии и дизентерии, а то и обеих болезней сразу. Сильно приподнятое левое плечо капрала доставало почти до уха, однако бросающееся в глаза уродство объяснялось тем, что раненное еще днем плечо под рубашкой было второпях неуклюже перевязано дежурным санитаром. В правой руке Фрейзер с трудом удерживал пулемет системы Брэна, весивший чуть ли не все двадцать три фунта. Пулемет сильно оттягивал правую руку вниз, поэтому левое плечо и казалось неестественно вздернутым.
Два часа назад офицер, командовавший их смешанной ротой, собравшейся на северных подступах к городу, приказал Фрейзеру вывести за линию огня и доставить в безопасное место всех раненых. Бесполезность приказа не вызывала у Фрейзера ни малейшего сомнения, как и у офицера, его отдавшего. Последние защитные укрепления были давно сокрушены, и это предопределило участь Сингапура. Так что еще до наступления нового дня защитники острова будут либо мертвы, либо ранены, либо попадут в плен. Но приказ есть приказ – и капрал Фрейзер вел вверенных ему солдат к бухте Келанг.
В темном, задымленном переулке плакал ребенок – очень маленький мальчик лет, наверное, двух с половиной. У него были голубые глаза, светлые волосы и белая кожа, покрытая размытой слезами грязью. Вся его одежда состояла из тоненькой рубашечки и шортиков цвета хаки на лямках. Ноги мальчика были босы. Он сидел и беспрерывно трясся: тропические ночи тоже бывают холодными. А еще ему было страшно: он не знал теперь, где его дом и что сталось с его мамой. Этой ночью, 9 января, они, вместе с мамой и старушкой Анной, няней-малайкой, должны были сесть на «Уэйкфилд», последний большой пароход, уходивший из Сингапура.
Его старая няня долго таскала малыша на руках по темным улицам, но потом опустила его на землю, схватилась руками за сердце и тоже опустилась возле, сказав, что ей надо отдохнуть. Прошло уже полчаса, а старушка все сидела. Мальчик раз или два наклонялся расшевелить няню. Теперь же отсел подальше, боясь даже поглядеть в ее сторону, смутно понимая, что няне уже никогда не подняться.
Малышу было страшно уходить и страшно оставаться. Он еще раз украдкой, сквозь сложенные решеткой пальцы, взглянул на старушку – и боязнь остаться рядом с нею пересилила другие страхи. Малыш встал и побрел вниз по переулку, не глядя, куда идет, спотыкаясь и падая на кирпичи и камни.
Подобно маленькому мальчику, по разрушенным улицам пробиралась группа девушек-санитарок. Поравнявшись с единственным, до сих горящим зданием в деловой части города, они с опаской пригнули головы. В их грузовик, закрепленный за Красным Крестом, угодил снаряд, отбросив машину в канаву перед поворотом на Букит-Тимор. Они все еще не могли прийти в себя от пережитого потрясения.
Две из них были китаянками, две другие – малайками. Красивые темно-карие глаза той, что помоложе, были широко раскрыты от страха, и она то и дело с тревогой и беспокойством озиралась по сторонам. На лице старшей читалось полное безразличие.
Пятая санитарка, шедшая во главе, была высокой и стройной. Она потеряла свою шапочку во время взрыва, когда ударной волной ее перебросило через откидной борт грузовика, и теперь ее густые иссиня-черные волосы беспрестанно падали на глаза, время от времени она резким движением откидывала их назад. Судя по всему, она не была ни малайкой, ни китаянкой, у которых просто не бывает таких голубых глаз. Не принадлежала она и к европейской расе – скорее всего была полукровкой. В мерцающем желтоватом свете нельзя было разглядеть цвета ее лица, к тому же покрытого слоем пыли и грязи.
Прошло полчаса, час, а девушки все не могли выбраться из бесконечного лабиринта разрушенных улиц. Как несправедливо было со стороны военврача, майора Блэкли, отправлять их на поиски раненых солдат, которых, в отчаянии подумала старшая медсестра, им, похоже, не суждено найти никогда. Но, стараясь не поддаться отчаянию, девушка стиснула зубы, и, прибавив шагу, повела подруг на другую, такую же темную и пустынную улицу.
Страх, смятение, боль и отчаяние двигали заблудившимися солдатами, малышом, санитарками и десятками тысяч других людей в ту ночь, 12 февраля 1942 года, когда воодушевленные успехами японцы, собирались с силами на подходах к последним защитным рубежам города, чтобы с рассветом предпринять новый кровавый штурм и окончательно закрепить победу. И только один человек в этой трагической обстановке, казалось, сохранял присутствие духа.
Он сидел в освещенной свечами приемной канцелярии штаба, находившегося к югу от Форт-Кэннинга и был целиком погружен в свои мысли. Испещренный морщинами, коричневого цвета лоб венчала копна густых, совершенно седых волос. Из-под таких же седых колючих усов торчал кончик бирманской сигары, крупный орлиный нос лоснился. Он сидел, вальяжно откинувшись в плетеном кресле. Но в этом не было ничего удивительного: отличительной чертой бригадного генерала в отставке Фостера Фарнхольма была поразительная способность сохранять спокойствие при любых обстоятельствах, хотя бы чисто внешне.
Дверь за спиной генерала открылась, и в комнату вошел молодой, выглядевший очень уставшим, сержант.
– Я доставил ваше донесение, сэр. – Голос сержанта был под стать его виду. – Капитан Брайсленд говорит, что скоро выходит.
– Брайсленд? – густые брови генерала сошлись в горизонтальную линию, тяжело нависнув над глубоко посаженными глазами. – Какой еще, к черту, капитан Брайсленд? Послушай, сынок, я ведь просил о встрече с вашим полковником, причем немедленно. Тотчас же. Понял?
– Может, все-таки, я смогу чем-нибудь помочь? – В дверях за спиной сержанта появился еще кто-то, и даже в мерцающих отблесках свечей можно было разглядеть, что глаза вошедшего были сильно воспалены, а щеки покрыты нездоровым румянцем. Однако голос с мягким уэльским акцентом прозвучал достаточно учтиво.
– Брайсленд?
Молодой офицер кивнул.
– Уж вы-то определенно сможете помочь, – согласился Фарнхольм. – Пригласите сюда вашего полковника, и быстро. Времени у меня в обрез,
– Это невозможно, – ответил Брайсленд, покачав головой. – Он прилег вздремнуть, первый раз за трое суток…
– Знаю. И все же он мне нужен. – Фарнхольм замолчал, пережидая шальной грохот тяжелого пулемета. Потом тихим, но серьезным голосом продолжил: – Капитан Брайсленд, вы даже не представляете, как мне нужен полковник. И судьба Сингапура ничто по сравнению с делом, которое я должен с ним обсудить. – Сунув руку под гимнастерку, он вынул тяжелый черный автоматический «колът-455».
– Если мне придется пойти за ним самому, захвачу вот эту штуку – и найду его… Впрочем, не думаю, что она понадобится. Скажите полковнику – его ждет бригадный генерал Фарнхольм. Он придет.
Брайсленд пристально взглянул на генерала, и малость помедлив, молча развернулся и вышел. Минуты через три капитан вернулся с офицером, которого пропустил вперед. Полковника шатало, точно пьяного. Ему стоило немалых усилий держать глаза открытыми, но, натужно улыбнувшись, он медленно подошел к генералу и почтительно протянул руку:
– Добрый вечер, сэр. Каким ветром вас сюда занесло?
– Здравствуйте, полковник, – сказал Фарнхольм, поднимаясь, и, пропустив вопрос мимо ушей, прибавил: – Стало быть, вы меня знаете?
– Выходит, так. Впервые я услышал о вас позапрошлой ночью, сэр.
– Вот и прекрасно. – Фарнхольм удовлетворенно кивнул. – Это избавит меня от ненужных объяснений. Давайте сразу перейдем к делу.
Не успел он повернуться, как комнату сотрясло от взрыва разорвавшегося неподалеку снаряда, а ударной волной чуть не задуло свечи. Но генерал почти не обратил на это внимания.
– Полковник, мне нужен самолет, – сказал он, – вылетающий из Сингапура в самое ближайшее время. Вы отправите меня, даже если вам придется снять с борта кого-то из пассажиров. Мне также наплевать, куда он летит – в Бирму, Индию, на Цейлон или даже в Австралию. Главное – самолет, и как можно скорее.
– Значит, вам нужен самолет, – равнодушно повторил полковник голосом таким же безжизненным, как и выражение лица. Затем вымученно улыбнулся. – А разве всем нам не нуженсамолет, генерал?
– Вы не поняли. – Медленно, словно намекая на свое беспримерное терпение, генерал затушил сигару о пепельницу. – Я знаю, что здесь сотни больных, раненых, женщин и детей…
– Последний самолет уже улетел, – бесстрастно перебил его полковник, потирая воспаленные глаза. – День или два назад – точно не помню.
– Последний самолет. – Голос Фарнхольма прозвучал холодно. – Последний. Но… насколько я знаю, были и другие самолеты. Истребители – «Брюстеры», «Уайддбисты»…
– Их уже нет. Все уничтожены. – Теперь полковник рассматривал Фарнхольма с любопытством. – Но даже если бы они уцелели, что толку? Японцы захватили все аэродромы – Селетар, Семвабанг, Тенга. Может, и Келанг тоже.
– Полковник, мы можем поговорить с вами с глазу на глаз ?
– Конечно. – Полковник подождал, пока за Брайслендом и сержантом не закрылась дверь, и чуть заметно улыбнулся: – Боюсь, сэр, последний самолет все равно уже улетел.
– А я в этом нисколько не сомневался. – Фарнхольм расстегнул ворот гимнастерки и взглянул на полковника.
– Надеюсь, полковник, вам известно, кто я такой? Я имею в виду не только имя.
– Я узнал об этом еще позавчера. Полная секретность, и все такое… Говорили, вы можете нагрянуть в любой день. – Полковник впервые взглянул на своего собеседника с нескрываемым интересом. – Вот уже лет семнадцать вы возглавляете службу контрразведки в Юго-Восточной Азии, владеете чуть ли не всеми азиатскими языками, как никто…
– Пощадите мою скромность. – Расстегнув гимнастерку до конца, Фарнхольм принялся снимать широкий, плоский прорезиненный пояс. – А вы, как я понимаю, не знаете ни одного восточного языка.
– Да нет, один знаю. Японский. Поэтому я и здесь. – Полковник безрадостно улыбнулся. – Что ж, в концлагере он, надеюсь, мне пригодится…
– Значит, японский? Тем лучше. – Сняв пояс, Фарнхольм расстегнул в нем два кармана, выложил на стол все, что там находилось, и сказал: – Взгляните сюда, полковник.
Полковник пристально посмотрел на генерала, потом – на разложенные на столе фотографии и катушки с фотопленкой, понимающе кивнул и вышел из комнаты. Вернулся он с очками, увеличительным стеклом и фонариком. Минуты три сидел, безмолвно склонив голову над столом. Снаружи взорвался еще один шальной снаряд, а вслед за тем раздался треск пулемета, сопровождавшийся зловещим свистом пуль. Но полковник сидел неподвижно, зато в глазах его сверкал яркий, живой огонь. Фарнхольм закурил новую сигару и с безучастным видом вытянулся в плетеном кресле.
Наконец полковник взглянул через стол на Фарнхольма.
– Тут и без японского все ясно. Господи, сэр, где вы это достали?
– На Борнео. И заплатил слишком высокую цену – потеряв двух наших лучших людей и еще двух голландцев. Но сейчас это уже не имеет никакого отношения к делу. – Фарнхольм затянулся сигарой. – Важно, что все это теперь у меня, и японцы ничего не знают.
– Просто невероятно, – проговорил полковник. – Даже не верится. Таких копий, наверное, от силы одна-две. План вторжения в Северную Австралию!
– Причем полный и подробный, – подтвердил Фарнхольм.
– Здесь указано все: и предполагаемые районы высадки морского десанта, и подлежащие захвату аэродромы, и время начала операций – с точностью до минуты, и количество сил – с точностью до батальона.
– Да, но здесь есть еще что-то…
– Знаю, знаю, – резко оборвал его Фарнхольм. – Даты, главные и второстепенные объекты атаки закодированы. Ясное дело, японцы просто не могли не зашифровать такую информацию. Потом, они используют такие годы, что голову сломаешь, – разгадать практически невозможно. Однако живет в Лондоне один старичок – он и имя-то свое написать грамотно не может…
– Фарнхольм прервался и выпустил струю сизого дыма. – И все-таки это уже что-то, не так ли, полковник?
– Но… но как это к вам попало? Неужели случайно?
– Уверяю вас, случайность здесь ни при чем. Я пять лет потратил, чтобы получить эти материалы: ведь далеко не все японцы неподкупны. Я сделал все, чтобы получить документы своевременно, а вот с местом вышла промашка. Поэтому я здесь.
– Эти документы… Им же цены нет, сэр. – Как бы взвешивая в руке фотографии, полковник уставился на Фарнхольма не видящими глазами. – Это… это… во имя всего святого, подумайте об Австралии. Наши люди должны получить эти документы… Нет, просто обязаны!
– Совершенно верно, – согласился Фарнхольм. – В том-то все и дело! – Он потянулся за пленками и фотографиями и начал аккуратно укладывать их обратно в водонепроницаемые карманы пояса. – Так что теперь вы, надеюсь, понимаете мое беспокойство по поводу… м-м… самолета? – И, застегнув молнии на карманах, прибавил: – Уверяю вас, это тревожит меня, как ни что другое.
Полковник, ничего не сказав в ответ, только кивнул.
– Значит, говорите, не осталось ни одного самолета? – настойчиво спросил Фарнхольм. – Даже самой захудалой развалины?.. Заметив отчаянное выражение на лице полковника, он было осекся, однако затем продолжил: – А как насчет подводной лодки?
– Ничего не осталось. – Полковник занервничал. – Даже ни одного торгового судна. Последние – «Грассхоппер», «Тьен-Кванг„, „Куала“, „Кэтидид“, «Дрэгонфлай“ и несколько небольших каботажных судов покинули Сингапур еще прошлой ночью. И уже не вернутся. Но им не пройти и ста миль: над морем постоянно кружат японские самолеты. На этих судах полно женщин, детей и раненых. И большинству из них, боюсь, суждено утонуть.
– Что ж, неплохая перспектива по сравнению с японским концлагерем. Поверьте, полковник, уж я-то знаю. – Фарнхольм закрепил пояс на животе и вздохнул.
– Боже мой, зачем вас вообще сюда занесло? – с горечью спросил полковник. – Почему вы выбрали именно Сингапур? Неужели не знали, что здесь творится? Кстати, как, черт побери, вам удалось сюда попасть?
– Приплыл из Банджармасина, – коротко ответил Фарнхольм. – На «Кэрри Дэнсер», самой убогой из посудин, которым когда-либо отказывали в свидетельстве на годность к плаванию. Капитаном на ней один прощелыга по имени Сайрэн – довольно опасный тип. Точно не скажу, но мог бы поклясться – он из тех англичан, которые работают на япошек. Сначала объявил, что поведет судно в Кота-Бару, Бог знает зачем. А потом вдруг передумал и взял курс на Сингапур.
– Передумал?
– Я ему хорошо заплатил. Благо, деньги не мои. Я думал, в Сингапуре безопасно. Я был на севере Борнео, когда услышал по радио, что пали Гонконг, Гуам и Уэйк – так что пришлось сматывать удочки. Прошел не один день, прежде чем я мог послушать свежие новости, – уже на борту «Кэрри Дэнсер». Единственным приличным местом на этой посудине была радиорубка. Радист тоже оказался неплохим парнем. Мы торчали на судне уже вторые сутки. Как раз в тот день, 29 января, я зашел в радиорубку к этому парню, Луну, и мы поймали сообщение Би-би-си о бомбежке Ипоха. Казалось, японцы наступают черепашьим
шагом, и мы вполне успеем добраться до Сингапура, где я бы мог пересесть на самолет.
Полковник понимающе кивнул:
– Я тоже слышал это радиосообщение. Интересно, какой болван его придумал? На самом деле, сэр, японцы захватили Ипох месяцем раньше. А 29 января они уже были в нескольких милях к северу от дамбы. – Он покачал головой. – Кошмар, да и только!
– Это еще мягко сказано, – проговорил Фарнхольм. – Сколько еще времени у нас в запасе?
– Завтра придется сдаваться. – Полковник уставился на свои руки.
– Завтра?!
– Мы проиграли, сэр. И тут ничего не поделаешь. К тому же не осталось воды. Взорвав дамбу, мы уничтожили единственный трубопровод, протянутый с материка.
– Да уж, нечего сказать, толковые ребята понастроили здесь укрепления, – неприступная крепость, похлеще Гибралтара и все такое. Боже, ну прямо с души воротит! – Генерал презрительно фыркнул и поднялся с кресла. – Придется поспешить назад, на старушку «Кэрри Дэнсер». Да поможет Господь Австралии!
– «Кэрри Дэнсер»?! – Полковник изумленно воззрился на генерала. – Да ведь через час после наступления рассвета, сэр, от нее ни черта не останется. Говорю вам – японские самолеты кишмя кишат над проливом.
– А вы можете предложить другой выход? – устало спросил Фарнхольм.
– Прекрасно вас понимаю, но, даже если вам повезет, где гарантия, что капитан доставит вас туда, куда нужно?
– Гарантии никакой, – признался Фарнхольм. – Но у него служит довольно смышленый голландец по фамилии ван Эффен. Вдвоем нам, может быть, и удастся наставить уважаемого капитана на путь истинный.
– Возможно, – согласился полковник, но тут же спохватился: – Но где гарантия, что он вообще будет ждать, когда вы со
изволите вернуться на борт?
– Вот она, – Фарнхольм пнул лежавший у его ног потертый саквояж. – Сайрэн думает – здесь полно бриллиантов. И то верно: я отдал ему несколько камешков в виде платы за проезд. Так что пока он считает, что в один прекрасный день сможет меня ограбить, он будет относиться ко мне, как к родному брату. Он думает – я старый, спившийся распутник, проматывающий состояние. И мне пришлось стараться вовсю, чтобы… э-э… не разуверить его в этом.
– Понимаю, сэр. – Полковник наконец решился и нажал на кнопку звонка. Появился сержант, и он сказал:
– Попросите капитана Брайсленда.
Фарнхольм вопросительно поднял бровь.
– Это все, чем могу вам помочь, сэр, – объяснил полковник.
– У меня нет самолета, равно как и гарантии, что завтра утром вы не пойдете ко дну. Зато в одном я уверен точно: капитан «Кэрри Дансэр» будет слушаться вас беспрекословно. Младший офицер и солдаты из шотландского полка будут сопровождать вас на корабль и получат на этот счет соответствующие инструкции. – Он улыбнулся. – Ас ними шутки плохи.
– Я тоже так думаю. Глубоко признателен вам за помощь, полковник. – Он взял одной рукой саквояж, а другую протянул полковнику. – Спасибо за все. Пусть это звучит нелепо, поскольку впереди у вас, скорее всего, японский концлагерь, но желаю вам, однако, всего наилучшего.
– Благодарю, сэр. Я также желаю вам удачи – видит Бог, она вам еще пригодится. – Бросив взгляд на обтянутый рубашкой пояс с пленками и фотографиями, полковник безрадостно прибавил: – По крайней мере, теперь у нас есть хоть надежда.
Близился рассвет. Пушки теперь грохотали реже, но пальба из винтовок и пулеметов участилась: японцы, очевидно, решили не разрушать до конца город, который через день все равно будет в их руках. Фарнхольм и сопровождающий отряд быстрым шагом двинулись по безлюдной улице к гавани, куда добрались через несколько минут. Дыма на берегу не было – его разогнал легкий бриз, зато начал накрапывать дождь.
И тут вдруг Фарнхольм застыл как вкопанный – небольшая спасательная шлюпка с «Кэрри Дэнсер», на которой он добрался до берега, словно растворилась вместе с дымом. От скверного предчувствия у генерала засосало под ложечкой, он резко вскинул голову и принялся обшаривать глазами бескрайний морской горизонт. «Кэрри Дэнсер» тоже исчезла, как не бывало. Остались лишь дождь, мягкий бриз, обдувавший лицо генерала, и доносившийся откуда-то слева, из редеющей мглы, душераздирающий плач ребенка.
Глава II
Лейтенант Паркер, принявший на себя командование отрядом, схватил Фарнхольма за руку и кивнул в сторону моря:
– Сэр, но где же корабль?
Фарнхольм едва сдержался, но голос его звучал спокойно и бесстрастно, как всегда.
– Скоро появится, лейтенант. Как поется в одной старой песне, «они оставили нас ждать на берегу». Чертовски неловкое положение, мягко говоря.
– Так точно, сэр. – Лейтенанту Паркеру показалось, что Фарнхольма это нисколько не огорчало. – Что же делать, сэр?
– Хороший вопрос, дружище. – Какое-то время Фарнхольм стоял совершенно неподвижно и в недоумении потирал подбородок. – Вы слышали плач ребенка – тут неподалеку, на берегу? – внезапно спросил он.
– Да, сэр.
– Пусть кто-нибудь из ваших людей сходит и приведет ребенка сюда. Пошлите, – прибавил генерал, – самого доброго, чтобы не испугать малыша до смерти.
– Я пошлю человека сию же минуту, сэр.
– Благодарю вас. А потом отправьте еще двоих или четверых вдоль берега, в обоих направлениях. Пусть обшарят все на расстоянии, ну, скажем, полумили. И, если найдут еще кого-нибудь, пусть ведут прямо сюда – может, узнаем, куда подевался этот чертов корабль. А потом мне хотелось бы переговорить с вами с глазу на глаз.
Фарнхольм не спеша отступил в темноту. Через минуту к нему подошел лейтенант Паркер, и Фарнхольм задумчиво посмотрел на молодого офицера.
– Молодой человек, вам известно, кто я такой? – внезапно спросил он.
– Никак нет, сэр.
– Бригадный генерал Фарнхольм. – Он усмехнулся, заметив, как лейтенант расправил плечи. – А теперь забудьте, что я сказал. Вы никогда обо мне не слышали. Понятно?
– Нет, сэр, – вежливо ответил Паркер. – Но приказ мне ясен вполне.
– Большего от вас и не требуется. И прошу больше не называть меня сэром. А известно ли вам, зачем я здесь?
– Нет, сэр, я…
– Я же сказал – никакого сэра, – перебил его Фарнхольм. – И зарубите это себе на носу прямо сейчас. – Генерал глубоко затянулся и задумчиво посмотрел на тлеющий ярко-красный огонек сигары. – Скажите, лейтенант, вам никогда не приходилось слышать о бичкомберах?
– Бичах? – догадавшись, о чем идет речь, Паркер едва не подскочил на месте. – Ну конечно, приходилось.
– Отлично. С этой минуты считайте, что я один из них. Вы должны обращаться со мной, как с бичом – старым, презренным пропойцей, думающем только о спасении своей шкуры. Вы повстречали меня на улице – я искал любой транспорт, чтобы поскорее убраться из Сингапура. Вам стало известно, что прибыл я сюда на маленьком каботажном пароходе, – и вы решили воспользоваться им в своих целях.
– Но парохода-то и след простыл, – возразил Паркер.
– Вот-вот, зрите в самый корень, – согласился Фарнхольм.
– Но мы еще можем его найти. Его или какое-нибудь другое судно, хотя я сильно сомневаюсь. И еще: мы плывем в Австралию.
– Куда-куда?! – не сообразил сразу Паркер. – Боже мой, сэр, но до Австралии добрая тысяча миль.
– Да уж, дальше некуда, – согласился Фарнхольм. – И все же наша конечная цель – Австралия. Даже если вам придется грести на шлюпке. – Генерал умолк и огляделся. – Кажется, вернулся кто-то из ваших, лейтенант.
Действительно, из темноты возник сержант – на обоих рукавах его отчетливо виднелись три белых шеврона. На руках сержант – здоровенный, широкоплечий малый шести футов роста – держал маленького мальчика, совсем кроху. Малыш, уткнувшись личиком в загорелую шею сержанта, тихонько всхлипывал.
– Нашел-таки, сэр. – Дюжий сержант бережно похлопал ладонью по спинке малютки. – Видать, натерпелся страху, бедолага, но, думаю, скоро это у него пройдет.
– Надеюсь, сержант. – Фарнхольм прикоснулся к плечу малыша. – Как зовут тебя, дружок?
Мальчик, окинув генерала беглым робким взглядом, еще крепче ухватился за шею сержанта и заплакал навзрыд.
– Его звать Питером, – как ни в чем ни бывало сказал сержант. – Питером Тэллоном. Два годика с небольшим, живет на Мейсорроуд – это в северном Сингапуре, ходит в англиканскую церковь.
– Это он сам вам рассказал? – усомнился Фарнхольм.
– Из него слова не вытянешь, а вот нашейный медальон… там все сказано.
– Прекрасно, – буркнул Фарнхольм, сделав, пожалуй, единственное достойное замечание. И, выждав, пока сержант не отошел к остальным, в раздумье взглянул на Паркера.
– Простите, – горячо выпалил лейтенант. – Но откуда, черт возьми, вам было знать?..
– Видите ли, я прожил на Востоке двадцать три года, и не знать подобные вещи с моей стороны просто смешно. Дело в том, что в Сингапуре беспризорных детей тринадцать на дюжину; малайских, китайских – каких угодно. Но все они стали беспризорными по собственной воле и успели закалиться в борьбе за существование. И просто так слезу из них не вышибить. Потом, местные, в том числе и дети, привыкли сами о себе заботиться… – Помолчав секунду-другую, генерал посмотрел на Паркера и спросил:
– Как вы думаете, лейтенант, что бы ожидало этого малыша, окажись он в руках у япошек?
– Могу себе представить, – мрачно протянул Паркер.
– Ну так вот, поверьте, ничего хорошего. И это еще мягко сказано. Японцы – сущие изверги… – Фарнхольм вдруг осекся. Потом сказал: – Давайте-ка лучше присоединимся к остальным. А пока будем идти, поносите меня на чем свет стоит. По-моему, это должно произвести неплохое впечатление.
Вскоре с северо-востока, со стороны бухты Келанг, послышались шаги – размеренная поступь идущих в ногу солдат и более быстрое, неровное поцокивание женских туфелек. Бросив взгляд на появившихся из темноты людей, Паркер обратился к солдату, шедшему впереди:
– Что такое? Кто эти женщины?
– Медсестры, сэр. Заплутали у самой линии фронта, – как бы извиняясь, ответил солдат. – Ей-Богу, сэр, заблудились.
– Заблудились? – Паркер посмотрел на высокую девушку, стоявшую к нему ближе других. Послушайте, леди, какого дьявола вы шатаетесь по городу среди ночи?
– Мы разыскиваем раненых солдат, сэр.
– Ваше имя? – спросил лейтенант тоном, не допускающим возражений.
– Драхман, сэр. – У девушки был приятный голос, но выглядела она, как успел заметить Паркер, изможденной и очень уставшей. Она дрожала под холодным дождем.
– Ладно, мисс Драхман. Скажите, вы случайно не видели где-нибудь поблизости пароход, катер или шлюпку?
– Нет, сэр, – устало и удивленно ответила старшая медсестра. – В Сингапуре, насколько нам известно, не осталось ни одного корабля.
– Дай Бог, чтобы вы ошибались, – почти шепотом проговорил Паркер, и спросил: – Вам когда-нибудь приходилось ухаживать за детьми, мисс Драхман?
– Что? – испуганно воскликнула девушка.
– Сержант тут неподалеку подобрал маленького мальчика.
– Паркер кивнул на малыша, по-прежнему сидевшего на руках сержанта, прячась от дождя под плащ-накидкой. – Это Питер. Он потерялся и совсем выбился из сил. Может, пока приглядите за ним?
– Ну да, разумеется.
Не успела медсестра протянуть руки, чтобы принять у сержанта малыша, как откуда-то слева вновь послышались шаги – правда, на этот раз более тяжелые. Из дождя и мрака показался отряд солдат, растянувшийся в длинную неровную колонну. Солдаты, с трудом волочившие ноги, спотыкались на каждом шагу, тщетно пытаясь сохранить строй. Маленький шотландец в килте во главе колонны, морщась от боли, опустил тяжелый «брэн» на землю, с трудом выпрямился и поднес правую, здоровую, руку к виску.
– Докладывает капрал Фрейзер, сэр.
Судя по выговору, Фрейзер был уроженцем северо-восточной Шотландии.
– Вольно, капрал. – Паркер не сводил с него глаз. – Может… вам легче нести пулемет в левой руке? – спросил он, хотя прекрасно понимал, что совет совершенно неуместен.
– Слушаюсь, сэр. Вы простите, сэр, но левое плечо у меня, кажется, сломано.
– Вы из какого полка, капрал?
– Из Аргайл-Сазерлендского, сэр.
– Ну конечно же, – кивнул Паркер. – По-моему, я вас узнал.
– Так точно, сэр. А вы, сэр, похоже, тот самый лейтенант Паркер, да?
– Верно, верно, – подтвердил Паркер и указал на понуро стоявших под дождем вновь прибывших солдат: – Вы ими командуете?
– Так точно, сэр.
– Но почему именно вы?
– Почему?.. – в замешательстве переспросил шотландец, нахмурив воспаленное от лихорадки лицо. – Не знаю, сэр. На верное, я самый здоровый из них, более или менее.
– Самый здо… – Паркер запнулся на полуслове, лишившись дара речи от столь смелого заявления. – Но зачем вы пришли сюда, к морю?
– Хотели найти лодку или корабль – все что угодно. – Коротышка капрал по-прежнему говорил так, будто извинялся. – У меня был приказ отыскать безопасное место. И я подумал, что смогу… или хотя бы попытаюсь…
– Попытаюсь… – повторил следом за капралом Паркер, ощущая всю нереальность происходящего, и прибавил: – Капрал, неужели вам невдомек: как ни крути, безопасных мест теперь раз-два и обчелся – разве что Австралия или Индия ?
– Ясное дело, сэр, – невозмутимо согласился маленький шотландец.
– А вы, как я погляжу, не робкого десятка, капрал? – Фарнхольм смерил шотландца пристальным взглядом. – В японском лагере для военнопленных у вас было бы в сто раз больше шансов выжить, чем у любого другого. Благодарите судьбу, что в Сингапуре не осталось ни одного корабля.
– Насчет лагеря не уверен, – буркнул себе под нос капрал.
– А то, что здесь неподалеку стоит на рейде корабль, – это точно. – Фрейзер перевел взгляд на Паркера. – Я как раз думал, как бы переправиться туда с моими людьми, – и тут мы наткнулись на вас, сэр.
– Что! – Фарнхольм подскочил к шотландцу и схватил его за здоровое плечо. – Здесь, неподалеку, корабль? Вы точно знаете, дружище?
– Ну да, где ж ему еще быть? – Фрейзер медленно, с достоинством высвободил плечо. – Минут десять как бросил якорь – я сам слыхал.
– Вы уверены?! – воскликнул Фарнхольм. – А что, если он, наоборот, поднял якорь? Тогда…
– Послушай, приятель, – оборвал его Фрейзер. – Может, я и впрямь кретин, но отличить, когда поднимают якорь, а когда бросают, я уж как-нибудь сумею…
– Ладно, капрал, довольно! – резко оборвал его Паркер. – Где этот ваш корабль?
– Там, за доками, сэр. С милю отсюда. Точнее не скажу.
– Значит, за доками? В Кеппель-Харборе?
– Нет, сэр, гораздо ближе. Говорю же вам – отсюда будет миля или около того… Сразу за Малайской косой.
Несмотря на царивший мрак, переход занял не так уж много времени – каких-нибудь четверть часа, не больше. Солдаты Паркера несли носилки с тяжелоранеными, остальные поддерживали тех, кто был ранен легко, но передвигался с трудом. Вскоре капрал Фрейзер подал знак остановиться.
– Пришли, сэр. Кажется, вон там он и бросил якорь.
– Где-где? – Фарнхольм устремил взгляд туда, куда капрал указывал стволом пулемета, однако ничего не смог разглядеть: над морем стелилась плотная дымовая завеса… Сзади к нему подошел Паркер и что-то шепнул на ухо.
– Что-что?.. Огонь? Какой сигнал?.. – Фарнхольм с трудом разобрал чуть слышный шепот лейтенанта, резко кивнул и повернулся к сержанту.
– Включите фонарь, сержант. Направьте его вон туда и не выключайте, пока не заметите ответный сигнал или какое-нибудь движение. А вы двое, нет, трое, пошарьте в доках – может, найдете лодку.
Прошло пять минут. Потом еще пять. И еще столько же. Сержант то включал фонарь, то выключал – ответного сигнала со стороны моря не было. Через четверть часа вернулась поисковая группа. Ни с чем. Вскоре дождь превратился в настоящий ливень.
Капрал Фрейзер, прокашлявшись, выпалил скороговоркой:
– Слышите, похоже, что-то сюда движется?
– Что ? Где ? – оживился Фарнхольм.
– Кажется, шлюпка. Вон там – скрипят весла. По-моему, идет к нам.
– Вы уверены? – Фарнхольм вслушивался в монотонный шум ливня и рокот пенящегося моря. – Вам не почудилось, дружище? Проклятие, лично я ни хрена не слышу.
– Точно, говорю. Я слышал скрип весел так же отчетливо, как сейчас ваш голос.
– Капрал прав! – взволнованно воскликнул сержант. – Клянусь богом, ему не почудилось. Теперь и я слышу.
Вскоре уже все они слышали заунывно-неторопливый скрип, – обычно так стонут уключины, когда гребцы размеренно налегают на весла. Тягостное ожидание, вызванное первыми словами Фрейзера, сменилось невыразимым облегчением, – все тут же заговорили в один голос. Воспользовавшись гомоном, лейтенант Паркер спросил у Фарнхольма:
– Что будем делать с ранеными и медсестрами?
– Захотят – возьмем с собой, Паркер. Впрочем, положение далеко не в нашу пользу. Растолкуйте им это в двух словах и предоставьте выбирать самим. И пусть все отойдут подальше от берега, в темноту, и прикусят языки. Чья бы ни была эта шлюпка – хотя, скорее всего, она с «Кэрри Дэнсер», – спугнуть ее не в наших интересах. Как только услышите, что она уткнулась носом в берег, действуйте по обстановке – вам все карты в руки.
Паркер кивнул. Его сильный низкий голос прервал все разговоры:
– Значит, так. Берите носилки и отходите в сторону. И чтобы ни звука. Полная тишина. Капрал Фрейзер?
– Сэр?
– Хотите отправиться с нами – вы и ваши люди? Но имейте в виду: даже если мы и окажемся на корабле, не исключено, что через двенадцать часов все пойдем ко дну. Это должен уяснить себе каждый. Итак, вы с нами?
– Да, сэр.
– А остальные – вы их спросили?
– Никак нет, сэр, – ответил капрал, с нескрываемой обидой.
– Но уверен, что они тоже поплывут, сэр.
– Вот и отлично. За своих людей отвечаете вы. Мисс?
– Я с вами, сэр, – тихо проговорила девушка и как-то странно прикрыла лицо рукой. – Конечно, я поплыву.
– А ваши подруги?
– Мы все решили. – Мисс Драхман кивнула на стоявшую рядом медсестру-малайку. – Лина тоже с нами. А троим остальным, сэр, все равно, как распорядится судьба. Они никак не придут в себя после потрясения, сэр: сегодня разбомбило наш грузовик. По-моему, лучше взять их с собой.
Паркер хотел что-то сказать, но Фарнхольм жестом остановил его, выхватил из рук сержанта фонарь и кинулся в дальний конец дока. Луч фонаря, направленный в сторону моря, выхватил из темноты неясные очертания шлюпки на расстоянии менее ста ярдов от берега. Фарнхольм пристально вглядывался в пелену дождя, пока шлюпка с командой гребцов и стоявшим на корме рулевым, рассекая носом волны в молочно-белой пене, не врезалась в полосу прибоя.
– Эй, на шлюпке! – крикнул Фарнхольм. – Вы откуда, с «Кэрри Дансэр»?
– Да! – перекрыл шум ливня мощный низкий голос. – Кто здесь?
– Фарнхольм, кто же еще. – Генерал услышал, как рулевой отдал приказ гребцам, и те вновь тяжело налегли на весла. – А кто говорит – ван Эффен?
– Да, это я.
– Молодчина! – искренне и с жаром прокричал в ответ Фарнхольм. – Что у вас стряслось?
– В общем, ничего страшного, – сказал голландец на почти безупречном английском с едва уловимым акцентом. – Шлюпка находилась уже в каких-нибудь двадцати футах от берега, и можно было говорить, не повышая голоса. – Наш уважаемый капитан решил вас не дожидаться и велел поднять якорь. Но потом живо одумался – не без нашей помощи, разумеется.
– А… вы уверены, что «Кэрри Дэнсер» не снимется с якоря без вас? Боже правый, ван Эффен, неужели вы не могли отправить на берег кого-нибудь другого? Ведь этому мерзавцу нельзя доверять ни на йоту.
– Знаю. – Твердо удерживая румпель, ван Эффен правил точно на каменное строение дока. – А если они и правда вздумают отчалить – то без капитана. Он здесь, на дне шлюпки, – сидит со связанными руками, к тому же я держу его на мушке.
Фарнхольм всмотрелся туда, куда бил луч фонаря. О том, в каком настроении пребывал капитан Сайрэн, судить было трудно, однако, что в шлюпке был именно он, это не вызывало сомнений.
– Пришлось связать и двух механиков, – продолжал ван Эффен, – так, для подстраховки. Мы оставили их в каюте мисс Плендерлейт. К тому же дверь заперта, и я дал мисс Плендерлейт пистолет: она приглядит за ними. Она ни разу в жизни не стреляла, но говорит, что не прочь попробовать. Эта старушка просто прелесть, Фарнхольм.
– Значит, вы все предусмотрели, – радостно отозвался Фарнхольм. – Но что, если…
– Ладно, хватит! Отойдите-ка лучше в сторону, Фарнхольм.
– Паркер подошел к генералу и направил яркий луч фонаря
вниз, осветив лица людей в шлюпке. – Не будьте дураком! – крикнул он ван Эффену, когда тот направил пистолет в его сторону. – Спрячьте-ка вашу пушку. Какой от нее прок, когда на вас нацелена дюжина винтовок и пулеметов?
Ван Эффен медленно опустил оружие и обдал генерала ледяным взглядом.
– Что ж, неплохая работа, Фарнхольм, – неторопливо выговорил он. – Лихо же вы нас облапошили. Куда уж капитану Сайрэну тягаться с вами! Выходит, вы нас предали.
– Нет, я никого не предавал! – возразил Фарнхольм. – Здесь со мной солдаты – англичане, наши друзья. – Потом, у меня не было выбора. Сейчас я все объясню…
– Заткнитесь! – бесцеремонно прервал его Паркер. – Приберегите объяснения до лучших времен. – Он взглянул вниз – на ван Эффена. – Мы уходим с вами, хотите вы того или нет. У вас же моторная шлюпка. Почему вы шли на веслах?
– Чтобы не поднимать шума. Это же ясно как божий день. Мы народ предусмотрительный. – мрачно прибавил он.
– Запускайте мотор, – велел Паркер.
– Будь я проклят, если хоть пальцем шевельну.
– Да неужели? В таком случае считайте – вы труп, – холодно бросил Паркер и, немного помолчав, прибавил: – Вы же не дурак, ван Эффен. Чего вы добиваетесь своим упрямством?
Ван Эффен долго сверлил его взглядом, потом наконец кивнул. Когда через минуту мотор завелся и ровно заурчал, в шлюпку опустили первого раненого. Еще через полчаса на борт «Кэрри Дэнсер» ступил последний из остававшихся на берегу солдат.
«Кэрри Дэнсер» снялась с якоря около половины третьего утра, 15 февраля 1942 года, прежде чем в город вошли японцы. Ветер и дождь поутихли, а пожары и беспорядочная пальба прекратились вовсе – наступившее безмолвие казалось полным, неестественным и жутким, как сама смерть.
Фарнхольм находился на полуюте – в холодной и сырой кормовой рубке, помогая двум медсестрам и мисс Плендерлейт перевязывать раненых. Вдруг раздался стук в единственную дверь рубки, ведущую в глубокий кокпит. Фарнхольм притушил свет, вышел наружу, осторожно прикрыл за собой дверь, силясь разглядеть стоящего в темноте человека.
– Лейтенант Паркер?
– Так точно. – Паркер странно взмахнул рукой. – Думаю, лучше подняться на корму – там нас никто не услышит.
Они взобрались по железному трапу и направились к кормовым поручням. Перегнувшись через леерное ограждение, Фарнхольм посмотрел на фосфоресцирующую кильватерную струю, тянувшуюся следом за «Кэрри Дэнсер». Ему хотелось курить. Первым молчание нарушил Паркер:
– Должен вам сообщить кое-что интересное, сэр… Впрочем, простите за такое обращение. Капрал разве ничего вам не говорил?
– Нет, ничего. А в чем дело?
– Оказывается, этой ночью на рейде Сингапура стояла не только «Кэрри Дэнсер». Пока мы переправляли на борт первую партию наших людей, в гавань зашла еще какая-то моторная шлюпка – она причалила примерно в четверти мили от нас. В ней были англичане.
– Черт побери, вот те на! – тихонько присвистнул Фарнхольм. – Интересно, кто они? И какого дьявола здесь забыли? Кто-нибудь их видел?
– Капрал Фрейзер и кто-то из моих людей. В шлюпке сидели двое – оба с винтовками. Один из них что-то говорил другому.
По словам Фрейзера, говоривший – шотландец, из Уэстернайлса (Уэстерн айлс – Внешние Гебридские острова, территория Шотландии.). Кому-кому, а Фрейзеру можно верить. Капралу показалось – когда он, забрав последних солдат, возвращался на «Кэрри Дэнсер», один из тех двоих следил за ними. Правда, точно он не уверен.
– Значит, Фрейзер понятия не имеет, откуда они взялись – с какого корабля и куда направлялись?
– Ни малейшего, – уверенно ответил Паркер. – Они словно с Луны свалились.
Генерал и лейтенант обсудили все возможные предположения, после чего Фарнхольм наконец сказал:
– Какой смысл гадать, Паркер. Давайте лучше про это забудем. Тем более, что нам повезло – мы отчалили без лишних проволочек. – Генерал сознательно перевел разговор на другую тему. – На борту все в порядке?
– Вроде да. Сайрэн будет делать все, что ему велят, – это точно. Ведь его жизнь тоже поставлена на карту. Я приставил к нему одного из моих людей. Другой не спускает глаз с рулевого, а третий – с вахтенного механика. Остальные спят на полубаке – видит Бог, сон им нужен сейчас как воздух. Четверо самых надежных улеглись в верхней надстройке.
– Прекрасно, – одобрительно кивнул Фарнхольм. – А где расположились медсестры?
– В соседней каюте, их там трое, они смертельно устали и все еще никак не придут в себя.
– А как с провизией?
– Еда дрянь, зато сколько угодно – дней на восемь, а то и все десять.
– Думаю, лишнего не останется, – мрачно проговорил Фарнхольм. – Да, вот еще что: не могли бы оказать мне одну услугу? Знаете, где находится радиорубка?
– Сразу же за рулевой, да?
– Радист спит там. Кажется, его зовут Уилли… Да, Уилли Лун. Он славный парень, но один Бог знает, каким ветром его занесло на эту старую калошу. Так вот, мне бы не хотелось обращаться к нему лично. Выясните у него, каков радиус действия корабельной рации и тут же скажите мне. Это нужно сделать до рассвета.
– Есть, сэр. – Паркер заколебался, желая, как видно, еще о чем-то спросить генерала, но передумал. – Не люблю откладывать – пойду узнаю прямо сейчас. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, лейтенант.
Фарнхольм еще какое-то время постоял на корме, потом, вздохнув, выпрямился и пошел вниз. В одном из вещмешков, что он оставил на юте, лежало несколько бутылок виски – с их помощью генерал надеялся утвердиться в новой роли.
Любому человеку вряд ли бы понравилось, если бы его разбудили в половине четвертого утра, да еще принялись совать нос в его дела, задавая кучу чисто профессиональных вопросов. Любому – только не Уилли Луну. Радист просто сел на койке, улыбнулся Паркеру и, как ни в чем не бывало, сообщил, что его рация действует в радиусе пятисот миль. И снова улыбнулся. Глядя на приветливое, круглое лицо радиста, лейтенант Паркер ни на секунду не усомнился в правоте Фарнхольма: Уилли Луну, действительно, было не место на этом корабле.
Поблагодарив, Паркер уже собрался уйти. Но вдруг заметил на столе радиста то, что никак нельзя было увидеть на судне, подобном «Кэрри Дэнсер»: круглый глазурованный торт, приготовленный явно не рукой умелого кондитера, зато сплошь утыканный крошечными свечками. Поморгав в недоумении, Паркер перевел взгляд на Уилли Луна.
– А что это такое?
– Праздничный торт – ко дню рождения, – не без гордости заявил Лун, и лицо его вновь расплылось в улыбке. – Жена испекла – ее фотография стоит рядом. Только было это пару месяцев назад. Но все равно здорово, правда?
– Просто прелесть, – осторожно подтвердил Паркер и посмотрел на фотографию. – Как и сама кондитер. – А вы, похоже, счастливчик.
– Верно, – кивнул Лун и радостно заулыбался. – Я действительно счастлив, сэр.
– А день рождения-то когда?
– Сегодня. Вот и торт на столе. Мне уже двадцать четыре.
– Сегодня?! – Паркер покачал головой. – Что ни говори – не самый лучший день для праздника. Что ж, желаю вам удачи и много счастливых дней рождения на будущее.
С этими словами лейтенант перешагнул через штормовой комингс радиорубки и осторожно прикрыл за собой дверь.
Продолжение следует
Алистер Маклин, английский писатель | Перевод И. Алчеева и Н. Непомнящяго| Рисунок Ю. Николаева
Адрес: «Когда мы будем в Спасском…»
Название «Мценск» сразу же вызывает в памяти знаменитую повесть Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Это произведение, в общем-то, и прославило древний город на севере Орловской области: большинство людей вряд ли сможет сказать что-то еще про него. А город действительно древний – на год старше Москвы!
К сожалению, сегодня мало что напоминает о его долгой истории – Мценск находится как раз в тех местах, где шли особенно ожесточенные бои в Великую Отечественную, да и безалаберное отношение к культуре и старине тоже наложило свой отпечаток на облик Мценска.
И все-таки, побывав в нем, можно представить, как выглядели когда-то уездные русские города Средней России. Хотя построенные в 1837 – 1850 годах каменные торговые ряды – атрибут всякого, более или менее значимого русского города – сильно перестроены. Оглядев их, нетрудно оценить былой размах местных купцов: в XVIII – XIX веках Мценск жил торговлей хлебом, который по Зуше сплавляли к Оке. Не случайно главная площадь города, где стоят ряды, раньше так и называлась – Торговой, или Хлебной. Мценский уезд некогда славился своим сельским хозяйством – именно здесь в 1802 году был пущен первый в России свеклосахарный завод, а в 1868 году был изобретен первый в мире зерновой комбайн. Да и само название Мценск некоторые выводят от вятичского слова «мцела», или «мчела», то есть «пчела» – на мценском рынке и сегодня можно купить прекрасный пчелиный мед.
В Никитском (Крестовоздвиженском) храме в южной части центра Мценска в 1826 году стоял гроб с телом Александра I – в то время, когда его перевозили из Таганрога в Петербург. На улице Ленина сохранился построенный 200 лет назад «дом со львами», – его описывает в своих воспоминаниях А.А.Фет. Хотя старожилы еще помнят место, где некогда стоял дом купцов Измайловых, в котором произошла мрачная история, описанная Лесковым в его знаменитой повести, «домом леди Макбет» сегодня обычно называют другой старинный дом, постройки 1782 года, где сегодня разместилось… районное управление милиции. Одну из самых старых церквей Мценска – храм Вознесения, построенный во второй половине XVII века, на горе у моста через Зушу, именуют почему-то «домом боярина». Возможно, из-за того, что его в 1950-е годы так сильно перестроили, что он теперь, действительно, напоминает скорее замок, а не храм. Неподалеку, примерно в километре, на высоком берегу Зуши стоит и Введенская (Петропавловская) церковь, которой четыреста лет. Сооруженная в крепости на границе с Диким Полем, она использовалась не только для богослужения: ее колокола оповещали о приближении врагов-кочевников. Эта церковь живописно смотрится из центра Мценска. Крутой, почти отвесный левый берег Зуши, из желтого известняка, в котором река прорыла свое ложе, – одна из самых характерных и живописных примет города. Такие каменистые обрывы вряд ли где еще встретишь в центральной России.
Если подняться на этот берег, он покажется гигантским валом – параллельно Зуше тянется глубокий овраг, по дну которого бежит ручей. Эта возвышенная и самая красивая часть города называется Соборной горой. Мценск иногда называют «городом на семи холмах», другие пишут, что он окружен «пятью горами». Одна из них, в северной части Мценска, имеет довольно мрачное название – Висельная. Но вид с нее открывается вовсе не мрачный.
«Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты Висельной горы открываю Мценск? В этом зрелище нет ничего особенно пленительного – а мне весело. Это и есть чувство родины», – писал в 1861 году в одном из писем Иван Тургенев.
Именно Тургенев и лежащее в 15 километрах от Мценска его родовое имение Спасское-Лутовиново – главная слава этих мест. Ради этого в основном и приезжают в Мценск экскурсанты и туристы со всей России, да и из-за рубежа. По крайней мере, жители Мценска, признав в вас заезжего гостя, почти наверняка спросят: «Что, к Тургеневу приехали?»
Старинная усадьба, основанная дедом Тургенева Лутовиновым в селе Спасском, «дает прекрасное представление о том, что собой являли родовые „дворянские гнёзда“.
Ставший центром усадьбы, построенный в конце XVIII века, огромный, в форме подковы, двухэтажный дом, выглядит сегодня не так, как в юные годы Тургенева. Уже когда он прибыл в ссылку в Спасское в 1852 году, от дома осталось лишь одно крыло – все остальное уничтожил пожар. Однако, несмотря на еще один пожар, от которого в 1906 году пострадала усадьба, вся обстановка и даже книги тургеневской библиотеки в Спасском подлинные – они были вывезены наследниками писателя после его смерти в Орел, где и сохранились, и затем были перевезены в Спасское, в музей. Остались за комнатами в уадьбе даже их прежние названия – «казино», «комната Захара», «комната Савиной»… А наряду с такими фамильными реликвиями, как лик Спаса старинного письма, редкими портретами предков Тургенева и друзей-современников, можно увидеть, например, удивительный диван, прозванный писателем «самосоном» – стоит на него прилечь, сразу клонит в сон…
Рядом с усадебным домом, в ограде парка, сохранились старые хозяйственные постройки и богадельня, которую Тургенев велел соорудить для престарелых дворовых. У главного входа в усадьбу – небольшая каменная церковь Спаса Преображения, построенная еще Лутовиновыми, а немного поодаль от усадьбы, посреди поляны – каменный фамильный склеп над захоронением деда Тургенева, Ивана Ивановича Лутовинова.
Старинный усадебный парк писатель любил самозабвенно и называл «садом». Прогуливаясь по старым аллеям, когда они пустеют после дневного наплыва экскурсантов, будто попадаешь в литературный мир писателя.
Парк выходит к старому пруду, над которым склонились березы и ивы. Кроме них, в пруду отражаются лишь тишина и покой. С его поверхности, подернутой легкой от неслышимого ветра рябью, то и дело с характерным шумом поднимаются дикие утки.
Справа, у дальнего края пруда – плотина. Деревянный водоскат с противоположной стороны давно уже стоит, а старые доски тускло поблескивают на солнце. Он выходит в овраг, который вместе со своими многочисленными ответвлениями прорезает окружающие и березовые рощи на косогорах.
Неподалеку отсюда холмы пересекает старая дорога. Некоторые считают ее остатком Екатерининского тракта, – широкая, до сих пор гладкая, с земляными валами по обочинам, где, отрастая вновь и вновь от старых корней, по-прежнему зеленеют ракиты.
Чаще любых других мест в произведениях Тургенева упоминается его сад с прудом. «О, мой сад, – писал он в повести „Дневник лишнего человека“, – о заросшие дорожки возле мелкого пруда! О, печальное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая-унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги, – я посылаю вам последнее прости!..» В романе «Новь», по признанию самого автора, он тоже «слегка описал» свою усадьбу.
Но зримее всего любимый парк Тургенева присутствует в повести «Фауст», где он превращается как бы в одно из главных действующих лиц: «Люблю я эти аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле». Недаром в одном из писем писатель заметил: «…Сад красив и обширен, с великолепными липовыми аллеями – если Вы вспомните мою повесть „Фауст“, там все изображено с натуры».
В парке вам обязательно покажут и «тургеневский» дуб – именно про него смертельно больной писатель писал из Франции на родину Я.П.Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я, уже, вероятно, никогда не увижу».
На пруду вам покажут и место, где специально к приезду молодой красавицы – знаменитой актрисы М.Г.Савиной – Тургенев соорудил купальню. До конца жизни Марья Гавриловна хранила воспоминания о «милом Спасском».
Старое кладбище, что рядом с усадьбой, Тургенев изобразил в «Отцах и детях», описывая могилу Базарова. А в романе «Рудин», по свидетельству современников, прообразом места сцены свидания главного героя с Натальей у Авдюхина пруда явились окрестности Ивановского пруда близ имения.
Можно считать, почти все места, расположенные вокруг Спасского, нашли отражение в творчестве Тургенева: неподалеку есть деревня Голоплеки, где живут Овсяниковы, – потомки того самого однодворца Овсяникова, которого Тургенев описал в одноименном рассказе; деревня Протасове, где жил помещик, который подарил своим дочерям землю, а они после этого выгнали его из дома («Степной король Лир»); лес, в котором и сейчас заросший глухим осинником овраг зовется Кобыльим Верхом, («Бирюк»).
Охотничьи путешествия писателя приводили его на просторную равнину Бежина луга. В орловском Полесье, любимых местах охоты Тургенева, память о Хоре и Калиныче и сегодня хранит деревушка Хоревка. Там добрая треть жителей ведет род от Хоря и носит фамилию «Хоревы»; там же – Хорев пруд и Хорев колодец…
Варнавицы, которые появляются в рассказе «Бежин луг», это, вне сомнения, глубокий овраг, что огибает парк с северо-востока: дно его укрыто почти непроходимыми зарослями черемухи и ежевики; а остатки старой плотины, темнеющей в овраге, сплошь застланы буйной порослью хмеля, малины и крапивы…
Как и многие другие старинные усадьбы, парк Спасского окружен легендами о привидениях. Из местных, передаваемых из поколения в поколение преданий, они перешли на страницы тургеневских «Призраков» и «Фауста», о них судачат и мальчишки в «Бежином луге». Варнавицы, старый пруд, овраг Злодеев Верх до сих пор имеют недобрую славу – даже сегодня от местных ребятишек можно услышать рассказы о привидениях, появляющихся в дальних уголках парка. Говорят, Ги де Мопассан, хорошо знавший Тургенева, написал один из своих рассказов – «Ужас» – под впечатлением рассказов Тургенева о привидениях в Спасском…
В Спасское можно приехать и просто для того, чтобы полюбоваться здешней природой. Здесь леса сходятся со степью, образуя холмы, рассеченные глубокими оврагами, зовущимися «верхами», белеют березовые перелески на пологих склонах, где летом полно белых грибов и земляники, уходят в даль бескрайние поля и луга, чередующиеся с задумчивыми осинниками и зарослями орешника, щедрого осенью на урожай. Осенью же Спасское наполняет аромат яблок – все село в садах. Плоды краснеют и в старинном саду у усадьбы, где некоторым деревьям под сто лет, а подобных сортов яблок сегодня в других местах уже и не сыщешь…
Спасское хорошо во все времена года. Но тем, кому особенно интересен Тургенев, кто хочет окунуться в мир его произведений, стоит все же приехать в усадьбу в последнее воскресенье июня, когда там проводится праздник, длящийся целые сутки, – оживают сцены из сельской жизни времен Тургенева, обретают плоть его персонажи, причем именно там, где поселил их писатель. Начинается празднество литературным представлением в музее, выплескиваясь затем на просторы Бежина Луга.
Любителям русского фольклора стоит послушать Спасский хор, традиции которого восходят к тургеневским временам, – он участвует в фольклорных праздниках и дает концерты, но желающие послушать народные песни могут договориться с коллективом и лично – «незапланированный» концерт вполне можно организовать.
Попасть из Москвы в Мценск несложно – там останавливаются многие поезда южного направления (билет в купейный вагон стоит 40 тысяч рублей). В городе есть гостиница, где почти всегда имеются свободные места. А в Спасское-Лутовиново из Мценска ходит автобус – каждые полтора часа. Добраться до Спасского можно и от небольшой станции Бастыево, где несколько раз в день проходят электрички из Орла, Тулы и Скуратова.
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» открыт круглый год ежедневно. Входной билет в усадьбу (экспозиции в главном доме, флигеле, парк) стоит 5 тысяч (для учащихся 2 тысячи) рублей, и эту цену музей твердо решил в обозримом будущем не поднимать. Если ехать в Спасское группой, то лучше связаться с музеем заранее – тогда смогут помочь с гостиницей, предложат для посещения самое удобное время. При музее действует летнее кафе, в скором времени появится и ресторан. Планирует музей открыть (возможно, уже этим летом) в Спасском и свою небольшую гостиницу – комфорт будет, конечно, сельский, но зато недорого, чисто, и, главное, в двух минутах от усадьбы Тургенева, его любимого парка и пруда, где по ночам «появляются привидения». Желающие приехать в Спасское, вполне могут обойтись без услуг посредников. Обращайтесь прямо в музей.
Никита Кривцов | Фото Виктора Грицюка
Адрес: Рай для хитч-хайкеров
Когда мои друзья решили поехать в Турцию, они долго изучали рекламу туристских компаний, пока не убедились, что предлагаемые маршруты сводятся, как правило, к двум вариантам: неделя-другая на пляже в Анталье и трехдневный шоп-тур в Стамбул. Челночный «бизнес-отдых» их не устраивал, и очень скоро они пришли к выводу, что посмотреть как следует чужую страну можно только самостоятельно, превратившись на время в «хитч-хайкеров» как на английский манер во всем мире принято именовать автостопщиков.
Попасть в Турцию сейчас легче, чем во многие страны «ближнего зарубежья». Месячная виза свободно выдается в аэропорту или прямо на границе, стоит она 10 долларов. Самый дешевый способ добраться до этой границы таков: поездом до Кишинева, оттуда за 3 доллара до румынского города Яссы; затем до первой болгарской станции (10 долларов); оттуда до города Свиленград (несколько пересадок плюс такая же сумма); наконец 5 км пешком до Турции и оттуда – автостопом в Стамбул. Итого, от Москвы 4 дня и 50 долларов (не забудьте купить на автовокзале в Кишиневе бумажку за 10 долларов, называющуюся «туристский ваучер», – она дает право безвизового въезда в Румынию и Болгарию).
Турция – настоящий автостопный рай. Я несколько раз попадал в ситуацию, когда шоферы чуть ли не дрались за право подвезти меня. Плату потребовал только один алкаш-тракторист на окраине Антальи, и то чисто символическую. По-немецки говорят почти все, по-английски – многие. Вот только девушкам не советую путешествовать автостопом в брюках или мини-юбках. Голову лучше повязать платочком – тогда вы сможете избежать излишнего внимания со стороны мужской части турецкого населения.
Главная достопримечательность Стамбула – Айя-София, знаменитый византийский храм VI века, особенно эффектный внутри. Согласно «Повести временных лет», он произвел такое впечатление на послов князя Владимира, что они рекомендовали князю ввести на Руси православие. Перила на втором этаже изрезаны ножом по-старонорвежски: это «похулиганили» воины из варяжской дружины базилевса Юстиниана. Завоеватели-турки по достоинству оценили храм. Сначала они пристроили к нему минареты, и теперь даже крошечные мечети в горных деревнях Турции похожи на миниатюрную копию Софии. Некоторые полагают, что в конце концов ученики превзошли учителей: напротив храма была воздвигнута Синяя мечеть – еще более совершенное чудо архитектуры. Вообще, в Стамбуле много великолепных мечетей, они делают город одним из самых красивых и оригинальных в Европе, придавая силуэту Царьграда такое же своеобразие, как «сталинские» высотки силуэту Москвы. Рядом с Софией над Босфором и бухтой Золотой Рог стоит султанский дворец с огромным лабиринтом гарема и столь же бесконечным музеем, в котором хранятся все сокровища Османской империи – вплоть до подлинных писем пророка Мухаммеда.
Но вот вы переезжаете (или переходите) по мосту в азиатскую часть города и пускаетесь в путешествие по стране. Турция – это узкие, теплые, ограниченные горами побережья и прохладное, высокое, гористое степное плато во внутренних районах. Лучшее время для поездки – май или ноябрь, когда спадает волна туристов и снижаются цены, а в Средиземном море еще можно купаться.
В Турции, пожалуй, лучшее в Европе междугородное автобусное сообщение. Любой маршрут обслуживают несколько компаний, и они яростно конкурируют между собой. Стоимость проезда в автобусе невысока, даже билет на прямой рейс в Мекку довольно дешев.
Самое интересное, что можно увидеть в «нетуристской» части Турции – маленькая область у города Невшехир в центре страны, называющаяся Каппаддокия. Эрозия почвы создала в лабиринте каньонов своеобразный ландшафт: на десятки километров тянется «лес», состоящий из 50-метровых разноцветных каменных столбов, шпилей, грибов и башен. В этих «сморчках» вырублены многоэтажные пещеры, так что издали они кажутся как бы червивыми. В пещерах – жилые дома, церкви со средневековыми мозаиками, мечети, отели и торговые лавочки. Более удивительных деревень, чем Гереме или Учхисар (целиком расположенный в огромной скале, похожей на пористую морскую губку), пожалуй, нет нигде в мире. На юге Каппаддокии можно увидеть целые подземные города, построенные греками-христианами после мусульманского нашествия. Некоторые из них уходят вглубь земли на 40-50 этажей.
Южный берег Турции – одно из немногих мест Средиземноморья, которое может поспорить по красоте с Крымом. Анталья вряд ли заслуживает большего, чем двухчасовая экскурсия. Но восточнее и западнее этого симпатичного города к морю кое-где вплотную подходят высокие отроги хребта Тавр с лесами из пихт и ливанских кедров на вершинах. Эти горы прорезаны глубокими ущельями, по которым спускаются головокружительные серпантины. Дальше к западу, до самого Стамбула, побережье сильно изрезано, и с гор видны бесчисленные острова (в основном греческие). В бухтах этого побережья сохранилось почти столько же греческих и римских памятников, сколько в самой Греции или Италии. Особенно интересны Тер-мессос и Фетие на южном берегу, а также Пергам и Троя на западном. Эти места нетрудно разыскать на подробной карте Турции. Кстати, лучшая карта страны называется «Автодорожная карта Турции» (Turkye Каrayollari Haritasi) – в бело-красной обложке, и продается она за два доллара у входа на стамбульский вокзал.
На востоке Турции тоже много интересного. Можно увидеть гигантские римские статуи, высеченные на склоне вулкана Немрут; посетить древнюю армянскую столицу на островке соленого озера Ван; совершить восхождение на вулкан Арарат (по-турецки Агридаг), где якобы покоятся остатки Ноева Ковчега, или, что не менее опасно, совершить вылазку в Курдистан – дикие горы на юго-востоке. Хотя самым острым ощущением будет возвращение домой через Батуми или Иран и Азербайджан.
Владимир Динец


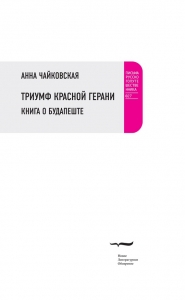
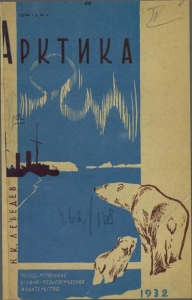

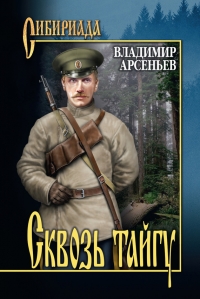
Комментарии к книге «Вокруг Света 1995 № 07 (2658)», Журнал «Вокруг Света»
Всего 0 комментариев