О странах и народах: Как в чаще символов, мы бродим в этом храме…
«Природа – некий храм, где от живых колонн обрывки смутных фраз исходят временами. Как в чаще символов, мы бродим в этом храме». Написанные французским поэтом Бодлером совсем по другому поводу, эти строки напоминают мне Китай. Сцены, эпизоды, рассказы, штрихи – сколько их было за долгие шесть корреспондентских лет. И многие окрашены символами.
Что это – наваждение? Скорее жизнь, порой неосознанная, генетически заложенная. Порой к символам привыкаешь, перестаешь замечать, иногда просто не видишь (как известно, смотреть и видеть – вещи разные и далеко не всегда совпадают). А бывало и такое: в день традиционного китайского Нового Года, на ярмарке в Храме земли шаловливая девушка Юйлань разыграла меня, направив совсем в другую сторону. «Она и должна была так поступить, – сказал ее дедушка, – ведь родилась она в год Обезьяны и потому шаловлива…»
Этюд первый.
Обрывки смутных фраз исходят временами…
Все началось задолго до Китая. Мне, студенту четвертого курса, изучавшему китайский язык, впервые доверили быть переводчиком команды китайских легкоатлетов. Первая встреча. Вхожу в автобус. Идет дождь. Он и подсказывает первую фразу: «Ся юй – Дождь идет», – говорю по-китайски. Вижу доброжелательных людей, которые внимательно смотрят на меня. Ничто не предвещает неожиданности. И вдруг – смех.
Учителя уже успели внушить мне: в отличие от европейских языков, в которых интонация имеет чисто эмоциональное значение, придавая слову или фразе характер вопроса, удивления, утверждения, в китайском Ее Величество Интонация – неотъемлемый элемент произносимого слова, определяющий его смысл. Их четыре: восходящая, нисходящая, ровная и нисходяще-восходящая. Так слово «май», произнесенное в нисходящем тоне, значит «продавать», а если интонация нисходяще-восходящая «покупать». Значит, провалился. Даже «дождь» не могу сказать правильно. Но, когда автобус тронулся, сидевший со мной молодой парень сказал: «Успокойтесь, смех не имеет к Вам никакого отношения, все дело в слове „дождь“. Оказывается, кто-то из китайцев сказал соседу: „Потрогай свою спину“, после чего и раздался смех. Ведь когда идет дождь, его капли задерживаются на панцире черепахи, а черепаха – символ рогоносца.
Когда потом в Китае я ощущал смысл символов, то нередко вспоминал эту сцену. Первые же шаги по Пекину напоминали прогулку в чаще символов.
Лю по профессии каллиграф – занятие, издавна почитаемое в этой стране. Тренируя пальцы, он машинально перекатывал в правой руке два нефритовых шарика. Я спросил у него дорогу на почту и в ответ услышал нечто, похожее на притчу. «Идите все время вперед на восток, вдоль Северной улицы Рабочего стадиона до Северной улицы восточного третьего кольца. На перекрестке увидите плакат – дорожное заклинание: „Сначала помедли, потом осмотрись и только тогда двигайся“. Сверните на север, перейдите мост через реку Лянмахэ, на очередном перекрестке будет надпись: „Южная улица Нового источника“. Идите на запад до отеля „Хуаду“, дальше прямая дорога на север, потом немного на северо-восток – там и будет почта». Лю был коренным жителем Пекина, города, спланированного по сторонам света. Старый дом, где он родился, назывался Северным флигелем, окна выходили на юг, на западе была школа, а на востоке по вечерам раздавался ритмичный перезвон медных чашечек – торговец сливовым отваром приглашал утолить жажду.
Главный китайский символ я увидел в первый же национальный праздник. На площади Тяньаньмэнь воздвигли тридцатиметровую композицию из желтых хризантем: два дракона играли лепестком цветка – то был символ удачи, богатства, энергии высшей земной силы. Как возник в сознании народа образ дракона? Одни ученые говорят, что он ассоциируется со змеей, крокодилом, ящерицей. Другие утверждают, что это генетическая память о вымерших динозаврах. А вдруг это образ какого-то созвездия, торнадо, молнии, а то и радуги? Так или иначе, дракон – существо особое в народной фантазии и традиционной культуре Китая.
Впрочем, этот вечный символ возникает на главной площади Китая изредка. Есть символы, ставшие постоянными. Когда первого октября 1949 года Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики, на площади появился портрет Сунь Ятсена, вождя буржуазной революции 1911 года, свергнувшей императорскую династию. И в наши дни по большим праздникам портрет Сунь Ятсена воздвигают в центре площади, на одной оси с Памятником народным героям, усыпальницей Мао и его портретом, что висит постоянно над трибуной Тяньаньмэнь. Направление по оси – традиция Пекина, так строили здесь главные архитектурные ансамбли. В течение нескольких десятилетий по большим праздникам на площади воздвигались конструкции: портреты Маркса и Энгельса – на восток от оси, Ленина и Сталина – на запад от нее. Но вот 1 мая 1989 года впервые этих портретов здесь не оказалось. Смену декораций официально объяснили так: в дни национальных торжеств в других странах вывешивают портреты лишь своих героев, почему бы Китаю не заимствовать этот опыт?
Особенно ярко проявляется символика на сцене пекинской оперы. Идет спектакль. Плавно движется молодая женщина, волнообразно колышется веер в ее руке, символизируя полет гусей. Описав полукруг, она застыла на мгновение, и уже льются звуки арии: «Услышав мой голос, гуси спускаются на землю». Взмахнув рукавом, женщина медленно опускает веер и приседает: гуси опускаются на землю. Так играл героиню старинной классической пьесы «Опьянение Ян Гуйфэй» великий актер Мэй Ланьфан. Почему мужчина исполнял женскую роль? Так предписывала традиция, от которой, правда, постепенно стали отходить.
Жанру пекинской оперы присущи условные, стилизованные движения. Бродячие труппы в старом Китае не могли возить с собой громоздких декораций, а между тем пьесы рассказывали о дворцах императоров, небесных чертогах, переходах через горные хребты. Как объяснить это зрителю? Требовалась фантазия и зрителей, и актеров. Вот герой азартно играет хлыстом – это всадник вольтижирует на коне. Жестом актер зажигает и гасит несуществующую свечу. Жестом объясняет зрителю, что герой поднимается в горы. Другая символика – цветовая. Стиль и цвет костюмов, а также грима указывают на характер персонажа. Черное лицо – неподкупный и честный человек. Белое – хитрый и коварный. Резкому рисунку мужского грима противостоят мягкие женские линии.
Впрочем, символика проникла во все сферы жизни, даже в экономику и политику. Как-то отправился я к знакомому журналисту из пекинской экономической газеты «Цзинцзи жибао». «В чем главная трудность китайской реформы?» – спросил его. «Мы бросили вызов старой системе, – размышлял журналист, – а новую еще не успели создать, дело это оказалось куда труднее, чем думали». Он долго говорил, приводил аргументы, но потом вдруг словно бросил козырную карту: начертил на листе бумаги 16 иероглифов – магическую цепочку экономического развития, смысл которой выглядит так. Фаза первая: жесткий административный контроль – он нестерпим и ведет к застою. Фаза вторая: застой рождает импульс к освобождению от докучных пут. Фаза третья: это освобождение ведет к хаосу. Фаза четвертая: хаос приводит к необходимости нового жесткого контроля. Долгий мучительный путь. Развитие идет по спирали. Постепенно приходит осознание того, что не может быть возврата к старой командной системе, ведь она ведет к омертвлению тканей. Но в то же время боятся, что свободная игра социальных интересов взорвет общество. И все это графически выражено шестнадцатью иероглифами.
Иногда говорят: в Китае на каждого реформатора найдется свой консерватор, и в качестве противовеса архитектору китайских реформ Дэн Сяопину, говорившему: «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей», называют другого ветерана Чэнь Юня. И конечно, вспоминают его метафору: «Пусть птичка летает, но все-таки в клетке». Птичка – это экономика, клетка – государственный контроль. Кажется, что между высказываниями ветеранов – дистанция огромного размера. Однако… Чэнь Юнь говорил о возможности увеличения размеров клетки. Да и Дэн Сяопин вряд ли намерен выпустить птицу из клетки. Похоже, старинная мудрость объясняет сомнения китайских лидеров: «Страшно держать тигра за хвост, еще страшнее – отпустить».
«Жэнь до – ди шао» – «Людей много – земли мало». Эту сентенцию произносят в Китае чаще других. В ней есть нечто магическое, хотя она реальна до головокружения. Однажды я услышал такое суждение: «Решать это уравнение завещала нам История, но ведь его в принципе невозможно решить: людей становится больше, а земли больше не сделаешь. Заколдованный круг».
В ночной круговерти на улице Пяти лошадей в городе Вэньчжоу я физически ощутил правду этой сентенции.
Потоки текут навстречу друг другу. Велорикши, велосипеды, мопеды, автомашины, тачки… Ни сантиметра свободного пространства. Пешеходы тоже двигаются в общей вязкой массе. Тротуары не для них. Вечером там ставят столики, раскладушки, стульчики. Играют в карты, слушают радио, читают, пьют пиво, едят лапшу. Бабушка уютно спит в бамбуковой коляске в сантиметре от потока, отвернувшись от него. Парень залез в таз и самозабвенно принимает ванну.
Осиплые басовые клаксоны велорикш, тугие баритоны «джипов», высокие голоса польских «фиатов»… Когда на мгновение эта разноголосица смолкает, слышится ритмичный перестук деревянных колотушек мороженщиц. Модница в ослепительной юбке бросила вызов встречному потоку, направив на него свой белый мотороллер. Это никого не смутило. Каждый по-своему заявляет свое право на пространство. Здесь живут по законам, завещанным предками: «Шум – это общество, общество – безопасность, а теснота – наш образ жизни». Знакомый продавец черепашьего супа помогает разъехаться двум велорикшам, застрявшим у его харчевни. Заметив мое удивление, он развел руками и произнес эту магическую фразу: «Жэнь доди шао».
Да, нелегко решить это уравнение, слишком много неизвестных – экологических, демографических, финансовых, психологических. Но обратите внимание: слово «кризис» в китайском языке многогранно. Оно состоит из двух иероглифов. Первый значит «опасность», второй – «шанс».
В основе китайского мышления лежит не слово, а образ, идеограмма, иероглиф, породивший иероглифический тип мышления: каждый знак сам по себе есть целое. Впрочем, это особая тема. Процитирую лишь древний комментарий к загадочной гадательной «Книге перемен». «Слово не до конца выражает мысль. Но если так, как же узнать мысли совершенномудрых? Учитель ответил: „Совершенномудрые создали образы, чтобы в них до конца выразить мысли. Они установили триграммы, чтобы в них до конца отразить истинное и ложное. Они добавили афоризмы, чтобы до конца исчерпать слова“.
Размышляю о китайских символах, а сам думаю, как все-таки важно найти точное слово. Когда термин «перестройка» еще был у нас в чести и вызывал уважение, заглянул в Словарь Даля. Резануло: прихотливые ломки да перестройки хоть кого разорят. Все-таки было что-то несостоявшееся, не меткое в этом слове. Иное дело «гайгэ» – реформа в Китае. Это понятие оказалось куда более органичным. Оно состоялось как символ, собравший вокруг себя общество. И до сих пор священно.
Этюд второй.
Жизнь течет, как эти воды…
«Беседовать с потомком Конфуция в храме Совершенномудрого – это ли не радость» – так церемонно приветствовал я 67-летнего Кун Фаньина, потомка великого мудреца, жившего более двух с половиной тысяч лет назад и, как считают, наряду с Сократом, Буддой и Христом оказавшего самое глубокое воздействие на развитие человечества.
Мы встретились с Кун Фаньином в центре города Цюйфу, у массивных каменных ворот с загнутыми вверх карнизами, украшенными фигурками драконов. «Врата мудреца, соответствовавшего времени», – гласила надпись. Мне предстояло прикоснуться к истокам древней традиции, пройти по чаще символов, и лучшего провожатого, чем Кун Фаньин, трудно было придумать. Он относится к 74-му поколению. Правда, он не прямой наследник Конфуция. Ведь в этой фамилии 60 ветвей. Прямой наследник (78-е поколение) Кун Дэчэн живет на Тайване, его младшая сестра Кун Дэмао – в Пекине. Но фамилия Кун обязывает, и вот уже несколько десятилетий мой провожатый собирает реликвии, связанные с учителем Куном (Конфуций – латинизированная форма китайского имени Кунцзы, что и значит учитель Кун).
Кун Фаньин возглавляет различные общества по изучению наследия Конфуция, автор многих книг. Когда началась «культурная революция» (1966-1976 гг.) и банды хунвэйбинов громили то, что связано с памятью великого предка, он был из тех, кто прятал нефритовые и бронзовые реликвии. Вспоминает и такой случай. Чтобы защитить от хунвэйбинов двух каменных львов перед родовой усадьбой Конфуция, пошли на хитрость: соорудили вокруг них деревянные колонны, покрасили их красной краской и начертали изречения Мао Цзэдуна. Никто не посмел прикоснуться ко львам.
Сама логика политической жизни того времени неизбежно влекла власти к конфронтации с Учителем. Ведь он был утесом, о который разбивались их попытки заставить отрешиться от лучших черт национального характера – стремления к знаниям, почтительности к родителям, уважения к старшим, неприятия доносов.
Теперь интерес к Учителю возрождается, и это радует Куна. Огорчает, правда, что в школах по-прежнему его наследие изучают мало – всего несколько абзацев в учебниках. Незнание рождает предрассудки. Многие, например, убеждены, что Конфуций надменно относился к женщинам, но виноваты в этом недостойные интерпретаторы его учения. Немало еще предстоит сделать, чтобы отделить истинного Конфуция от того, каким он предстает в изображении недобросовестных комментаторов.
Так, например, когда Учитель говорил: «Государь должен быть государем, чиновник – чиновником, отец – отцом, а сын – сыном», то имел в виду не столько социальное неравенство, сколько то, что каждый обязан делать свое дело согласно положению в обществе. А оно должно соответствовать нравственным и интеллектуальным возможностям человека.
… Храм Конфуция. Анфилады залов. Павильончики, беседки, миниатюрные ворота, лестницы. Курительницы с благовониями. Стелы с памятными надписями. Здесь Конфуций напоминает о себе едва уловимым ароматом благородных кипарисов, полустертыми письменами, сумраком прохладных залов. Все это полутона, недомолвки.
Но вот перед дворцом Великого Свершения вижу беседку с иероглифами: «Абрикосовый алтарь». По преданию, именно так называлось место, где Конфуций беседовал с учениками. Говорят, то была первая частная школа в истории Китая. И веришь, что именно здесь, в тени абрикосового дерева, Учитель беседовал с учениками: «Вы думаете, что я что-то скрываю от вас. Нет, я ничего не прячу. Но говорю лишь то, что вам самим ведомо».
Что это? Обнесенный каменной оградой кипарис. Рядом каменная плита, на ней надпись: «Кипарис, собственноручно посаженный учителем Куном». Простим это преувеличение. Ведь в конце концов здесь действительно когда-то, как свидетельствуют хроники, росли три кипариса, посаженных Конфуцием. Два дерева уничтожил пожар спустя пять столетий после его кончины. Третье умерло естественной смертью, и на его месте тысячу лет назад посадили вот этот кипарис. В Китае, кстати, многие древние деревья зарегистрированы как памятники старины, охраняемые государством.
В зале дворца Великого Свершения – собрание выгравированных на каменных плитах сцен из жизни Конфуция. Они сделаны в живой, пожалуй, даже фамильярной манере. Но не ищите в этом насмешку. «Учитель десяти тысяч поколений», как называют Конфуция, настолько глубоко врос в быт и душу потомков, что такая манера скорее свидетельство доверия к нему.
Между прочим, где-то здесь, в храме, ходят или сидят в канцеляриях четыре дочери моего спутника. Они – экскурсоводы и научные работники. А вот сына у него нет. И многочисленные внуки не могут носить фамилию Учителя. Столь досточтимая фамилия может передаваться только, по мужской линии.
«За этой стеной храма, – говорит Кун Фаньин и показывает на восток, – усадьба потомков Конфуция». Этот уникальный архитектурный комплекс хранит непрерывность семейной традиции Конфуция на протяжении 2 500 лет. Известно, что на закате жизни Конфуций пережил трагедию – умер единственный сын, утешением стал внук, который и продолжил род. Кунов. Существует полная родословная семейства. Каждые тридцать лет ее приводят в порядок. Кстати, после смерти Конфуция, не имевшего при жизни никаких высоких титулов, правители стали даровать его потомкам высокие титулы в знак уважения к Совершенномудрому. А поскольку по китайской традиции первородства эти титулы передаются по наследству старшему сыну, появилось много завистников и потенциальных узурпаторов.
В X веке случилась трагическая история, которая чуть было не нарушила чистоту традиции. Некто по фамилии Лю работал в усадьбе. В ту пору все, кто служил здесь, имели право сменить свою фамилию на Кун.
Так Лю Мо стал Кун Мо. Воспользовавшись смутой, он убил Кун Гуанси, прямого наследника Конфуция в 42-м поколении. Похитил официальную семейную печать и стал князем. Но у убитого был 9-месячный наследник. Узурпатор решил с ним расправиться. Кормилица почувствовала опасность и, когда Кун Мо пришел в детскую, отдала ему вместо наследника своего сына того же возраста, которого Кун Мо убил.
Наследник оказался усердным и талантливым и, когда ему исполнилось 19 лет, поехал в столицу сдавать имперские экзамены на должность чиновника. Успешно сдав их, направил императору челобитную с объяснением случившейся трагедии. Расследование подтвердило факты, и разгневанный император повелел казнить узурпатора. Титул князя вернулся в семью Кун. А семейство кормилицы, пожертвовавшей своим сыном ради спасения потомка Учителя, принимали в доме как самых высоких гостей. До сих пор сохранился небольшой лесок, посаженный в честь благодетельницы.
Удивительный все-таки город Цюйфу. Расположенный на востоке Китая, среди бескрайней равнины, с цепочкой холмов на горизонте, он на первый взгляд не отличается от других провинциальных китайских городов. Но есть в нем своя мелодия. Из 600 тысяч жителей каждый пятый носит фамилию Кун. Далеко не все из них потомки Конфуция, но жители убеждены, что особая мягкость, вежливость, отзывчивость людей (на улицах не услышишь брани) связаны с тем, что в этих краях родился Совершенномудрый. Здесь кладбище рода Конфуция, самое большое родовое кладбище в Китае. Во дворе усадьбы колодец, из которого брал воду Учитель… А храм, воздвигнутый в его честь, по площади уступает лишь императорскому дворцу в Пекине.
В храме древность органично вплетается в современную суету. Но суета эта какая-то расслабленная, неозабоченная. Вдоль стены тянется рынок: там продают сувениры, кассеты с современной музыкой (правда, она звучит несколько приглушенно), в печках пекут батат, на подводах – сладкая красно-белая редька, нарезанная в виде лотоса. Здесь никто не хватает за руку, наверное, чувствуют соседство храма.
А в самом храме крестьяне с сумками и чемоданами возжигают свечи в честь Учителя (прежде простолюдинам это не разрешалось). Старушки охранницы в тишине павильона пьют жасминовый чай. Вокруг все атрибуты быта – термосы, чашки, полотенца, тазы, рукомойники. Почти все служительницы вяжут. Какое-то наваждение это вязание. Как будто никакого почтения к святому месту.
Но вспомним: Учитель не чурался повседневных дел. В молодости, получив место смотрителя амбаров, вникал во все мелочи, следил, чтобы доброкачественными были товары, расспрашивал людей, знающих толк в хозяйстве, интересовался у крестьян, как улучшить урожай. Конфуция интересовали не абстрактные истины, а поведение людей в конкретных обстоятельствах. Он понял, что всякое дело, даже незначительное, повод для внутреннего самоусовершенствования.
Он завещал систему этических норм – честность, бережливость, верность долгу, почтение к старым, милосердие, склонность к компромиссу. Эти заветы и сегодня живы.
Истинный правитель, считал Конфуций – не тот, кто обременен административными хлопотами, а тот, кто правит, не управляя, потому что услышал в сердце веление небес. Воля правителя должна слиться с неосознанной стихией народного быта. И в идеале простые люди могут даже забыть о существовании государства. Но Конфуций именно потому и стал отцом китайской традиции (никто другой не сыграл такую роль в формировании национального характера, мировоззрения и культуры), что каждой черточкой своего поведения подчеркивал: в мире должны быть порядок и гармония.
Разве сегодня не звучат злободневно его мысли: государство, где царит свой Путь, можно назвать хорошо управляемым, плохо управляемое – это то, которое сошло со своего пути? А в лишенном всякого управления царит хаос.
Свой путь Конфуций разделил на шесть этапов: «В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. В тридцать обрел самостоятельность. В сорок освободился от сомнений. В пятьдесят познал волю неба. В шестьдесят научился отличать правду от неправды. В семьдесят стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал этикета».
Еще в детстве любимой его игрой была игра в обряд жертвоприношения предкам. Дощечки на игрушечном алтаре служили поминальными табличками. Черепки – жертвенными сосудами. Вместо вина – вода, вместо мяса – глина. Остальное как у взрослых.
В основе китайской религии лежал культ предков, что соединял в себе человеческое и божественное начало. В храмах устраивали не только жертвоприношения, но и свадьбы, и иные торжества. И вот в пору раздробленности, раздоров и падения нравов именно в ритуале увидел Конфуций возможность возрождения старинного благочестия. Послушаем его рассуждения: «Почтительность без ритуала приводит к суетливости. Осторожность без ритуала – к боязливости. Смелость без ритуала – к смутам. Прямота без ритуала – к грубости». Живущий по конфуцианскому ритуалу внешне словно умаляет себя, уступает другим, но при этом сохраняет внутреннее достоинство.
Сегодня в храме можно увидеть обряд вознесения жертвы Учителю. На каменных парапетах люди в бордовых халатах оживленно беседуют, кокетничают с девицами, читают, играют в шахматы. Но вот призывно зазвучал барабан. И они мгновенно становятся чиновниками и воинами, участниками церемонии. Начинаются танцы, которые видел еще сам Конфуций. Звуки серебряных колокольчиков сменяются веселыми голосами флейт, потом снова напряженно звучат барабаны. Когда стихает последний аккорд, зрители кидаются на мраморную платформу, чтобы потрогать старинные инструменты.
В окрестностях Цюйфу, у подножия глинистого холма, – грот. Рядом с ним – стела с надписью: «Пещера Наставника». Имя не указано. Каждый знает – это Конфуций. Он же Учитель, Совершенномудрый. По преданию, именно в этом гроте на каменной плите 22 сентября 551 года до нашей эры в день осеннего равноденствия и появился на свет мальчик, которого назвали Цю, что значит Холм. По старинному обычаю, ему сразу дали и прозвище Чжун Ни, что значит «Второй, появившийся на глиноземе» (первым был его брат). Темечко на голове мальчика было окружено бугорками, потому и назвали его Холмом.
У старого воина Шулян Хэ из рода Кунов было девять дочерей. Соседи злорадствовали: в подземном царстве мертвых обречен ты на голод и жажду, ведь только потомкам-мужчинам дозволено подносить душам усопших жертвенное мясо и вино. Мальчик все-таки родился, но оказался хромым. И вот 70-летний старец идет на отчаянный шаг – женится на 17-летней, сопровождает ее на моление духу Глиняного холма, просит послать здорового сына.
Однажды жена, гласит легенда, увидела во сне волшебного зверя Единорога. Издревле это считалось предвестием прихода в мир великого мудреца. Легенда утверждает, что, когда родился Конфуций, окрестности огласила дивная музыка, птицы небесные обмахивали крылами новорожденного, чтобы тот не страдал от жары. А вода в колодце стала бить фонтаном, чтобы мать напоила младенца.
Об этой легенде поведал мне Ван Тунси, смотритель этого священного места, крестьянин из соседней деревушки. Он убежден, что Китай пропадет без памяти о Конфуции. Не бывать тогда ни стабильности государства, ни процветанию граждан. Совершенномудрый нужен китайцам как пища и одежда. «Какое ваше самое любимое изречение Конфуция?» –спрашиваю у Вана. Он долго смотрит в сторону реки и произносит: «Жизнь течет, как эти воды, всякий день и всякую ночь».
Этюд третий.
Что в имени тебе моем?..
Все началось с того, что я отправился заказывать визитные карточки. На улице Четвертого мая, напротив Галереи изящных искусств, стоял застекленный павильон с выразительными иероглифами на фасаде «Минпянь» – «Дощечка с именем». В мастерской было неожиданно людно, кто-то пришел за заказом и проверял точность набранного текста, кто-то выбирал образец. Человек в голубом почувствовал во мне новичка и обратил мое внимание на карточки, в которых заказчики решили отказаться от наборных шрифтов и выразить себя в каллиграфии. «Почерк – картина души, – просвещал меня новый знакомый. – Эти стремительные иероглифы, словно рвущие пространство, говорят об активной натуре. А этот человек добродушный – видите, какие мягкие линии». Фамилия моего собеседника была Чжан. Он сообщил, что на свете сто миллионов Чжанов – каждый десятый китаец. И, как ему кажется, эта фамилия самая распространенная не только в Китае, но и в мире. «Народная мудрость гласит – какая же деревня без Чжана». Стоявший рядом юноша улыбнулся: «Вы не закончили мысль. Нет Вана, нет и деревни». И представился: «Моя фамилия Ван».
Мгновенно образовалась группа людей – таков пекинский ритуал, – каждый хотел внести свою лепту в разговор.
Вспомнили, кстати, что четыре самых распространенных фамилии – Чжан, Ван, Ли, Чжао, взятые вместе, значат – «простой народ». Зашла речь о «Байцзясин» – «Книге ста фамилий». Впрочем, эта книга, вышедшая в свет тысячу лет назад, содержи!' не сто, а 484 фамилии. В старину это был букварь, по которому учились поколения людей.
Я обнаружил любопытную статистику: если взять десять распространенных фамилий, то четверо из десяти китайцев обязательно найдут в этом перечне свою фамилию; если этот перечень расширить до 45 фамилий, то семеро из десяти найдут себя. Так что на все остальные четыреста с небольшим фамилий приходится 30 процентов населения. Встречаются, конечно, совсем редкие фамилии, не упомянутые в «Байцзясин», но это уже из области неожиданного. К тому же некоторые фамилии древнего букваря крайне редки. Одним словом, принято считать, что в Китае 400 – 500 распространенных фамилий. Согласитесь, не много на 1,2 миллиарда. Откуда они пошли?
Согласно легенде, все китайские фамилии произошли якобы от тех, что дал мифический Хуанди – Желтый император своим четырнадцати сыновьям. Родословные всех китайцев уходят во тьму веков, и считается, чем глубже корни, тем лучше человек сохранил свою индивидуальность, свое китайское лицо. У подножия усыпальницы Желтого императора, среди лессовых пространств, где течет Хуанхэ и где начиналась китайская цивилизация, часто можно видеть венки с черными иероглифами: «Прародителю китайской расы». Считают ли его своим предком в биологическом смысле те, кто приехал поклониться Желтому императору, или вкладывают в это некий сокровенный мистический смысл, значения не имеет. Но очень многие совершенно серьезно ищут неоспоримые доказательства происхождения от Желтого императора.
Вот что рассказал мне о происхождении китайских фамилий Шао Течжэн (он работает в газете «Гуанмин жибао», весьма авторитетной в делах гуманитарных, и давно занимается этой темой). Наш разговор он начал с почти ритуального действа: написал на бумаге иероглиф «син» – «фамилия». Он состоит из двух элементов: слева – женщина, справа – жизнь. «Видите, как глубоки корни китайских фамилий, они уходят во времена матриархата. Так считают многие ученые. Только позже наследование фамилий пошло по отцовской линии».
В древности китайцам внушали мысль, что в большой семье отеческая власть принадлежит императору, а в малой – главе семьи. Семья складывалась как большая община. Многие жители, принадлежавшие к разным семьям, носили одну и ту же фамилию. Были и клановые имена. Их император даровал знати за особые заслуги, и они передавались по наследству. Фамилии поначалу были далеко не у всех. Но если человек покидал родные пределы, он уносил с собой память о родине. Переехав из княжества Чжао в княжество Чу, он именовал себя Чжао. Эти фамилии – Чжао, Дэн, Сун, Чэнь – восходят к тем временам, которые именуются в китайской историографии «Эпоха весны и осени» (VIII – V века до н.э.) и «Сражающихся царств» (V – III века до н.э.). Бывало и так. Жил человек у западных ворот города и называл себя Симэнь (Западные ворота). И все другие следовали этой традиции. Не в этом ли истоки немногочисленности китайских фамилий?
Многие весьма распространенные фамилии произошли от названий профессий (Тао – гончарные изделия) или чинов (Сыши – смотритель, ведавший раздачей жалованья и титулов). Другие связаны с названиями животных (Сюн – медведь, Ню – корова), деревьев (Ян – тополь, Сан – шелковица).
Запомнилась фраза, произнесенная моим собеседником: «Фамилии мы не выбираем, а вот рождение имени – это искусство, наука, культурная традиция и, если хотите, ритуал…» Потом я вспоминал эти слова не раз.
…В купе поезда Таншань – Пекин я познакомился с супругами. Его фамилия Ван (князь) – та самая классическая, без которой немыслима ни одна деревня. Ее фамилия тоже Ван, но совсем иная. Иначе пишется и читается в другом тоне. Означает «водная ширь». В Китае женщина, выйдя замуж, сохраняет свою фамилию. Мы разговорились о детях, и вот что я услышал.
Уехал муж далеко-далеко в горы на заработки. А жена осталась в городе. Скоро должен был родиться ребенок, и муж попросил в письме: «Если родится мальчик, назовем его Вэй-Круча, он будет напоминать о моей нелегкой жизни в горах, да и есть в этом слове добрый намек на вершины, которые надо покорить». Так и случилось. Через несколько лет родилась девочка. По воле жены супруги дали ей фамилию матери. После победы революции в Китае такое порой случается, особенно в семьях интеллигенции. Над именем думали долго. Жене хотелось, чтобы присутствовала в нем водная стихия, раз уж у сына – горы. (Кстати, в китайском языке понятие «пейзаж» выражается двумя иероглифами: «горы» и «вода».) Но вот проблема: в фамильном иероглифе жены уже присутствует элемент «вода», а такой повтор нарушает графику. И вдруг мужа осенило – «Роса». Так девочку и нарекли – Лу. В начертании иероглифа «роса» присутствует элемент «дождь», то есть водная стихия. Идея была сохранена не в ущерб графике.
Не все так тщательно выбирают имя, порой на вопрос «Что значит Ваше имя?» собеседники пожимали плечами: «Так назвали». Но куда чаще я слышал очередную историю.
… Трудные были роды. И вот женщина открыла глаза и увидела за окном птицу: «Сяоянь» – маленькая ласточка. Так и назвали дочку. Но, как водится, в имени был и второй смысл. Девочка родилась в Пекине, а в древности его называли Городом ласточек.
Давая имя, родители хотят наделить ребенка каким-то качеством. Восьмимесячного малыша, которого бабушка взвешивала на весах среди шпината и сельдерея, пока не было покупателей, звали Юн – «Мужественный». Вот несколько имен-пожеланий: Дэань – «Мораль и спокойствие», Чанмоу – «Блестящие замыслы», Лундэ – «Торжество добродетели», Жуныпэн – «Аромат жизни», Цзячжу – «Опора семьи».
Далеко не всегда можно различить, мужское это имя или женское. Но если в имени – название цветка или благоухание ароматов, вопроса нет. Современное китайское имя не только признак неповторимой индивидуальности. Оно нередко может отражать и социальные изменения, связанные с историческими событиями. Раньше в деревне детей часто называли «Сяочжу» – «Поросеночек». Бедные люди надеялись, что смогут прокормить ребенка так же дешево, как поросенка. Когда появились проблески улучшения жизни, в имени все чаще стал возникать иероглиф «лян» – «пища». Знакомого таксиста звали Шэнли – «Победа». Он родился в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика. Его младшего брата назвали Цзяньхуа – «Строить Китай», а сестру Хэпин – «Мир».
Эколог Лю Вэйган (его имя значит дословно – «Только металл»!) родился в 1958 году, когда по всему Китаю сооружали кустарные доменные и сталеплавильные печи и чуть ли не каждый должен был принять участие в «битве за металл». Все это ни к чему хорошему не привело. Но есть в этой истории и другой аспект. В те годы в порыве энтузиазма истребили много лесов для нужд малой металлургии, и Вэйган, словно принимая на себя часть вины, посвятил свою жизнь сохранению природной среды ради будущих поколений. Дочь свою эколог назвал Мэйхуа – «Красивый цветок». Второй смысл имени – «украшать Китай». В имени всегда должен быть намек, сокровенный смысл. Слова Шекспира: «Какой смысл в имени?» Назовите розу иначе, запах ее все равно будет сладким» – китайцам не понять. Имя, считают здесь, может даже судьбу изменить. Недаром говорят: «Не бойтесь трудной судьбы – страшитесь плохого имени». Выдающемуся китайскому кинорежиссеру Чжан Имоу родители дали имя, значащее: «стремление к искусству» или «художественные замыслы». Угадали.
Хоть выбор имени – игра воображения, но и в ней должны быть свои правила. Так говорят в Китае. Имя должно быть приятным для глаза (имеется в виду его иероглифическое написание); не слишком трудным для изображения (попробуйте написать свое имя, если в нем 50(!) черт. Оно должно быть легким для запоминания и приятным для слуха.
В самом иероглифе «мин» («имя») – две части: «ночь» и «рот». Вы не видите человека во тьме, но вот зовете его. И звучит чистая мелодия: «Юйлань („Маленькая орхидея“), откликнись…»
Этюд четвертый.
Русские сны китайского тренера Хуана
Гибкий, красивый человек с доброй улыбкой посмотрел прямо в глаза и протянул руку: «Хуан Цзянь». Когда утих порыв ветра, гнавшего по аллее желтые листья гинкго, я услышал: «Впрочем, зовите меня Юра».
Ранняя пекинская осень своими красками не похожа на нашу. Деревья еще зелены, и лишь желтизна гинкго вызывает в памяти багряно-золотую палитру наших лесов. Когда смотрю на листья гинкго, этого реликта, дошедшего до нас из мезозойской эры, я физически ощущаю относительность времени. Что значит наша мимолетная жизнь и даже трехтысячелетняя история Пекина в сравнении с этим реликтом? «Взмах ресницы» – кажется, так писал Мандельштам. Мой собеседник поддержал мысль, но заметил: «Порой взмах ресницы может изменить жизнь». Так я услышал рассказ о двух железнодорожных путешествиях. Одно из Пекина в Москву, другое – из Москвы в Пекин. Первое случилось в 1929 году, второе – в 1951-м. Между ними пространство в двадцать два года, пора формирования личности, обретение профессии.
Человек творит там, где ему предназначено судьбой и обстоятельствами. Так сын профессионального китайского революционера, одного из участников знаменитой кантонской коммуны, оказался в Советском Союзе. Коммуна была последним арьергардным боем революции 1925-1927 годов, и ее поражение означало спад революционной борьбы. Китай захлестнула волна антикоммунистического террора. В 1929 году двухлетнего мальчика, по настоянию Чжоу Эньлая, вместе с матерью нелегально вывезли в Советский Союз. Отец в то время находился там по делам Коминтерна. Были выделены два телохранителя, которые должны были отвечать головой за семью революционера. Поездка была опасной. Когда гоминьдановские солдаты на границе обыскивали поезд, телохранители положили малыша в корзину и прикрыли тряпьем. Поначалу боялись, что он заплачет. Потом стала пугать тишина: не задохнулся ли? Когда поезд пересек границу, открыли корзину: младенец спал невинным сном. Мать, рассказавшая ему эту историю, не раз напоминала: «Уже тогда ты любил поспать».
Послеобеденный отдых перед интенсивной тренировкой действительно вошел в привычку у будущего профессионального спортивного тренера. Это стоило ему потом крупного скандала и обвинения в непочтении к вождю. В пору трагической для китайского народа «культурной революции», которую потом назовут «десятилетием хаоса и страданий», пришлось Хуан Цзяню больше года, как «советскому шпиону» просидеть в одиночке, где днем следовало исправно изучать произведения Мао Цзэдуна. Спать, обложившись его цитатниками и газетами, было большим грехом. Однако именно так поступил Хуан Цзянь, верный своей тренерской привычке. Но око надсмотрщицы, кстати, спортсменки из его команды, было недремлющим. Сначала она услышала храп (двухлетний мальчик в корзине был мудрее!), а потом в глазок увидела грешника. Скрыть содеянное было невозможно, и тренер обратился к разуму девушки: «Ведь ты же сама спортсменка, знаешь, что такое режим».
За свою прямоту он не раз дорого платил, но она порой и обезоруживала «нержавеющих винтиков Великого кормчего». Сказанная им фраза «У меня две родины: одна дала жизнь, другая вскормила» – была основанием для обвинения его в шпионаже в пользу Советского Союза.
И вот второе путешествие. Возвращение выпускника Московского института физкультуры на родину. Когда в 1951 году он приехал в Пекин, в легкоатлетической сборной, у истоков которой оказался Хуан Цзянь, было всего пять спортсменов, не считая его, тренера. Теперь это сильнейшая на Азиатском континенте команда, что она убедительно подтверждает в последние годы. Японцы, например, зазывают тренера к себе, считая, что успехи Китая во многом объясняются грамотным сочетанием двух школ: российской и китайской.
Ехать – не ехать в Китай в то время – такого вопроса для него не было. Но предстояло найти себя в стране, которую он не знал и на языке которой не говорил. Хотя была она для него, как для всякого китайца, чем-то бесконечно родным. Выразить это можно было лишь на уровне инстинкта.
Все было знакомо, пока поезд мчался по равнине, обдуваемой ветрами необъятных пространств России. Но когда переехали границу, начались голые желтые лессовые поля, бурые сжатые снопы гаоляна с коричневой, словно беличий хвост, верхушкой. Затем донеслось дыхание каменноугольных копей. Стояла осень, но краски были непривычными. На какой-то станции увидел на перроне старика, спавшего на циновке. Заметил у него косу. Неужели остались привычки времен императорской маньчжурской династии, которая обязывала китайцев носить косу? Но вот неожиданность. На ногах у старика кеды хорошего качества. Значит, в стране играют в баскетбол.
Еще воспоминание. Велорикша привез его в университет, где он на курсах изучал китайский язык. Прошло несколько часов, когда Хуана отыскал возбужденный привратник и отвел к воротам. Там его ждал старик рикша. Оказывается, Хуан забыл в коляске поклажу. Старик всех поднял на ноги: «Найдите китайца, едва-едва говорящего по-китайски». Потом Хуан Цзянь не раз убеждался: возвращение забытого, потерянного – часть этического кодекса китайцев. Сейчас об этих заветных подробностях он вспоминает со смехом. Тогда они помогали ему «на ощупь» узнать свою родину.
Жизнь Хуан Цзяня сложилась так, что он просто не помнил, каким именем нарекли его родители. Короткое время он жил в Москве вместе с родителями, но потом они вернулись в Китай «делать революцию». Отец, уезжая, сказал сыну: «Будешь Юрием Хуан Пином, чтобы мне легче было потом тебя найти в сутолоке жизни». К русскому имени сына он просто добавил свою фамилию – Хуан и имя Пин. Но когда в Пекине стали оформлять документы, вспомнили: «Ведь в Китае уже есть один Хуан Пин, отец Юрия, весьма известный профессор». И Юре предложили имя Цзянь – Здоровье. Это ли не намек на смысл его профессии? Китайский ритуал выбора имени был соблюден.
После того знакомства с Хуан Цзянем под шорох листьев гинкго наши встречи стали частыми, и каждый раз он приоткрывал частичку своей судьбы.
«Счастлив тот, кто два мира в себе держит прочно». Это слова академика Василия Михайловича Алексеева, нашего великого китаиста. Ими он напутствовал студентов в послевоенные сороковые. Они словно о Хуан Цзяне. Кстати, русским именем его зовут друзья из ивановского интернационального дома, где прошли детские годы. Так зовет его и жена Валя, с которой он связал судьбу в последние годы. Между собой они говорят по-русски. Валя тоже хранит в душе два мира. Ее русская бабушка служила русскому купцу, который в начале века переехал из России в Маньчжурию, там основал свое дело. Среди его детей была и мать Вали, которая затем вышла замуж за корейца, жившего в Китае.
«Вовка, приезжай завтра, как всегда, с ночевкой, у нас огурчики есть, какие ты любишь». Если бы этот телефонный разговор состоялся где-нибудь в московской квартире, мы бы сказали: банальный сюжет. Но прозвучал он в уютной квартире китайского тренера, неподалеку от храма Неба в Пекине, где некогда император молил Всевышнего ниспослать урожай в Поднебесную. А Вовка на другом конце провода – это китайский инженер-металлург Шэн Лижу. Юра и Вовка – воспитанники ивановского интернационального дома. Язык общения по-прежнему русский.
Все оттенки наших сложных отношений с Китаем проходят через судьбы людей, особенно таких чутких, как Юрий Хуан Цзянь. В сороковые годы он жил жизнью России, рыл окопы, рвался на фронт, приписывая себе лишние годы; помнит благодарные глаза раненых бойцов в госпитале, он занимался с ними лечебной физкультурой, и нежные русские слова, обращенные к нему: «Сынок, голубчик, золотце». Методики в ту пору не было – составил сам. Не тогда ли он почувствовал вкус к работе тренера?
Память о тех годах всегда с ним. «До сих пор вижу детские сны, причем всегда на русском языке», – говорит Юрий.
Но наступила пора, когда верность детству оказалась опасной: грянула «культурная революция». Под лозунгом войны со старыми идеями, старой культурой звучали и такие призывы: «Бить Конфуция, как крысу, перебегающую дорогу». Хуан Цзянь не был психологически готов к происходившему. Хунвэйбины – штурмовые отряды, созданные в основном из учащихся средних школ и студентов, рыскали по стране в поисках врагов. Среди них, естественно, оказался Хуан Цзянь. Особенно ему запомнилась «дацзыбао» (газета больших иероглифов): «Чем больше успехов у тренера Хуана, тем опаснее его преступление». Такова была логика тех лет.
А успехи действительно были. Холодным ноябрьским днем 1957 года его воспитанница Чжэн Фэнжун установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Два обстоятельства делали его уникальным. Прохладное отношение к спорту в дореволюционном Китае и восприятие женщины как существа второстепенного в феодальном обществе, из недр которого вышел новый Китай. Это выразилось даже графически: иероглиф «нюй» – женщина изображает коленопреклоненное существо.
В 60-е годы, когда блистал Валерий Брумель, в сборную Китая пришел некто Ни Чжицинь. Он был талантлив, но хиловат. И тренер решил применить затяжную тактику – каждый год прибавлять по два сантиметра. «До сих пор не пойму, – говорит Хуан, – как я, склонный к авантюре, избрал такую тактику».
В 1966 году Ни Чжицинь прыгает на 2.27. До мирового рекорда остается один сантиметр. Но тренера отстраняют от работы, отправляют в одиночку, а затем в горный район провинции Шаньси, в поселение, где интеллигенцию перевоспитывали физическим трудом…
А мысли его были о воспитаннике, который продолжал тренироваться по прежней методике. «Однажды мне было видение, – вспоминает Хуан, – во сне вижу стадион „Динамо“, сектор для прыжков, поединок Ни Чжициня и Брумеля. Победил мой воспитанник». Сон оказался вещим. Китаец действительно установил мировой рекорд – 2.29. Правда, поединок был заочный. И вот одно из ярких мгновений в жизни Хуан Цзяня. Он в составе колонны перевоспитуемых идет на работу в горы. Навстречу марширует другая колонна и дружно скандирует: «Поздравляем тренера Хуана. Если бы не удались 2.27, не бывать 2.29». Люди поняли, что творилось в душе тренера, и протянули руку.
«На каком языке видел ты тот сон?» – спрашиваю Хуан Цзяня. «На этот раз на китайском. Впервые», – смеется он.
Окончание следует
Юрий Савенков
Неведомые тропы: Дядька тверских медвежат
День обещал быть солнечным, ясным и – морозным! Зима началась необычно: вместо привычных для этой поры в Тверской области затяжных снегопадов ударили морозы, крепчая день ото дня. И Валентин Сергеевич Пажетнов, собираясь на прогулку с медвежатами, вынужден был одеться по-зимнему. Напяливая на себя огромные валенки с галошами, теплую, шинельного сукна куртку, меховую шапку-ушанку, он недовольно ворчал:
– Погода совсем с ума спятила. Снег нужен. Медведям самое время в берлоги ложиться, на зимнюю спячку. А как без снега? Нет, пока снег не пойдет, в берлоги не лягут. Новый дом-лаборатория его разместился неподалеку от заброшенной деревни Бубенец. Дом стоит на склоне невысокого холма, забором почти соприкасаясь с темнеющим массивом леса. За калиткой начинается тропа, ведущая к вольерам, где живут медвежата.
– Однако знаешь что, возьми-ка лучше вот это, – протянул мне Валентин Сергеевич довольно-таки увесистый кол, когда мы уж совсем было вышли за калитку.
– Да зачем мне этот кол, – воспротивился я. – Не к бугаю же какому-нибудь идем, а к медвежатам. Я и обезьян в сухумских лесах без палки снимал, а уж с медвежатами-то и подавно справлюсь.
– Тут дело в другом, – остановил меня Пажетнов. – Медвежата сильно не покусают, если подойдут. Ну, порвут одежду… Но нужно их непременно от себя гнать! Чтобы в дальнейшем жить дикими в лесу, они не должны привыкать к человеку, должны бояться его! И поэтому на прогулке ты близко ко мне не подходи. Снимай издали – и ни слова! Разговаривать даже шепотом нельзя.
Поклявшись молчать как рыба, держа в руках кол, не представляя, однако, как с ним быть, когда наступит момент съемки, я двинулся, отстав на несколько шагов, вслед за Пажетновым.
…Имя этого человека должно быть хорошо знакомо давним читателям «Вокруг света», впрочем, возможно, как и тем, кто только начал читать журнал теперь. Некоторое время назад, работая охотоведом в Центрально-лесном государственном биосферном заповеднике, человек этот по совету ученых провел удивительный эксперимент. Трем медвежатам, оставленным медведицей в берлоге в пору молочного вскармливания, он на два долгих года заменил мать. При этом не медвежат приучая к человеческому жилью, а себя к жизни медвежьей.
Прикрываясь лишь полотнищем палатки, и в снег, и в дождь, и в жаркую комариную пору немало дней провел он с медвежатами в сумеречном болотистом лесу заповедника. Получил уникальную возможность наблюдать неведомую ранее жизнь медвежат в семье, следить за их ростом, созреванием, питанием, выработкой определенных реакций поведения. С медвежатами, как и подобает ворюгам-медведям, отправлялся Пажетнов кормиться на овсах, следил, как отъедаются перед спячкой звери на рябине, укладывал в берлогу спать, а затем, как если бы проспал четыре зимних месяца рядом с ними, встречал по весне и продолжал ходить по лесам.
Об этом он написал прекрасную книгу «Мои друзья медведи», которую я с превеликим удовольствием перечитывал не раз. Главный, даже для него, к тому времени опытного охотоведа, был сделан вывод, что медведь, всем известный хищник, может годами питаться лишь ягодами да травкой, набирая вес, запасая на зиму необходимый жир. Лишь в зрелом возрасте медведи-самцы начинают охотиться на крупных лесных зверей, а иногда среди них появляются и «стервятники», нападающие на домашний скот.
С тех пор минуло немало лет. Валентин Сергеевич продолжал всерьез заниматься изучением жизни бурого медведя. Наблюдения за зверем в заповеднике, где он охранялся, не давали полной картины, и Пажетнов стал подыскивать место на территории Тверской области, где можно было бы проследить за поведением медведей в условиях обычной охоты на него. Он рассказывал, что затратил на эти поиски много времени, пока не остановился на Бубенце. В ту пору в деревне оставались жить лишь старушка со стариком. Брошенные избы разбирали предприимчивые цыгане и перевозили их в город Торопец продавать. Деревню окружали леса, где водились волки и медведи, и Пажетнов вместе с постоянной помощницей-женой, по образованию тоже охотоведом, поселился в одной из заброшенных изб, открыв здесь поначалу наблюдательный пункт заповедника.
С годами наблюдения копились, знания нарастали, имя Пажетнова стало широко известно, он издал книгу «Бурый медведь», в которой прослеживал и объяснял жизнь таинственного лесного обитателя – как если бы тот постоянно жил на наших глазах. В начале прошлого года Валентин Сергеевич защитил докторскую диссертацию, но возиться с полюбившимися животными, как я узнал, не перестал.
Прошлым летом ко мне заехал его сын, Сергей, работающий старшим егерем в заповеднике. Отец, рассказывал он, собрал с окрестных деревень девять медвежат, где выкупив их, где выпросив. Медвежата осиротели либо в результате до сей поры проводимых охот на берлогах, либо – при вырубке лесов заготовителями. Потревоженные медведицы, покинув берлогу, обычно к медвежатам не возвращаются.
Участь медвежат, оказавшихся в руках случайных людей, незавидна. В лучшем случае – цирк или клетка в зоопарке. Но иногда их сажают на цепь в темном закутке, выкармливая, как поросят, на мясо. Не раз в последнее время приходилось видеть и телерепортажи из Санкт-Петербурга, в которых рассказывалось, как медвежат (условия содержания жуткие!) готовят для тайной продажи за границу. Пажетнов же решил вернуть зверей в природу – дорастить медвежат до того состояния, когда они смогли бы начать самостоятельную жизнь в лесу.
Дело с научной да и с человеческой точки зрения обещало быть интересным, а опыт у Валентина Сергеевича был. Уже во время первого эксперимента Пажетнов был близок к подобной цели. Не пожелай тогда ученые взяться за изучение умственных способностей медвежат, что потребовало непременного приручения, он и тогда смог бы отправить своих питомцев в леса – жить самостоятельно. Но стоило животным потерять страх к человеку, приучиться к легкости, с какой давалась им пища, как дорога в дикую природу оказалась для них заказанной… Одного из медвежат Пажетнову пришлось собственноручно пристрелить, чтобы спасти жителей деревни от его разбоя…
Не раз собирался я выбраться в Бубенец, узнать, как на этот раз продвигается дело, но то одно, то другое заставляло откладывать поездку. Лишь прошедшей поздней осенью удалось добраться до Центрально-лесного заповедника, с такой любовью описанного в книжках Пажетнова.
Этот небольшой по территории заповедник, созданный в 1931 году для сохранения древних лесов Средне-Русской возвышенности в водораздельной части Волги и Западной Двины, сыграл немалую роль и в сохранении популяции истинно русских бурых медведей.
Близость лесов Тверской губернии к столицам уже в прошлом веке привлекала азартных охотников, готовых платить большие деньги за возможность поохотиться на медведя – «черную нечисть», как тогда его называли, – на берлоге или на овсах. Существовали своего рода посреднические организации, указывающие за немалые деньги доподлинно известные им берлоги и места потрав. Но в начале нашего века медведи в этих лесах становятся редкостью. В одном из охотничьих журналов тех времен сами охотники высказывали предположение, что медведь, как и лось, другой крупный зверь, обречен здесь на полное уничтожение. Однако слова их не оправдались. Уже через двадцать лет после создания заповедника число медведей и лосей в этих лесах удвоилось. А в результате мер по «сокращению неперспективных деревень», из-за оттока крестьянского населения жить зверью в этих местах стало лишь вольготней. Но ныне заповедник, как, впрочем, и все заповедники нашей страны, переживает нелегкие времена. Зарплаты сотрудников мизерны, и, чтобы выжить, они должны думать о проведении экологических экскурсий для иностранцев, а то и охот для них – на глухарей и тетеревов на неохраняемых территориях…
Валентину Сергеевичу при переходе к рынку, похоже, повезло несколько больше. Вместе с семьями своих детей, а также семьей давнего своего товарища, а теперь (из-за женитьбы сына) и родственника, известного «волчатника» Владимира Павловича Бологова, Пажетнов на брошенных землях деревни Бубенец создал крестьянское хозяйство. А тут благодаря содействию ученых МГУ объявился как бы и спонсор. Швейцарский ученый, занимающийся изучением высшей нервной деятельности млекопитающих, задумался построить в России небольшую лабораторию для проведения своих опытов, куда бы он мог прилетать на несколько месяцев в году. Место у бывшей деревни Бубенец ему понравилось, и Пажетнов согласился на возведение как лаборатории, так и дома для иностранца на земле своего хозяйства, понимая, что это прежде всего даст и ему возможность продолжать исследования по изучению бурых медведей.
С Валентином Сергеевичем мы встретились в конторе заповедника. Возвращаясь из Москвы, где представлял проект дальнейших исследований, он ненадолго заехал в заповедник, а затем, сев за руль небольшого грузовичка, в кузове которого лежало несколько мешков цемента, покатил к себе в Бубенец на биостанцию.
– Как медвежата? – спросил я, когда выехали на пустынную дорогу и покатили мимо лесов, заброшенных деревень, полей, на которых из-за проливных дождей остались нескошенными пшеница и овес.
– Ну ладно, тогда дожди мешали, а почему сейчас, когда так подморозило, не попытаться хлеба собрать, – возмущался Пажетнов. – Хоть самому сейчас скупай этот хлеб на корню, комбайнами убирай да тут же продавай нерадивому совхозу. И будут покупать. Но самих с места не стронешь. Все давно списали на неурожай по метеоусловиям. Разве это порядок?!
О медвежатах он рассказал, чуть успокоившись и помолчав. Поначалу-то все шло хорошо. Правда, содержать такое количество оказалось нелегко, выяснилось в результате, что маловата территория. Медвежата в окрестностях разорили все муравейники, лакомиться яйцами которых они обожают. Под осень произошел неожиданный отсев. Пропали четыре медвежонка.
Жили зверята вольно. Собравшись в семью, признав за вожака в отсутствие медведиц дядьку Пажетнова, они обретались в лесу неподалеку от дома, ночуя в определенном месте, приходя на зов Валентина Сергеевича, лишь в его обществе отправляясь в дальние и многодневные путешествия.
– Собственно, ради медвежат, – как объяснила мне Светлана Ивановна Пажетнова, – и решились мы взяться за создание крестьянского хозяйства «Чистый лес». До нас дошло, что местные власти задумали построить неподалеку от биостанции гостиницу для иностранных туристов. А в этом случае о содержании медвежат, чтобы возвращать их в природу, не могло быть и речи. Вот и взялись, сами еще толком не зная, как из неприспособленных для сельского хозяйства земель получать пользу да выплачивать через пять лет немалый налог. Может, – размышляла она, – сами начнем научные экспедиции принимать, а с доходов от этого и платить государству за сохраненный в окрестностях нетронутым чистым лес…
– Медвежата пропали, – рассказывал Пажетнов, – когда сезон охоты открылся, охотники с собаками по лесам пошли. Возможно, собаки их и напугали. Через месяц вернулась лишь одна самочка, Катька. С ошейником на шее и оборванной цепью. Помучилась, должно быть, бедняжка, и сюда как к себе домой пришла.
Несколько дней я провел в доме у Пажетновых, слушая рассказы его жены, играя с внуками, осматривая окрестности в ожидании похода с медвежатами.
– Все, – говорил с вечера Валентин Сергеевич, – завтра сажусь палатку шить и отправимся с медвежатами в лес, буду жить там несколько дней, пора их в берлогу укладывать.
Но чуть свет он шел разогревать паяльной лампой то грузовик, то трактор и исчезал на весь день, отправляясь за дровами или цементом. Нелегкой оказалась жизнь доктора биологических наук в крестьянском хозяйстве.
И вот долгожданный для меня миг наступил. Стороной мы обходим ближнюю вольеру, где живет Катька и очень нервный, не совсем нормальный от рождения медвежонок. Эти двое для залегания в берлогу не готовы, пока их ежедневно Светлана Ивановна подкармливает овсяной кашей. В глубине леса, на берегу замерзшего ручья схоронились еще две решетчатые вольеры. Тут живут три медвежонка, переставших кормиться, набравших за лето достаточно жиру для зимней спячки. Один из медвежат оставлен на свободе, но никуда не уходит от братьев в вольерах. Завидев людей, он подбегает к дереву, собравшись было на него забраться, но застывает. Дядьку Пажетнова узнали, медвежата рявкают, не скрывая радостного возбуждения, вьюнами вращаются возле него.
Кол, врученный мне Валентином Сергеевичем, я все же, вопреки уговорам, выпустил из рук. Прислонил потихоньку к стволу дерева. А один из медвежат, и верно не с добрым видом, вскоре затрусил ко мне. Я замер. Как и договаривались, не произнес ни звука. Не шевелился и молчал, пока медвежонок меня обнюхивал. Все это время я ощущал на себе и пристальный осуждающий взгляд медвежьего дядьки, но на этом инцидент был исчерпан. Медвежонок фукнул и, оскальзываясь на наледи, помчался к своему обретенному семейству.
Почти час мы ходили молчаливо по притихшему обмерзшему лесу. Медвежата, далеко не отбегая, обследовали вывороченные с корнями стволы рухнувших деревьев, забирались под непроходимые завалы, подыскивали место для берлоги. Было очень интересно наблюдать за их поведением, за реакцией на подозрительные звуки. Иногда кто-то из медвежат вставал на задние лапы, норовил обнять за штаны Пажетнова, повозиться, поиграть, но дядька подобные заигрывания резко пресекал. Через час он повернул к вольерам, и медвежата без сопротивления двинулись следом. – Завтра, – сказал Пажетнов у порога своего дома, – собираю палатку и ухожу с ними искать берлогу.
У меня заканчивалась командировка, пора было прощаться, и я пожелал от всей души успехов крестьянскому хозяйству, взявшемуся сохранять природу и возвращать в леса осиротевших медвежат.
Пажетнов уверял, что после того, как медвежата разок перезимуют, они способны вполне самостоятельно жить в лесу. Более того, он надеялся, что опыт его работ даст возможность расселять медведей в те уголки земли, где они когда-то жили и были истреблены. И радостно было, слушая его, знать, что даже в наше трудное время не переводятся на земле добрые дядьки, спасители зверей.
Тверская область, Центрально-лесной заповедник
В. Орлов | Фото автора
Via est vita: Путешествие в Золотой век, или наши простаки за границей (2)
Окончание. Начало в №1 /1994
После многодневной разлуки карельские лодьи «Вера», «Надежда», «Любовь», а также сопровождающие их шхуна «Русь» и яхта «Украина» встретились в порту Пирей и отправились в дальнейший путь из Эгейского моря в Ионическое. График движения «эскадры» срывался, но трудно было устоять от соблазна и не зайти в уютные гавани греческих островов с заманчиво-притягательными для северных пилигримов названиями: Порос, Итака, Керкира…
Сроки поджимали, и многие мореплаватели спешили вернуться домой. И вот с острова Порос повернула назад шхуна «Русь». Мы махали с набережной панамками и майками, еле сдерживая слезы, когда «Русь», отдав швартовы и тяжело покачиваясь на волне, выходила из бирюзовой гавани. Второй месяц мы в море, и команда яхты «Украина» также принимает решение идти к родным берегам. Слетавшиеся лодьи в гордом одиночестве держат путь в Италию в порт Савону, где их ждут для Участия в Колумбовой регате, посвященной 500-летию открытия Америки.
В монастыре «животворный источник», или печальная история дочери художника
То, что рассказал мне толстый, добродушный Василиос Димитриадис, сотрудник мэрии Пороса, о дочери итальянского художника Рафаэля Чикколи, показалось легендой. Но когда он предложил сесть в автобус на маленькой площади, чтобы поехать в монастырь «Животворный источник», где жил и трудился художник, я моментально согласился.
В самом названии острова уже определена его географическая характеристика, ибо слово «Порос» переводится как «узкая полоска воды, соединяющая два маленьких залива». В некоторых местах расстояние между Пелопоннесом и Поросом составляет всего триста метров, и, по свидетельству древнего автора Павсания, любой желающий мог переправиться на остров пешком, «аки по суху».
Проходит время, меняются образы Пороса в воспоминаниях побывавших здесь художников и поэтов, но одно остается неизменным: восхищение необычайным освещением и красками острова. Тем, чего не коснулось время и не смогла сокрушить цивилизация.
Многие путешественники, побывавшие на Поросе, вспоминают о Венеции: канал, скользящие между домами лодки, та же игра света и тени и ощущение вечного праздника.
«Я был поражен, когда вдруг понял, что мы плывем по улицам, – писал американский писатель Генри Миллер, лишь недавно переведенный на русский язык. – Если и есть у меня мечта, которую я лелею больше всего, так это плыть по суше. Пребывание в Поросе – это осуществленная мечта. Вдруг берега смыкаются, и зажатая между ними лодка скользит уже по такому узкому проливу, из которого, кажется, нет выхода. А жители Пороса переговариваются из окон прямо над вашей головой».
Теперешний Порос состоит из двух как бы сросшихся островов: Сферии и Калаврии. Зеленый остров Калаврия возвышается над небольшим, состоящим из вулканических пород меньшим собратом. Его название, напоминающее о морских бризах, объединяло эти два клочка суши, но впоследствии было заменено новым – «Порос».
И конечно, среди многих достопримечательностей острова, на которые не поскупилась его богатая событиями история, наше внимание не могла не привлечь одна из бухт: местные жители зовут ее «Русская гавань», а иногда «Русский берег».
– Она названа так в честь пребывания здесь эскадры адмирала Ушакова, которая останавливалась в ней во время войны с турками, – рассказывал нам вечером того же дня мэр городка. – Мы храним память о русских, которые защищали нас от турок, и приглашаем карельских поморов создать в Русской бухте свою базу и возить туристов на лодьях вокруг Пороса.
Но вернемся к воротам монастыря Зоодохос Пиги – «Животворный источник», где нас встречал отец Панаритос, пожилой человек с седой бородой, но блестящими молодыми глазами, сверкающими из-под низко надвинутой на лоб черной шапочки. Перед входом, под тенью арки, здешний служитель в рясе вежливо предлагал слишком обнаженным девушкам, в шортах или лосинах, обернуть свои талии серыми полотнищами юбок, дабы не смущать взоров монахов и не гневить самого господа.
Мы проходим сквозь ворота и почтительно ступаем на потрескавшиеся от времени известняковые плиты монастырского двора, где вдоль стен располагаются выбеленные двухэтажные постройки с деревянными верандами под черепичными крышами, скрытые деревьями от нескромных взоров пришлых людей. Здесь же находится школа для детей-сирот, из которых воспитываются будущие священнослужители.
Монастырь был основан афинским митрополитом Яковом двести пятьдесят лет назад на его собственные сбережения и пожертвования верующих. Камни монастыря хранят память о многих событиях и людях и мирных днях жизни тех, кто нашел покой под тяжелыми плитами монастырского кладбища. Здесь же покоятся герои греческой революции, боровшиеся за освобождение своего народа от турецкого рабства. На территорию монастыря перенесена также могила Демосфена из храма Посейдона, что стоит тут же, на острове.
С монастырского двора из-за высоких кипарисов видно море. Немного ниже монастыря – долина, где находится сам «Животворный источник», давший название монастырю. Вода его хоть и не богата минеральными веществами, тем не менее считается целебной. Она исцеляла от разных болезней, в том числе от камней и песка в почках. Сохранились свидетельства, что митрополит сам испытал на себе животворную силу источника.
На первый взгляд монастырь напоминает крепость: окошки-бойницы в кельях, толщина внешней стены почти в метр, потайные люки, тяжелые деревянные ворота закрываются металлическими засовами. Однако внешнее впечатление от монастыря-крепости как бы уравновешивается ощущением покоя, наступающим внутри его стен.
При входе в монастырь под круглым сводом стоят каменные скамьи для нищих, ожидающих подаяния. Рядом небольшое отгороженное пространство, бывшая привратницкая. Привратник следил за тем, чтобы монахи не покидали монастыря без разрешения приора: это и понятно – какой же монастырь без дисциплины. На монастырском кладбище возвышается маленький, но очень живописный храм. На его северной стене – солнечные часы. «Идут» они точно, но только в ясную погоду. Интерьер храма прост: здесь нет фресок, но запоминается мраморный пол из черных и белых плит. Пол был выложен на средства владельцев судов и просто моряков – жителей Пороса, о чем свидетельствует надпись, сделанная в 1804 году.
Природа острова наложила свой отпечаток и на образ жизни монахов, и на устройство монастыря.
Так, в кельях первого этажа в правом крыле нет печей: их отсутствие объясняют мягким климатом здешних мест. При постройке монастыря широко использовались деревянные конструкции из разных пород дерева – кедра, пихты, каштана. Особенно много деталей из местного, поросского, кедра. Из него сделаны ворота, рамы окон и амбразур. Древесина кедра обладает характерным приятным запахом, сохраняющимся долгие годы, и надрезы, нанесенные во время реставрационных работ, подтвердили это свойство дерева.
На первом этаже монастыря сохранились кельи в своем изначальном виде, а на следующем этаже – кельи более позднего времени и трапезная. В западном крыле на первом этаже находятся различные хозяйственные службы: пекарня, сушильные печи, а также библиотека, гостиница для приезжих, конюшня и т.д.
Над всеми постройками возвышается купол церкви.
Мы с душевным трепетом переступаем порог монастырской церкви – первого храма на пути северных паломников, – за стенами которой царит благостная тишина. И лишь ясно слышится голос настоятеля, повествующего о трудной и славной судьбе монастыря, центра культурной, художественной и политической жизни.
Тихо потрескивают горящие свечи в высоком шандале, роняя капли растаявшего воска на круглые медные подставки. Сутана настоятеля почти сливается с темно-коричневым деревом алтаря, до блеска отполированного руками верующих, за которым с пышного позолоченного иконостаса на нас испытующе смотрят лики святых.
Кстати, уже позже я узнал, что не случайно вид монастырского пятиметрового иконостаса, его искусная, богатая резьба поразили наше воображение: и он, и алтарь сделаны еще в XVIII веке вручную из ценных пород дерева. Внимание всех, особенно кто впервые попадает в эту монастырскую церковь, приковывает скромная икона Божьей матери. Ее темная, слегка потрескавшаяся поверхность говорит о преклонном возрасте. Эта чудотворная икона Богородицы, спасшая монастырь от разграбления и сожжения во время турецкого господства. Многие годы она исцеляет всех страждущих и болящих, припадающих к ней. Беспредельность веры в целительную силу иконы доходит до того, что больные, сотворив молитву о выздоровлении, оставляют у иконы записочки о своих недугах, часто с изображением больной части тела, будучи совершенно убежденными в том, что после этого болезнь исчезнет.
Но вот наконец-то долгожданная встреча. Несколько в стороне от иконостаса я вижу большую икону в резном золоченом окладе, увенчанном крестом. Это Святая Мария – работа итальянского художника, основателя Академии изящных искусств в Афинах, Рафаэля Чикколи. Художник жил в монастыре, писал здесь картины, занимался реставрацией икон и ходил на этюды в живописные окрестности монастыря вместе со своей дочерью, которая частенько приезжала к отцу, полюбив остров Порос.
Но случилось непредвиденное: дочь заболела чахоткой и скончалась юной, в расцвете лет – ей шел двадцать второй год. Отец похоронил дочь в монастырском дворе, исполнив ее последнее желание. Долго он не мог прийти в себя, найти душевное равновесие, даже не брал в руки кисти и проводил много времени около ее могилы.
Однажды он пришел к могиле дочери к вечеру, когда закатное сияние бросало на окружающие окрестности необычный отсвет. Отсюда, с монастырского двора, они с дочерью любили смотреть на остров и море. В тот вечер, в 1850 году, у Рафаэля Чикколи зародился замысел новой картины, даже не картины, а иконы, где в образе Святой Марии он запечатлел черты любимой дочери. Мария в правой руке держит скипетр, а в левой – чудесную золотокудрую девчушку, похожую на нее. В этом двойном образе – зрелой и юной жизни – художник отобразил нетленность красоты своей дочери.
Если присмотреться внимательнее, то можно заметить внизу картины-иконы, под облаками, где восседает Мария, пейзаж, запечатлевший живописные окрестности монастыря и сам монастырь на фоне моря и гор.
Так художник сохранил в сердцах людей память о своей безвременно погибшей дочери. А еще он посадил кипарис, который высится на монастырском дворе зеленым обелиском, устремленным ввысь.
Осторожно: длиннокрылая акула, или осьминог всмятку
В этом плавании мне больше всего приносили радость многочисленные бухточки греческих островов, где я отдыхал душой и телом. До чего же они хороши во все времена суток: и безлюдным утром – с прозрачной, чистейшей водой, сквозь которую видишь зеленые колышущиеся водоросли на дне; и в раскаленный полдень, когда с обрывистого берега бросаешься в прохладные тяжелые волны; а при вечернем нежарком солнце неслышная волна набегает на теплый еще песок и ласково обнимает разомлевшее тело.
И всегда около островных бухточек и гаваней мне встречались рыбацкие лодки. На Спросе я поутру купался за молом, где можно было, спрятавшись среди камней, раздеться догола и сколько душе угодно резвиться в жгуче-соленой воде, а на Гидре я спускался по каменным ступеням, вырубленным в скале, и нырял прямо с берега в бирюзовое блюдце круглой бухточки.
В это время почти всегда возвращались рыбацкие лодки, или шаланды, или фелюги, не знаю, как точно их назвать.
В чистом утреннем воздухе, еще не нагретом солнцем, не дрожащем в полуденном мареве, лодочки можно было заметить издалека, едва только они показывались у горизонта.
Они ныряли в волнах, как забавные маленькие птички, многие с поднятыми парусами на коротких складных мачтах. Ближе, ближе – и становятся видны голубые и желтые борта, невысокие надстройки и катушки барабанов на корме на длинных ножках, куда наматываются сети, когда их тащат из моря. Вот уже слышно тарахтенье моторчиков, и юркие посудины швартуются вдоль длинных причалов. Вываливается улов: трепещущие груды живого серебра, и серые причалы и камни набережной расцветают, как диковинные клумбы, от оранжевых, желтых сетей, кучами лежащих повсюду. Их потом будут распутывать и чинить рыбаки и их жены.
Я подолгу наблюдал за размеренной рыбацкой жизнью и, когда один голубоглазый парень в майке и выгоревших шортах поздоровался как-то со мной, не выдержал и попросился пойти с ним в море. Он вначале не понял моей просьбы, потом в задумчивости покачал головой, а затем, кивнув в сторону лодий и воскликнув: «Хорошие корабли!», согласился: мол, давай, дерзай, если не боишься моря.
И вот когда еще все спали, мы вышли из гавани Эрмуполиса на зеленой лодочке, гордо подняв квадратный парус, который еле полоскался под слабым ветерком.
Уж не знаю, или я невезучий, или день выдался такой, но рыбалки у нас не получилось: сети наматывались на барабаны почти пустыми, и на спиннинг рыбка тоже не ловилась. Промаявшись так часа два и несколько укачавшись на волне, мы решительно повернули к берегу и встали на якорь в безлюдном месте у скал Спроса.
«Интересно, – подумал я, – что же будет дальше. Неужели греки, которым, по-моему, из-за близости моря купанье давно осточертело, решили поплавать?»
Так оно и есть: рыбаки скинули майки, оставшись в шортах, натянули маски, один даже взял в руки железный трезубец, и стали переваливаться через борт в воду. На прощанье голубоглазый знакомец, растопырив руки и ноги, удивил меня, изобразив некое чудовище. Когда же он постучал себя по маске, сделав рукой нечто напоминающее клюв, я догадался: ребята отправились ловить осьминогов. На радушное предложение пойти с ними я вежливо отказался. Дело в том, что, изучая «Лоцию Ионического моря», я уже несколько ознакомился с малоприятными подводными обитателями. Даже сделал в блокноте такую запись: «Из опасных морских животных в Средиземном море водятся мурены (морские зубастые угри), осьминоги и длиннокрылые акулы.
Мурены обитают, в основном, в прибрежных водах, обычно скрываясь в расщелинах подводных скал. Они нападают на людей, не только плавающих в воде, но даже находящихся в небольших шлюпках…
Осьминоги здесь не достигают больших размеров: слюна некоторых видов осьминогов ядовита, поэтому укусы их вызывают головокружение, лихорадку. Опухоль и боль в местах укуса не проходят в течение нескольких дней, а иногда и недель. Большинство видов осьминогов живет на глубине 100 метров, а иные виды – вблизи берегов у поверхности воды».
Честно говоря, мне совсем не улыбалось пребывать в лихорадке неделю или две, учитывая тем более довольно суровые условия нашего плавания. И вот сейчас, покачиваясь на борту греческой фелюги, я представлял, как рыбаки выискивают осьминогов в подводных пещерах. На ум приходила и Гомерова фантастическая многорукая Сцилла (это тоже осьминог), и встреча с огромным осьминогом у Мелвилла в «Моби Дик.», ж схватка героя Гюго из «Тружеников моря» с осьминогом-убийцей в подводной пещере.
Конечно же, я слышал много легенд о морских чудовищах, которые весьма часто напоминали кальмаров или осьминогов, но пищу для их возникновения все же давала сама жизнь.
Еще Плиний Старший сообщал, как один осьминог стал бичом испанских рыбаков и они натравили хищных собак, однако победителем в этой схватке вышел осьминог. На один из пляжей Новой Зеландии волны выбросили кальмара длиной 17 метров, из которых 10,5 метра приходилось на щупальцы. А на больших глубинах обитают чудовища еще крупнее, которые атакуют любого противника. Обхватив жертву длинными щупальцами, они подтягивают ее к себе и рвут на части острыми челюстями, похожими на клюв попугая. Кальмар решается даже на схватку с одним из самых крупных животных на земле – кашалотом. Если присоски кальмара длиной 15 метров оставляют круглый зубчатый след диаметром 10 сантиметров, то у убитых кашалотов находили подобные отметины шириной около полуметра – видимо, тут потрудился кальмарище длиной не менее 60 метров.
Глядя в прозрачную прибрежную воду, я видел смутные тени ныряльщиков и представлял, как они осторожно скользят у скал, опасаясь острых зубов мурен, шарят руками в расщелинах, ожидая, когда оттуда выглянет осторожный отшельник и его скользкие щупальцы обовьют руку. Тогда его прокалывают трезубцем, запихивают в мешок.
И вот рыбаки один за другим стали подплывать к лодке и выбрасывать свою добычу на палубу. На первый взгляд этот достойный представитель головоногих действительно состоит из головы с острым, крепким, как у попугая, клювом и почти человеческими, несколько сонными глазами, а также с восемью пупырчатыми щупальцами, но в то же время в этом сизом мешке имеется полный набор внутренних органов. Словом, это, хоть и неприглядное, существо имеет полное право на сочувствие.
Поэтому когда мы подошли к берегу и рыбаки стали готовить осьминогов для продажи, меня чуть не хватил удар. Но опишу все по порядку. Вначале они кинули бедных хищников в круглую каменную лунку около мола. Затем стали хватать их за щупальца и вырывать внутренности – и дальше, о, ужас, бить о бетонные плиты. Они шваркали бедных головоногих так, словно это были мокрые тряпки. А звук был таким, будто прачки на пруду бьют вальками по мокрому белью. От избиваемых осьминогов только брызги летели. Оказывается, это зверство совершается с вполне определенной практической целью: для дальнейшей готовки необходимо содрать с них шкурку.
Но даже измолоченный о камни, как хорошая отбивная, осьминог еще не готов к употреблению. Его нужно обязательно подсушить. Мои знакомые рыбаки протянули веревку и вздернули тушки осьминогов на крючья для просушки на солнце. Провялившиеся тушки или продают на рынке, или отдают прямо в таверну «Дары моря». Там-то и можно попробовать лакомый кусочек от некогда грозного хищника под острым красным соусом. У нас, в России, во многих городах продавались кальмары, которые по вкусу несколько напоминают курятину. Похож на нее и осьминог…
Была у меня еще одна встреча с другим морским созданием, даже более опасным, чем осьминог. Когда утром мы шли на фелюге в море и рыбаки чистили палубу от рыбьей чешуи, мне показалось, что в мелкой ряби волн мелькнул острый косой плавник. Акула? Стоило мне произнести вслух это слово, как рыбаки стали беспокойно поглядывать на море. Я и раньше наблюдал такую реакцию у пловцов и ныряльщиков на предположительное появление акулы у берега. Из всех живых существ, плавающих в море, акула вызывает наибольшую ненависть и страх. Этот свирепый хищник, прекрасно вооруженный миллионы лет назад, чтобы нападать и пожирать, привлекал внимание еще древних ученых, которые в своих манускриптах описывали жестокие схватки с акулами и предупреждали ловцов губок особенно осторожно вести себя у поверхности моря, где велика опасность нападения акул. Их советы актуальны до сих пор.
Мне врезалось в память несколько характерных деталей устройства акульего организма, в частности, касающихся зубов. Если у нас, у всех позвоночных зубы закреплены корнями в челюсти, то острые, словно бритва, зубы акулы держатся в коже десен, образуя множество рядов. Когда выпадают старые зубы из передней шеренги, то им на смену, как воины в сказке, выдвигаются новые зубы из задних шеренг. Акулята появляются на свет уже с полным набором зубов и готовы тотчас не только защитить себя, но и добывать пищу.
Кстати, акулы на большом расстоянии (хотел сказать «видят», но зрение у них как раз слабое) чувствуют добычу. Вначале слышат звуковой сигнал и ощущают вибрацию воды от тела предполагаемой добычи, затем подключают свое обоняние, превосходящее остротой чуть ли не все известное в живом мире: акула чует рыбью кровь, даже если один грамм крови растворен в миллионе граммов воды. Ну, о прожорливости акул говорить не приходится. В желудках пойманных акул чего только не находят: от непереваренных бараньих ног или головы бульдога до пальто и корабельных скребков. Некоторые ихтиологи считают, что библейский Иона был проглочен и затем извергнут не китом, а большой акулой.
Так вот, с подобным страшилищем я встретился, когда наша флотилия направилась через Ионическое море к итальянским берегам. Намного опередив лодьи, яхта встала в море на большую приборку. После того как мы убрались в кают-компании и помыли палубу, капитан громогласно приказал:
– Почистить корпус.
Мы, как и полагается послушным матросам, скинули майки и стали готовить раствор в ведрах и щетки, чтобы вычистить корпус от мазута и водорослей. Кэп нырнул в воду первым, чтобы помочь протянуть концы вдоль корпуса, а сзади кинули на всякий случай веревку с поплавками, хотя ее применяют обычно в шторм, когда человек оказывается за бортом.
Наконец, кэп-разведчик вылез на палубу, посиневший от холода: как-никак середина Ионического моря, да и ветер задувает свеженький. Звучит новая команда:
– Маски надеть – всем в воду!
И мы, бережно держа ведра с раствором в одной руке, спускаемся в воду и расползаемся вдоль бортов, цепляясь за протянутую веревку.
Работа по очистке корпуса нудная и утомительная: надо и ведро удержать, и щеткой изо всех сил орудовать. Дело в том, что несмотря на «необрастайку» – специальный состав коричневого цвета, к корпусу приросли за время нашего плавания мелкие, как зернистый песок, ракушки. Их три не три, хоть руки в кровь сотри, отодрать трудно – так они вцепились в железо.
На мое место заступает сменщик, а я, кувырнувшись спиной, погружаюсь в морскую глубь, смывая с кожи черные разводы мазута. Так мы купались посреди всех семи морей, и у меня до сих пор стоит перед глазами цвет их волны: в Азовском море – зеленый, Черном – темно-синий, Мраморном – нежно-зеленый, Эгейском – веселый голубой, в Ионическом – светло-голубой.
Боже, что за блаженство погружаться в пучину вод, когда яхта далеко за спиной и перед тобой открытый морской горизонт, к которому бесконечной чередой катятся волны. Ты погружаешься в глубину (помните, как в романе Джека Лондона выскользнул в иллюминатор Мартин Идеи), и морские течения подхватывают твое легкое тело, и нет сил вернуться обратно, и ты отдаешься на волю морской стихии.
Но тут внезапно доносится отчаянный крик:
– Акула, акула!!!
Погруженный в нирвану, я вначале ничего не могу сообразить, «При чем здесь акула, какая акула?» – проносится в голове, и вдруг молнией сверкает догадка: «Это же море, значит – акула!» И я разворачиваюсь и, с плеском уходя под воду, бешено гребу в сторону яхты, редко хватая воздух внезапно пересохшим от страха ртом. Происходит механическое раздвоение моего «я». Один человек изо всех сил спешит ускользнуть от надвигающейся опасности – ритмично работают руки, сгибаются и отталкиваются от воды ноги, – тело ввинчивается в волны, толчками продвигаясь вперед. Другой как бы наблюдает за всем этим со стороны и чувствует, как за спиной испуганного пловца таранит толщу вод веретенообразное тело хищника с приоткрытой зубастой пастью.
Наконец, прямо перед глазами выныривает из волн белый борт яхты, я делаю последний гребок, хватаюсь руками за металлическую ступеньку лесенки на корме и взбираюсь, тяжело дыша, на палубу.
Кто-то с облегчением произносит: «Ну, последний приплыл – все в сборе». Команда стоит у лееров и напряженно всматривается в море. Я тоже пристраиваюсь рядом, стараясь проследить за направлением их взглядов. И тут меня словно током ударило: я увидел, как пара косых плавников режет поверхность воды.
Что привлекло акул к яхте? Может быть, наши суматошные движения во время чистки корпуса – ведь колебание воды эта рыбина чувствует на большом расстоянии. А возможно, запах еды, остатки которой мы выбросили после обеда за борт. Кто знает. Во всяком случае, хищницы приплыли сюда не случайно – они почувствовали пищу. Акулы приближались к нам, словно примериваясь, как лучше напасть на добычу. Они чертили вокруг яхты круг за крутом, и движения их были спокойны, даже ленивы, будто они не принимали нас за достойного противника. А потом, внезапно отказавшись от нападения, они моментально скрылись в морской пучине.
Кто-то из ребят с облегчением вздохнул, кто-то отпустил легкомысленную шутку: опасность исчезла, и всем захотелось балагурить.
Старпом Слава Павленко стал вспоминать, как они во время плавания на «Товарище» ловили акулу на крюк с мясной наживкой. Акула несколько раз прошла кругами вокруг барка, как возле нашей яхты, а затем стремительно бросилась на наживку, заглотив крюк. Тут-то все и началось: рыбина кинулась вглубь, затем вбок, словом, рвалась и металась, сколько было сил. Но ей уже ничего не могло помочь. Когда акула устала ходить и дергаться, ее подхватили сеткой и вывалили на палубу. И тут она стала так биться, что матросы отскочили от нее в разные стороны, казалось, еще немного – и она разобьет хвостом весь барк. И все же пришлось акуле попасть в суп, вернее, ее плавникам, а печень заняла аж целую большую кастрюлю.
Зная, что из 250 с лишним видов акул лишь около сорока уличены в нападении на людей, я не поленился снова заглянуть в «Лоцию Ионического моря», чтобы прочесть про здешнюю длиннокрылую акулу. «Длиннокрылые акулы, – сообщала лоция, – в длину достигают 4 метра и более, они медлительны, обитают, как правило, в открытом море». Не правда ли, это описание напоминает встреченных нами акул? Читаю дальше: «Известны случаи, когда они нападают на людей». Вот так-то. Мне думается, что подплывшие к яхте акулы были достаточно голодны, чтобы заинтересоваться любой добычей, даже моим бренным телом.
После трудного перехода в штормовую погоду через Ионическое море мы все же добрались до итальянского берега и там, в портовом городе Таранто, я, проходя мимо рыбного магазина, увидел в витрине… акулу. Здесь можно купить любую лакомую часть акульей туши: плавники, кусок мяса или печени.
Даже жаль, что столь прозаический конец уготован такому грозному пирату морей. Жаль также, что, по данным ученых, количество акул все больше сокращается. Свирепые хищники, практически не имевшие соперников на морских просторах десятки миллионов лет, не выдерживают загрязнения среды и преследования со стороны человека.
Встреча Одиссеев, или представление на улице Пенелопы
Гавань – это визитная карточка любого острова, тем более такого знаменитого, как Итака. Тихим солнечным утром, предвещавшим дневную жару, наши лодьи скользили через узкий проход в округлую бухту, по берегам которой тянулись пляжи и белые домики пансионатов и гостиниц. В зеркальной воде бухты отражались расположенные на маленьких островках, как два стража островной столицы Вати, церковь и тюрьма, а прямо по курсу красовался плакат с надписью: «Каждый путешественник – гражданин Итаки». Таким образом, как пилигримы, мы сразу становились в ряды граждан родины Одиссея. Но все эти легкомысленные грезы были тотчас разбиты, как только мы ступили на землю Итаки, то бишь серые камни набережной. Именно эту землю, встав на колени, целовал Одиссей, вернувшись после скитаний на родной остров.
Портовая полиция тут же потребовала наши паспорта, в которые до того дня никто не заглядывал, и предложила заполнить анкеты с указанием не только года рождения, но и имени родителей. Неужели они сразу же догадались, что мы являемся членами карельского клуба «Полярный Одиссей», и стали искать среди нас внучатых племянников героя гомеровского эпоса?
Когда мы вежливо провожали по сходням полицейских, отдав им документы, то заметили на набережной загорелого до черноты аборигена с хитрющими глазками, спрятанными под кустистыми бровями. Он стоял, засунув руки в карманы штанов, прислонившись к тумбе, увешанной предвыборными лозунгами коммунистов и демократов. Уже с первых шагов по земле Итаки чувствовалось, что много воды утекло с тех времен, когда на ней правил царь Одиссей.
Хотя… хотя даже этот гражданин Итаки, ищущий с нами знакомства, напоминал какого-то персонажа бессмертной «Одиссеи». Когда он подошел, сказав, что раньше тоже иногда плавал, был рыбаком, а сейчас показывает славный город Вати туристам, я, всмотревшись в его округлую фигуру с заметным брюшком под выцветшей рубахой, признал в нем сходство с небезызвестным на Итаке во времена Одиссея нищим Иром, прославившимся как великий пьяница и обжора. Помните, как наглый Ир попытался выгнать из собственного дома Одиссея, явившегося туда под видом странника, а могучий Одиссей побил его в честной схватке? Так вот, этот новоявленный Ир (будем так называть нашего гида, ибо его настоящую фамилию, весьма труднопроизносимую, я моментально забыл), свернув с набережной, быстренько вывел нас на весьма обычную улицу из одно– и двухэтажных домов. Остановившись на тротуаре, он картинно подбоченился, указывая на надпись на угловом доме, и громогласно провозгласил: «Улица Одиссея».
Пока мы поднимались в город по знаменитой улице, Ир, не умолкая ни на минуту, захлебываясь от искреннего восхищения перед мужеством своего великого земляка, повествовал о всех приключениях Одиссея, сына Лаэрта, царя Итаки. Начал Ир с его подвигов в троянской войне.
– Под Троей наш Одиссей прославился храбростью, хитростью и умом, иначе, как «многоопытный» и «хитроумный», к нему и не обращались, – восклицает Ир. – Поэтому по решению всего войска ему преподнесли оружие павшего Ахилла. А какие ужасные бедствия вытерпел наш герой, возвращаясь после разрушения Трои на родину, – это просто нельзя описать.
Тем не менее Ир принялся с неослабным энтузиазмом живописать удивительные приключения Одиссея в стране лотофагов, питавшихся исключительно лотосом, и в стране циклопов, где он и его двенадцать спутников попали в плен к великану-циклопу Полифему.
– Это был простой пастух, но с одним глазом. Из его пещеры даже хитроумный Одиссей не смог бы выбраться, если бы он, как обычно, не прихватил с собой мех вина, – только теперь я заметил, что в рассказах нашего гида на первом плане была еда и выпивка, и это красноречиво говорило о некоторых порочных наклонностях Ира. Да и вообще байки Ира про обожаемого царя Итаки вызывали у внимательного слушателя подозрение, что он не читал «Одиссею», а кто-то ему пересказал гомеровские мифы. Но надо сказать, что он был прирожденным актером.
Когда он провел нас по улице, названной в честь сына Одиссея – Телемаха, к другой улице, точно такой же, то выражение его лица сделалось таким растроганным, будто он наконец сам после долгих скитаний обрел родной дом.
– Эта прекрасная улица носит имя самой добродетельной женщины Итаки, – он сделал паузу, попытавшись томно закатить свои глазки. – Вы, конечно, догадываетесь, что я имею в виду Пенелопу, верную жену Одиссея. Любую женщину нельзя надолго оставлять одну, а Одиссей скитался на чужбине двадцать лет. Другая бы женщина двадцать раз вышла снова замуж, тем более до Пенелопы наверняка доходили слухи, что Одиссей проводил немало прекрасных дней в обществе веселой нимфы Калипсо.
Пока Ир без умолку болтал, я с любопытством оглядывал улицу преданной супруги Одиссея с чистенькими домиками, окруженными цветущими кустами. Тем временем наш гид вовсю разошелся и, усевшись на ступеньки симпатичного дома с кадками вечнозеленых растений, принялся в лицах изображать приход Одиссея в дом Пенелопы, словно в нем ожил подлинный Ир – свидетель давних событий. На нас повеяло гомеровскими мифами, и вот уже перед глазами возник Одиссей в рубище нищего, скромно сидящий у дверей пиршественного зала, где домогались руки Пенелопы многие знатные мужи Итаки, проводя в безделии и пьянстве свои дни под крышей его дома. И вдруг перед ними предстала добродетельная Пенелопа, а в руках у нее были лук и колчан, полный стрел, принадлежащие ее супругу, и сказала она женихам:
– Кто из вас натянет этот лук Одиссея и пустит стрелу так, чтобы она пролетела через двенадцать колец, за того я выйду замуж.
Вам известно, что никто из женихов не смог даже натянуть тетиву богатырского лука. А перед нами на фоне зеленых гор Итаки выросла могучая фигура Одиссея с поднятым в руках тугим луком, из которого со звоном полетела стрела в синюю даль неба.
Я смотрю вверх по улице Пенелопы и вижу на склоне холма строительную площадку, где возводятся новые дома. Возможно, здесь высился дом Пенелопы? Там на каменных террасах серебрятся шеренги оливковых деревьев. Только сейчас я почувствовал жар солнца, и все сильнее начинает мучить жажда. Около домиков не видно ни души, во двориках зелеными змеями лежат свернутые шланги, и нигде не слышно не только льющейся из крана воды, но даже стука ее падающих редких капель.
Безлюдные дворики, замкнутые решетки калиток, полная тишина, словом, сиеста.
Я бреду по раскаленному городу, взгляд – в поисках воды – обшаривает все вокруг и, о счастье, натыкается на дерево дикой груши. Поспешно карабкаюсь к ней по дорожному откосу, хватаясь за пересохшие стебли травы, выбираю в листве дерева груши пожелтее и, упав на жаркую, потрескавшуюся землю, жадно поедаю терпкие плоды, слегка утоляющие жажду и голод.
«Где те благословенные времена, когда ворота каждого греческого дома были гостеприимно распахнуты перед любым странником?» – сожалел я, сидя под хилым деревом, еле прикрывающим своей тенью мою бедную голову от солнца.
Но я явно недооценил широту греческой натуры. Навстречу мне поспешал наш давний знакомец Ир с радостной вестью: мэр дает для русских гостей банкет. Наконец-то хлебосольные граждане Итаки решили устроить достойную встречу северным одиссеям.
Переодевшись вечером в чистые, хотя и изрядно мятые майки, самые достойные из нас двинулись по набережной за командором Дмитриевым, он же председатель клуба «Полярный Одиссей», искать мэра. Мне показалось, что когда мэр заметил у маленького кафе на той же улице Пенелопы нашу довольно внушительную колонну, то слегка вздрогнул и побледнел. С большим трудом найдя свободные столики, мы сдвинули их в нетерпеливом ожидании угощения. Но две бутылки кисленького винца и тарелочки с помидорами и брынзой, щедро выставленные мэром, не могли удовлетворить разыгравшиеся аппетиты. Но что поделать, зато мы могли вкушать пищу духовную, созерцая замечательное празднество, устроенное на маленькой площади. Так уж получилось, что наше пребывание на Итаке совпало (некоторые пилигримы увидели в этом перст Зевса) с Днем Одиссея, участие в котором принимают все граждане Итаки, от мала до велика.
Прежде всего до нашего слуха донеслась щемящая мелодия сиртаки, с первыми звуками которой через площадь козликом проскакал мальчуган в расшитой золотой нитью распашонке, щегольских сапожках и круглой шапочке. Музыка грянула сильнее, взвизгнули скрипки, и я рассмотрел музыкантов на невысоком помосте. У одного из них была в руках волынка, у другого – лютня, третий выводил рулады на флейте, а толстый мужчина в пиджаке держал на коленях какой-то необычный инструмент. Потом я выяснил, что этот странный инструмент называется «бузуки», и до наших дней дошла традиция натягивать на него шелковые струны, придающие особое мелодичное звучание.
Тем временем на площадь вышла вереница танцоров, и под все убыстряющийся темп музыки закрутилось коло, которое возглавлял высокий парень в тунике и распашной безрукавке, богато расшитой орнаментом, кажется, из цветов и растений, а его голову венчал красный колпак со свисающим на плечо острым концом. Глядя, как этот ведущий хоровода выделывает замысловатые па, я почему-то вспомнил бравых гвардейцев, стоящих в карауле у афинского парламента. Они были одеты в белые рубахи с очень широкими рукавами, украшенные золотом красные куртки, рукава которых были закинуты за спину, и в широкие короткие хлопчатобумажные юбочки, а ноги были обтянуты узкими белыми штанами и обуты в туфли с загнутыми носами с большими помпонами. Подобную одежду носили не так давно жители центральных районов Пелопоннеса.
Музыка звучала все призывнее. Широкие юбки со множеством складок и оборок колесом ходили вокруг стройных ног танцовщиц, которые успевали стрелять глазками, кокетливо держась пальчиками за обшлага отороченных мехом жилеток.
Танцоры сменяли друг друга, и даже с набережной были видны их красочные цепочки и летящие огненными языками в ночи алые кушаки и красные косынки…
Я долго лежал на палубе, всматриваясь в близкие южные звезды, красивые и чужие, и думал, что если бы Одиссей оказался сейчас на Итаке, то вряд ли бы он узнал любимый остров и своих потомков. Мне казалось, что я лишь задремал, как уже первые солнечные лучи скользнули по спокойной воде гавани и с набережной раздался пронзительный голос нашего гида:
– Мэр нанял автобус – можно ехать в горы!
Кроме тех достоинств, которые мы уже обнаружили в Ире, он к тому же считал себя классным водителем. Спозаранку его мотоцикл с разбитой фарой дребезжал по улицам Вати, распугивая местных кошек и собак. Так же лихо он вел по неописуемо крутым горным дорогам старенький автобус, в открытые двери которого (иначе бы мы умерли от духоты) можно было созерцать восхитительные пейзажи, если хватало присутствия духа: повороты на краю пропасти были ничем не ограждены.
Внезапно замелькали посадки фруктовых деревьев, и наш автобус, подняв клубы пыли, затормозил на круглой площади провинциального поселка. Ставрос – так назывался поселок – был примечателен старым собором да памятником Одиссею. Раскланявшись со старичками в пиджаках, сидящих за столиками открытого кафе, мы не преминули полюбоваться собором, а затем гуськом направились к Одиссею.
Бюст отважного героя издали проглядывал сквозь зелень кустов. Аборигены с удивлением наблюдали из-под козырьков фуражек, как выгоревшие до белизны под их жарким солнцем северные люди трогательно припадают к постаменту самого главного гражданина Итаки. Первым сфотографировался у бюста Виктор Дмитриев, потом стали подходить другие ветераны клуба «Полярный Одиссей».
Только мудрый Одиссей был по-прежнему невозмутим и гордо озирал морскую даль, где претерпел столь удивительные приключения, что люди до сих пор рассказывают об этом легенды.
Палатка у Тибра, или счастливчик Петрос
У каждого моряка есть свой любимый порт, подобный гриновскому Зурбагану. Таким портом в этом плавании стал для меня Пирей.
В первый же вечер он покорил меня своей набережной, огни которой отражались в тихой воде гавани, так глубоко врезавшейся в город, что, казалось, мачты яхт касаются балконов домов. Я бы сказал, что набережной стала вся прилегающая к гавани часть Пирея: аллеи, садики, где за деревьями и цветущими кустами прятались уютные ресторанчики и большие открытые кафе со столиками под пластиковыми крышами, лавочки и фирменные магазины с огромными витринами, в которых было выставлено все, что могла пожелать душа заезжего человека. Набережная по вечерам сверкала и манила к себе, но мне милее всего были пирс и причалы яхт-клуба Турколимано, где стояли наши суда и откуда можно было в считанные минуты добежать до моря и искупаться, но главное – здесь действовал самый взаправдашний городской пляж с …бесплатным душем.
Вот под этим-то душем и произошла у меня встреча с эмигрантами.
Надо сказать, что в начале нашего путешествия я как-то не задумывался над проблемой эмиграции – хватало забот и без этого. Конечно, мы все знали о старой русской эмиграции, об их первой, второй волне и особенно о стремлении части наших граждан уехать за «бугор» в последние десятилетия. Но все же, все же… это было весьма далеко от моей повседневной жизни.
А тут, в Стамбуле, сходит с лодьи «Надежда» на причал тоненькая девушка Светочка в туфельках на шпильках, и не успели мы оглянуться, как ее белокурая головка скрывается в «опеле», за рулем которого вальяжно развалился какой-то плешивый турок. Через сутки-вторые она снова оказывается на том же причале со своим баульчиком и мечется в поисках судна, которое доставило бы ее на родину. А ее землячка, Ирочка, хорошая повариха и веселая деваха с большими карими глазами, собрала вещички в Пирее. Вышла прогуляться накануне по набережной, нашла кафе с заботливым хозяином-греком, и тот пообещал ей место судомойки. Ирочке повезло больше. По слухам, она лишь через год появилась снова в родном Петрозаводске, а вот что она вывезла из-за «бугра» – о том молва умалчивает, да и какой тут может быть спрос: виза-то была итальянская, да и та на двадцать дней.
Но под упомянутым душем на пляже, когда я попросил у приятеля мыло, меня окликнул самый настоящий эмигрант, понтийский грек, один из тех тысяч греков, проживавших на территории СССР, которые уехали на родину своих предков. Разговорились.
Семья Мефистоклюса прибыла в Пирей из Баку. Сам он окончил юридический факультет университета, а отец был заместителем генерального директора крупного завода.
– Трудно ли было с оформлением? Пожалуй, нет. Мы ведь появились на берегах Черного моря (отсюда и наше название «понтийские»), спасаясь от преследования турок, так что для репатриации препятствий не было. Дело тут в другом – мой новый знакомый, высокий парень, тряхнул кудрявой головой и улыбнулся. – В общем, что тут дипломатничать – нелегко нам здесь приходится. Жилья нет, живем в коммуналке с албанцами. Работы тоже нет: отец сидит дома (это с его-то опытом), а я хожу грузить кирпичи на стройку – двадцать пять долларов в день. Отцу пенсии не дают – между Грецией и Россией нет договора о пенсионном обеспечении. Нет также соглашения и о признании дипломов, поэтому нам, если мы хотим работать по специальности, приходится сдавать дополнительные, очень сложные экзамены. Хотя вряд ли потом ты найдешь себе место: кому нужен эмигрант с образованием? Придется, наверное, нашей семье подаваться на север.
– А там что, медом намазано? – усмехнулся я.
– Если наймешься на стройку, можно в кредит купить коттедж. – Мой понтийский грек покачал головой и добавил: – Но за это будешь вкалывать всю жизнь – расплачиваться за проклятый кредит. А что делать? На этот вопрос ответил другой грек, который познакомился со мной тоже… под душем, только это произошло уже в городе Превезе, в одном из его сквериков, где около памятника борцу за свободу местный поливальщик с удовольствием облил меня из шланга. В этот интересный момент кто-то за спиной произнес на чистейшем русском:
– Эй, друг, если ты так соскучился по русской бане, то наверняка приплыл на этих северных лодках, что у набережной?
Я обернулся и увидел высокого тощего незнакомца с маленькими, темными, как чернослив, глазками.
– Привет, Петрос, – поздоровался с ним мой благодетель
поливальщик, – опять гуляешь?
Петрос только засмеялся и, подхватив меня под руку, широко зашагал по улице. Казалось, что все его здесь знали и были рады встрече с таким веселым парнем, а он останавливался, с каждым здоровался за руку и говорил несколько слов. У первого же бара он пригласил меня зайти:
– Ну, что, земляк, тебе обязательно надо согреться после холодного душа, – весело сказал Петрос. – Я познакомлю тебя с хозяином этого заведения. Нас встретили у порога полный, приветливый грек и его симпатичная веселая жена, и через минуту мы уже сидели за круглым столиком, попивали кофе с лучшим греческим коньяком «Метаксой», и Петрос без остановки рассказывал о себе.
– Ты удивился, откуда я так хорошо знаю русский? Еще бы мне его не знать, когда Ташкент, в котором прожил чуть не сорок лет, считаю своим родным городом. Там у меня четырехкомнатная квартира, жена, дети и друзей не меньше, чем здесь. Ты спрашиваешь, почему я не с ними? Лучше, когда вернешься домой, узнай, когда моя семья приедет ко мне. Ладно, старшая дочь замужем, а моя жена не может жить без внуков. Но младшей-то я подобрал здесь жениха, послал вызов. Ну, что она там думает? Съезди к ней, она музыке детей учит в Загорске, и все ей объясни.
Петрос на минуту замолчал, вытер лоб платком, налил из бутылки коньяк в маленькие рюмочки и выпил свою одним махом, как у нас принято на родине.
Да, трудно ему тут без родных и друзей. Попав совсем зеленым пареньком в Союз – он был в партизанах, а потом ушел через горы в Албанию, оттуда к нам, он исколесил всю Среднюю Азию, был шофером, газовщиком, строителем.
– Я нигде не пропаду: в Превезе с утра вкалываю на стройке, потом подрабатываю ремонтом машин. Ты скажи, что видел: какой приятный город, как меня все уважают. Жаль, что завтра уплываешь, а то махнули бы в деревеньку к моей матери (отец-то погиб в горах, был пулеметчиком), гам у меня земля и сто оливковых деревьев. Скажи моим-то, какой я стал богатый.
Петрос смахнул платком слезинку и стукнул жилистым кулаком по столику:
– Передай мое последнее слово: не приедут – женюсь. Я еще не старый…
Обняв меня за плечи, словно родного, он дошел вместе со мной до набережной, а потом, круто развернувшись, зашагал к себе в комнатку с одной кроватью.
– Чего мне заводить хозяйство? Если б приехали мои – купил бы мебель…
Петрос Куцукис, хотя и считает себя удачливым, ждет свою семью, тоскует без жены и дочерей, поэтому и шляется по барам до поздней ночи, а потом нехотя тащится в свою конуру.
А вот другие эмигранты и слышать не хотят о своей «батьковщине», хотя… Они окликнули нас в порту Фьюмичино, что совсем недалеко от Рима, когда мы шли по набережной одного из рукавов Тибра.
– О, чи поляки, чи кто? – услышал я за спиной удивленный женский голос. – Глянь-ко, усе рыжие…
Я оборачиваюсь и с обидой отвечаю:
– Почему же поляки? Русские тоже бывают рыжие…
Перед нами стояли трое земляков: крепенькая, невысокая женщина в потрепанной соломенной шляпе, из-под которой настороженно выглядывали маленькие глазки, рядом с ней здоровенный парень с русым чубом, а к ним жался миловидный мальчуган лет семи.
– Михаил Середа, – протягивает руку высокий парень, добродушно улыбаясь, и, показывая на женщину, представляет:
– А это моя мать, Любовь Ивановна. Перекурим? – предлагает он, усаживаясь на парапет набережной, и добавляет: – Дениска, сгоняй за водой…
Мы беззаботно сидим на солнышке, попивая принесенную Дениской «фанту», а новые знакомые, перебивая друг друга, повествуют удивительную историю о своем бегстве из СССР.
Любовь Ивановна все больше поминает старые обиды от советской власти: отобрали магазины у отца в революцию, потом в колхоз загнали, а когда они с сыном создали кооператив «Мираж» («Ведь Мишка-то на все руки мастер, – говорит она, – и шофер, и строитель, и механик хороший…»), построили оранжерею, чтобы выращивать цветы, – местные власти захватили их кусок земли, бывшую свалку отходов, которую они очистили от всякого хлама.
– Разве есть справедливость на свете – взяли и ограбили! – горячо восклицает Любовь Ивановна, размахивая руками. – Вот и пришлось тикать.
Миша, перебивая мать, рассказывает, как он похитил Дениску от сбежавшей от него жены, как они втроем укатили по турпутевке в Югославию и там, разузнав заранее про один городок, где граница проходит прямо по улицам, махнули в Италию.
– Захватив лишь одну сумку, мы вышли нарочно в обеденное время, – с удовольствием вспоминает Середа, – выбрали момент, когда солдаты дремали, никто на нас не обращал внимания, да как дунем через холм… Говорите, могли застрелить? Почему же, могли, даже стрельнули пару раз, да ведь там же улицы, люди – побоялись сильно палить. Вот так мы и оказались в эмиграции… Хотите знать, как мы здесь живем?
– Лучше, чем дома, – поспешила ответить за сына Любовь Ивановна и добавила: – Да ведь это рукой подать! Поехали к нам в гости, кстати, глянете на лагерь «Каритас» – мы рядом с ним живем.
Выбив один билет на всю компанию, мы с удобствами и быстро домчались до нужной остановки. Высадились на обочине шоссе. Я с недоумением осмотрелся вокруг, ища признаков жилья семейства Середы. Только спустившись по откосу и пройдя сквозь кустарник, я наткнулся на палатку. Принадлежала она поляку, который всю жизнь скитался в поисках лучшей доли и вот осел теперь здесь.
– Живет он тут уже десять лет, по вечерам свое «капучино» у нас пьет, – весело прокомментировала житье-бытье соседа Любовь Ивановна, откидывая полог собственной большой палатки. – Видите, какой дом нам подарили? А маленькая рядом – это кухня: тут плита и холодильник стоят. Сейчас буду вас кормить обедом – вишь вы какие все тощие.
Пока она готовила индюшачьи ножки («Почти даром купила», – похвалилась Любовь Ивановна) с жареной картошкой, вкус которой мы уже позабыли, я пошел глянуть на соседний лагерь для бедных эмигрантов. Путь к длинным баракам тюремного типа преграждала колючая проволока.
– Чего там рассматривать, – сказал Миша, – живут тут одни проститутки и наркоманы да выжившие из ума бомжи. Мы в Риме попали в подобное заведение, но сбежали через несколько дней, несмотря на бесплатную еду – жуткая обстановка.
В правдивости слов Середы я убедился позже, когда в Риме заглянул в один такой приют для всех страждущих, тоже принадлежавший католическому обществу милосердия «Каритас». И даже прошел по коридору, стены которого, как в туалете, были выложены плиткой, но, услышав вопли калек и больных, выскочил моментально наружу, твердо решив, что лучше переночую на скамейке, тут же рядом у собора Св.Петра.
За обедом мы выпили пивца, щедро выставленного хозяевами, и уже собрались было уезжать, как вдруг Любовь Ивановна подхватилась и с чисто русской (или украинской – все равно) добротой принялась оделять всех подарками («Подобрала на свалке – хотели сжечь», – сказала она). Батюшку одели в светло-голубые джинсы, Леше Дмитриеву впору пришлась крепкая куртка, а мне достались летние штаны, которые, правда, сели после первой же стирки…
Мы уходили из палаток к перекрестку дорог, а три фигурки махали нам вслед и кричали, чтобы мы всем рассказали, как им хорошо здесь живется.
Наши за границей… Мне попадались отзывчивые эмигранты: и белоруска на Радио Ватикана, уступившая принесенный с собой завтрак, и Валя Малышев, приютивший меня на своей даче под Генуей и помогавший мне вернуться в Рим и добраться до Москвы, и многие другие, которых я помню и люблю. Только жаль, что они остались без родины, которая у нас одна…
В.Лебедев, участник плавания в Италию на лодьях «Вера», «Надежда», «Любовь»
Авантюры и происшествия: Танцы на вертикале
Сегодня во Франции их уже более десятка – скалолазов-одиночек, чьи восхождения сродни сольным выступлениям танцовщиков. И нет ничего удивительного в том, что этих людей называют «солистами», однако подмостками им служат отвесные скалы, достигающие в высоту больше полукилометра…
А начало таким сольным выступлениям чуть более десятка лет назад положил молодой французский скалолаз Патрик Эдленже, ставший героем нашумевшего на весь мир документального триллера «Жизнь на кончиках пальцев» (отрывки из этого фильма российский зритель мог видеть в восьмидесятых годах в телевизионной передаче «Клуб путешественников»).
Что же заставило двадцатитрехлетнего Патрика Эдленже в свое время отказаться от традиционных приемов восхождения с обычной страховочной экипировкой и заняться тем, на что нельзя глядеть без содрогания, – одиночными подъемами на скалы, да еще при полном отсутствии какой бы то ни было страховки?
«Только одно, – признавался как-то отважный скалолаз своему другу и тезке журналисту Патрику Майе, – желание достичь полного совершенства, физического и психологического, и доказать, что крепкому телом и духом человеку по силам побороть не только страх, но и свернуть любые горы…»
Движения Патрика, когда он покоряет вертикаль, оставляя за собой страшные метры высоты, мягки, пластичны и безукоризненно точны: в таком деле недопустим даже мало-мальский просчет, ибо за ним незамедлительно следует срыв – падение в пропасть.
«Лично у меня, – вспоминает Патрик Майе, – когда я с замирающим от ужаса сердцем смотрел на трюки, которые он выписывал на головокружительных отвесах, всякий раз создавалось впечатление, будто я вижу некое фантасмагорическое зрелище, кошмар, от которого в жилах стынет кровь и по коже продирает мороз, а нервы настолько напряжены, что того и гляди лопнут…»
Фантасмагория или кошмар. Самому же Патрику Эдленже по душе иное сравнение – завораживающий виртуозный танец. Танец, который требует каждодневных многочасовых репетиций, где только и возможны осечки и промахи. На «сцене» же это исключено.
Свое редкостное мастерство – а оно и вправду сродни большому искусству – Патрик отшлифовывал на скалах, протянувшихся длинной грядой вдоль средиземноморского побережья Франции под Тулоном и обрывающихся прямо в море.
Именно на них он постигал высочайшее искусство танца на вертикали, учась умению сосредоточивать все свои мысли, чувства и силу мышц на каждом сантиметре скальной поверхности, на каждом движении тела, достигая при этом состояния, близкого к глубокой медитации, в котором страх как таковой вообще перестает ощущаться.
Экипировка, если можно так назвать то, с чем Патрик совершает восхождения, самая минимальная: на ногах – прочные тряпичные туфли с мягкими каучуковыми мысками на гибкой каучуковой подошве, а за спиной, на поясе, – мешочек, откуда он время от времени зачерпывает тальк и растирает им руки, чтобы улучшить сцепление пальцев с едва различимыми выступами на скале, на которой он исполняет свой смертельный танец.
«Наблюдая за ним снизу в бинокль, – вспоминает Патрик Майе, – с кем только я его не сравнивал: то с пауком, плавно и грациозно плывущим, а не ползущим, вверх по отвесу, то с птицей – потому как пальцы у него до того напряжены и скрючены, что напоминают скорее когти горного орла. В такие минуты я думал об одном: неужели он – человек, ведь то, что он проделывает, человеческое сознание просто отказывается воспринимать как явь».
Однако Патрик Эдленже – самый что ни на есть реальный человек, такой, как все. Единственное, что отличает его от других людей – это страсть к покорению вертикалей с помощью им же самим разработанного и отточенного до тонкости мастерства, благодаря которому он смог подняться на высоты, недоступные обычному скалолазу, и на те, что, бесспорно, отделяют танцора-солиста от всей танцевальной труппы.
Свой рекордный подъем, или, как его еще называли журналисты, «смертельный номер», Патрик Эдленже продемонстрировал однажды в Мали на одном из «пальцев» Руки Фатьмы – отвесной скалы, образованной пятью пиками высотой более девятисот метров, по виду напоминающими пальцы человеческой руки. Тогда за танцем Патрика, который он исполнял при жуткой жаре, затаив дыхание следили многие. То был действительно уникальный, незабываемый танец, достойный того, чтобы смотреть на него с изумлением, – из тех, что никогда не повторяются на «бис».
По материалам журнала «Grands Reportages» подготовил И.Алчеев
Исторический розыск: Гибель «Медузы»
Окончание, Начало см. в №l/1994.
История одной морской трагедии, прочитанной заново
Когда в двух лье от «Медузы» шлюпки оставили плот, было одиннадцать часов. Плот нес на себе 147 человек: кандидат в офицеры Куден, хирург Савиньи, 4 офицера пехотных войск, 120 солдат, около пятнадцати матросов и несколько пассажиров. Осадка плота составляла 50 сантиметров в центре и 60 – 70 на оконечностях. Из провизии – только 5 бочонков вина и мешок бисквитов, размокших от морской воды. Ни одного навигационного инструмента, а ведь Рейно утверждал, что оставил на борту плота все необходимые приборы.
Когда шлюпки начали исчезать из вида, на плоту раздались крики отчаяния и ярости. Затем они уступили место жалобам. Страшное зрелище представляли собой эти 150 человеческих торсов посреди необъятного моря, тесно прижатых друг к другу в кипящей морской пене и метавшихся на плоту. Роптали, конечно, не завистливый Савиньи и не язвительный Корреар. Это был и не Куден. Он знал флотские традиции, еще не разуверился в своих командирах и товарищах. Морская вода разъедала еще не зажившую его рану. Его посадили на бочку, и он возвышался над своим странным экипажем. Он приказывает начать установку рангоута и паруса и попробовать взять курс к берегу. Он требует принести переданные, по словам Рейно, на плот компас, секстант и карту, но их не находят. То ли их забыли передать, то ли они упали в море во время погрузки. Снова раздаются крики ярости. У одного из рабочих, находившихся под началом инженера Корреара, в кармане оказывается буссоль. Его передают из рук в руки, но легкий инструмент «весом с экю» выскальзывает из рук и исчезает между плохо пригнанными друг к другу досками палубы. Люди на плоту погружаются в отчаяние.
Тогда вместо ослабевшего Кудена выступает на первый план Савиньи, рвущийся к власти, его поддерживает наделенный богатым воображением Корреар. Справедливости ради надо отметить, что Куден очень страдал от своей раны. Безумием было поручать ему командование плотом, но и с его стороны было безрассудством принять командование на себя, не ища себе замены. Но Куден из той же породы, что и лейтенант Эспье: несмотря на молодость, он не боится жертвовать собой. Но, как бы там ни было, на плоту, хоть и по другой причине, наблюдается тот же феномен, что и на «Медузе». Командующий утрачивает свой авторитет. Случайный человек занимает его место. Разница лишь в том, что то, что было простительно для Кудена в его состоянии, для Шомарея было непростительно.
Савиньи – врач. Он знает слабости человеческой натуры. Он понимает, что даже самая грубая и поспешная трапеза способна разрядить обстановку. Он приказывает смешать размоченный морской водой бисквит с небольшим количеством вина; эта кашица роздана всем и немедленно съедена. В результате бисквитов больше не остается. Спохватившись и поняв, какой опрометчивый поступок он совершил, Савиньи устанавливает дневной рацион в три четверти литра вина на человека. Затем, чтобы скрасить всеобщее уныние, Савиньи произносит очень примечательную речь, совершенно непохожую на предшествующую ей речь Кудена. Он тоже возрождает надежду, но по-своему: эта надежда на отмщение! Он вновь разжигает ненадолго утихшие страсти, тем, что восстанавливает всех против командования, ответственного за предательство. Таким образом, он подчинил себе этих людей, изнуренных настолько, что им было трудно думать самостоятельно. Еще немногим позже, по просьбе Кудена, лишенного возможности передвигаться, он занимается установкой временного рангоута. По его приказу разрубается мачта из погибшего фрегата, устанавливаются опоры, развертывается бизань: пропорции соблюдены, парус ориентирован правильно, но все это мало влияет на скорость плота – в основном он движется благодаря течению. Из доклада Корреара – Савиньи:
«Крики людей смешивались с шумом водяных потоков, море постоянно поднимало переднюю часть плота, нас каждый момент могло смыть за борт… Всю ночь боролись со смертью, крепко удерживаясь за тросы. Мы находились между жизнью и смертью, оплакивая свою горькую судьбу, сопротивлялись безумству волн. Так мы провели первую ночь на плоту. То здесь, то там слышались страшные крики солдат и матросов, они готовили себя к не минуемой гибели и прощались друг с другом, горячо моля Всевышнего о спасении. Все молились об этом, но никто не верил, что мольбы их исполнятся».
К рассвету на плоту оказалось двадцать погибших. У двенадцати из них ноги были зажаты между досками, когда они скользили по палубе, остальных смыло за борт.
Первый и второй бунты
День 6 июля начался с самоубийства булочника с «Медузы» и двух юнг. Они попрощались с товарищами и казалось, что он видел землю, кто-то замечал несуществующие корабли. Бесполезный парус решили все же не снимать: его полотнище могло быть замечено со шлюпок. Ведь еще была надежда, что они вернутся с острова Арген. Эта мысль поддерживала людей, уже начавших страдать от голода, а бисквита не осталось ни кусочка; приходилось довольствоваться тремя четвертями литра вина.
Стояла страшная жара, но от жажды спасало то, что плот был сильно погружен в воду. К вечеру снова начался ропот. Ночь принесла с собой облака, непроницаемую темноту и пронизывающий ветер. И снова те же испытания. По свидетельству Корреара – Савиньи, «волны набегали со всех сторон и увлекали за собой людей, несмотря на их отчаянное сопротивление. Несчастные так сгрудились в центре плота, что некоторые задохнулись, придавленные телами навалившихся на них товарищей».
Офицеры держались у малой мачты и всякий раз, когда налетал новый вал, кричали остальным, к какому борту прижаться, чтобы не смыло волной; пассажирам приходилось перемещаться на более поднятую сторону, чтобы служить живым противовесом. Плот вел себя на волнах как простая лодка, болтающаяся на воде.
Так прошло несколько мучительных часов. Ветер утих. Корреар и Савиньи не упоминают об этом затишье. Между тем, если бы шторм и свирепствовал вплоть до наступления следующего дня, то баталии, разыгравшиеся на плоту, были бы просто невозможны. В докладе Корреара – Савиньи содержится приведенная ниже версия событий. Но прежде, чем дать основные ее положения, оговоримся, что описанная ими картина возлагает вину за происшедшее на простых солдат: факт сомнительный и не подтвержденный показаниями других свидетелей.
Итак, основные этапы мятежа по Корреару – Савиньи:
1-й этап: ощущение близкой и неизбежной гибели толкнуло матросов и солдат на то, чтобы пробить бочку и напиться; они решили перерезать крепления плота, чтобы погибнуть всем вместе. Офицеры были не в состоянии вразумить их. Не смогли они и предотвратить захват винной бочки. Здесь кроется первое противоречие. Ведь бочка находилась в центре плота, вблизи от мачты, на возвышении, занятом офицерами и людьми из их окружения. Значит, в течение всего дня шло обсуждение дальнейших действий, в результате чего образовались две противоборствующие стороны.
2-й этап: солдат азиатского происхождения подает сигнал к восстанию. Он хватает топор и пытается разрубить трос. Рассказчики специально делают акцент на том, что речь идет о цветном, наказание которого в эпоху, когда превосходство белого человека было вне всяких сомнений, выглядит практически обоснованным. Итак, он кулаками прокладывает себе путь, приближается офицер. Гигант угрожает ему топором. Цветного убивают. Начинается бунт. Мятежники обнажают сабли и вытаскивают ножи. Один из бунтовщиков угрожает офицеру. Его закалывают. Тогда восставшие отходят к корме, прикрывая одного из своих, который начинает перерезать крепления. Офицеры, предупрежденные об этом перебежчиком, теснят мятежников. Начинается общая схватка.
Трудно вообразить, что горстка людей столь успешно и ловко противостояла разъяренной толпе. Корреар и Савиньи говорят, что у бунтовщиков якобы были сабли и штыки. Откуда? Ведь, как мы помним, в момент погрузки на плот военные были разоружены, чтобы не перегружать плот. Офицеры же, как и прочие высокопоставленные лица, напротив, сохранили при себе сабли, шпаги и карабины. Конечно, и среди солдат нашлись те, кто, несмотря на запрет, взял с собой оружие, но они были в явном меньшинстве.
События, произошедшие во время второго бунта, лишний раз подтверждают эту версию. Кроме того, подозрителен сам факт, что бунтовщики овладели винной бочкой. Как получилось, что офицеры, зная о действии алкоголя на желудок, не принимавший пищу в течение суток, позволили проткнуть бочонок, они ведь так успешно расправились с теми, кто пытался разрубить крепления плота! Куден же в своем рапорте на имя министра официально подтверждает версию Корреара – Савиньи, что позволяет и на него возложить ответственность за события на плоту, ибо он был назначен его командиром. А сам Куден, из-за ранения не способный передвигаться, отдавал ли он себе отчет в том, что затевалось вокруг него? Да и посвятили ли Савиньи с сообщниками в свои планы Кудена, известного своим благородством и прямотой характера?
В своем отчете о кораблекрушении Ран приводит очень интересные свидетельства Тома, рулевого «Медузы», которому он доверял. Сравнивая доклад Корреара – Савиньи с рассказом своего свидетеля, Ран пишет дословно следующее: «Необходимо отметить одну деталь, которую я постараюсь не пропустить в окончательном варианте своего отчета. Речь вот о чем. В своем повествовании Савиньи говорит: „Мы проявили слабость, когда не воспрепятствовали тому, чтобы они тайком пили вино“. А Том говорит другое: „Эти господа посоветовались, а затем поставили бочонок посреди палубы, приказали его пробить и опорожнить. Несчастные солдаты напились, опьянели, потом вдруг начался беспорядок, за которым последовала резня, одни громко требовали свои подвесные койки и искали твиндек или судовую артиллерию. Другие кричали, что все потеряно, и бросались в море. Некоторые же, схватив ножи и топоры, собирались пустить плот ко дну. Офицеры, решив помешать исполнению этого замысла, бросились на них с саблями и устроили жестокую резню… Их не остановили ни крики, ни мольбы о помощи, они истребили около сорока человек“.
По словам Корреара, «луна освещала печальным светом узкое пространство, на котором сконцентрировалось столько душераздирающей боли, столько страшных несчастий, столько бессмысленной ярости, столько героизма и благородства…» Этот лицемер утверждал, что он якобы держался в стороне от первого «сражения». От забытья его пробудили крики и мольбы о помощи. Он собрал своих рабочих и, большой души человек, попытался держать нейтралитет. Его группа применяла оружие только в случае прямых нападений.
Именно в этот напряженный момент Корреар обвиняет солдат африканского батальона в том, что они недостойны носить военную форму: «Это были отборные головорезы, набранные из каторжников, и им было поручено осуществлять защиту колоний. Когда из санитарных соображений они должны были выкупаться в море, многие из них отказались из ложной стыдливости, но все равно на телах остальных все сразу увидели, какими наградами отметило правосудие их „подвиги“, послужившие основанием для принятия их на службу в портах Тулона, Бреста или Рошфора».
Впрочем, то, что Корреар принял за отпечатки раскаленного железа, было всего лишь татуировками. Но ему важна не истина, а то, чтобы солдаты сенегальского батальона выглядели закоренелыми преступниками, неспособными ни на бескорыстие, ни на честные намерения: вспомнить хотя бы его описание наглого и отвратительного азиата.
Таким образом получается, что офицеры расправились всего лишь с жалким отребьем. Вот что кроется за кажущейся непосредственностью изложения, которая на самом деле есть не что иное, как тщательная подтасовка фактов.
При описании второго бунта, случившегося через несколько часов после первого, Корреар и Савиньи невольно выдают себя: «Те бунтовщики, у которых не было оружия, по-звериному кусали нас… Кроме того, многие из нас были ранены, наша одежда была разодрана ударами ножей и сабель…» Становится очевидным, что те несчастные, кто не имел при себе оружия, вынуждены были защищаться зубами. Потери же с противоположной стороны были незначительны, в основном повреждена была одежда. Не случайно в докладе Корреара – Савиньи так мало подробностей самих схваток: а уж если приводятся в пример незначительные стычки, то они раздуваются в целую историю.
Наступило утро, и пришло время подсчитать количество убитых. Этот момент в докладе Корреара – Савиньи звучит несколько патетично. Они утверждают, что многие из них стали жертвами «лихорадки мозга», сопровождавшейся у одних галлюцинациями, у других – тягой к самоубийству, а в общем, крайней психической возбужденностью и полной потерей памяти. С наступлением утра разум их стал приходить в норму, и тогда они увидели, что натворили. Они не помнили, как это случилось, и ужас объял их перед лицом страшной картины, представшей их взору. Шестьдесят пять погибших – таков итог этой кровавой ночи: из них со стороны «знатной» части экипажа – всего лишь два человека, да и те не офицеры.
Каннибалы
«Для поддержания нашего жалкого существования требовались крайние меры, – так начинают свое повествование об этих событиях Корреар и Савиньи, – но то, что мы вынуждены были сделать, повергает нас в такой ужас, что при одном лишь упоминании об этом нас пронизывает смертельный холод и волосы начинают шевелиться на голове».
Менее красноречив кандидат в офицеры Куден: «Среди тех, кто уцелел, некоторые были столь голодны, что накинулись на останки одного из своих товарищей по несчастью, расчленили труп и начали ужасную трапезу. В первый момент многие из нас не притронулись к этой пище. Но через некоторое время к этой крайности вынуждены были прибегнуть и все остальные».
Хронология описываемых событий неточна, поскольку основывается на очень сбивчивых, неточных и путаных воспоминаниях оставшихся в живых пассажиров плота. Тем не менее, по всей видимости, случаи людоедства начались на четвертый день после высадки на плот.
Корреар и Савиньи отмечают, что, конечно же, офицеры оказались самыми стойкими. Было ли тому причиной более тонкое, чем у солдат, воспитание? Или беспримерное мужество? Или удивительная сила духа? Или их положение избранных на липкой от крови посудине? Во всяком случае, в своем докладе министру Военно-морского флота Савиньи признал тот факт, что по его совету «кровавые куски человечьего мяса стали сушить, дабы улучшить их вкус». Это означает, что он попробовал это мясо, прежде чем решил, что его вкус надо улучшить. И в данном случае совсем неважно, насколько долго офицеры воздерживались от употребления в пищу человечины. Главное – моральное падение этих людей.
Этот возврат к животным инстинктам означал, что главное кораблекрушение произошло не на море, а в их душах.
Летающие рыбы
В ночь с 8 на 9 июля умерло около двенадцати человек. Корреар и Савиньи утверждают, что скончались они от слабости, но нельзя быть уверенным в том, что им в этом не помогли.
Днем 9-го числа на палубу обрушилась стая летучих рыб. Пассажиры плота поймали около двухсот рыб. Сперва их пытались поджарить на зажженном при помощи пороха костре, но чуть не случился пожар, и пришлось есть их сырыми. Вместе с рыбой в пищу продолжали употребляться человеческие останки. В этот день, по словам Корреара – Савиньи, офицеры впервые притронулись к человечьему мясу.
Статистика этих нескольких кровавых дней, прошедших после высадки на плот, такова: в живых осталось около тридцати человек; остальные сто двадцать погибли от истощения, покончили с собой в последнюю ночь или просто были смыты за борт. С этого момента высокопоставленные пассажиры плота стали полными хозяевами положения, что избавляет Корреара и Савиньи от необходимости кривить душой при описании дальнейших событий.
Нарушители
В памяти рассказчиков не сохранилась точная хронология событий, происшедших между «вторым бунтом» и появлением на горизонте «Аргуса», но даже неупорядоченные факты поражают воображение. Кожа на ногах людей была разъедена морской солью, что усугубило их страдания от полученных контузий и ран. Большинство людей уже не держались на ногах. Запас летучих рыб подходил к концу. Вина оставалось всего на четыре дня.
Двоих военных застали за тем, что, спрятавшись за единственным бочонком, они украдкой пили из него вино через соломинку. Нарушителей в наказание сбросили за борт. Стало двумя едоками меньше.
В тот же день на руках у Кудена скончался юнга Леон. Бедный двенадцатилетний мальчик сошел с ума от всего пережитого. Пока в нем еще оставались какие-то силы, он метался по плоту и звал маму, жалуясь на голод и жажду. Корреар и Савиньи даже отвлекаются от основного повествования, чтобы посвятить несколько строк его памяти: «Он угас, как угасает без масла светильник. Все: его ангельское лицо, мелодичный голос, любознательность, свойственная его возрасту, незаурядная отвага, проявленная им, и добросовестная служба еще с прошлого года во время Индийской кампании, – вызывало щемящую жалость к этой невинной жертве».
Но наивно было бы полагать, что смерть мальчика пробудила благородные чувства в остальных. В рассказе «братьев по перу» до последних строк искусно сохраняется напряженность. После трогательного посвящения малышу Леону они переходят к сути дела: «Нас оставалось более двадцати семи человек. Из этого числа лишь пятнадцать человек имели какие-то шансы прожить еще несколько дней: остальные практически сошли с ума от ран и истощения. Тем не менее они имели право на свою долю в распределении провизии и перед смертью должны были выпить по рациону еще тридцать-сорок бутылок вина, которые могли пригодиться тем, в ком еще оставались жизненные силы. Мы рассуждали так: перевести больных на половинный рацион значило бы обречь их на медленную смерть. Посоветовавшись, мы приняли решение, продиктованное глубоким отчаянием: бросить их в море».
Свидетель Том в своем рассказе кандидату в офицеры Рану добавляет некоторые подробности о мольбах жертв о пощаде и неумолимости палачей; Корреар и Савиньи умалчивают об этом.
Белая бабочка
Выполнив эту черную работу, оставшиеся выбросили оружие. Оно им было уже ни к чему, оставили лишь одну саблю, чтобы при случае рубить дерево или тросы. Запасов оставалось на пять-шесть дней.
И вот на парус опустилась белая бабочка.
Пятнадцать оставшихся в живых смотрели на это крошечное создание как на посланца неба. А потом они увидели чайку. Теперь уже никто не сомневался, что вскоре появится африканское побережье, все только и мечтали о шторме, который подгонит плот к берегу.
Чтобы скоротать время, они обустраивали свое пристанище: сделали центральную часть повыше, чтобы наконец ходить посуху. Соорудили настоящие борта. Обменивались воспоминаниями и даже вели политические беседы, избегая лишь касаться крушения империи: тяжелое положение Франции после поражения при Ватерлоо угнетало их еще больше, чем сознание неотвратимости собственного конца.
К счастью, Корреар и Савиньи правдивы в описании мучившей их жажды, тем более что теперь они не должны были постоянно ступать по воде. А жажда была настолько нестерпима, что им приходилось пить мочу, которую они охлаждали в жестяной посуде. Сразу после питья им снова хотелось мочиться. Посуду с мочой прятали друг от друга. Савиньи, как истинный ученый, отмечал, что моча одних была более приятна на вкус, чем у других. А один из пассажиров мог спокойно выпить десять-двенадцать стаканов соленой морской воды. Эту его особенность Савиньи тоже отметил.
Палуба была усеяна остатками провизии. На дне одного из мешков нашли несколько головок чеснока, что вызвало ссору из-за дележа; пузырек с освежающим полосканием, несколько капель которого вызывали неуловимое ощущение прохлады в пересохших ртах; лимон, кусочки олова, которые клали в рот, чтобы вызвать слюноотделение. Кое-кто пил свою порцию вина через перышко. Приходилось отбиваться саблей от нападений акул. Чернокожий солдат Шарло и еще несколько простых солдат пытались покончить с собой, но общими усилиями им помешали. 16 июля был построен маленький плот, уменьшенная копия первого, с мачтой и парусом, но с большим количеством весел, сделанных из досок от винной бочки. Один из матросов согласился испытать его. Под его весом утлое суденышко перевернулось.
Глаза «Аргуса»
Теперь надежда была лишь на помощь извне. В возвращение шлюпок, спущенных с «Медузы», уже никто не верил, но некоторые надеялись, что на поиски плота был послан «Аргус». Один из пассажиров даже сочинил каламбур с использованием названия брига: «Господи, сделай так, чтоба глаза „Аргуса“ обратились на нас».
Утром 17-го числа капитан Дюпон заметил на горизонте корабль. Но он продолжал свой путь, так и не заметив плота. Ужас обуял измученных людей. Они выстроили сооружение из ободов от бочек, натянули на него оставшееся цветное белье, а один из матросов взобрался наверх и размахивал этим цветным тряпьем. Прошел час, и корабль исчез из вида. И тогда ими овладела апатия. Они натянули в виде навеса парус, легли под ним и стали ждать смерти. Один из них предложил нацарапать на доске краткую историю их злоключений. Так прошло два часа, когда один из солдат, канонир Куртад, выйдя из-под навеса, вскоре вернулся с криком: «Спасены! Бриг приплыл!» Пятнадцать уцелевших чудом людей сгрудились на носу плота, многие опустились на колени, сжимали друг друга в объятиях, кто-то размахивал тряпьем, подавая сигналы приближающемуся бригу. Вскоре стало ясным, что приближающийся бриг не что иное, как «Аргус».
Изначально бриг должен был добраться до обломков корабля и забрать оттуда груз и три бочонка с золотом, но встречный ветер помешал ему. Поэтому, когда подул бриз в сторону отмели Арген, Парнажон взял на нее курс, чтобы вернуться, и тут он увидел плот. Вот выдержки из его доклада на имя Шмальца от 19 июля 1816 года:
«В десять часов утра по ходу брига я заметил парус. Вскоре я понял: то, что я принял сначала за корабль, было плотом под небольшим парусом. В одиннадцать часов я бросил неподалеку от него якорь и отправил к плоту шлюпку с офицером. На плоту оказалось 15 человек, оставшихся, по их словам, от 147, высаженных на плот во время крушения „Медузы“… Взяв на борт этих несчастных, я был вынужден вернуться в Сенегал, ибо на борту моего брига не было достаточно запасов, чтобы оказать им необходимую помощь. Так, воды у меня оставалось всего на шесть дней».
При возвращении в Сен-Луи вдоль побережья с брига будет замечена группа д'Англа («ветераны пустыни»), им пошлют продовольствие.
Останется неизвестной лишь судьба тех, кто остался на обломках «Медузы». Но недолго.
19 июля в три часа пополудни «Аргус» встал на рейд в Сен-Луи. В шесть часов с разрешения английского губернатора потерпевшие кораблекрушение были высажены на берег. Офицеры обеих наций во главе со Шмальцем устроили им «блестящий прием». Корреар и Савиньи с горечью отмечают: «Один из них при встрече протянул нам ту самую руку, которая еще две недели назад нанесла нам коварный удар в самое сердце, оставив плот без буксира».
Понятно, что речь идет о Рейно.
Те, кто находился в наиболее тяжелом состоянии, были перевезены в госпиталь; остальные нашли приют у французских негоциантов из Сен-Луи. Принц Жуанвиль, побывав в госпитале, не без основания сравнил его с «преддверием смерти». Из пассажиров плота, переживших плавание, пятеро скончались через несколько дней.
На борту «Медузы»
…Лейтенант Рейно упорно пытался достигнуть остова «Медузы». Шмальц, увидев, что после потери «Медузы» лейтенант остался не у дел, доверил ему деликатную миссию по возвращению груза и золота, независимо от согласия Шомарея. 26 июля на борту шхуны, предоставленной губернатором Бриретоном, Рейно совершил первую попытку. Он отправился со съестными припасами на восемь дней, имея на борту команду темнокожих ныряльщиков, ведь трюм, в котором находились бочки с золотом, был затоплен. Постоянный встречный ветер заставил шхуну вернуться в Сен-Луи. Она вновь отправилась в путь с запасом провианта на 25 дней, но порыв ветра сорвал и так уже потрепанные паруса. 26 августа, с третьей попытки, Рейно наконец достиг цели: это было через пятьдесят два дня после эвакуации с «Медузы». И вот что он увидел:
«Представьте судно, практически лежащее на левом борту, трюм которого почти весь находится под водой во время прилива, и Вы получите достаточно точное представление о положении „Медузы“. Несмотря на все эти обстоятельства, мне удалось спасти трех несчастных, в течение сорока пяти дней находившихся между жизнью и смертью».
(Рапорт Рейно Шмальцу, 4 сентябри 1816 года.)
Эти трое оказались единственными уцелевшими из семнадцати человек, добровольно оставшихся на обломках. У них была мука и сало в изобилии. Они ловили рыбу, чтобы улучшить свой рацион. У них не было воды, но было вино и крепкие напитки, их было даже слишком много! Поначалу настроение было довольно бодрое: все ждали помощи, обещанной д'Эспье. Они боялись только того, что ураган может отнести остатки корабля в сторону: но он успешно сопротивлялся натиску моря, только глубже погрузился в ил. Но по мере того, как проходили дни, а парус так и не появлялся на горизонте, в их постепенно помутившемся от злоупотребления алкоголем сознании росла убежденность в том, что о них забыли. Эти люди, которые могли выжить, только помогая друг другу, начали следить друг за другом и проникаться ненавистью ко всем окружающим. Двенадцать из них решили построить плот, благо недостатка в дереве у них не было. Но они сделали его так плохо, что он опрокинулся, едва отойдя от обломков корабля. Все двенадцать его пассажиров утонули. Чуть позже еще один, потерявший рассудок, попытался уплыть на ящике для кур, который утонул в мгновение ока. Другой умер от истощения, быть может, он был убит своими товарищами. Короче, Рейно обнаружил трех несчастных, несмотря на огромные запасы провизии, и обезумевших от страха. Это были артиллерист, старшина второй статьи Кутан; матрос 1-го класса Далест, простой матрос. Позже они были допрошены следователем и приняли участие в процессе Шомарея. Их показания были несущественными.
Что касается Рейно, то он прилагал всевозможные усилия, чтобы выполнить свою миссию: «Хотя палубы фрегата были загромождены различными грузами, с большим трудом удалось извлечь из твиндека четыре бочки с мукой, две четверти солений, ящик с маслом, паруса и детали такелажа».
Он также пытался, но тщетно, вернуть 90 тысяч франков, хранившихся в бочках. Плохая погода помешала ему отойти от обломков судна. Два раза шхуна чуть было не села на мель, после чего он предпочел вернуться в Сенегал. Находясь на рейде в Сен-Луи во время разгрузки возвращенного груза, Рейно написал письмо Шмальцу, где просил простить его за то, что деньги не удалось спасти: «Я сам нырял, чтобы достать эти бочки…» Он предложил прекратить поиски, как слишком опасные и дорогие, ибо он сам убедился в невозможности достать бочки с золотом. Тем не менее он посоветовал дать разрешение негоциантам из Сен-Луи послать к «Медузе» частные корабли с тем, чтобы треть спасенного досталась им. Последние устроили в Сен-Луи грандиозную распродажу набранного на «Медузе» добра.
Это дало Корреару и Савиньи повод обвинить Рейно, кроме всего прочего, в том, что он продал главный флаг «Медузы», разрезав его на салфетки.
Однако в письме Шмальца от 20 сентября, адресованном министру, отмечается усердие и преданность Рейно.
Что касается Шомарея, то он счел долгом информировать министра о возвращении Рейно и о наполовину успешных результатах его миссии. Обнаружение троих выживших могло лишь не понравиться Шомарею, по крайней мере, помешать ему. Присутствие этих несчастных свидетельствовало против него; оно указывало на самую тяжелую из его ошибок: он покинул «Медузу» не последним. Этот хитрец парирует удар следующим образом: «Эти три человека, – цинично пишет он, – были в числе тех семнадцати, которые, движимые жаждой наживы путем грабежа, спрятались, чтобы не подниматься на борт». Несчастные, как же они смогли бы унести то, что им удалось бы украсть?
Эпилог
Крушение «Медузы» не могло не оказать влияния на судьбы всех участников экспедиции, особенно главных действующих лиц этой трагедии. Было бы несправедливым обойти молчанием то, как сложилась их жизнь после описываемых событий.
Шомарей предстал перед трибуналом, был уволен из флота, приговорен к тюремному заключению на три года, и, самое главное, навечно вычеркнут из списков кавалеров ордена Почетного легиона. Последнее обстоятельство привело Шомарея в глубокое отчаяние, и он даже пытался вернуть себе эту награду, но неудачно. В краях, где он доживал свой век, все были в курсе его «подвигов» и относились к нему враждебно. Шомарей прожил долгую по тем временам жизнь: он умер в семьдесят восемь лет, и это долголетие было ему не в радость.
Небезынтересно проследить и судьбу красноречивых «летописцев» Корреара и Савиньи. Первый из них многократно переиздавал свои воспоминания, которые пользовались неизменным успехом у читателей. Это преисполнило его сознанием собственной значимости – настолько, что он обратился в парламент с предложением о более строгом наказании офицеров, повинных в крушении «Медузы». Так, три года тюрьмы он считал слишком мягким приговором для Шомарея. Кроме того, он требовал отставки министра по делам морского флота и колоний.
Что же касается его собрата по перу Савиньи, то, сохраняя с Корреаром дружеские отношения и будучи лишен публицистического пыла, находился в тени. В это время он писал диссертацию о влиянии на человеческий организм продолжительного голода и жажды.
После защиты диссертации Савиньи предусмотрительно отклоняет предложение практиковать в столице и уезжает в Субиз, подальше от Парижа, от любопытства света и опасных интриг Корреара.
По свидетельству его сына, Савиньи так и не оправился после перенесенных им лишений, здоровье его было подорвано, и в 1843 году он умер в возрасте сорока девяти лет.
Вернемся к судьбе Корреара. Шум вокруг его воспоминаний сделал его не только известным в парижских кругах человеком, не только обеспечил ему место продавца книг в самом Пале-Рояле, но и преисполнил его ощущением собственной значительности. Вскоре он попадает под влияние французских карбонариев, у него устраиваются встречи якобинцев. Полиция постоянно следит за ним и его сообщниками, и он вынужден продать свой книжный магазин… Трагедия Корреара в том, что история крушения «Медузы» потеряла свою актуальность, а следовательно, и интерес у читателей. В результате этого Корреар отошел от общественной жизни, поселился в провинции и умер в безвестности в 1857 году. Ему было сорок восемь лет.
Губернатор Шмальц, как одна из ключевых фигур происшедших событий, также достоин отдельного рассказа. Став губернатором Сенегала, он наконец получил возможность применить свои организаторские умения на практике. Но его упрощенный взгляд на вещи и излишняя самоуверенность сыграли с ним злую шутку. Если постройка плота под руководством Шмальца, не имевшего специальных знаний и стоившая стольких человеческих жизней, была все же продиктована экстремальными условиями, то апломб, с которым он планирует географическую экспедицию в глубь Сенегала, не выдерживает никакой критики. Экспедиция окончилась провалом, а Шмальц был отозван со своего поста.
Новое назначение в Мексику окончилось тем, что прямолинейный Шмальц пал жертвой политических интриг и оказался за решеткой. После освобождения он короткое время был консулом по делам Среднего Востока в Смирне. В 1827 году, когда он умер, то его, обвиненного Корреаром и Савиньи в присвоении немыслимых богатств после кораблекрушения, даже не на что было похоронить. Он был погребен в общей могиле на одном из кладбищ Смирны.
Перевела с французского С.Никитина
Фантастический рассказ: Фанатик
Они лежали на холме. Внешне они абсолютно не подходили друг к другу: он был лохматый и неопрятный брюнет, коротышка, и в его глазах горел фанатичный огонь нетерпимости; она же была безупречна в идеально чистом летнем платье, этакий эталон холодной нордической блондинки.
Солнце нырнуло за горизонт – казалось, от прикосновения раскаленного докрасна диска земля задымилась.
– Сейчас ты увидишь, – пробормотал он.
– Если бы я не успела узнать тебя, я бы решила, что ты говоришь серьезно.
– Я говорю чертовски серьезно. Достаточно серьезно, чтобы начать принимать меры, и не откладывая. – Он недоуменно оглядел ее. – А я-то думал, ты все поняла. Что ты не такая, как все эти чурбаны в баре.
Огонь в блеклых глазах под тяжелыми бровями загорелся еще ярче.
– Я должен был это понять, – сухо сказал он. – Сам виноват: вообразил, будто встреченная в баре девица может, для разнообразия, иметь хоть каплю мозгов. Так вот, Юнис…
– У мужиков в баре мозги есть, сколько они ни пей, – перебила она, – а женщины, конечно, из другого теста. Так, да? А если уж хочешь знать правду, так это не в моих мозгах сомневаться надо, а в твоих – раз ты в самом деле веришь, что…
– Тихо, – оборвал он. – Вот они. Смотри и узнаешь кое-что. Если только тот еще здесь.
Из пещеры вылетали нетопыри – казалось, их тут миллионы, хотя опытный натуралист определил бы их число менее чем в десяток тысяч. И все-таки стая, похожая на вырывавшийся из пещеры столб густого дыма, поражала воображение, напоминая гигантские стаи странствующих голубей, затемнявших небо Америки еще столетие назад.
Джерри в бинокль изучал края тучи. Вдруг он схватил девушку за руку, краем сознания отметив упругость ее тела: великолепный образец, мельком подумал он. Крепкая, как молодая кобылица, разве что поглупее. А жаль – он-то надеялся, что они будут союзниками.
– Смотри! – почти крикнул он. – Там, правее остальной стаи – видишь группу из восьми… нет, девяти нетопырей? Взгляни – что ты заметишь?
Он протянул ей бинокль, но она отмахнулась.
– Я вижу и так, – спокойно сказала она, на миг сузив огромные голубые глаза.
– Ну? – нетерпеливо спросил он. – Да или нет?
– Просто летучие мыши, по-моему.
– Черт! – рявкнул он. – И зачем только я теряю время?! Я же говорил тебе, на что надо смотреть… а теперь они слишком далеко. – Он почти с отвращением посмотрел на девушку. – Ты что, в самом деле не видела разницы?
– Бога ради, Джерри, я же не специалист! Я ничего не знаю о летучих мышах! Все летали – вверх-вниз…
– Черта с два. Одна из них парила. Как ястреб. Я ее в третий раз вижу. Она на самую малость крупнее, может быть, немного другого цвета. Это все неважно, конечно, но вот то, что она парила – важно. Нетопыри этого не умеют. Они не парят. Может быть, потому, что ночью нет восходящих воздушных потоков, которыми пользуются птицы; может быть, просто потому, что в парении невозможно охотиться за насекомыми. Как бы там ни было, а нетопыри не парят!
Он вытащил из кармана распухшую записную книжку в картонном переплете и что-то в ней подчеркнул. Закрыв ее с видом человека, принявшего окончательное решение, он заявил:
– Готово. У меня достаточно данных. Теперь пора что-то делать.
– Данных про что? Не про эти же мелочи, которые…
– Не «про что», а «о чем», – с раздражением поправил он, почти не слушая, и яростно продолжил: – Мелочи! Значит, ты вчера плохо слушала и ничего не поняла. Животные чрезвычайно негибки в некоторых аспектах своего поведения. А я то пса вижу, который никогда не вертится на месте перед тем, как лечь; то голубя, что никогда не дергает головой; то летучую мышь, которая не порхает, а парит…
– Ты просто помешался на своей идее, – возразила она. Потом осторожно-успокаивающе погладила его по плечу и добавила: – Неужели тебе никогда не хочется просто развлечься?
Он недовольно отстранил ее руку и заметил почти про себя:
– Женщины – что кошки. Когда у парня есть время и желание, им вдруг позарез надо мыть голову или навестить мамочку. Но стоит ему заняться действительно важным делом, и в них тотчас пробуждается страсть. Погоди, крошка, вот разберусь с этим делом, там узнаешь, что такое…
– Сама не понимаю, почему я трачу на тебя столько времени, – фыркнула девушка. И немного погодя ласково добавила:
– Джерри, а ты не хотел бы сходить к доктору?..
Он кисло ухмыльнулся.
– Говори уж прямо – к психиатру. Или как там сейчас говорят – к дуропевту…
Он невесело, сухо засмеялся.
– Собственно, я сам не понимаю, какого черта я пытаюсь разбудить людей, трачу силы. Любая другая культура, пусть самая чужеродная для людей, будет улучшением, потому что хуже быть уже не может. Наверно, я просто не люблю, когда меня водят за нос. Даже если они держат всех нас за идиотов…
– Господи! – воскликнула она. – «Они»!
– В прошлый раз я все сделал неправильно, – продолжал он, не обращая на нее внимания. – Я их вскрывал. Пытался сличить органы и все такое. Но какой из меня зоопатолог! И – проклятье – не к кому обратиться за помощью! Я даже послал в санитарное управление образец кроличьей крови. Попросил проверить на туляремию. Я надеялся, они заметят, что с кровью что-нибудь не так. Но эти придурки просто сообщили, что туляремии нет. То есть если в крови и было что-нибудь необычное, надо, видимо, быть к нему готовым и копать глубже, а не просто проделывать рутинную работу.
– Может быть, у низших животных есть свои уроды и просто непохожие на всех особи? – предположила она.
– Сколько-то наверняка. Но я наблюдал слишком много отклонений! И теперь я возьмусь за дело по-другому.
– Как же именно?
– Если я тебе скажу, ты побежишь в полицию или сделаешь что-нибудь еще в том же духе, – возразил он. Но в его голосе звучала надежда, и девушка поняла, что ему очень хочется с кем-нибудь поделиться.
– Я никуда не побегу, обещаю. Расскажи.
– Ну ладно… Тогда предположи, что некоторые из этих животных совсем не животные, как я уже сказал, а что-то вроде шпионов. Не спрашивай, откуда они; но откуда бы они ни были, они очень разумны. В чужом обличье они могут пробираться практически куда угодно и изучать нас: нельзя забывать, что животные бывают не только дикие, но и домашние. Я понимаю, что это звучит сюжетом банального рассказика из журнала фантастики – но ведь истина обычно по сути банальна. Ладно, пусть они знают свое дело, пусть они умны; пусть некоторые – может быть, большинство из них – скорее умрут, чем заговорят. Но во всяком обществе есть слабые, и если стресс или угроза будут достаточно сильны, эти слабые могут сломаться. Как только я заставлю кота, или белку, или, скажем, летучую мышь заговорить – по-английски, – планы этих существ рухнут, и это несомненно.
Она смотрела на него, широко распахнув голубые глаза.
– Ты хочешь сказать, что собираешься пытать животных?! Чтобы заставить их говорить?!
– Я же говорил, что ты расшумишься.
– Джерри, ты разве не понимаешь – это же просто болезнь!..
– Еще бы. Как у Пастера, когда он говорил о микробах. Как у Энштейна, когда он говорил об искривленном пространстве. Как…
– Но другие животные – которых ты… разрезал… Где ты их взял?
– Я ведь говорил, что живу в Редвудском каньоне. Говоря грубую правду – в хижине. А называя все до конца своими именами – в хибаре. Тут уж одно из двух: или налаживать личную жизнь, или спасать неразумное человечество. Так вот, в каньоне полно живности: кролики, суслики, сумчатые крысы-гоферы, олени, еноты, белки, бурундуки, ящерицы, лисы, ласки, куницы – кого только нет. И вот когда я вижу животных, которые отличаются от нормальных – я говорю не о больных или окрашенных необычно, – я пытаюсь их поймать или подстрелить. Признаться, пока я не много узнал таким образом, и к тому же был неосторожен, а некоторые из моих соседей имеют обыкновение совать нос не в свои дела. Они на меня донесли – меня оштрафовали и вынесли предупреждение. Старая история, – добавил он с горечью, – всякий раз, когда пытаешься кого-нибудь спасти, можешь быть уверен, что эти же люди тебя и распнут. Ну да теперь-то я знаю, что мне делать, и добьюсь своего – у меня будут доказательства на магнитной ленте и кинопленке, и это убедит их всех.
– И ты действительно считаешь, что если станешь пы тать всех этих животных, ты заставишь кого-нибудь из них заговорить по-английски? И даже запишешь на пленку…
– Да, – твердо кивнул он и похлопал по записной книжке в кармане рубашки. – Вот это доказывает, что я прав. Сотни случаев. Кошки, которые не вылизывают некоторые части тела, потому что не могут принять позу, естественную для каждого котенка. Петухи, которые дерутся, но в интервалах драки не клюют и не роют землю. Крот, который не откусывает головы пойманных червей… Я мог бы продолжать часами. Я понимаю, что некоторые из них были обычными животными с какими-то отклонениями от нормы. Но спустя какое-то время развивается инстинкт, если хочешь, нюх на чужих. Сотни биологов видели то же, что видел в своих путешествиях Дарвин, но он единственный разглядел за фактами систему… Я же увидел систему в естественных, казалось бы, отклонениях. Я, конечно, могу ошибаться, но вероятность того, что я прав, очень велика. Если мир не будет предупрежден, за разведкой может последовать и захват. Но если мы будем готовы…
Она некоторое время молча смотрела на него, потом жалеюще покачала головой.
– А тебе не приходит в голову, – заметила она, – что такие твои шпионы прежде всего не дали бы себя поймать?
– Наоборот! Они же не знают о моих намерениях и подозрениях и могут специально зайти в ловушку, чтобы получить возможность изучать людей вблизи.
Это ее на минуту озадачило, но потом она сказала:
– А с другой стороны: ты не боишься, что, если они шпионы и захватчики, они могут тебя убить? Если ты под берешься к их секретам?
– Могут, – хмуро согласился он. – Но я надеюсь на то, что, будучи шпионами, они не имеют оружия; согласись, вряд ли имеет смысл рисковать попасть, допустим, под машину, чтобы тот, кто наткнется на тело, обнаружил некие странные предметы, животным не положенные… Как я понимаю, они тут пока в основном для сбора информации. Есть, конечно, риск, что они могут общаться на большом расстоянии; но риск не слишком большой, не то у меня уже были бы проблемы с теми, кого я поймал или подстрелил раньше. Во всяком случае, других они предупредили бы.
– Похоже, у тебя на все найдется ответ, – сухо сказала она. – И ты намерен теперь мучить всяких маленьких зверюшек.
– Почему обязательно – маленьких? Я видел, например, оленя, который не был оленем, медведя, который прошел мимо меда и головы не повернул…
– Я могу прийти… посмотреть?
Он был заметно удивлен.
– Посмотреть?.. Но я думал… это неприятное дело, я не отрицаю. Я должен это сделать – но ты… – Он замолчал и жестко посмотрел на нее. – Это что – проявление скрытого садизма? После всех этих жалостливых протестов хочется – просто разнообразия ради – крови и визга зверюшек? Вот что, барышня, прощайте; мы с вами друг друга не поймем. Оставим эту тему – и помните, это не я к вам подошел, вы сами напросились на знакомство. Уходите, меня от вас тошнит!
Она встала – высокая, гибкая, очаровательная, с безупречным профилем Снежной Королевы.
– Вы очень глупый и несправедливый человек. Я вас ненавижу!
Она удалилась с видом императрицы.
– С кем только не столкнешься… – мрачно пробормотал он. – И вот таких я пытаюсь спасти? Вот ведь, такая на вид милая, чистенькая… А, к черту ее! Наверно, это просто болезнь, и она ничего не может с собой поделать; ладно, но только не в моей лаборатории – достаточно скверно уже то, что мне приходится делать грязную работу, незачем устраивать из таких вещей спектакль…
Было уже совсем темно. Он неуклюже поднялся и побрел к своему драндулету. Почему-то он был уверен, что она сидит в машине – до города было далековато. Но она ушла. Он несколько раз позвал ее по имени, но она не отозвалась. Наконец он пожал плечами, завел мотор и укатил.
На следующее утро Джерри, стиснув зубы, готовился начать долгое и достаточно неприятное «исследование». Отвратительное, прямо сказать, исследование – но так же как некогда другой фанатик, Джон Браун, был готов убивать правых и виноватых в своем крестовом походе против рабства – борьба с рабством сама по себе была достаточным оправданием любого действия, так и Джерри полагал, что высокая вероятность правоты его предположений оправдает истязание беспомощных животных.
Сомнений хватило лишь, чтобы начать с того из пленников, в чьей сущности он сомневался меньше всего. Ведь мышь, скажем, хоть и вела себя необычно для грызуна, с меньшей вероятностью могла быть шпионом – хотя Джерри и говорил себе, что это глупая предубежденность, не обязательно соответствующая истине. Равным образом ему было бы трудно заставить себя мучить по-диснеевски симпатичного кролика. Конечно, нечестно, что тот, с кого он решил начать – молодой енот, – должен быть принесен в жертву лишь из-за своей бандитской наружности, так удачно дополненной черной маской на морде. В таком деле, Джерри понимал это, судить по внешности нелепо; жуликоватый, хитрый енот может оказаться просто зверем с поведенческими аберрациями, а милая мышка с блестящими глазками-бусинками, вполне возможно, являет собой главного вражеского агента. Но надо же с кого-то начать!..
Джерри натянул толстые перчатки, вытащил енота из клетки и не без труда привязал его к массивному столу, специально оборудованному для этой цели. Обездвиживать зверя совершенно, как делается при тонких операциях, необходимости не было; для операций, кстати, применяется и обезболивание… Все, что было нужно Джерри, – это лишить животное возможности вырваться.
Затем он зажег маленькую бутановую паяльную лампу и приблизился с ней к пленнику.
– Я знаю, что ты понимаешь меня, – обратился он к еноту, – так что притворяться нет смысла. Ничто не остановит меня, чтобы медленно сжечь тебя заживо – если только ты не ответишь мне по-английски, кто ты, кто тебя послал и зачем, и подробно. Теперь мы друг друга понимаем, верно?
При звуках его голоса енот перестал биться в стягивающих его ремнях и взглянул на Джерри яркими дикими глазами. Затем он возобновил попытки вырваться, хрипло дыша и тихо ворча.
– Как хочешь, ты сам выбрал. Значит, остается только болезненный способ, – произнес Джерри лишенным выражения голосом. Его лоб вдруг покрылся испариной. – Может быть, ты не знаешь, как обжигает огонь? Может, на твоей планете не бывает несчастных случаев с ожогами? А может, в своем естественном виде ты не умеешь испытывать боль или даже умеешь не испытывать ее сейчас? Может быть, ты тогда попытаешься изображать, что тебе больно, но я знаю, как проверить это, – и не скажу тебе, как. Если ты не можешь испытывать боль – я буду знать, что прав, и с тем большими усилиями стану… доискиваться правды… Впрочем, начнем сначала.
Он подкрутил горелку – пламя превратилось в голубой конус. Быстро провел огнем по левому уху енота. Зверь зарычал и затем издал тонкий, пронзительный визг, тряся головой и дергая ухом.
– Больно, да? – сказал Джерри. – Это был только маленький пример. Поверь, когда я буду держать пламя возле самой твоей кожи, боль станет непереносимой… если ты вообще чувствуешь что-нибудь. Я должен помнить свой долг, сказал он себе. Нельзя поддаваться жалости. Когда начну его жечь, надо будет считать пульс и сердцебиение. Он не догадается об этом, даже если попытается симулировать боль. А если пульс участится, я буду знать, что ему больно и он может сломаться, заговорить.
Он был уже готов обжечь левую переднюю лапу животного, но тут позади открылась дверь. Он резко обернулся, чувствуя, как падает сердце. Если какой-нибудь чересчур любопытный сосед увидит э т о…
– Ты! – вырвалось у него. – Я же сказал…
– Я должна была прийти, – проговорила она. Затем посмотрела на связанного енота, и ее голубые глаза вспыхнули негодованием. – Ах ты, бедняжка! Да ведь он же еще совсем маленький! Но почему ты взял – его?..
– Если это для тебя важно или если ты понимаешь, о чем речь, – этот енот не полоскал свою еду, если, заметь, не знал, что я за ним наблюдаю. Лучше уйди – тебе не понравится то, что сейчас будет. Но когда он заговорит, тебе придется хорошенько передо мной извиниться.
– Я не уйду, – отрезала она.
– Я могу тебя вышвырнуть.
– Тут даже замка на двери нет, – заметила она, с презрением оглядывая хижину.
– Оставайся, если хочешь. Но предупреждаю: если попытаешься вмешаться, я забуду, что ты – девушка, и ударю тебя.
Он подошел к еноту и поднес паяльную лампу к его лапе. Истязуемое животное издало пронзительный, почти человеческий вопль.
– Ну что, похоже на енота? – спросил он. – Клянусь богом, ничего подобного в жизни не слышал! Ты все еще хочешь спорить?
– Как его крик может быть нормальным – ты же его пытаешь! Ты должен прекратить это, Джерри.
– Нет, – ровным голосом ответил он. – Сегодня я добьюсь своего.
Он опять поднял орудие пытки.
И тогда енот заговорил. Его голос, в противоположность преступному выражению морды, был мягким и хорошо поставленным. Но при этом не по-человечески звучным.
– Это бесполезно, – проговорил он. – Я больше не могу. И в любом случае он и впредь неизбежно будет представлять собой проблему.
– Я согласна, – ответила Юнис, и Джерри, открыв рот, резко обернулся. И увидел направленный ему в лицо маленький автоматический пистолет.
– Не все из нас замаскированы под низших животных, – объяснила девушка – Стоило тебе копнуть поглубже…
И она выпустила три пули в голову Джерри.
Артур Порджес, английский писатель | Перевел с английского П.Вязников | Рисунок А.Штыхина
Приключенческие повести: Мальтийский крест
Андрей Князев, помощник месье Ремо, московского лекаря из Немецкой слободы, мечтает сам выучиться на медика. И все как будто бы идет к этому. Вместе с месье Ремо он участвует в походе на Азов. Случайная встреча с царем Петром обнадеживает Андрея: тот обещает направить его за границу, на Мальту. Там лучшая в Европе медицина. Отрок неплохо говорит по-французски, что немаловажно. Пускай выучится на лекаря! Но события следующих дней круто меняют судьбу Андрея. Русская армия отступает (то был неудачный первый поход на Азов 1695 года); Андрей и его случайный спутник казак Степан попадают в татарский полон. Рабство. Кафа – центр работорговли в Крыму. Казалось бы, прощай все надежды и мечты…
Глава, в которой Андрею и Степану выпадает тяжкая доля
В Кафу прибыли из-под Азова последние турецкие галеры. Они сильно задержались из-за осенних штормов. Сошли на берег янычары. Забили барабаны, заревели трубы.
– Аллах даровал нам победу!
На галерах султана вечно не хватает гребцов. И ожил невольничий рынок. Были выставлены на продажу пленные русские солдаты и казаки, пахари, священники, монахи.
Перекупщик Медхат велел Степану и Андрею раздеться почти догола. Усадил прямо на землю. Приманивал начальников с турецких галер. Наконец, приостановился сивобородый великан, явно обасурманенный славянин, которого сопровождала дюжина янычар.
– Сколько просишь за обоих, Медхат?
Перекупщик назвал цену.
– За эти-то ходячие кости? На галере нужны крепкие плечи, руки и ноги, чтоб удар весла был как сталь!
– Зря говоришь такое, Кара Мустафа, – обиделся перекупщик. – Чем плох этот казак? Жилист, крепок. И этот молодой не хуже. Он еще и лекарь. При нем вон сумка лекарская.
Сторговались. Медхат уложил деньги в котомку. А Кара Мустафа отправился к своей галере. Следом за ним янычары гнали, будто овец с ярмарки, новых галерников.
Издали турецкие галеры показались Андрею даже красивыми. Они стояли рядком, кормой к берегу. На мачтах – громадные, косо поставленные реи со свернутыми парусами. Вдоль красно-зеленых бортов – спущенные на воду весла. Корма у каждой в позолоте, резьбе. Но подошли поближе, и померкла красота. От галер несло живым нехорошим духом. Борта обгажены, вокруг плавает дерьмо.
У галеры, к которой пригнали Андрея и Степана, царила суета. Рабы тащили на нее по трапу вязанки хвороста, мешки с зерном и овощами, бурдюки с водой. Кара Мустафу осадили купцы-татары, привезшие на арбах овечьи и козьи туши.
– Почему не велел принимать наш товар, Кара Мустафа?
– Какой это товар? Мясо завоняло.
– Не без того, – соглашались татары. – Есть душок. Но ведь и запрашиваем пустяк. Сам же говорил, что, мол, на галере и не такое сожрут. Вот, возьми-ка от нас подарочек…
– Ладно! А ну, гяуры, вперед!
Кара Мустафа погнал Андрея и Степана вверх по трапу. Схватив железными пальцами за локти, представил рэйсу – капитану. Рэйс – толстый чернобородый турок, восседал на ковре под парусиновым навесом, отхлебывал из чашечки кофе.
– Новые гребцы, эфенди, – доложил Кара Мустафа. – Вместо тех двух, которых задавила упавшая рея.
Рэйс, мельком глянув на Андрея и Степана, махнул рукой. И Кара Мустафа велел отвести их к веслу.
С высокой кормы Андрей, холодея душой, увидел нутро галеры. Страшная картина! По обе стороны невысокого, узкого деревянного помоста, который тянулся посреди галеры, сидели сотни две кое-как одетых гребцов.
Помощник Кара Мустафы указал Андрею и Степану на одну из скамей левого борта, где сидели лишь трое.
– Ваши места, гяуры. Слезайте, живо!
Новые галерники спустились в деревянную клетку. Сели на скамью, обитую изодранным холстом. Их кандалы были примкнуты к общей цепи, протянутой вдоль помоста.
– Тут и локтей не раздвинешь. Как же грести? – спросил Андрей. – И где спать? А, Степан?
Казак отвечал невесело:
– Грести – на вытянутых руках. А спать? Выбирай доску помягче.
Сверху кто-то бросил им на головы мятые кафтаны и шаровары, войлочные колпаки со словами:
– Бочонки с водой под скамьей.
Андрей нащупал ногой бочонок. Вытащив наполовину, прочитал нацарапанное неумелой рукой имя: Игнат.
Галерники были все больше болгары, сербы, хорваты, русские и поляки. Кругом славянский говор. Сквозь кандальный звон до слуха Андрея и Степана донеслись слова:
– Еще двое русских, где Игнат сидел. Сколько же нас раскидано по турецкому царству, ребята? Да и остались ли на Руси еще люди?
– Остались, – отозвался казак. – Русский корень из земли так просто не выдрать…
Возвратились на галеру турецкие начальники и янычары.
Пыхнула сизым дымом пушка. Раздался переливчатый свист. И Андрей со Степаном по примеру соседей взялись за длинную дубовую скобу, прибитую к вальку весла. Галера брала курс на юго-запад. Море било в борта несильной волной. Звенели цепи. Каждый удар весел сопровождался не то криком, не то стоном: «– Э-а-а!»
Андрей со стесненным сердцем глядел на то, как отодвигаются, тают в синеве крепостные стены, минареты и колокольни Кафы. Равномерно, тоскливо скрипели уключины.
Галера шла на юг вдоль западного побережья Черного моря. Резала форштевнем свинцовую воду. При сильном волнении отстаивалась в бухтах. Осенью, когда погода неустойчива, уходить далеко от берега опасно. Вдруг да ударит с суши ветер, угонит мелкосидящую галеру в открытое море. Тогда гибель. На веслах оттуда не выгрести.
На передней боевой площадке кутались в кафтаны янычары. Передавали из рук в руки наргиле – кальян. Дремали у пушек топджи – пушкари.
Мерно, глухо гудел барабан. В такт его ударам взлетали и падали в воду громадные, до пяти сажен весла. Кара Мустафа – старший надсмотрщик, ключник галерский – управлял гребцами резкими, словно лай, командами и трелями свистка. Он и его помощники бегали по помосту, ударами бичей взбадривали усталых и ленивых. Такие бичи, толщиной с большой палец, мертвого подымут. Слышались вопли:
– За что бьешь?
– Чтоб ты сдох, недоверок христианский!
Соседями Андрея и Степана по скамье оказались венецианец Пъетро Зампатти – старший на весле, болгарин Тодор и француз Жан-Пьер Бастьен. Вот весло их случайно ударилось о соседнее, и сразу же на всех пятерых обрушились удары бича. Кара Мустафа рявкнул:
– Как весло держите, проклятые гяуры!
Андрей вскрикнул – на спине вздувался рубец. Сердце сжали обида, гнев.
– Потерпи, – негромко сказал Степан. – Скоро передых.
Бывалый казак знал, что говорит. Кара Мустафе приходилось думать о галерниках. Силы их не беспредельны.
– Ветер переменился, дует в корму, эфенди, – доложил он рэйсу. – Не прикажешь ли ставить паруса?
Азиз Ага, отвлекшись от Корана, покачал головой из стороны в сторону в знак согласия. И по помосту забегали босоногие матросы. Под скрип талей полезли вверх, наполнились ветром огромные треугольные паруса.
Когда галера идет под парусами, а вальки весел прижаты к скамьям, можно передохнуть, напиться из бочонка солоноватой воды, в которую добавлены уксус и оливковое масло. Кара Мустафа дает команду отцепить от скамей старших на веслах, и те приносят товарищам сухари, плошки со скудной едой.
Миновали Варну. Тодор не сводил глаз с родного берега. Говорил в тоске:
– Ах, Андрей! Знал бы ты, на какие муки обречен мой несчастный народ. Мы, болгары, который век платим султану налог кровью. Раз в пять лет турки отнимают у нас каждого десятого ребенка-малолетку. Мальчиков отправляют в Анатолию, отдают в турецкие семьи. Потом с десяти-одиннадцати лет учат в особых школах военному делу. Выходят из тех школ янычары, лютые враги христианства, стражи человечьего стада султанова.
– А ты, Тодор? Ты-то как очутился на галере?
– Случайно. Совсем случайно, – чуть не со слезами отвечал болгарин. – Азиз Ага шел на этой самой галере у наших берегов. У него умерли пятеро гребцов, и он высадил отряд янычар, которые схватили первых же попавшихся мужчин. И меня в их числе. Будь прокляты тот день и тотчас! Глаза проглядел в надежде, что галеру перехватит какой-нибудь христианский корабль. Все напрасно! Три года, как я прикован к веслу…
– А я сижу на цепи пятый год, – вставил Пьетро Зампатти. – Угодил в тюрьму из-за злобного навета. Продали в рабство. О, святой Марк! Как истосковался я по Венеции!
Жан-Пьер Бастьен сидит за веслом у самого борта. На вид ему лет сорок. Крутой подбородок с ямкой. Он вечно хмур и немногословен. Гребет сильно, ровно. Хорошо говорит по-турецки. Оказалось, Бастьен – мальтийский рыцарь!
– Откуда это у тебя? – спросил он Андрея, увидав на сумке медную пластину с именем и адресом известного парижского лекаря.
Андрей объяснил:
– Вещь не моя, а месье Ремо. Ему подарил его учитель. А я был ассистентом у месье Ремо…
– Понятно теперь, почему ты говоришь по-нашему. Московскому царю служит мой брат Бартоломео Бастьен.
– Знаю такого! – обрадовался Андрей. – Бывал он у месье Ремо.
Это сразу же сблизило Андрея с суровым рыцарем, и он спросил:
– Говорят, на Мальте хорошая медицина. Это правда?
– Сущая правда, – кивнул Бастьен. – Кто на Средиземноморье не слыхал о нашем Святом госпитале.
– Царь Петр хотел послать меня туда учиться.
– Почему бы и нет? На Мальте постигают медицину юноши из многих стран. Но… прежде надо добыть свободу…
Рыцарь замолчал, приметив, что по центральному помосту к ним приближается грузная фигура в зеленом тюрбане и широкой хламиде – сам рэйс Азиз Ага, капитан галеры. Его сопровождал Кара Мустафа с неизменным бичом.
– Так как же с выкупом, рыцарь? – подойдя, спросил рэйс. – Решился? А коли решился, возьму с тебя дукатами. Люблю венецианские дукаты! Они не падают в цене. Поселюсь на Кипре. Там славная пшеница, добрые масло и мед. А кипрское вино! Это же нектар из нектаров!
Бастьен отвечал, хмурясь:
– Не много ли запрашиваешь, Азиз Ага? Такие деньги. Мне век не расплатиться с Орденом и ростовщиками.
– Ну и подыхай за веслом.
Рыцарь, обычно сдержанный, забыл о благоразумии.
– Гляди, как бы самому тебе не сесть за весло.
Благодушное настроение у рэйса мигом испарилось.
– Пес! Неверная собака! – заорал он. – Никто и никогда не увидит меня на скамье галеры. В плети его!
Янычары, содрав с Бастьена рубаху, бросили поперек помоста животом вниз. Галерникам по обе стороны помоста велено было держать рыцаря за руки и ноги. Дюжий усатый турок принялся с громкими выдохами хлестать бычьими сухожилиями по голой спине.
– Где же твой Христос, гяур? – злобно щерился рэйс. – И что он не спешит тебе на помощь? Мы все равно разорим Мальту, это гнездо гадюк и скорпионов! Выкурим вас оттуда. Перетопим в море…
Били, пока рыцарь не потерял сознание.
– Хватит, – сказал рэйс. – Не сдох бы. Тогда и выкупа не получишь.
Пнув напоследок обмякшее тело, рэйс вернулся на корму. Вслед ему молча глядели две сотни гребцов.
– Стаскивай его с помоста, – скомандовал Зампатти. – Мамма мия! Как отделали…
Андрей смачивал забортной водой окровавленную спину рыцаря. Тот наконец очнулся. Открыл глаза, застонал, заскрипел зубами.
Раздался переливчатый звук свистка Кара Мустафы – приказ браться за весла.
– Держись, Жан-Пьер, – сказал Андрей. – Держись ради Бога!
Работали вчетвером. Только бы не навлечь на себя гнев Кара Мустафы. Рыцарь бессильно мотался вслед за вальком весла, твердил будто в лихорадке:
– Еще сочтемся, Азиз Ага! Кровью Христа, ранами его клянусь…
Глава, в которой Андрей остается в одиночестве
Вот и Босфор. Холмистые берега пролива, через который перекликаются петухи Европы и Азии, были расцвечены яркими красками осени. Блестели медью, червонным золотом леса. В Босфоре сильное течение, особенно между крепостями Румели Хисар и Анадолю Хисар, и бич Кара Мустафы не знал отдыха.
Вместо убогих поселений рыбаков все чаще стали попадаться садовые кущи, сквозь которые проглядывали легкие, нарядные постройки.
– Ялы, загородные дома богатых стамбульцев, – пояснил Тодор.
Остались позади последние береговые укрепления, Топ-ханэ – Пушечный двор с его дымными литейными заводами.
– Истанбул! – ликовали янычары.
Улучив момент, Андрей оборачивался, глядел, как во всю ширь открывается взору Стамбул, столица Оттоманской империи. На пологом холме небывалое скопление построек – башни, разноцветные купола, минареты и колокольни, громада Айя-Софии.
Вот где живет султан турецкий, недруг России!
Галера вступила в Золотой Рог. Этот залив надежно защищен от штормовых ветров. Здесь корабли могут швартоваться прямо к берегу, что весьма облегчает их разгрузку. Но сейчас по заливу гуляла мелкая, злая волна. На причалах было пусто.
За Галатой с ее высокой башней начался огромный Военный порт. Поздняя осень – начало мертвого сезона, и на приколе стояло множество галер без экипажей и весел, со снятыми реями и парусами. Темнели суда-конюшни, карамурсали – транспорты для перевозки войск, пушек и провианта.
Наконец на северном берегу обозначился целый город за высокой каменной стеной. Город мрачный, суровый. Галерники примолкли, у них потемнели лица. Андрей спросил:
– Что за стена, Тодор?
– Морской арсенал Кассим-Паши, – не сразу ответил болгарин. – За этой стеной каторжная тюрьма. Нет страшней места на земле…
У самого берега Кара Мустафа дал команду гребцам левого борта табанить – грести в обратную сторону. Развернув галеру, подогнал ее кормой к берегу. Велел матросам сбросить на земную твердь сходни с поручнями. Доложил рэйсу:
– Милостью Аллаха мы благополучно прибыли к подножию трона!
– Воистину, ты мастер своего дела, Кара Мустафа, – похвалил рэйс. – Отведешь этот скот в тюрьму.
– Будет исполнено, эфенди!
Покинули галеру Азиз Ага и начальники. С веселым гомоном, тесня друг друга, протопали на корму янычары, пушкари. Затем Кара Мустафа скамья за скамьей поднял со своих мест галерников. Вместе со всеми сошли на берег Пьетро Зампатти, Тодор, Степан, Андрей и Бастьен. Гремя цепями, поплелись в общей колонне к воротам Арсенала.
Взору Андрея открылась огромная судоверфь. Желтели остовы вновь заложенных галер. На стапелях работали тысячи невольников. Стук топоров. Визг пил. Брань. Свист бичей. Вопли.
– О, Боже милостивый! – вздыхал Тодор. – Видишь ли ты все это?
Галерная тюрьма – огромное помещение с зарешеченными окнами, была до отказа набита людьми. Сдав галерников тюремным властям, Кара Мустафа свернул бич.
– Теперь и отдохнуть можно.
Вся пятерка была прикована к железным кольцам, вмурованным в стену у окна. Степан, ухватясь за решетку, выглянул наружу.
– Ну и стены! Кругом янычары. Не удрать.
– Не удрать, – подтвердил болгарин. – Полы и стены выложены из каменных плит. Пролома, подкопа не сделать. Выйти отсюда можно, лишь заплатив выкуп. Но откуда деньги у бедного человека?
– Эх, захромал Воронок! – в который раз пожалел казак. – Кабы не сурочья нора, в которую угодил он копытом, сидел бы я сейчас в своем курене…
Утрами галерников выгоняли на стапеля, где они работали под доглядом суровых стражей.
Чего только не приходилось делать Андрею! В паре еще с кем-нибудь он распиливал продольной пилой бревна на брусья и доски. Работал молотобойцем. Куда бить, указывал звонким молоточком мастер-турок в кожаном фартуке. По его команде Андрей подхватывал клещами горячую поковку, совал в кадку с водой, и из кадки подымался столб едкого пара. Трудней и опасней всего было у треног с черными котлами, в которых пузырилась смола. Чуть оплошал – и ужасная смерть. Стражи сатанели, когда на верфь являлся с инспекцией капудан-паша, адмирал турецкого флота.
В зените своего могущества Оттоманская империя ежегодно закладывала на стапелях Арсенала до сорока галер. Турки строили галеры, а это оборачивалось великой бедой для Украины, далекой Московии. В 1646 году султан Ибрагим, решив построить флот из ста каторг-галер, отправил к крымскому хану гонца с приказом немедля идти за полоном. И в Стамбул вскоре стали прибывать карамурсали, битком набитые полоняниками. Охотясь за людьми в чужих землях, татары добывали гребцов для турецкого флота.
Зачерствелые сухари и горсть сушеных фруктов, вода – весь дневной рацион. Поэтому Андрей и Степан с нетерпением ждали вторника. По вторникам иногда водили побираться по Сали пасари, большому рынку между Галатой и Топ-Ханэ. Забывая о своей беде, дивился Андрей многолюдью на Сали пасари, горам сладких дынь и арбузов, обилию всевозможных фруктов, корзинам винограда. Кругом шум, галдеж. Зазывают клиентов приказчики. Вопят торговцы рахат-лукумом, халвой и кислым молоком. Их норовят перекричать водоносы с бурдюками. Густой кисеей висит пыль. В пестром людском водовороте будто плывут огромные тюки. В тюках – купеческие товары. Согнувшись в три погибели, их тащат с пристаней крючники.
– Позволь! Эй, позволь!
Движутся паланкины. Дорогу перед ними расчищают плетьми янычары. Бредут прокаженные. Дико вращают глазами полунагие, обросшие волосом факиры.
– Бахшиш!
С краю Сали пасари работают красильщики. Сушат на веревках только что вытащенные из котлов куски тканей ярких расцветок.
По соседству перестукиваются молоточками чеканщики. Лежат, пережевывают жвачку равнодушные ко всему на свете верблюды и волы. Суют головы под животы друг другу пыльные овцы с курдюками.
Стамбул не без добрых людей. Вот подошел местный славянин, сунул в руку Андрею лепешку: кушай, болезный! Да и сами турки не звери. Многие из них, кто побогаче, держат за свой счет имареты – бесплатные кухни Для бедноты.
Рядом с колонной галерников долго шел седой усач.
– Есть ли тут свежий человек с Дону, ребятки?
– Земляк? – отозвался Степан. – Я с Маныча.
– А я с Черкасска. Говорят, взяли казаки Азов.
– Не слыхал. Такие вести до нас не доходили…
Такой поход в город – галернику что глоток воды. А потом опять беспросветные тяжкие дни… Неожиданно рассыпалась пятерка Пьетро Зампатти.
Турки ценят, берегут слаженные команды гребцов. Такие команды получаются лишь после многих месяцев работы на весле. Но загребной заболел, да так, что от него, видимо, решили избавиться. Когда согнутого болезнью Пьетро уводили из тюрьмы, он будто шел на казнь. Просил:
– Удастся кому-нибудь выйти на волю да побывать в Венеции, то ради Пресвятой Девы Марии расскажите родным о моей судьбе. Зампатти живут на канале Сан-Тровазо, у скверо, где строят гондолы. Там есть церковь Сан-Тровазо…
– Будем живы, сделаем, Пьетро, – заверил его Андрей.
Вскоре перевели в другую часть Арсенала Тодора и Степана.
– Давай-ка обнимемся да поцелуемся, Андрей, – сказал казак. – Прощай, Иван! – так звал он рыцаря.
Грустно терять друзей, с которыми столько пережито.
Рядом с Андреем и Бастьеном посадили на цепь черногорцев – отца и сына.
Вечера в тюрьме тянутся бесконечно. Воздух сырой, зловонный. Галерники, сломленные усталостью, спят беспокойным сном. Кое-кто сидит, обхватив колени руками, бездумно смотрит на закоптелый потолок или на стену, по которым блуждают тени от факелов.
Андрей и Бастьен проводят время в беседах. Рыцарю все больше по душе молодой любознательный русский. Вопросам его, кажется, не будет конца.
– Кто может стать членом Ордена, Жан-Пьер?
– Человек благородного происхождения, причем со стороны отца и матери, на протяжении четырех поколений, – поясняет Бастьен. – Как, впрочем, и любой храбрец, отличившийся в борьбе с неверными.
– А откуда взялся ваш Орден?
Рыцарь устраивается половчей на драной подстилке.
– О, это давняя история, Андрэ. Когда Гроб Господень захватили турки, в Палестину двинулись крестоносцы, чтоб изгнать их оттуда. Среди рыцарей и паломников были больные, раненые. И купцы из Амальфы и Салерно основали в Иерусалиме госпиталь во имя святого Иоанна Крестителя. Было это в 1099 году от Рождества Христова.
– Давно…
– Давно, – соглашается рыцарь. – С того госпиталя и ведет свое начало наш Орден. Монахов-воинов нашего Ордена в ту пору называли иоаннитами, госпитальерами. У Ордена свои святыни – мощи правой руки святого Иоанна Крестителя, чудотворная икона Девы Марии Филермской, щепа от креста, на котором был распят Христос…
Рассказ Бастьена нарушает то буйная потасовка игроков в кости, то вскрик соседа-галерника, которому привиделось во сне что-то страшное. Андрей слушает, стараясь не пропустить ни слова.
– Неверным удалось вытеснить христиан из Палестины. Иоанниты ушли оттуда последними и обосновались на острове Родос. Построили там город-крепость с надежной гаванью. Овладели морским делом. Два с лишним века де ржали турок в страхе…
– Но все же пришлось покинуть и Родос, – продолжает рыцарь. – Случилось это в 1552 году. Слишком неравны были силы. Орден тогда обосновался на Мальте, продолжил Священную войну с исламом. Сто тридцать лет назад монахи-воины выдержали страшную осаду, когда турки высадились на Мальте. Шестью годами позже приняли участие в разгроме турецкого флота при Лепанто. Христиане тогда вырвали из рук турок скипетр моря, которым те владели столетия. Европа увидела, что турок можно побеждать на море. А ныне Орден бьется с берберами – корсарами из Туниса и Алжира. С галерой под командой мальтийского рыцаря не сравнится ни одна другая на всем Средиземном море. Принимая рыцарский сан, мы клянемся в вечной ненависти к неверным. Клянемся преследовать их всегда и везде…
Бастьен темнеет лицом.
– Почему же тогда, спросишь ты, оказался я здесь, в этой мерзкой темнице? Меня атаковали в Эгейском море сразу шесть турецких и алжирских галер. Взорвать пороховой погреб не удалось…
Вот какие они, мальтийские рыцари! Андрей с уважением глядит на Бастьена. С крестом в одной руке, с мечом в другой, бьются с нехристями…
– Царь Петр строит российский флот, – повторил он слышанное им однажды в шатре генерала Лефорта. – Говорил, мол, без флота турок из Азова не выбить. А про Орден сказал, что такой союзник был бы очень ценен.
Рыцарь кивнул.
– О планах царя Петра надо бы сообщить великому магистру. Но как? Впрочем, я веду переговоры о своем вы купе…
Выкупными делами в Стамбуле занимались посредники – греки, армяне и евреи из Галаты. Без этих ловких, продувных людей никому не обойтись. Они и менялы, и переводчики, и лекари. Через них общаются с турецким правительством послы Голландии, Англии и Франции, негоцианты из Венеции и Генуи.
Бастьен вел переговоры о своем выкупе через Панайотиса – лысого, чернобрового и чернобородого грека. После встреч с ним говорил с брезгливой миной:
– Клянется Панайотис, что, мол, гребцы на галерах и рабы на стапелях султану нужней выкупных денег. Лжет ведь. Цену набивает. Выкуп, назначенный Азизом Агой, просто непомерен. Но не век же сидеть в этой дыре.
И все-таки выкуп состоялся. Рыцаря посетил генеральный писарь Арсенала. Кузнец сбил с ног Бастьена кандалы.
– Можешь убираться на свой проклятый Аллахом утес, гяур, – сказал писарь. – И впредь не попадайся на пути победоносных галер ислама.
Рыцарь проворчал:
– Там видно будет.
Собирая пожитки, Бастьен сказал:
– Рад был бы облегчить твою судьбу, Андрэ. Но, увы, сделать ничего не могу. А о том, что ты сделал для меня, не забуду до конца жизни. Прощай!
Андрей глядел вслед рыцарю, и к горлу у него подступал комок. Один. Теперь совсем один в каменном мешке, где ни днем ни ночью нет покоя, где не смолкают кандальный звон, свист бичей, проклятия и богохульства. Где душит вонь. И откуда утрами выволакивают посинелые трупы.
Старший из черногорцев, видя слезы на его глазах, сказал:
– Не падай духом, Андрей. Найдешь новых друзей. И все может перемениться в одночасье.
Андрей вытер насухо глаза. И правда. Надо держаться. Держаться изо всех сил!
А черногорец будто в воду глядел.
Глава, в которой Андрею привалила удача
Кара Мустафа, потряхивая бичом, расхаживал по понтону. Подгонял узников, занятых очисткой днища большой галеры. С помощью заведенных на мачты канатов она была положена круто набок, так что выступила из воды добрая половина подводной части.
Это была галера самого капудан-паши. Корпус ее сработан из благородной смоковницы. Корма в золоченой резьбе. К понтону ее пригнали двести молодых гребцов в красивых куртках и колпаках – вольные люди. На ее мачте развевалось окантованное желтым шелком красное полотнище с сурами из Корана и именем султана Мустафы Второго над скрещенными ятаганами.
– Шевелись!
Рука у Кара Мустафы тяжела. Бил он хлестко, с оттяжкой.
На понтоне работал и Андрей. Ножные кандалы, чтобы не мешали, он повесил на крюк у пояса. Велено было соскребать с днища наросты из водорослей и ракушек – они сильно замедляют ход судна, оттертые добела места смазывать разогретым салом. До этого пришлось вместе с другими галерниками вытащить из трюма и отнести на берег балласт – корзины с камнями, пушечные ядра. Тяжелые, в семь-восемь пудов весла снимали с уключин командами в несколько человек.
Наконец Кара Мустафа дал знак кончать работу, и Андрей устало опустился на бревно. Бездумно глядел на то, как неподалеку идет развод караула. Гремел, подымая великий шум, оркестр из медных труб и тарелок. Под эту музыку отправлялись за разводящим по постам янычары – смуглые молодцы в шрамах, с лихо закрученными усами. Вскоре вернулись отстоявшие смену, разговаривая, смеясь, прошли мимо понтона. Позади, заложив руки за спину, шел их начальник. Андрей глянул мельком, и его словно обожгло. У янычара рассечена левая бровь, двойная родинка на щеке. Да это же внук того старика запорожца, что бродил по улицам Кафы и все рассказывал о своем внуке Грицько, ребенком проданном туркам… Точно, он – все приметы сходятся. Кликнуть или нет? Может, никогда больше его и не увидишь…
– Грицько!
Янычар дрогнул. Замедлил шаг.
– Эй, Грицько!
Обернулся наконец. Поглядел. Странные у него были глаза. Вроде бы светлые, славянские, но какие-то дикие, чужие. Подойдя, сказал с натугой:
– Я… Мехмет…
– По тебе дед горюет.
– Кто ты?
– Русский. Попал в плен к татарам.
Янычар все глядел да глядел. Не говорил ни слова.
– Видел в Кафе твоего деда. Он о тебе рассказывал. Как тебя лошадь лягнула…
И затуманился взор у янычара. Он поник головой. Видно, всплыли в памяти полустертые временем картины детства…
Привалила удача Андрею. Да еще какая! Его взяла к себе в услужение община янычар холостяков.
Сбиты с ног ненавистные кандалы.
– Вот, видишь, и пришло избавление, – сказал старший из черногорцев. – Рады за тебя. А нам отсюда уже не выйти.
Сын его харкал кровью, слабел с каждым днем.
Армия Оттоманской империи состоит из пяти одьяк – родов войск. Одьяк янычар включает в себя 229 орта, отрядов, причем 77 из них постоянно расквартированы в Стамбуле. Холостяки живут в казармах. Каждая казарма поделена на комнаты-общежития. Группа янычар, проживающих в такой комнате-общежитии, называется ода. У каждой ода свой знаменосец, свой повар, свой водонос, свои слуги.
Начальником такой ода был Мехмет.
Для Андрея началась новая жизнь. Чуть свет он бежал по соседним лавкам. Наведывался к армянину за заказанной янычарами пастурмой – копченой, густо начесноченной говядиной, или за шиш-кабабом – бараниной с зеленью и злым перцем. Потом в башанэ – харчевню, где готовят блюда из риса, овечьих ног и голов. Забирал у муаллеби джи – молочника сметану, кислое молоко. Покупал чеснок, лук и всяческую зелень, которую так любят турки.
Свертывал, рассовывал по углам, распихивал по шкафам матрацы янычар.
Вооружившись ятаганами и дубинками, янычары отправлялись во главе с Мехметом на дежурство в Арсенал, или на охрану резиденций иностранных послов, или на обход площадей и улиц Стамбула. Андрей тогда должен был вымести спальню, наполнить водой кувшины.
Если янычары обедали дома, то, совершив намаз, усаживались на полу за дастарханом или вокруг тепси, большого медного подноса на подставке. Кусочками лепешки подхватывали из блюда плов, доставали руками мясо. Угощались арбузами и дынями. Пили разбавленное холодной водой молоко. Пообедав, мыли руки в лохани. Все это нужно было убрать и вымыть. Вечерами Андрей зажигал масляные светильники, свечи. Дел много. Но разве сравнишь их с работой в тюрьме?
Мехмет не раз и не два расспрашивал о своем деде. И Андрей повторял то, что слышал от старика в Кафе. Как татары разграбили станицу. Как были зарублены отец и мать Грицько.
– Старый уже твой дед, Грицько. А помирать, не увидавшись с тобой, не хочет.
Янычар вздыхал.
– Большой… усы. Во сне приходит. Говорит…
Когда Мехмет не понимал что-нибудь, он звал на помощь своего приятеля Масуда. Масуд говорил по-русски куда лучше. Татары поймали его на околице деревни, когда ему было десять лет. Масуд, как и многие в ода, держал в городе лавчонку на подставное лицо, приторговывал фруктами. (В конце XVII века дисциплина и боевой дух в корпусе янычар заметно ослабли. Оттоманская империя напрягала силы в войнах с Венецией, затем с Австрией, Венецией и Россией, и отбор в янычары был не слишком строгим.)
Однажды Масуд зазвал Андрея в кава-ханэ, которых было множество на берегу Золотого Рога. Они сидели на низких деревянных скамьях, покрытых циновками. Пили йеменский кофе. Разглядывали прохожих. В кава-ханэ никому дела нет до того, кто в какого бога верует. Здесь встречаются друзья поиграть в сатрандж – шахматы, подымить чубуками, добавив в табак алоэ и мускус. Звучат восточные мелодии. Танцуют цыганки и черкешенки.
Разговор получился откровенный. Масуд словно исповедовался.
– Михаилом, Мишкой меня звали. Это помню. Отца, мать – помню. Медный крест носил – помню. А откуда родом – не знаю. И никто мне это не скажет…
Рассказывал Масуд, что из славян не только они – янычары, но и многие вазиры, большие начальники, их жены и слуги. Кровь турок разбавлена славянской кровью. Семь лет он провел в аджеми-оглане, корпусе детей-варваров. Там его учили не знать ничего и никого, кроме ятагана, своего аги-командира и казн – судьи. И все-таки не смогли убить чувство родины…
– Не забыл ты русский язык, Масуд, – признал Андрей. – Как это тебе удалось?
– Да как. Говорил сам с собой: вот это дом, а это дерево. Вон человек идет. Вон лошадь бежит. Говорил с друзьями. Тайком. Наказывали за это строго. А потом, мало ли в городе русских?
– Кто же ты? Христианин? Магометанин?
Янычар отвечал задумчиво.
– Не знаю. Турки мы с Мехметом. И зови ты Мехмета – Мехметом, а не Грицько. Не нравится это нашему aгe…
Андрей с любопытством приглядывался к янычарам. Басурмане, а все родом из завоеванных турками христианских стран на Балканах, из Польши и России. Не дураки выпить.
Янычары гордились тем, что, мол, каждый из них стоит семи врагов. Потому именовали себя убийцами семи. Жили на жалованье из казны. Раз в год, в Святую ночь, получали голубую салоникскую ткань на одежду по десяти аршин на брата, отрезы муслина на тюрбаны и рубахи. Когда жалованье задерживали слишком долго и жить становилось не на что, подымали мятеж. В последний кровавый мятеж 1687 года янычары разбили дворец самого султана, разграбили половину Стамбула.
Искреннее изумление вызвали у Андрея яялары. Ну и народ! Свою и чужие жизни они не ставят ни в грош. На теле у многих особая татуировка – суры Корана. С врагами султана яялары бьются, прикрывшись шкурами диких зверей. При осаде вражеских крепостей яяларов первыми бросают на приступ. И эти смертники, одурманенные гашишем, заваливают своими телами рвы, открывая путь янычарам, которые следуют за ними с диким обвальным воплем: «Алла!»
Частыми гостями в казарме были факиры из секты бекташей, «крутящиеся дервиши» из секты мевлеви.
Ах, как пригодились знания и опыт, обретенные в доме месье Ремо! Стал Андрей у янычар домашним лекарем. Между дел учился говорить по-турецки. В свободные часы с интересом заглядывал в соседнюю Галату. Галату турки называют городом неверных. Там хозяева – иноземные купцы. Ходил Андрей по пристаням, глядел, как разгружаются корабли из Генуи, Лондона, Марселя, Бреста и Амстердама. В Галате живут вокруг своих церквей и синагог армяне, греки, евреи. В ее тесных кварталах обитают люди, связанные с морем, – таможенники, агенты купеческих домов и иностранных посольств, писари, матросы, грузчики, сторожа судов и складов. Лепятся матросские кабаки, скандально известные на всем Востоке.
Иногда Масуд или кто-нибудь из янычар давали поручение съездить в город, и Андрей, уплатив пару монеток каикджи – перевозчику, переправлялся на южный берег. На южном берегу – главные склады Стамбула. Сюда прибывают турецкие и греческие суда со строевым лесом и дровами с берегов Черного моря, с зерном из Крыма, Румынии и Болгарии. Отсюда купцы снабжают всем необходимым дворец султана, богатые кварталы Эминеню, Махмуд Паша, Баязид, городские рынки и караван-сараи.
Выполнив поручение, Андрей спешил на Большой базар – один из величайших базаров Ближнего Востока. Войдя в него одними из восемнадцати ворот, он подолгу бродил по тесным улочкам, забитым народом. На Большом базаре таких улочек 67, кроме того, есть еще несколько площадок для общих молитв, пять мечетей и семь фонтанов. Интересно было потолкаться у купеческих лавок, где торгуют парчой, бархатом, узорчатыми шелками. Едва стемнеет, купцы зажигали на прилавках большие свечи в серебряных канделябрах. В районе ювелиров – бесконечные ряды поставленных друг на друга сундуков и сундучков. Богатые стамбульцы покупают здесь драгоценные камни, красивые изделия из фарфора, серебра и золота. Есть ряды, где торгуют коврами. Высоко ценятся здесь русские меха. Да мало ли что еще могут предложить стамбульские и иноземные купцы!
Всегда много народа у мечетей Айя-София, Нур-и-Османия. Сулеймания, Фатиха-Ахмад. Однажды Андрей видел самого султана. Тот ехал верхом на аргамаке. На султане были просторные белые одеяния, хохол на тюрбане сверкал драгоценными каменьями. За султаном маршировали янычары – вооруженные до зубов бородатые великаны. На шапках у них – пучки из конских волос, крохотные галеры с мачтами, реями, веслами и флагами, судовые мельницы.
Народ падал ниц.
На окраинах Стамбула жили арабы, грузины, иранцы, египтяне и курды. Из поколения в поколение кормились дедовскими ремеслами. Смешавшись с толпой, Андрей не без интереса глядел на то, как веселят народ акробаты и канатоходцы, цыгане с учеными медведями, как борются пахлаваны. Любители стравливали на спор мелкую боевую птицу, петухов, баранов и верблюдов.
Любимым развлечением янычар была стрельба в цель из мушкетов и луков. Стрельбища проходили на Ок Майдане – обширном поле среди зеленых холмов за Арсеналом. Мехмет и его люди готовились к ним загодя. Как-то, проверяя лук и стрелы, Масуд сказал Андрею:
– Оттоманский лук бьет не хуже мушкета. Ловкий стрелок за одну минуту выпустит двенадцать стрел, сразит двенадцать врагов на расстоянии шестидесяти шагов.
Сам Масуд был стрелок хоть куда.
На Ок Майдане Андрей видел однажды великого вазира. Тот прибыл с батальоном аджеми-огланов, кандидатов в янычары. На красивых отроках – обшитые черными галунами голубые куртки, сужающиеся к голеням красные штаны, туфли без каблуков и задников. У них свои трубачи и барабанщики, свое знамя.
При каждом удачном выстреле раздавались ликующие возгласы. Отличился Масуд. Вазир вручил ему награду – лук из тиса.
Не хуже стреляли янычары и из мушкетов. Сколько русских солдат погибло под Азовом от их метких пуль!
Однажды ноги сами занесли Андрея на Есир пасари – невольничий рынок, что близ Скотного двора. Пыльная площадь Есир пасари была забита народом. Андрей прошелся по рядам выставленных на продажу невольников. Те сидели на скамьях, повеся головы. Их разглядывали со всех сторон, ощупывали. Состоятельные хозяева из Анатолии командовали:
– А ну-ка встань, гяур! Повернись. Руки покажь.
– Что делать умеешь?
Жались друг к другу укутанные в паранджи русские девушки и юные черкешенки. Тут было особенно много покупателей. Седоусый турок в красной феске, облюбовав товар, спрашивал продавца:
– Красива она?
– Красавица. Доволен будешь.
– Поглядеть надо. Деньги-то ведь свои.
Турок повел рабыню к приземистой арчатой постройке с краю базара. Вернулся оттуда красный от негодования.
– Какая там красавица? И зачем подкрасил ее да подрумянил? Вот пожалуюсь мухтесипу.
Хозяин товара юлил, просил извинить. Связываться с мухтесипом, главой местной власти, кому охота. Такой штраф накинет.
До слуха Андрея донеслась негромкая мольба.
– Вижу, ты русский. Выкупи меня. Век тебе буду благодарна. – Сквозь сетку паранджи из черных конских волос на Андрея глядели огромные глаза на почти детском лице. – Выкупи, молодец! Татары меня украли.
– Не могу, девушка. Я такой же раб.
– Ой, мама-маменька! Зачем на свет родила. Руки на себя наложу…
Русские люди встречались в Стамбуле на каждом шагу. Однажды вечером шел Андрей по пустынной улочке следом за согнутой годами женщиной с кувшином в руке. И вдруг вздох, жалоба:
– О, господи! Когда избавишь от этих мук…
– Откуда ты, мать? – догнав ее, спросил Андрей.
Старуха чуть не выронила кувшин.
– Аи, батюшки! Кто такой?
– Из России я. В аркан татарский угодил.
– Из России…
Поминутно оглядываясь, старуха поведала скорбную историю своей жизни. Во младости украли ее татары. Попала в Стамбул. Учили рукоделию, танцевать, чтоб продать подороже. Выдали замуж. А муж вскоре умер.
– Так и мыкаюсь в неволе. Теперь вот служанка в богатом доме. Ах, будь они прокляты, земля турецкая, вера бусурманская, разлука христианская!
Рассказывала старая взахлеб. Изливала душу.
– Как звать-то тебя, голубок?
– Андреем.
– Молиться буду, Андрюшенька, чтоб вернулся ты на милу родину, в мир крещеный, на ясны зори, на тихи воды. Ступай с богом!
В казарму Андрей возвращался задумчивый, печальный. Андрюшенька – так звала его мать. В казарме его ждала недобрая весть.
– На галерах падишаха не хватает гребцов, – сказал Масуд. – Как бы не пришлось тебе вернуться в галерную тюрьму.
У Андрея захолонуло на сердце. Опять цепи, бичи! Увидав, как он переменился в лице, Масуд добавил:
– Не сейчас. Нам велено грузиться на корабль. Поедешь с нами. Лекарем.
Продолжение следует
Вячеслав Крашенинников
От автора
Лет двадцать тому назад посетил я деревеньку Компезиер, что под Женевой. А там – старинную католическую церковь и шато, трехэтажный замок под черепичной кровлей. Второй этаж шато занимает просторный зал с красивой изразцовой печью, потолочными балками и оконными проемами в старинной росписи. По стенам развешаны шлемы, копья и алебарды. На стендах под стеклом – регалии, потемневшие от времени документы.
Посередине зала – длинный стол и стулья с высокими спинками. Когда-то, века назад, за этим столом сиживали, вершили дела суровые люди в париках и черных мантиях, с восьмиконечными крестами на груди.
Шато и его круглые башни с крышами-шлемами, с узкими окошками-бойницами походили на седых воинов, которые безнадежно отстали от своего отряда, заблудились во времени.
Это был музей Мальтийского ордена.
Из материалов музея я узнал о том, что церковь и шато с 1270 года принадлежали Ордену госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского. В Компезиере долгие годы было «коммандери» – одно из многочисленных имений Ордена, раскиданных по всей старой Европе.
Это посещение Компезиера и зародило во мне интерес к Мальтийскому ордену – так он стал называться с 1530 года, когда на два с половиной века обосновался на Мальте.
Мало что знал я тогда о мальтийцах. Видел когда-то портрет российского императора Павла Первого в роскошной мантии и при всех регалиях великого магистра Ордена. Читал в юности книжки о благородных рыцарях, об их сражениях с жестокими и коварными пиратами. Но, заинтересовавшись, стал мало-помалу накапливать материал. И оказалось, что Мальтийскому ордену посвящена обширная литература на многих европейских языках. Немало прекрасных статей и книг об Ордене принадлежат перу известной швейцарской писательницы Клэр-Элиан Энгель.
Многое дали мне и плавания на лайнерах по Средиземному морю с заходами в порты Турции, Греции, Италии, Франции и североафриканских стран. Они позволили познакомиться с традиционными районами действий мальтийцев.
Духовно-рыцарский Орден госпитальеров возник невообразимо давно – в 1099 году, в Палестине. Пешими и в седлах, а затем на своих быстрых галерах госпитальеры столетиями вели войны с «неверными», то есть турками, и берберо-арабами из Триполи, Алжира и Туниса, помогали сдерживать мощный натиск ислама на христианскую Европу.
В ту суровую пору резкие повороты в судьбах людей были обычным делом. Сегодня человек свободен, а завтра он мог попасть в рабство, потерять все. К примеру, будущий великий магистр Жан Паризо де ла Валлетт в 1541 году был взят в плен корсаром по имени Куст Али и целый год работал на веслах турецкой галеры. Обмен пленными помог ему выйти на свободу. А в 1554 году угодил в плен к де ла Валлетту сам Куст Али и вволю отведал бичей на галерах Ордена.
В XVII – XVIII веках в мире произошли огромные перемены. Главные торговые пути переместились из Средиземноморья в Атлантический и Тихий океаны. Океанские просторы бороздили могучие многопушечные корабли. Центрами международной торговли и политики стали Лондон, Париж, Амстердам. А Орден все вел «священную войну» против неверных. Рыцари захватывали ценные грузы, пленных. Их остров снискал мрачную славу величайшего невольничьего рынка Европы. Орден постепенно становился неким анахронизмом…
Однако он – в отличие от орденов тамплиеров и тевтонов – жив и поныне. С XI века не прерывается череда его великих магистров. Ныне резиденция их находится в Пьяцца ди Мальта, виа Кондотти, в Риме. Орден поддерживает дипломатические отношения с 38 государствами мира. Есть его постоянное представительство при европейском отделении ООН в Женеве.
Работая в Секретариате ООН, я часто выезжал в разные страны Западной Европы и «третьего мира», и почти всегда мне попадался на глаза мальтийский крест. Этот крест, который не спутаешь ни с каким другим, означал, что здесь – госпиталь, больница, странноприимный дом или лепрозорий. После того, как 1798 году великий магистр Фердинанд фон Хомпеш бесславно сдал Наполеону свою столицу Валлетту – сильнейшую крепость Европы, деятельность Ордена радикально изменилась. Им была создана сеть лечебных заведений. Он участвует в оказании помощи беженцам и жертвам военных конфликтов, эпидемий и природных катастроф, снабжает их продовольствием и медикаментами.
И в наши дни не редкость встретить людей, чьи далекие предки – мальтийские рыцари прославили свои имена в жарких сражениях на просторах Средиземного моря. Так, например, в секретариате Дворца наций в Женеве работал переводчиком один из потомков ранее упомянутого великого магистра Жана Паризо де ла Валлетт. Коллеги звали его Миша.
Право, удивительна судьба этой старинной провансальской семьи! В дни Великой Французской революции Валлетты, спасаясь от террора, эмигрировали в Россию. Здесь они обрусели, приняли православие. Но через сто двадцать с лишним лет грянула революция и в России, и Валлетты устремились обратно во Францию…
Мало-помалу у меня зрела идея написать повесть о мальтийцах. И оказалось совершенно необходимым ознакомиться с литературой о турках и арабах, вековечных врагах Ордена.
В ходе борьбы между христианскими и мусульманскими народами, населяющими Балканы, берега Черного и Средиземного морей, перемешивались огромные людские пласты. Десятки тысяч славян попадали на невольничьи рынки Стамбула, Триполи, Туниса и Алжира. Множество турок и арабов бедовали на галерах и в портах христианских стран.
Не обошел этот трагический «обмен» и Россию. Крымские татары, нахватав по окраинам тогдашней Руси «русских ясырей», продавали их в мусульманские страны, главным образом в Турцию. И сколько удивительных историй выслушали российские послы в Стамбуле, Риме и Венеции о русских полоняниках, о смелых побегах и приключениях удальцов, сумевших вырваться на свободу!
Листая как-то на книжном развале в Женеве изданный во Франции старинный фолиант, я наткнулся на смутное упоминание о неком Андрее Князеве, русском человеке, который попал в плен к турками, затем оказался на Мальте. И я сказал самому себе: «Стоп! Это как раз то, что нужно». Вдруг четко возник план задуманной повести, словно я глянул на давние события глазами неведомого Андрея Князева…
Андрей Князев – образ, конечно, собирательный. Мой герой живет на рубеже XVII – XVIII веков – в ту пору, когда петровская Россия делала первые попытки пробиться в Черное и Средиземное моря, завязать отношения с Мальтийским орденом.
Надеюсь, что предлагаемые главы из повести «Мальтийский крест» помогут читателю узнать что-то новое о той далекой поре, о турках, мальтийских рыцарях, о жизни и страданиях русских людей, вопреки своей воле оказавшихся на чужбине.


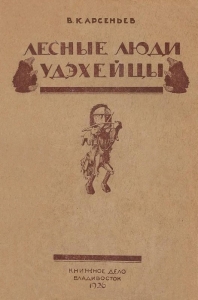
Комментарии к книге «Вокруг Света 1994 № 02 (2641)», Журнал «Вокруг Света»
Всего 0 комментариев