Юрий Владимирович Давыдов Белый всадник
Путь Е. П. Ковалевского
1
– Дальше солнышка не уедем, – рассудительно отвечал Иван Терентьевич в ответ на Илюшкино беспокойство, далек ли еще путь.
«Так-то оно так, – думал Илюшка, – да уж, кажись, куда дальше?» Ну и завез же уральский начальник, корпуса горных инженеров подполковник Егор Петрович Ковалевский, ну и завез своих помощников Ивана Бородина да Илью Фомина! И пароходом-то они ехали из Одессы в Александрию, и опять пароходом ехали от Каира до Асуана, а потом все нильскими водами плыли вверх, все вверх до самого Куруску, и на вот те – доехали! Их высокоблагородие Егор Петрович лучшего придумать не мог, как тащиться пустыней. А тут, в пустыне, такое окаянство, хоть вой, дышать нечем, во рту точно кляп из мешковины застрял.
– Эх, дядя Иван… – вздохнул Илюшка и осекся: пронзительный рев сотряс воздух.
Верблюды ревели во всю мочь, будто из них щипцами жилы тянули. Сотня верблюдов стояла на коленях и вопила: не было для них ничего ненавистнее погрузки.
Ковалевский щелкнул серебряной крышкой массивных дорожных часов. Часы показывали восемь утра. Егор Петрович достал из футлярчика карманный термометр. Столбик поднимался до отметки «34». Ковалевский сокрушенно покачал головой: «И это январь!» – сунулся в палатку:
– Тридцать четыре, Лев Семенович! Каково, а?
Лев Ценковский, питомец Петербургского университета, с тем сосредоточенно-восторженным выражением на худощавом и некрасивом лице, какое не раз замечал Егор Петрович у начинающих естествоиспытателей, попавших «на натуру», ответил молодцом:
– То ли еще будет, Егор Петрович… – и рассмеялся.
– Ахти как весело! – проворчал Ковалевский.
– А я, знаете ли, о чем? Число-то нынче какое?
– Число? Двадцатое… Ну и что?
– Как что? Нынче весь чиновный Петербург жалованье получает. Морозище, должно быть, а жалованье греет.
– Ах, вот оно что, – отозвался Егор Петрович. – Нда-с. – И прибавил лукаво: – А вот коллекциям вашим, Левушка, приращения тут не будет. Ни черта лысого нет в этой Нубийской пустыне.
Ценковский улыбнулся одними глазами. Глаза у него были голубые и очень чистые. «Славный малый, – добродушно подумал Егор Петрович. – Есть в нем что-то совсем дитячье. Другой бы ходил тучей: препоручений множество, а денег малость».
Ковалевский вспомнил петербургских академиков: они и ему понаписали пространные наставления. Подумать можно, что Ковалевский не подполковник корпуса горных инженеров, а ходячее отделение Академии наук.
Жарища, однако… Конечно, куда приятнее было бы добираться до Бербера на дахабия: полеживай в тенечке под навесом да услаждайся влажным плеском воды за бортом. Но тогда пришлось бы дать здоровенный крюк. Ох уж эти реки, что бы это бежать им прямехонько… Он отлично представляет тяготы пустыни, но времени нельзя терять, потому что в мае под экватором грянет дождевой потоп. А посему торопись, Егор Петрович, поспешай!
– Ну как, орлы-соколы! – Ковалевский постарался придать голосу эдакую армейскую лихость. – Тронули, что ли?
Бородин ответил тускло:
– Да куда уж денешься?
А Илья только раздул щеки:
– Фу-у-у…
Арабы-проводники заголосили гортанно: они взывали к духу – покровителю караванов.
И пустыня приняла караван. И час, и другой, и третий она была все та же – песок, и только. Ковалевскому с Ценковским и Бородину с Фоминым казалось, что они медленно погружаются в злое марево, в зыбкую желтизну…
На другой день все возликовали: огромное озеро блеснуло вдали – живое, приманчивое, и они глядели на него не отрываясь.
– Море дьявола, – сказали погонщики.
«Бесовское наваждение», – понял Иван Терентьевич.
– Мираж, – мрачно молвил Ковалевский.
Озера сменялись полноводными реками в зелени прибрежных зарослей. Еще какой-нибудь час пути – и ринься в воду, взметни ее полными пригоршнями, припади лицом, грудью и пей, пей, пей.
Но час, и другой, и третий, а все – пески.
Стараясь отрешиться и от этих песков, и от мучительных видений, и от мерной поступи каравана, и от жажды, и от этого неприятнейшего ощущения, когда чудится, будто кожа твоя обратилась в шелуху, Егор Петрович размышлял о… сооружении канала, который спрямил бы излучину Нила, пересек бы пустыню… И тогда, о, тогда жизнь ударила бы артезианской струей под этим бледно-серым, пожухлым от зноя небом!.. Длина канала? Верст триста, не больше. Песчаные ложа умерших рек сократили бы земляные работы. Будь Ковалевский пашой Египта, уж он бы, честное слово… И, сделавшись «пашой», Егор Петрович размечтался: ему грезились распаханные буйно-зеленые поля и селения феллахов на месте бывшей Нубийской пустыни.
Вдруг он явственно ощутил прохладу и в первую секунду подумал, что она тоже порождение его грез, но тут же увидел, что солнце уже перевалило зенит, и чуть-чуть потянул северный ветерок. «С милого севера в сторону южную», – подумалось Егору Петровичу, и он отер платком лицо.
Видения рек и озер, колыхаясь, бледнели. Вот они начали никнуть к пескам, меркнуть, рассеиваться. Еще немного, и они сгинут, как призраки при пенье петухов.
Лишь однажды попались колодцы. Горькая мутная жижа мертвенно поблескивала в глубине. Но кожаные мешки были наполнены, животные и люди пили эту жижу.
Мерно и твердо шествует караван соловых и белых одногорбых верблюдов. Мерно и твердо шагают погонщики. Владеет ими древний ритм караванных дорог. Только караван и движется посреди великого безмолвия и великого покоя. Только он да солнце.
На десятый день темная точка появилась в пустом, блеклом, будто пылью припорошенном небе. Она быстро катилась в вышине навстречу каравану. Все ближе, все ближе… Коршун пронесся низко, был слышен роковой шелест его крыл. Но арабы и русские улыбаясь следили за полетом коршуна. Недалече, стало быть, Нил, совсем недалече! Ибо даже коршуны не смеют залетать в просторы Нубийской пустыни.
Егор Петрович обернулся к Ценковскому, обвел рукой горизонт:
– Вот уж поистине, Левушка, куда и ворон костей не заносит.
– Не говоря о пресловутом Макаре с его телятами, – в тон ему отвечал Ценковский.
2
Опрятная Александрия напомнила Ковалевскому европейские города; скрип сакий на берегах Нила – скрип украинских колодцев-журавлей в родном селе Ярошовке. А теперь, приближаясь к столице Восточного Судана, Ковалевский вспомнил… реки Сибири: взбаламученную Катунь, чистую Бию. Бия и Катунь рождали Обь, но, слившись, много еще верст текли словно бы порознь – струей илистой, плотной и струею, пронизанной светом, плавно играющей. Так и здесь, в Судане, разноцветье было отчетливым: справа струились светлые воды, слева – голубовато-зеленые.
Неделю спустя после перехода Нубийской пустыней Ковалевский подплывал к Хартуму. Хартум лепился ближе к Голубому Нилу, но Белый Нил был виден чуть ли не из каждого уголка этого города, вот уже четверть века как завоеванного пашой Египта.
Не впервые случалось Ковалевскому подъезжать к чужому, незнакомому городу. Мало ли повидал он за годы странствий? Вот уж почитай второй десяток лет он по праву может называть себя путешественником. Начинающим горным инженером скитался по кряжам Алтая. Всей грудью вдохнул полынный настой Оренбургских степей. Приаральское солнце, шершавое, как язык верблюда, лизало его лицо. Шумели над ним кедры и пальмы Кашмирской долины, дивил мрамор Лахора, столицы сикского государства в Индии, пели славянские песни горные реки Балкан…
Начальником оружейного завода жил Егор Петрович в Златоусте. Урал пришелся по душе – ядреные зимы и жаркие лета, тропы старателей, воинский звон железа в полутемных и приземистых заводских корпусах, адские отблески плавильных печей… По душе Ковалевскому был Урал и уральцы, и дел у него в Златоусте было невпроворот, но все же томила душу тоска по дальним путешествиям. И тут-то вдруг свалилось нежданное поручение: подполковнику Ковалевскому ехать в Африку! Ждут не дождутся его в краях черт-те знает каких двое молодых африканцев, его, Ковалевского, выученики.
Приказ был получен летом сорок седьмого года. На радостях Егор Петрович сунул фельдъегерю целковый. И закрутился как бешеный в Златоусте: сдавал завод новому начальнику, прощался с сослуживцами, утешал дам; они теряли «такого Чацкого», а любительское представление «Горя от ума» было на носу.
Распоряжением из Петербурга Ковалевскому разрешалось взять с собою помощников. И вот он их подыскивал. Не только помощников, не только мастеров, нет, сотоварищей высматривал среди «людей ведомства горного».
Высмотрел Бородина Ивана Терентьевича и Фомина Илью. Иван Терентьевич человек богатырской стати, залюбуешься открытым, в честных морщинах лицом. Под пятьдесят ему, Ивану-то Терентьевичу, и рудникам отдал он всю жизнь. Погонщиком хаживал в медных шахтах, рудознатцем был, штейгером сделался на Златоустовских заводах. А Фомин? Тот в сыновья годился Ивану Терентьевичу. Русые волосы у Илюшки аккуратно в кружок подстрижены, весь он ладный, проворный, шустрый. Недаром знаменитый изобретатель Аносов держал его подручным, когда сооружал новую золотопромывальную машину…
Вот с этими-то «людьми ведомства горного» и молодым петербургским ученым Ценковским Егор Петрович и подъезжал в феврале 1848 года к городу Хартуму, что стоит при слиянии Белого и Голубого Нила.
Хартум обдал клубами пыли. Отплевываясь и жмурясь, углубились они в узенькие искривленные улочки. Глиняные домики были без стекол в окнах, без замков и запоров на дверях. Один из таких домиков Ковалевский снял на два дня для экспедиции.
Что же он такое, этот суданский город?
Разноплеменные войска под командой турецких офицеров? Генерал-губернатор, чиновники? О, это еще не Хартум.
Хартум – это сами суданцы, это базары, это сады у Голубого Нила. Барки и верблюжьи караваны везут в Судан жгучий ром и отборный рис, добротное сукно и сирийский табак, мачты сосновые и мачты еловые; а Судан отгружает душистый кофе из Эфиопии и добрую медь с берегов Белого Нила, страусовые перья, бивни слонов и шкуры леопардов, черное дерево и черных невольников.
Голубой Нил поит хартумские сады. В садах лунно отсвечивают лимоны, гранаты наливаются сладкой кровью и никнут тяжелые связки бананов. Сады перемежаются полями. На полях сеют хлеб, четырежды в год снимают жатву.
А жители Хартума? Много народов и племен повидал Ковалевский, а таких не видывал. Африка! Что уж говорить про Ценковского и Бородина с Фоминым!
Ценковский все время что-то нашептывает Егору Петровичу. Иван же Терентьевич с Илюшкой стараются не выказывать удивления. Как ни чудно им, а порешили они, что так оно и должно быть, ежели люди живут, одеваются и пищу варят своим манером.
Вот у здешних мужиков что штаны, что исподнее: белые. И короткие, до колен. Должно, в таких-то по жаре способнее. Или вот таскает каждый по два копья, а нож через плечо подвешен. Значит, есть резон остерегаться чего-то. На ногах же у них… как это… сандалии, что ли, называются. Опять же попробуй тут в сапогах пощеголять. Свету не взвидишь. А бабы… Ну и чудесницы! Волосяные башни на головах, в носу – кольца большие. Из золота, что ли? Да нет, медные. Ох и придумают! Впрочем, чем бы ни тешились… А губы, губы-то у них синие. Словно утопленницы, ей-богу. Ну а если взять супружниц сидельцев да купчишек на Руси – те зубы чернят…
Вечером Ковалевский и Ценковский отправились в гости. Посыльный принес им записку по-французски. В записке после поздравления с благополучным прибытием говорилось, что местные жители-европейцы будут рады видеть соотечественников.
– Соотечественники? – удивился Ценковский.
Ковалевский, прилаживаясь с бритвой у зеркальца, ответил:
– Это ведь как понимать следует? Представьте: вы, петербуржец, где-нибудь, скажем в дебрях Сибири, встречаете петербуржца. Вы, разумеется, радостно пожимаете ему руку: земляк! Теперь вообразите: путешествуя по Италии, вы, петербуржец, встречаете сибиряка. И что же? Восклицаете: «Здравствуй, земляк!» Не так ли? А теперь представьте: в черной Африке вы натыкаетесь на итальянца. И что же? Вы в восторге: европеец – стало быть, соотечественник. Так-то, Левушка, меняются представления.
Вскоре они ушли.
– Вона, – обиженно заметил Илья, – отправились…
Бородин поднял на него спокойные глаза:
– А ты думал, тебя возьмут? Пожалуйте, дескать, сударь.
– Не думал… А все ж…
– Чего «все ж»?
– Тут ведь не дома… Вместе так вместе…
– «Не до-о-ма». Чудак ты, паря, право, чудак, – усмехнулся Иван Терентьевич. – Да ты с ними на дне морском очутись, а все одно – гос-по-да.
Иван Терентьевич тяжелым своим шагом заходил по комнате. Комната была пустая. Ни стола, ни лавки, ни табуретки. И лба перекрестить не на что. По глиняным стенам, суча клейкими лапками, постреливая огненными язычками, сновали ящерицы. Бородин усмехнулся:
– Ишь ты, мух ловят, что кот мышей.
Илья, помолчав, заметил:
– Ты, дядя, лучше на пол глянь. Как спать-то поляжем?
По земляному полу перебегали скорпионы и тарантулы.
Иван Терентьевич брезгливо повел лопатками:
– Надо б, Илюха, постелю устроить.
– Постелю? – нехотя отозвался Фомин. – А вот придет их высокородие, пусть и распоряжается. Наше дело маленькое.
– Да брось ты, паря, – рассердился Бородин, – брось, говорю, бестолочь пороть.
– А чего ж бестолочь? – заупрямился Илья, но тут в комнате появился хозяин.
Это был рослый, мускулистый суданец. Старательно пережевывая табак, отчего нижняя губа у него оттопырилась, он проговорил что-то непонятное. Илья переглянулся с Терен-тьичем.
– Найн, – медленно ответил Фомин, – найн ферштейн. – Он мучительно вспоминал те несколько немецких слов, которые слышал на Урале от заезжего инженера. – Найн, – повторил он с силой, но тут же сообразил, что немецким не поможешь, и сказал: – Нэ понимай…
Суданец жестом пригласил их следовать за собой. Терентьич потянул Фомина за рукав:
– Не робей.
Хозяин выставил обильное угощение. Теплые лепешки из дурры, вкусом похожие на пшенные, лежали в красивых тарелках из пальмовых листьев, украшенных соломенным узором. Жареные куры плавали в масле, а жареные голуби тонули в соусе. В стеклянных бутылках были мериза – хмельной напиток и что-то напоминающее лимонад.
Хозяйка, темно-бронзовая и крутобокая, в переднике из множества ремешков, встретила гостей. Голопузые мальчуганы, не дичась, уселись рядом с Иваном Терентьевичем. Он ласково потрепал их тяжелой ладонью, покосился на Илью:
– Нехристи, а по-людски принимают, семейно…
3
Егор Петрович с Ценковским сидели под навесом просторного дома негоцианта Никола Уливи в окружении дюжины «соотечественников». Стол был уставлен бутылками. В ровном пламени свечей с меланхолическим треском гибли какие-то крылатые твари.
Уливи, седой и хитроглазый, произнес тост. Тост был столь же длинен, сколь и невесел, хотя негоциант произнес его самым непринужденным тоном. Он приветствовал сынов великой северной державы, рискнувших проникнуть в столь южные широты и посетивших город Хартум, в коем за пять лет умирает три четверти европейцев от изнурительной жары, болотных испарений и еще черт его знает от каких болезней.
Высказав все это, Уливи чокнулся с Ковалевским и Ценковским. Когда бокалы были опорожнены, он добавил, что просит русских располагать его домом как собственным. «Соотечественники» согласным хором предложили свои услуги путешественникам.
Егор Петрович и Ценковский рассыпались в благодарностях столь душевным и сердечным людям. Они не замечали усмешки, с какой посматривал на Уливи и его собутыльников молчаливый шатен с высоким лбом и орлиным носом. Даже не сведущий в медицине человек догадался бы, что этот юноша едва оправился от приступа тропической малярии – таким изможденным и желтым было его лицо. Одетый в турецкое платье, он расположился несколько в стороне и после тоста Уливи лишь приподнял свою рюмку и поставил, не пригубив.
Альфред – так звали юношу в турецком платье – был удивлен, что русские, такие, по-видимому, серьезные и положительные, принимают за чистую монету болтовню всей этой компании. Впрочем, еще месяц назад ему, Альфреду, все они тоже казались чрезвычайно милыми. Да, месяц назад, приехав в Хартум с бароном Мюллером, Альфред Брем не подозревал, что все эти Уливи, Лумелло, Вессье и прочие не кто иные, как мошенники и убийцы.
Узнал он про них от них же. Как все негодяи, они не стеснялись, когда речь заходила о «друге-приятеле». Уливи, например, ничуть не таил, что аптекарь Лумелло, обделывая свои тайные делишки, связанные с перепродажей слоновой кости, отравил, как крыс, несколько соперников, а Вессье, торговец черным деревом и шкурами леопардов, держит гарем и до смерти избивает невольниц. Лумелло и Вессье, в свою очередь, охотно рассказывали, что Уливи, этот седовласый итальянец, часто потчующий их ромом и сигарами, этот примерный католик наживается торговлей рабами…
Альфред тихонько поднялся, подошел к краю террасы и, опершись спиной о столб, поглядел в сад. Сад был в лунных отсветах, в четких тенях. Брем вздохнул: точь-в-точь как дома. И увидел усадьбу в Тюрингии, лица отца, матери, братьев. Нынче ему особенно взгрустнулось. Днем этот задиристый барон Мюллер распек препаратора Брема за то, что тот изготовил мало птичьих чучел. «И ведь отлично знает, – обиженно думал Альфред, – как меня терзала малярия. Так нет: сто тридцать чучел ему мало…»
– Простите, я решился нарушить ваше уединение… Барон, с которым вы имеете удовольствие путешествовать, сказал мне, что вы тоже натуралист. Очень приятно встретить коллегу.
Брем протянул Ценковскому руку:
– Вы льстите мне, господин Ценковский. Я, право, дилетант.
Ценковский шутливо погрозил Альфреду пальцем:
– Эге, да вы скромник! А что скажете о «Материалах к познанию птиц»?
Брем и обрадовался и смутился.
– Да… но… Но книги, о которых вы упоминаете, написаны не мною.
– Позвольте, позвольте, – смешался Ценковский. – Неужели мне изменяет память?
– Только на имя.
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что автор их Брем. Но не Альфред, а Людвиг.
– Ах, вот оно что, – протянул Ценковский. – Он ваш родственник?
– Людвиг Брем – мой отец, – со сдержанной гордостью отвечал юноша.
Ценковский хлопнул себя по лбу:
– А я, однако, хорош! Как было не сообразить? «Материалы» выданы в свет, кажется, лет двадцать, двадцать пять тому назад, а вы в то время, должно быть, еще и не родились. Правда?
Все это было сказано дружески просто, с доброй улыбкой, и Брема потянуло откровенно поговорить с этим худощавым, некрасивым голубоглазым человеком, потянуло рассказать ему и о нынешней стычке с бароном, и о своих нильских впечатлениях, и даже о сокровенном – о замыслах написать когда-нибудь такую поэтическую книгу про жизнь животных, чтобы ее прочли многие люди, далекие и от науки, и от природы, прочли и ощутили бы волшебство лесов, рек, степей… Альфред даже немного испугался своего внезапного душевного порыва и быстро глянул на Ценковского с застенчивой полуулыбкой.
Догадался ли тот, как одиноко этому юноше среди хартумских «соотечественников», а может, просто надоело Льву Семеновичу слушать болтовню на террасе, но только взял он Брема под руку и пошел с ним сквозь рваный лунный свет по черным садовым теням.
Егор Петрович вскоре заметил исчезновение молодых людей и позавидовал им.
«Соотечественники» пили обстоятельно и пьянели с тупой неуклонностью, как офицеры в русских захолустных гарнизонах. Егор Петрович принужденно улыбался и обдумывал благовидный предлог ретирады. Ну, что, в самом-то деле, сидеть у разливанного ромового моря? Да и персона господина полковника – Ковалевский дважды или трижды уточнял: он-де подполковник, но все упрямо величали его чином выше, – кажется, не занимает больше «соотечественников». Он ведь уже доложил, куда и для чего направляются четверо русских. При слове «золото» Уливи стал прозрачно-трезв, подобрался, напрягся. Но так длилось не больше минуты. Потом Егору Петровичу пришлось выслушать пространное и мрачное рассуждение о «невероятном коварстве негров» и о том, что белый, появившийся в долине реки Тумат, непременно будет умерщвлен отравленной стрелой. Ковалевский пробовал возражать: у него, дескать, найдется охрана.
– Из кого же? – осведомился Уливи.
– Негры-солдаты, – отвечал Ковалевский.
Негоциант сделал красноречивый жест: они-то и прикончат уважаемого полковника… Не все разделяли предсказания хозяина. Однако все утверждали, сочувственно покачивая головой, что экспедиция вряд ли обернется счастливо: и золота полковник не сыщет, и заболеет наверняка.
Рассуждения на эту тему заключил аптекарь Лумелло.
– Оставайтесь-ка с нами, – улыбался он, показывая дурные зубы. – Нет? Ну так выпьем, господа!
И вот они пьют уже второй час.
Доктор Пенне, склонив лысую, желтую голову, перебирал струны гитары и порывался тянуть фальцетом песенку Беранже «Мои дни осуждены…».
Слово «осуждены» не нравилось отравителю Лумелло.
– Осуждены? – негодовал пьяный аптекарь; его маленькие, близко посаженные глазки буравили доктора. – Осуж-де-ны? Эт-то мы еще поглядим!
Доктор отмахивался. Барон Мюллер, плотный, мясистый человек, оглядывался вокруг с таким видом, будто поджидал обидчика, которого он, барон Мюллер, видит бог, вздует как следует. Торговец черным деревом Вессье рассказывал что-то сальное о «прелестницах абиссинках»; при этом он целовал кончики своих пальцев и все пытался хлопнуть Ковалевского по плечу.
Наконец Егор Петрович стал откланиваться.
– Куда же вы? – изумился Уливи, и Ковалевскому, как давеча, когда речь зашла о золоте, показалось, что негоциант мгновенно стал прозрачно-трезв. – Куда же вы, дорогой полковник? Мы еще грянем баркаролу из «Фенеллы». Мы тут отлично все спелись, – добавил он с двусмысленной улыбкой.
Егор Петрович остался: неловко было обидеть гостеприимного хозяина. Веселье, если только все, что происходило на террасе, можно было назвать весельем, продолжалось.
И вдруг вся компания притихла.
Он всегда появлялся внезапно, этот иезуит, – длинный, постный, с узким лицом и недобрыми умными глазами. И в этих внезапных его появлениях всегда было нечто устрашающее.
Падре Рилло привычно поднял руку для благословения, но, увидев красные лоснящиеся физиономии своей паствы, опустил руку и сказал:
– Добрый вечер. – Голос у него был звучный, энергический.
– Добрый вечер, падре, – послышалось со всех сторон, – добрый вечер.
Рилло направился к Егору Петровичу.
– Рад видеть вас еще раз, – сказал падре по-русски, к великому удивлению всех присутствующих.
Не удивились двое: Ковалевский и Никола Уливи.
– Кофе, падре? – спросил хозяин.
– Да, кофе, – ответил Рилло, не взглянув на Уливи и садясь рядом с Ковалевским.
Они познакомились утром. Едва барка подвалила к Хартуму, как на борт поднялись миссионеры, среди них был и Рилло. Но еще задолго до хартумского знакомства Ковалевский был наслышан об этом неутомимом служителе Ватикана – имя его частенько появлялось в европейских газетах. Особенно громко прозвучало оно после ловких политических комбинаций падре Рилло в Сирии.
Утром на дахабия Ковалевский узнал из уст Рилло, что отныне падре со своей братией приступает к широкой миссионерской деятельности именно там, где Егору Петровичу, по просьбе египетского правительства, поручалось разведать золотые россыпи. Но падре, впрочем, умолчал о том, что его миссия печется не столько о вящей славе господней, сколько о пополнении ватиканской казны, а сверх того, и о проникновении некой европейской державы в Судан и Эфиопию.
Егору Петровичу иезуиты с их девизом «цель оправдывает средства» были, мягко выражаясь, неприятны. Все это, впрочем, не помешало Ковалевскому еще утром оценить Рилло, обширную его начитанность, познания в русском языке.
Теперь, сидя рядом с горным инженером, прихлебывая мелкими глоточками горячий мокко, Рилло повел речь о том, не согласится ль Егор Петрович… Он умолк и обвел своими суровыми глазками «соотечественников».
– Я хочу, – сказал падре, – говорить с нашим гостем на его языке. Язык этот нравится мне чрезвычайно. А говорить на нем приходится, к сожалению, редко. Надеюсь, вы извините?
– О, пожалуйста, пожалуйста, – ответил за всех Никола Уливи.
А доктор Пенне бодро предложил:
– Господа, сразимся?
Все поднялись и перешли гуськом в комнаты. Питие было окончено, начинался вист.
– Я ваш избавитель. – Падре метнул презрительный взгляд в спины удалявшихся гостей. (Ковалевский пожал плечами.) – Итак, Егор Петрович, – продолжал иезуит, отчетливо выговорив имя и отчество Ковалевского, – я убежден, что имею в вас человека просвещенного и добросердечного. Поверьте, – он сделал протестующий жест, – это не пустая похвала…
Рилло отхлебнул кофе и начал выстраивать фразу за фразой по всем правилам хорошо затверженной русской грамматики.
Мысли, высказанные им, сводились к следующему: различия меж церковью католической и православной, к каковой принадлежит уважаемый Егор Петрович, не могут, разумеется, помешать им, то есть господину Ковалевскому и ему, падре Рилло, не могут помешать им объединить свои усилия, дабы нести свет Христова учения в африканскую тьму…
Егор Петрович затеребил ус.
– Господин Рилло, я не миссионер.
– Знаю, – остановил его иезуит. – Мы и не просим, чтобы вы читали проповеди или совершали требы. Но помогите это сделать другим.
Ковалевский почувствовал раздражение.
– Господин Рилло, говорите прямо.
Падре посмотрел ему в глаза.
– Благодарю за откровенность, – сказал он очень спокойно. – Говорить прямо. Как сие? Без обяков?
Ковалевский не удержался от улыбки:
– Без обиняков.
– Благодарю вас. Итак, без обиняков. – Он опять заглянул в глаза Ковалевскому. – Я прошу вас взять с собою наших священников.
Егор Петрович откинулся в кресле. Его коробило от этого заглядывания. Он забарабанил пальцами по колену. «Тэк-с, тэк-с… Так вот куда ты метишь, птичка божья». И, подумав, ответил:
– Не могу. Без разрешения каирских властей не могу.
Рилло поджал губы. Такого поворота он не ждал. Но падре великолепно владел собой.
– А местный генерал-губернатор вам не указ? – спросил он медленно.
– Нет, господин Рилло, не указ, – отрезал Ковалевский.
Рилло допил чашку кофе.
– Очень жаль, – произнес он бесстрастно. – Жаль, когда интересы высшие, – он возвел глаза к потолку, – уступают в нашем сердце низшим.
– Совершенно справедливо, – с подчеркнутой значительностью ответил Ковалевский.
– Ну хорошо, Егор Петрович, – вздохнул падре. – А не поможете ли вы мне в другом?
– В чем же?
Рилло улыбнулся:
– Что нового в российской словесности?
– О! Вы и за ней следите? Очень приятно. Вот теперь вы найдете во мне миссионера. – И он придвинулся к Рилло…
Когда дом наконец опустел и затих, Никола Уливи торопливо прошел в глубину сада. Там среди мимоз в беседке ждал его Рилло.
– Послушайте, Уливи, – устало проговорил падре, – мне с каждым днем все хуже…
Уливи знал, что Рилло жестоко страдает дизентерией. «Однако, черт побери, – злобно думал Уливи, – нашел время распространяться о своих болезнях».
– Я говорю не для того, чтобы вызвать ваше сочувствие, сын мой, – иронически сказал Рилло, – хотя, конечно, вы сострадательный христианин.
– Ну-ну, – пробурчал охотник за рабами. – К чему это, отец?
– А вот к чему, Никола. – Голос падре стал жестким. – Если меня не станет, карты повезете вы.
– Они согласны? – громко прошептал Уливи. – Согласны?
– Боже мой, боже мой, – кротко проговорил Рилло, – какая алчность сожигает вашу грешную душу.
Уливи криво ухмыльнулся.
– Вы сами отвезете карты в Рим, – повторил Рилло властным тоном.
– Конечно, падре. Но…
– Что «но»? – недовольно спросил иезуит. – Какие еще «но»?
– Я хочу сказать… – Уливи проглотил слюну. – Я хочу сказать – в том случае повезу, если мне дадут эти чертовы мужланы.
– Вы возьмете карты у молодого. Его не пришлось долго уговаривать. – Рилло поднялся. – Доброй ночи, сын мой.
4
Голубой Нил бывает красным: в период бурных дождей он несет глинистую землю Абиссинского нагорья. Но теперь, в феврале, Голубой Нил отражал безоблачное небо.
По выходе из Хартума открылось желтое блюдце плоского островка. Зеленоватыми осклизлыми бревнами крокодилы млели под солнцем.
Поля и сады левобережья уступали натиску ив и тамарисков. Ивы и тамариски были в цепких тенетах ползучих растений.
Журавлиные стаи покидали ночлег. Шумной армадой уходили они на север – к Средиземному морю и далее, далее, к берегам Волги.
Ковалевский провожал их взглядом.
– Домой, – вздохнул он.
– В этих перелетах есть нечто таинственное, не познанное еще наукой, – ученым тоном сказал Ценковский. – Вчера мы говорили с Бремом…
Ковалевский наморщил облупившийся нос.
– Они домой улетают, – повторил Егор Петрович укоризненно: как, мол, вы, Левушка, не понимаете.
– Мда-с, – рассеянно отозвался тот. – А знаете, Егор Петрович, жаль, вы не познакомились короче с Альфредом. Отличный юноша, честное слово.
– Зато я короче познакомился с падре Рилло, – обронил Ковалевский. – Вот и еще, еще летят, домой, к нам домой…
Разговор с иезуитом оставил неприятный осадок. Смутная тревога овладела Ковалевским. Почему? Он и сам не знал. Но избавиться от нее не мог.
Вот если бы Фомин, двадцатилетний Илюшка Фомин, уральский мастеровой, рассказал о своей давешней беседе с падре, если бы рассказал… Но Илюшка и не думал рассказывать. Он слонялся по барке, глазел на берега и посвистывал с видом человека, которому сам черт не брат.
Все еще ощущая смутную тревогу и не понимая причин ее, Ковалевский принялся измерять скорость течения реки. Ценковский помогал. Оказалось, Голубой Нил бежал шибче главного Нила.
– На версту с половинкой, – объявил Егор Петрович.
– Ну, вот… – сказал Левушка с таким видом, точно внушал Ковалевскому: «Видите, Егор Петрович, как оно, а вы что-то не в себе».
– Гм… гм… – пробормотал Ковалевский, и это означало: «В самом деле, чего я хмару на себя напустил?» И, повеселев, окликнул Ценковского: – Смотрите-ка!
Над баркой реял и всплескивал трехцветный русский флаг.
– Картинно, – сказал Ценковский.
– Не в том суть, Левушка.
– А в чем?
– Ужели не догадываетесь? На Голубом Ниле – впервые! Ай да мы!
– Это уже слава, – полушутя ответил Ценковский.
Барка шла медленно. Вода в реке стояла низко, мели проступали, как лысины. Нильская синь густела, принимая малахитовый оттенок, к берегам теснился, поднимаясь все выше, тропический лес.
Ночами выли гиены. У Бородина по спине бегали мурашки: он полагал, что гиены – это что-то из геенны, из адской преисподней. Гиппопотамы тяжело возились в воде и оттискивали следы на прибрежных полянах. Фомин, разглядывая глубокие вмятины, скреб подбородок: «Вколачивают, что сваю…» Цапли цепенели среди водяных лилий; Егор Петрович не мог решить, кто изящнее – птицы или цветы… А Лев Семенович Ценковский страдал от того, что скопища саранчи обгладывали листву великолепных деревьев… И все четверо хохотали до слез, когда жители какой-то деревни показали, как они ловят обезьян.
Способ был уморительно прост. В лесной чаще выставлялся жбан с хмельным напитком. Обезьяны сбегались толпой, пихаясь и скаля зубы, припадали к жбану. И пили. Ух и пили, пропойцы! Потом дурачились и куражились, потом засыпали и в эти минуты весьма походили на тех, кто произошел от обезьян. Охотники преспокойно запихивали пьяниц в мешки. Бал был кончен, попугаи насмешничали в ветвях.
Но плеск гиппопотамов в реке, вой гиен, проклятая саранча, захмелевшие обезьяны – все было пустяком в сравнении с ночным львиным рыком.
Едва он раздавался, Ценковский крадучись сходил на берег. Он шел с ружьем и обмирал со страху. Но именно потому он и отправлялся в одиночестве, что его одолевал страх. Он хотел приучить себя к «гласу царя зверей». Ведь наступит время, он останется один в бедной деревушке собирать этнографические и ботанические материалы для Академии наук и Географического общества. Ему придется совершать продолжительные походы по лесам. Он, Лев, должен – должен, и баста! – победить свой страх перед львами.
А еще – впрочем, он не очень-то верил в удачу – у него была тайная цель: сразить «царя» меткой пулей и насладиться почтительным восхищением не только арабов-матросов, не только Бородина с Фоминым, но и Егора Петровича. Особенно Егора Петровича… И вот, заслышав львиный рев, натуралист сходил на берег и, сжимая потными руками ружье, затаясь, сознавал, что думает не столько о шкуре львиной, сколько о своей собственной.
Но однажды Ковалевский открыл Левушкино самоистязание. Егор Петрович колюче заметил что-то о двух львах, один из которых, видимо, старательно избегает другого. И вдруг, как это часто бывало с ним, вспыхнул и раздраженным тоном сделал Ценковскому начальственный нагоняй. Натуралист горделиво заметил, что он-де сам за себя ответчик.
– Ответчик? Вы, сударь, ответчик перед Академией наук. Не так ли?
Левушка понурился. Лицо его приняло выражение такой детской обиды, что Егор Петрович тотчас смягчился.
– Ну вот, батенька, – торопливо заговорил он, – как же так, а? Я ведь для пользы дела. А? Ну, ну… Полно, пойдем чай пить. Эй, Терентьич, кипит? Идем, идем… А вы заметили, Левушка? – Он взял Ценковского под руку. – У здешней природы русский характер.
Ценковскому хотелось отплатить обидчику. Он сказал мстительно:
– Простите, но так утверждать может лишь тот, кто совершенно несведущ ни в ботанике, ни в зоологии.
Ковалевский улыбнулся:
– Да я не об том… Вы поглядите-ка. – Он широко повел рукой вокруг себя. – Тут есть где плечи развернуть! Всем места хватает: и человеку, и зверю, и птице. И какое разнообразие в произрастаниях! Раздолье, а? К тому же и от властей предержащих есть где укрыться, не то что бедному феллаху в низовьях Нила.
– От властей, Егор Петрович, – серьезно ответил Ценковский, – нигде спасу нет. Грабителям не суть важно, какие широты и какие долготы, было бы что грабить.
– Да и то, пожалуй, – согласился Ковалевский. – Итак, чаек?
Два дня спустя после этого разговора и три с лишним недели спустя после отплытия из Хартума барка-дахабия пришла к деревне Росейрес.
Хижины с коническими крышами разбрелись по холмам. Рядом был лес густоты чудовищной. Иван Терентьевич, увидев дубы, радостно всплеснул руками.
– Ну так что? – небрежно бросил Фомин. С некоторых пор он держался с Бородиным, как старатель, которому пофартило, со старателем-неудачником, снисходительно и высокомерно. – Ну и что?
– Ведь дуб же, – опешил Иван Терентьевич. И прибавил, внимательно поглядев на товарища: – Экий чалдон ты, Илюшка. С чего это ты нос драть стал, а?
Фомин загадочно улыбнулся и сплюнул.
Бородин обозлился: в тропиках дубы не росли, там росли пальмы дулеб с листвою, удивительно похожей на листву дуба. Но плод пальмы дулеб вовсе не напоминал желудь. От него исходил прохладный аромат ананаса и дыни, мякоть его была волокнистой, а вкус – терпкий… И еще были тут баобабы. При виде корявых гигантов Ковалевский подумал о мамонтах, а Левушка вспомнил репродукцию со знаменитой античной скульптуры, изображающей гибель Лаокоона и его сыновей.
За лесом, за деревней, за холмами дымчато синели отроги гор.
– Вот и Росейрес, – молвил Ценковский.
– Нда-с, Левушка… – Голос Егора Петровича прозвучал сочувственно: он вообразил, каково-то будет молодому человеку, когда при возвращении экспедиции придется ему остаться в Росейресе. – Нда-с, особенно в период дождей, – добавил Егор Петрович.
– В период дождей? – переспросил Ценковский. – Наверное, не ахти как. Но мои коллекции! – воскликнул он. – Нет, Париж стоит мессы.
– Вы, кажется, готовы хватить камаринскую?
Ценковский прищелкнул пальцами:
– Что-нибудь вроде.
5
Тут были горы, реки и лихорадка. И как будто бы тут было золото. Его искали, исполняя грозный наказ паши, два египетских инженера. Золото таилось в песках Тумата, притока Голубого Нила, поблескивало в ручьях, впадающих в Тумат. Надо было идти вверх по реке. Но там бродили, спускаясь с гор, галла, воинственные уроженцы Эфиопии. И они не очень-то жаловали пришельцев-северян.
Генерал-губернатор плевать хотел на золото: оно ведь потечет в казну Мухаммеда-Али. Генерал-губернатор разбил лагерь в местечке Кезан, на границе Судана и Эфиопии, и знать больше ничего не знал.
– Какое золото? – Гамиль-паша поводил жирными плечами. – Пфф… – Он тыкал пальцем в небо, где плавилось солнце. – Вот оно, золото! Так и пишите в Каир.
Инженеры Али и Дашури предпочитали сдохнуть от лихорадки, нежели хрипеть в петле-удавке. И они отписали в Каир, что нашли много золота, хотя россыпи, на которые им указали местные жители, не были богаты.
Но своим сообщением в Каир инженеры накликали еще большую напасть. Им приказали ставить фабрику для добычи благородного металла. Инженеры схватились за голову: требовалось, чтоб фабрика была рассчитана ни много ни мало, а на две тысячи рабочих.
Гамиль-паша лениво пожал жирными плечами:
– Я говорил вам, безрассудные: пишите – золота нет. Ставить фабрику? Разве вы чудодеи, чтоб извлекать золото из какого-то паршивого песка? И разве вы чудодеи, чтоб обратить черномазых в механиков?
Али и Дашури отлично помнили, как действует механизм для промывки золотоносных песков, изобретенный на Урале русским инженером Аносовым. Ну хорошо, здесь, в Кезане, есть и модель машины, изготовленная в России, и паровой двигатель на восемь лошадиных сил, именно такой, какой нужен, и шестерни, и железные хомуты, и чугунная подушка, и медные подшипники. Но как вдвоем управишься?
Гамиль-паша нехотя обещал прислать солдат-суданцев. Едва упросили генерал-губернатора исполнить обещание. Солдаты явились. Они умели стрелять из ружей, они не знали устали в изнурительных переходах, но они ничего не смыслили в этих колдовских колесах с крокодильими зубьями. И как бы офицеры ни лупцевали солдат, не могли солдаты тотчас обратиться в мастеровых.
Али и Дашури отчаялись. Генерал-губернатор сонно щурился: «Мухаммед-Али хочет золота? Хе-хе! Он получит трупы двух дураков, которых посылал учиться всякой дьявольщине!»
Это верно – учиться посылали. Только не «дьявольщине», как искренне полагает генерал-губернатор, а способам разведки и добычи золота.
С половины августа до половины сентября восемьсот сорок пятого года, ровно месяц, Али и Дашури жили в Петербурге, в гостинице Кулона. День у них начинался с того, что заспанный номерной вносил странную машину, под названием самовар, и, кивая на окна, залитые дождем, беззлобно торжествовал: «Брр!.. Вот то-то…» В десятом часу являлся наставник, опекун и рачитель – русский горный инженер. Он возил молодых египтян на заводы столичные и подгородние, в лаборатории Горного института, что на Васильевском острове, близ Невы; он свел их со своими приятелями, как и сам он, людьми небогатыми, скромными, дружелюбными, и, наконец, представил их автору одного из первых русских трактатов о Египте, и господин Норов любезно преподнес Али и Дашури экземпляры своего труда с дарственной надписью.
А на зиму глядя офицер горной службы повез египтян в такие места, где, наверное, отродясь ни один африканец не показывался. Проездом видели они кремль и пузатые лабазы Нижнего Новгорода, видели русский Нил – реку Волгу, по-осеннему печальную, медленную и гордую. Мрачный Екатеринбург встретил Али и Дашури белым слепящим вихрем, и они узнали, что вихрь этот зовется метелью. На Березовских заводах с застенчивым радушием приняли их закоптелые, как нубийцы, мастеровые. В крещенскую стынь, когда потрескивали и лопались старые ели, Али и Дашури, закутанные так, что без поводырей и шагу ступить не могли, осмотрели горнозаводской район Кушву, а когда дунул апрельский ветер, пахнущий подснежниками, египтяне ушли на поиски золотишка вместе с бородачами-старателями.
Семь месяцев набирались Али и Дашури ума-разума на Урале, и семь месяцев был их наставником и учителем русский инженер, с которым познакомились они в Петербурге и которого не позабудут до самой смерти.
В июне сорок шестого года Дашури и Али стояли на борту грязного турецкого судна. Черное море чмокало бурый берег. На круче лежала бело-зеленая Одесса. Али посмотрел на Дашури и в глазах друга прочел свои мысли. Это была радость: они возвращались. И это была печаль: они возвращались. Возвращение: Нил, мой Нил, голубой на рассвете, желтый на закате, и пальмы Каира, и мимолетная встреча с любимой. Возвращение: грозный наказ владыки: золото! И страх пред жестоким наказанием будет жечь сильнее нубийских песков, терзать, как львы на берегах реки Тумат терзают добычу.
Минуло три недели. Али и Дашури появились в Каире. Написали отчет о поездке в Россию. Потом их призвали в цитадель на скале. Старик тяжко хворал. Его скручивали внезапные конвульсии, и тогда он выл, как дюжина гиен. Инженерам сказали: если с его высочеством случится припадок, не сметь и виду подать, что вы хоть что-нибудь заметили.
Мухаммед-Али говорил медленно. Голова в белоснежной чалме мелко дрожала. Он пристально смотрел на инженеров. В глазах вспыхивали совиные огоньки, будто отражались в них желтые крупицы вожделенного золота, о котором он говорил, – золота легендарной страны Офир, африканского Эльдорадо.
На сборы им отпустили неделю. Хлопот было немало. К тому же надо было исполнить просьбы господина Норова: передать письма и книги доктору Клот-бею, передать подарки какому-то Ибрагиму, капитану нильской барки-дахабия. Исполнить первое труда не представляло: главный медик Клот-бей часто приезжал в Каир. Исполнить второе оказалось невозможным: вот уж года два как раис Ибрагим переселился в город мертвых.
Неделя была быстролетной. Али и Дашури знали, что медлить нельзя. Приказ ясен: найти золото.
Вот и искали. Искали сперва в Нубии, потом здесь, на берегах реки Тумат. Время от времени посылали они в Каир слезные просьбы, умоляя пашу просить русское правительство о командировании в Африку горного инженера Ковалевского. В ответ же слышали: ищите!
Золота на Тумате было немного. Судачили, что в верховьях реки значительно больше. Но там бродили воинственные галла, а дурак Гамиль-паша, генерал-губернатор, отказывал в охране. А теперь в довершение всех бед велено ставить на Тумате золотопромывальную фабрику. Али и Дашури ходили как потерянные. Страшно подумать, какую смерть уготовит им беспощадный каирский тиран: он, как слышно, совсем рехнулся, мечтая о богатейших золотых россыпях…
В те дни, когда Дашури свалился в лихорадке, а его друг совсем выбился из сил, в те самые дни, когда оба молодых человека втайне уже примирились окончательно со своей плачевной участью, военный лагерь в Кезане огласился ревом навьюченных верблюдов и ослов.
Али опрометью выскочил из палатки, а больного, ослабевшего Дашури подняла на ноги какая-то неведомая сила. В лагерь входил караван. К нему сбегались суданцы, турки, арабы. Генерал-губернатор, покинув свой шатер, семенил, придерживая саблю. Но Али и Дашури ничего не замечали. Ничего, кроме всадника, соскочившего с коня. Они боялись поверить своим глазам. А всадник, разминаясь, приветственно махал им рукой. И тогда, не помня себя от радости, Али и Дашури ринулись к приезжему.
– Учитель! – только и смогли они выговорить, глядя на Ковалевского сияющими глазами. – Учитель!
Их волнение передалось Егору Петровичу. Он подумал: «Ах черт, до чего довели моих мальчиков», – и обнял за плечи Али и Дашури.
Гамиль-паша важно выступил вперед. Тут-то его и увидел Егор Петрович. «Экий павлин», – с насмешкою подумал Ковалевский, роясь в дорожной сумке. Он протянул генерал-губернатору фирман. Егор Петрович не раз уже испытывал магическое действие бумаги, скрепленной увесистой сургучной печатью Мухаммеда-Али. При одном его имени пот прошибал даже вот таких надутых спесью сатрапов, как этот Гамиль-паша.
Эге, гладите, как он расплывается в улыбке. А теперь начнет задавать бессчетные вопросы: о здоровье достоуважаемого путешественника, каков был путь и окажет ли достоуважаемый путешественник высокую честь Гамиль-паше, расположившись под его кровом… Но Егору Петровичу не терпелось уединиться с Али и Дашури. Одну минуту, он ответит паше, превежливо ответит, и уйдет в палатку инженеров.
В палатке инженеров разговор не сразу сладился. Слишком многое накопилось на душе у Али и Дашури, слишком сильные страхи одолевали их с тех пор, как они прибыли в этот проклятый Кезан. «Пусть успокоятся», – решил Ковалевский и заговорил о себе, как добирался от Хартума до Росейреса, как потом, оставив барку-дахабия, шел по-над берегом Тумата, как услышал шум Кезанского военного лагеря…
Али и Дашури плохо соображали, что говорил Егор Петрович, и даже не заметили, как подвинулись его познания в арабском языке, но они жадно слушали хрипловатый, такой знакомый и как бы врачующий голос. Теперь дело пойдет на лад, а если и не сбудутся упования каирских сановников, то репутация русского подполковника спасет инженеров от расправы. Теперь они спасены. Спасены! И, до конца осознав это, Али с Дашури заговорили наперебой.
– Ну-ну, ничего, – примолвливал Егор Петрович, качая головой, – ничего, ребятки. Посмотрим, посмотрим… Может, еще и так выйдет, что Гамиль-паша не палец, а всю пятерню в рот отправит от удивления.
Полог колыхнулся, в палатку просунулась седеющая борода.
– А! Терентьич! Заходи, братец. Зови всех наших, консилиум учиним.
Ивана Терентьевича и Фомина инженеры помнили по Уралу, поздоровались весело. Ценковского представил Егор Петрович. Инженеры поклонились натуралисту равнодушно: букашки да цветочки – это для них ровно ничего не значило. А вот штейгер Бородин и золотопромывник Фомин, помогавший Аносову слаживать машину, – вот кто был им люб.
Ковалевский предложил перебраться на чистый воздух. Перебрались, уселись в тени бамбуковой рощицы. И Егор Петрович открыл «консилиум». Толковали недолго. Порешили так: Дашури с Фоминым приступят к устройству фабрики, остальные отправятся вверх по реке Тумат разведывать золото.
– Но галла? – осторожно заметил Дашури.
– А милейший Гамиль-паша на что? – ответил Ковалевский. – Пусть дает охрану.
– Откажет, – грустно сказал Али.
– Это мне-то? – рассмеялся Ковалевский. – Впрочем, тупость вашего начальства известна… Но, ребятки, слово Мухаммеда-Али, оно у меня вот где. – Ковалевский похлопал ладонью по горячей коже дорожной сумки. – Нынче и приступим. Чего медлить?
Все поднялись.
– Дозвольте, ваше высокородие, – остановил Ковалевского Илья Фомин.
– Да?
– Дозвольте, ваше высокородие, мне с вами на поиск идти заместо Ивана Терентьевича.
– Это почему же, братец? Не желаешь здесь оставаться?
Фомин смотрел в сторону.
– Да мне, Егор Петрович, все едино где службу сослужить, а вот он, – Фомин быстро глянул на Бородина, – вот он, Егор Петрович, малость отдохнул бы с дороги-с.
– Ишь ходатай, – растерянно прогудел Иван Терентьевич, скрещивая на груди могучие руки. – Да кто тебя просил прошенья на мой счет подавать, а?
– Знамо, не просил, – мирно рек Фомин, – да уж вижу – притомился ты, Терентьич, чай, не молод.
Бородин потерялся: он действительно помышлял об отдыхе, но заботливость Илюшкина показалась ему непонятной. А Егор Петрович, напротив, умилился: экое милосердие.
– Добре, – сказал Ковалевский. – Добре. Ты, Бородин, с Дашури оставайся, а ты, Илья, со мной пойдешь.
– Старый конь борозды не испортит, – растерянно прогудел Иван Терентьевич, но Егор Петрович только улыбнулся.
«Консилиум» закончился.
На закате начали ладить вашгерд[1]. С наступлением темноты запылали факелы. Солдаты пели:
И-эй, хо, хо! Мы работаем!Легла густая роса. Месяц вышел на стеклянно-синее небо. В лужах обмелевшего Тумата дышали крокодилы, и желтые осколки месяца тихо тлели в их сосредоточенных глазках.
И-эй, хо, хо! Мы работаем! И-эй, хо, хо! Работай! Ия-я! И-я! Работай!Ковалевский сидел в шатре Гамиль-паши. Ковалевский смотрел на его толстые бабьи икры; Егору Петровичу казалось, что если он будет смотреть на одутловатое, глупое, нездоровое лицо генерал-губернатора, то скоро потеряет терпение и вспылит. Будет лучше, думал Ковалевский, коли этот сатрап согласится по доброй воле.
Как и предсказывали Али с Дашури, Гамиль-паша упрямился. Он сразу же выдвинул свой основной и, как ему представлялось, совершенно неопровержимый довод:
– Никто там не был.
Ковалевский ответил беглыми выстрелами: на то и путешественники-географы, сказал он, дабы проникать туда, где никто не был; вашим солдатам, сказал он, и климат, и ландшафт привычны; проводники, сказал он, не нужны, ибо, хотя на картах Тумат обозначен предположительно, пунктиром, вожатым будет само русло; наконец, вся ответственность ляжет на него, подполковника Ковалевского…
– Хорошо, – медленно процедил генерал-губернатор. – Хорошо. Но там никто не был.
Ковалевский, сдерживая раздражение, медленно выпил пятую чашку кофе. И начал все сызнова.
Настойчивость чужестранца докучала Гамиль-паше. Все шло так покойно! Когда бы не приказ Каира, он бы вытолкал в шею этого господина.
«И-эй, хо, хо! Мы работаем!» – донеслось из темноты вместе с ветром. Гамиль-паша обернулся в сторону реки. Там плясали, раскачивались факелы. Генерал-губернатору вспомнились огни, вражеские огни, что вспыхивали в горах, когда египетские отряды шли сюда, к среднему течению реки Тумат.
– И потом, – сказал паша, – есть на свете галла. Вы слышали?
Он грозил русскому. Пусть подумает про галла, если хочет еще раз в жизни увидеть свои снега и своих белых медведей. Смерть стережет в неведомых землях. Пусть пьет кофе и думает.
Ковалевский пил кофе и думал. Он надумал испробовать последнее средство.
– О, конечно, – сказал он, – кто же не слышал про галла, но кто же не слышал и про храбрость Гамиля-паши? Однако какой прок такому отважному военачальнику сидеть генерал-губернатором в диких дебрях, когда он мог бы заслужить особенное благоволение его высочества и получить под свое мудрое руковождение лучшую округу?
Гамиль-паша шевельнулся, его толстые икры одрябли.
– Мой дорогой гость устал, – заворковал паша. – Пусть отдохнет мой дорогой гость. Утром будет ответ…
Утром Гамиль-паша дал согласие на снаряжение экспедиции.
6
Сборы в дорогу Ковалевский предоставил бинбаши и юз-баши – майорам и капитанам. У него и без того забот был полон рот.
Поначалу Ковалевский предпринял несколько разведывательных экскурсий в окрестностях военного лагеря. Ему сопутствовали Али и Ценковский. Возвращаясь вечером в Кезан, Ковалевский просматривал чертежи будущей золотопромывальной фабрики. Над ними корпели Дашури и Фомин. Фомин удивлял инженера ловким обращением с чертежными инструментами: Илья не позабыл уроков, преподанных ему на Урале Аносовым.
В гористых окрестностях Кезана Егор Петрович напал на обнажения зеленокаменного порфира.
– Видите? – торжествовал он, обращаясь к Ценковскому. – Видите, черт возьми! – Отбил молотком кусок породы, подбросил на ладони.
Левушка смотрел на Ковалевского виновато: натуралист мало смыслил в геологии.
– Это, знаете ли, – быстро объяснил Ковалевский, – как у нас на Урале или на Алтае: самый благонадежный указатель – ищи золото здесь!
– Уже искали, учитель, – вздохнул Али, сожалея, что ему приходится разочаровывать Ковалевского.
– Когда? Вы искали?
– Нет, учитель, не мы. Мы уж и не пошли сюда. До нас, задолго до нас. Тут ведь действовала целая комиссия – французы, немцы…
– А! Ну хорошо, поглядим, – сухо отозвался Ковалевский.
Они возились весь этот жаркий день в ложе высохшего протока. Ковалевский заставил заложить несколько шурфов. И золото обнаружилось. Правда, сперва золота было очень мало, но все же оно было, и Егор Петрович не отступился.
Покинув ложе протока, пласт тянулся к скату горы. Тут-то и притаилась россыпь. Хорошее золото, ярко-желтое, на глубине совсем незначительной.
Ковалевский отер лицо.
– Вот, Али, – сказал он весело. – Никогда не доверяйся «комиссиям», будь самовидцем. И потом вот еще что: кто знает, хотела ль сия комиссия открыть золото? – Он помолчал. – Надобно еще вычислить, хоть приблизительно, каков запасец.
Вечером Егор Петрович черкал карандашом в записной книжечке. И эти торопливые подсчеты, и сама эта маленькая записная книжечка, точно такая, какими он всегда запасался, и поза его, согбенная, с подтянутыми коленками, на которых и лежала книжечка, – все это вызвало в нем приятное ощущение привычной работы.
В том месте, где он нынче обнаружил пласт, можно было добыть пудов двадцать пять золота. Егор Петрович, почесывая карандашом переносицу, подумал, что для фабрики, пожалуй, маловато. Однако, рассуждал он, Мухаммед-Али может позволить себе этакую роскошь: рабочие руки дармовые, содержание черного солдата обходится казне меньше пиастра в день – копеек шесть на русские деньги. А потом, ведь место для фабрики выбрано удачно, дорога до пласта удобна и коротка, версты полторы, а фабрика послужит образцом для иных, ей подобных.
Как только были закончены чертежи и Бородин сказал Ковалевскому: «Уж вы, Егор Петрович, не сомневайтесь: сделаем», Ковалевский отправился к Гамиль-паше и заявил, что готов выступить с отрядом в путь.
Тринадцатого марта 1848 года в лагере загремели барабаны. Еще едва светало. Звезды медленно блекли, ложилась густая роса, отроги дальних гор всплывали из сумрака.
Тысячи людей вскочили на ноги. К алому шатру Гамиль-паши подвели мухортую кобылу. Взревели верблюды. Верблюдам вторили ослы, ослам – офицеры.
– Экий, однако, табор… – смеялся Ковалевский. – Ну, Левушка, что, по-вашему, слаще таких минут? Хоть и тринадцатое, а выступаем.
– Ей-богу, хорошо! Мне теперь дико вспомнить: сидел в Петербурге безвыездно.
Подошли египтяне-инженеры и Бородин с Фоминым. Ковалевский погрозил пальцем Дашури:
– Смотрите, чтоб к нашему возвращению намыли тыщу пудов!
Дашури, измученный лихорадкой, желтый, худой, казалось, еще более долговязый, чем прежде, слабо улыбнулся.
– Сдюжим. Как пить дать, сдюжим, – вмешался Бородин.
Он отвел в сторону Фомина, положил ему на плечо ручищу и, глядя на Илью сверху вниз строгими глазами, стал читать нотации. Фомин, которому было неловко под тяжестью бородинской чугунной длани, изогнулся и, страдальчески шевеля бровями, поддакивал.
– А главное, паря, не дури. Понял? Не ду-ри, – внушал Иван Терентьевич.
– А чего «не дури»? – запетушился Илья.
– А ничего, – строго продолжал Бородин. – Вижу, фертом ходишь.
– А чего «фертом», ну, чего?
– Да уж так, вижу… Одним словом, чтоб все было… Ну да сам знаешь. Гляди за Егор Петровичем, чтоб, спаси бог, чего на пути не вышло. Понял?
– Понял, – с сердцем отвечал Илья, высвободившись наконец из-под руки своего товарища. – Ясное дело, понял. Что я, малолеток, что ли?
– Ну ладно, прощевай, – ласково сказал Бородин. – Прощевай, Илюшенька.
– Да и ты тут не тужи, дядя Иван. – Голос у Фомина дрогнул.
Бородин перекрестил Илью, как только, перед смертью, перекрестил его батька, диковатый мужичина-старатель.
А барабаны гремели уже на другой манер. Барабаны били «поход», и солнце, вставая из-за гор, взыграло на лошадиной сбруе, на копьях и ружейных дулах. Гамиль-паша, ловко сидя в седле, важно наклонил голову. Бинбаши и юзбаши закричали команду. Конники и вьючные животные взяли с места. Гамиль-паша поехал в голове колонны.
– Бог в помощь, – проговорил Иван Терентьевич, поддерживая стремя и глядя на Ковалевского.
– Бог-то бог, Терентьич, да и сам не будь плох. – Ковалевский сел на жеребчика. – Ну, Серко, пошел!
Он с особенным удовольствием выговорил кличку, которой сам наделил коня; этот Серко был точно близнецом жеребца, памятного с детства: на таком вот раскатывал в Ярошовке отставной секунд-майор Петр Иванович Ковалевский, отец девятерых детей, из которых самым младшим, а потому, стало быть, и баловнем всеобщим, был Егорушка.
Пришпорив лошадь, Ковалевский догнал натуралиста. У того ноги болтались, а крестец и плечи задеревенели.
– Видать, в манежах не езживали? – съязвил Ковалевский, вырываясь вперед.
– А… черррт… – прорычал Левушка.
На пригорке Ковалевский остановил Серко. С пригорка был виден весь отряд в его мерном и правильном марше.
Отряд был черный и белый. Суданцы, обнаженные до пояса, шли впереди, их кожа лоснилась. Разнообразные костюмы белых изобличали национальность залетных воинов: под знаменем Гамиль-паши служили албанцы и черногорцы, черкесы и греки. Следом за конниками и пехотинцами вышагивали вьючные верблюды, семенили ослы, понукаемые арабами.
Били барабаны. Солнце жгло. Гамиль-паша покачивался в богатом седле. Но вот он осадил лошадь. Отряд остановился. Егор Петрович подскакал к паше.
– Я поручаю отряд вам, – важно сказал паша Ковалевскому, – а вас поручаю отряду.
Ковалевский ответил церемонно:
– Доверие вашего превосходительства – честь для меня. Наперед скажу: имя Гамиль-паши останется не только в истории военной, но и в истории науки.
Гамиль-паша расплылся в улыбке. Насладившись лукавой лестью Ковалевского, он жестко глянул на окруживших его офицеров, поднял плеть из гиппопотамовой кожи, и слова его были как удары плетью:
– Ослушникам обещаю смерть!
Майоры и капитаны приложили руку к сердцу. Гамиль-паша поворотил лошадь и поскакал в Кезан.
– Командуйте «вольно», господа, – распорядился Ковалевский.
Барабаны смолкли. Стали слышны стук копыт, всхрапывание, шелест трав, голоса – разнохарактерный походный шум большого отряда.
Шли едва приметными тропами. Было жарко, но не душно, не знойно; подъемы в горах вились некрутые, затененные деревьями; стоило копнуть пересохшие ручьи, как показывалась вода, и когда отряд оставлял позади песчаное ложе какого-нибудь протока, на нем отрадно поблескивали сотни лунок, полных холодной водою.
Путешественники, как и поэты, любят сближать не близкое. Ковалевский видывал прежде Уральский хребет и Балканские горы, Гималаи и Альпы. Теперь перед ним были окраины Эфиопского нагорья. И Егор Петрович подумал, что они похожи на Южный Урал, и подобие это его умилило.
Задолго до темноты Ковалевский велел располагаться на бивак. Кто-то из майоров возразил: можно, дескать, пройти еще несколько верст.
– Вы не знаете этих скотов. Они выносливее верблюдов. – У бинбаши была снисходительная улыбка, означавшая, что начальник отряда чересчур мягкосердечен.
Но майор тут же сообразил, какого он дал маху. Лицо у начальника окаменело, он дернул черный ус, крикнул:
– Молчать! – И прибавил с тихим бешенством: – Я готов выслушивать лишь дельные советы. Идите!
Ковалевский был доволен: он дал понять этим турецким офицерам, что отрядом командует подполковник корпуса горных инженеров, и командует по долгу совести и собственному разумению.
А вечером, когда лагерь угомонился, когда небо опять сделалось густо-синим и часовые вышли в дозор, Ценковский молча указал Егору Петровичу на горы.
В горах горели огни. Они двигались, они вспыхивали все выше, все дальше. В этой беззвучной эстафете была тревога. Ковалевский, заложив руки за спину, смотрел, как перебегали, скрывались и вновь возникали сигнальные огни, зажженные горными жителями.
– Да-с, – грустно вымолвил Егор Петрович, – вот так-то… Вообразите, как они теперь покидают в страхе свои тукули и бегут, бегут в ночь с женами, ребятишками… А ведь знают, что идет не вражеское племя, но правительственный отряд. – Ковалевский невесело усмехнулся.
– Все это так, Егор Петрович, но самое непонятное вот что: негры-солдаты грабят своих собратий столь же нещадно, как белые. И знаете ли, о чем вожделенно говорят в нашем отряде? Нет? Они только и думают – равно и негры, и белые, – как бы какое-нибудь здешнее племя напало на отряд. И уж тогда-то они, мол, зададут острастку: пограбят, пленных захватят. Каково?
Ковалевский, помолчав, ответил с какой-то особенной серьезностью в тоне:
– Нам ли сему удивляться, Лев Семенович?
Натуралист понял: разве история любой европейской страны не знает жестоких междоусобиц?
– Да, да, – задумчиво вздохнул Ковалевский и, как показалось Льву Семеновичу, без всякой связи с предыдущим послал какого-то кавалериста собрать офицеров.
Ковалевский был краток.
– Господа! – обратился он к офицерам, хмуря брови и покусывая губы. – Я слышал, есть пословица: где проходит турок, трава не растет. Я хочу, чтобы после нас в здешнем крае росли травы. Властью, врученной мне его высочеством, строжайше воспрещаю какие-либо враждебные действия против туземцев. Мы явились сюда не ловить негров, не разорять деревни. Если вам чуждо человеколюбие, помните: исполнение поручения его высочества требует и от вас, и от меня мирного проникновения в долину реки Тумат.
Офицеры разошлись с недовольными лицами. «Человеколюбие»? Они никогда не слыхивали про этого вельможу. «Мирное проникновение»? Да разве нельзя совместить приятное с полезным! И лишь одно поняли они ясно: с белым всадником, как еще в Кезане прозвали этого русского инженера, с белым всадником шутки плохи.
7
Егор Петрович думал не только о золоте. Он думал и об истоках Нила. То была загадка древняя, как Сфинкс, а может, и еще древнее.
«Источники Нила в раю», – предполагали арабы.
«С кем я ни говорил из египтян, а также из мидийцев и греков, никто ничего не знал о них, кроме хранителя священного имущества храма Нейж в Саисе, который уверял меня, что знает о них, но мне казалось, что он подшучивал надо мною», – писал Геродот.
Мудрый Эратосфен силился проникнуть в тайну Нила не только в тиши Александрийской библиотеки. Он плавал до первого порога, опрашивал странников, купцов, нубийцев.
Римляне тоже пытались разгадать загадку. Во времена императора Нерона горстка римлян проникла далеко на юг по Белому Нилу. Их остановили бескрайние гибельные болота.
Спустя столетия пришли арабы. И боже мой, какие изумительные сказки и легенды сложили они! Но География сердито поджимала губы: ничего определенного об истоках великой реки дознано не было.
В XVI веке португальские миссионеры, обретавшиеся в Эфиопии, объявили о важном открытии. Они, воины Христа, они, отцы-иезуиты, наконец-то, наконец-то сподобились узнать тайну, которую создатель сокрыл от язычников и еретиков. Возрадуйтесь, ученые мужи, ликуйте, картографы! Нил животворящий, Нил прекрасный берет начало в горах Эфиопии!
И возрадовались ученые мужи. И возликовали картографы.
Но спустя многие годы, когда отцы-миссионеры давным-давно горели в адском пламени за свои бессчетные прегрешения, много лет спустя в Европе поняли, что эфиопский исток – это не сам Нил, а Голубой Нил.
Поиски продолжались…
Обо всем этом читал Егор Петрович в доме старого путешественника и книголюба, в доме бородинского ветерана Авраамия Сергеевича Норова. Читал накануне отъезда в Африку.
Просторная, о три венецианских окна зала была уставлена книжными шкафами с бронзовыми инкрустациями и бюстами латинских классиков. Годами все было неизменно в том зале: и круглый стол посредине, и вольтеровские кресла, и зеленые шторы, и стойка с трубками, и золоченый письменный прибор в виде барки-дахабия со старинным арабским изречением на борту: «Чернила ученого столь же достойны уважения, как и кровь воина».
Замученный почтенными академиками, чиновниками штаба корпуса горных инженеров, встречами и разговорами, Егор Петрович наведывался вечерами к Норову. Там ждали его четыре тома Фредерика Калльо: путешествие по Белому и Голубому Нилу; сочинение Руссегера, посетившего Судан; новенькое издание, присланное Норову из Лейпцига: странствия по Судану араба Зеин-аль-Абадина.
Ковалевский уходил из этой залы так, как уходишь после быстролетных часов, проведенных над книгами, – в приятной устали и в неприятной растревоженности из-за того, что знаешь так мало, и жаждой вернуться, чтобы узнать больше.
Они говорили с Норовым о вековой загадке. Авраамий Сергеевич склонялся к тому, что открытие это навряд по плечу одному путешественнику. «Это уже одиссея многих, и это еще будет одиссеей многих. Каждый внесет свою долю», – говаривал Норов.
А Ковалевский вопрошал себя: «Что сделаешь ты?» Он мог сделать немалое: подтвердить или опровергнуть утверждение о том, что колыбель Нила в Лунных горах. В старом учебнике Арсеньева, который любил перелистывать в молодости Егор Петрович, было напечатано: Нил берет начало в Лунных, или Эфиопских, горах. Перед тем как приехать в Каир, Егор Петрович вычитал во французских газетах, что братья д'Аббади открыли истоки Белого, то есть настоящего, Нила в той же широте, куда должны были привести Ковалевского поиски золотых россыпей. Итак, Ковалевский Егор подтвердит или опровергнет укоренившееся мнение.
Двоякая, стало быть, цель влекла его в долину Тумата: золото и нильский исток. Что было важнее ему? По чести, второе. Вот об этом-то и размышлял путешественник и на походе, рассеянно вслушиваясь в песни своей «гвардии», и на привалах, когда горели костры, а в медных котлах варилось мясо, и в синий вечерний час, когда вокруг лагеря сторожко бродили часовые и гиены…
На горной гряде Бени-Шанглу он увидел вблизи и во множестве чернокожих. Ковалевский вошел в деревню. У бамбуковых хижин-тукули были островерхие крыши, похожие на колпаки ярмарочных петрушек.
Его сопровождали Ценковский и солдатик, знающий наречие местного племени. Он был не дурак, этот босоногий воин со стареньким, но вполне исправным ружьецом: он сразу же сказал перепуганным горцам, что белый всадник никому еще не делал зла.
Этого было довольно. Пусть белый всадник будет гостем, сказали горцы, пусть он переступит порог любой тукули или сядет вот там, под деревом, где собираются деревенские сходки, пусть отведает все лакомства. И они наклоняли головы, и в густых курчавых волосах клонились разноцветные перья, и на груди постукивали ожерелья из слоновой кости.
«Так вот они, эти «страшные черные люди», вот те, коих многие европейцы ставят на последнюю, самую низшую ступень рода человеческого. И даже Руссо, свободолюбец Руссо. Какое самодовольное заблуждение!..»
Ковалевский тронул за руку солдата:
– Скажи, мы хотим посмотреть их жилища. Скажи, нам не надо никаких даров. Скажи, если есть больные, мы можем пособить. Спроси: они видели галла? Правда ли, что галла умеют добывать железо?
Два дня и две ночи провел отряд в деревнях Бени-Шанглу. Два дня посещали горцев Ковалевский с Ценковским. И две ночи от селения к селению сигнальные огни несли удивительную весть о белом всаднике, который не обижает никого. Неслыханная, поразительная весть летела эхом, обгоняя Ковалевского.
Спустившись с Бени-Шанглу, отряд опять вышел к Тумату. Здесь никогда не показывался ни один египтянин, ни один европеец. Ковалевский усмехнулся, вспомнив Гамиль-пашу: «Но там никто не был».
На песчаном, высохшем ложе реки громоздились огромные глыбы мелкозернистого гранита. Что за великан, озоруя, набросал их в беспорядке да и оставил добрым людям на изумление? И что за кудесник изукрасил берега? Странный кустарник, совсем без листвы, но весь усыпан цветами, пахучими, как жасмин.
– Asclepias laniflora, – сказал Левушка, жрец ботаники.
– Laniflora так laniflora, – согласился Ковалевский. – А уж золотишко всенепременно-с имеется!
Эх и засуетился Илюшка Фомин, заблестели у него глаза.
– Шурфы, – говорил, – шурфы закладывать надо.
– Чуешь? – засмеялся Ковалевский.
– Без промашки, ваше высокородие, как есть без промашки. Можно бы прямо и вашгерд ладить да и намывать, намывать. Не думаючи.
– Не думаючи… Не думаючи, братец, только пиво пьют, да и то, ежели задаром… Закладывай шурфы. – Он легонько подтолкнул Фомина и посмотрел на Али: – Вот вам, Али, еще сюрприз. Однако посмотрим. Но полагаю, ошибки нет.
Золото было. И опять же, как близ Кезана, ярко-желтое. Хор-рошее золото. И – по расчислению Егора Петровича – много. Он подумал: «Знать бы о сем раньше, так не в Кезане, а вот здесь самое место для большого прииска. Ну, что ж, пометим…» Он стал определять координаты местности. Потом достал из толстого кожаного футляра походную карту. Илья Фомин помогал ему…
Огрузая в песках, спотыкаясь о каменный щебень, отряд двигался вверх по сухому ложу Тумата, словно по дурной, но все ж сносной дороге. Дорога сужалась, все чаще преграждали путь гранитные завалы.
Настал день, когда бинбаши и юзбаши объявили, правда в очень осторожных выражениях, что ни верблюды, ни лошади дальше идти не могут. Офицеры не врали. Ковалевский не спорил. Спросил только:
– А пешком можно?
Турки нехотя:
– Можно.
Ковалевский улыбчиво:
– Пойдем пешком.
– А караван?
– Мы пойдем – мои соотечественники и пехотинцы. Вы будете ждать нас здесь.
Офицеры перевели дух. Что-то ехидное мелькнуло на их лицах. Егор Петрович насторожился:
– Мой приказ не забыли? (Капитаны и майоры смотрели агнцами.) Прошу помнить: никаких враждебных нефам действий, – сказал Ковалевский сухо: он догадался о замыслах офицеров – поохотиться за рабами в его отсутствие.
В тот день белый всадник спешился. Припасы были взяты на шесть дней. Солдаты взвалили мешки на спину, и маленький отряд пошел дальше.
Теперь лишь от избытка почтительности можно было величать Тумат рекой. «Прости господи, дохлый ручей. Но корень в ином, – думал Ковалевский, – ведь совсем неподалеку места, где французы д'Аббади полагают начало Нила. Вот в чем корень!»
Чернокожие солдаты шли так, будто не было палящего зноя, будто не было за плечами тяжелых мешков с припасами, а руки не затекали от ружей.
– Вот, – теребил Егор Петрович Левушку, – вот полюбуйтесь-ка. Да нет, нет – вот! Что за соколики! Идут себе как ни в чем не бывало. Трын-трава. Таким бы солдатушкам да дельных офицеров – ого-го-го!
Ценковский, до смерти усталый, вяло кивал.
– А Илья наш что гончая – все впереди бежит, – весело говорил Егор Петрович, чувствуя необыкновенный душевный подъем и радостное возбуждение. – А все отчего? Старатель, кровушка играет. У него дед старатель, отец тоже. Потомственный…
Крики и выстрелы позади заставили его обернуться в испуге. Что такое приключилось? Оказалось, солдаты изловили пятерых горцев. И вот на тебе: валят толпой, подталкивая пленников.
Ковалевский насупил брови:
– Переводчик найдется?
– Да, господин. – Вышел вперед молодой солдат. – Я могу, господин.
Ковалевский пытался узнать у пленных дальнейший путь по Тумату. Он чертил пальцем на песке, улыбался ободряюще. Ничего, ни звука. Егор Петрович вгляделся в неподвижные черные лица и понял, что пленники онемели от страха и горя. Тогда он махнул рукой в сторону гор и сказал:
– Идите!
Пленные не шелохнулись.
– Домой, – сказал путешественник и жестами изобразил пешехода.
Пленные и вовсе остолбенели.
– Скажи, пусть по домам идут. – Ковалевский посмотрел на переводчика.
Теперь и этот оцепенел.
– Я говорю, пусть идут домой. А нашим ребятам передай: не дело ловить сородичей.
Толмач заморгал глазами, белки у него, казалось, еще больше побелели.
– Они чужие, господин. Их надо Хартум. Продать. Много денег.
Солдаты зашумели.
– Эй, Али, – досадливо и беспомощно крикнул Егор Петрович, – втолкуй им!
Али поднялся с камня, подошел.
– Учитель, приказ они выполнят, а подобру не отпустят. Они делают то, чему научились у белых.
– Приказ, приказ, – Ковалевский задергал ус. – Так будет приказ. Слышите, черти? – прикрикнул он на солдат. – Пусть убираются!
Пленные наконец догадались, что происходит. Секунда – и они пустились быстрее антилоп, затрещали кусты, все стихло…
Нетерпеливые золотоискатели Али и Фомин все время шли впереди, удаляясь от отряда на версту и более.
– Не надо, – предупреждали солдаты. – Не надо. Галла.
Однако галла пока не тревожили Ковалевского и его спутников. Но галла были где-то рядом. Это ощущалось, как задуха перед грозой. Несколько раз они скользнули в кустах со своими щитами из слоновой кожи и шкурами, наброшенными на плечи.
Галла были смелые, гордые, сильные люди. Они умели добывать железную руду и медь. Они знали, что такое дисциплина, когда грохочут барабаны войны. В сухое время года галла совершали переходы по шестьсот – семьсот верст. Проносились, словно смерч, и уходили столь же стремительно, нагруженные добычей.
Как ни хотелось Ковалевскому познакомиться с галла, он, однако, предпочитал, чтобы его отряд с ними не встретился. И не раз выговаривал Илье и Али за то, что отдалялись они от экспедиции. Фомин в ответ школьничал: дескать, пугали нас на Ниле-реке крокодилами, а мы вечерами купались, и ничегошеньки страшного не приключилось, так, Егор Петрович, и с этими галла.
– Ну, ты, брат, оставь, – приструнивал его Егор Петрович, – знай посматривай.
– А то как же, – отвечал Фомин, корябая ногтем обгорелый нос.
8
Еще в Златоусте Али с Фоминым исподволь стакнулись. Разговаривали они мало и кратко, пользуясь немногими русскими словами, которые выучил Али, изобильно уснащая свою речь жестами. Но и в молчании, сидя подле либо идучи обок, молодой египетский инженер и уральский старатель чувствовали какое-то особенное расположение друг к другу. Так было в Златоусте, так получилось и в Кезане, так было и теперь, на походе.
В тот мартовский день сорок восьмого года Али с Фоминым, как уж повелось, шли скорым шагом впереди всех, помогая один одному одолевать каменные завалы.
И вдруг остановились и… побежали к отряду.
Первым заметил их Ценковский, тревожно подтолкнул локтем Егора Петровича. Оба увидели, как Илья, подняв руки и потрясая ими, что-то закричал. Егор Петрович скомандовал отряду «в ружье», выхватил пистолет и, ощущая, как в голову ему упруго и сильно прилила кровь, бросился навстречу Фомину и Али.
– Эге-ге-гей! – орал Фомин, размахивая на бегу руками. – Разновилье-е-е-е…
Вот они уже были рядом.
– Разновилье, – выдавил Илья задыхаясь.
– Говори, – рявкнул Ковалевский. – Ну!
– Разновилье… – повторил Илья, никак почему-то не находя других слов.
Тут вмешался Али, объяснил толком. Егор Петрович просиял.
– Поди догадайся, – сказал он, глядя на растерянного Илюху, и передразнил: – «Разновилье»…
Полчаса спустя экспедиция была на том мосте, откуда Илья и Али ударились в бегство. Тут действительно было «разновилье»: ложе Тумата двоилось, одно уходило на юго-запад, другое – на юг. Юго-западное звалось Дегези, южное считалось Туматом.
– Ну, братцы, – весело сказал Ковалевский, – скоро!
Отряд пошел к югу. В тот же день он достиг истока Тумата.
Солдаты открыли ружейную пальбу, грохнули в барабаны, закружились в пляске.
Путь по реке Тумат был окончен, золотые россыпи найдены, нанесены на карту, запасы примерно вычислены. Все? Нет, не все. А истоки Нила? А общее направление горных отрогов?
Надо взобраться повыше и оглядеть окрестности. Внимательно, неторопливо, подзорной трубой. Оглядеть первым из европейцев. Оглядеть в первый и в последний раз, потому что, наверное, никогда уж больше не доведется побывать в здешних краях. Оглядеть так, чтобы все-все, доступное взору и линзам, запечатлелось в памяти.
– Дневка, – приказал Ковалевский солдатам. – А вы, господа, за мной. И ты, Фомин, тоже.
Ценковский, Али, Фомин понимали, что полнит душу Егора Петровича. Ведь и они испытывали ту острую радость, то сладостное удовлетворение и гордость, какие испытывает открыватель. Они прошли в такие глубины Африки, о которых не слыхивало великое множество людей на земле.
Солнце садилось. Был тот предвечерний час, когда жара отпылала, воздух перестал струиться, дали прояснели, а травы, кусты и камни затаились в предвкушении ночного роздыха.
Ковалевский не посматривал в подзорную трубу – он озирал окрестности. И они развертывались пред ним желтовато-зелеными и синеющими пятнами, в линиях то плавных, то резких.
Влево и позади – плоскогорье: травы и острова кустарников. На востоке исполинскими призраками Эфиопские горы, подпирая горизонт, преграждали путь в таинственные страны. На западе тоже толпились горы, два острых пика отчетливо и грозно вонзались в небо, уже прихваченное полымем вечерней зари.
Но дольше всего, но пристальнее всего Ковалевский озирал юг, там, где, по свидетельству братьев д'Аббади, начинался Нил. Да, вот они голубеют, эти горы, одно имя которых – Лунные – очаровало Егора Петровича в молодые лета, когда перелистывал он учебник Арсеньева. Да, вот они, Лунные горы. Где же, однако, Белый Нил, настоящий Нил, где он? Нет его у подошвы Лунных гор. И быть его там не может.
Д'Аббади утверждают: народившись у Лунных гор, Нил течет на юг, засим – прямо на запад. Так что же, по-вашему, получается, господа? Новорожденный поток, слабенький, немощный, может прошибить необоримую толщу гор? Сие противно законам естества. Есть реки, стекающие в период дождей с северных склонов Лунных гор. Но они устремляются на север. На север – к Голубому Нилу. Ох, как вы ошиблись, братья д'Аббади…
Аббади «открыли» истоки Нила. Ковалевский открыл их ошибку. Его лепта в великий вопрос Географии оказалась лептой отрицателя. Он подумал, что в этом отрицании есть нечто положительное: другие исследователи изберут иные пути. Он поймал себя на мысли, что чуточку радуется ошибке французов, и усмехнулся: «человек слаб». Впрочем, как бы там ни было, он сделал свое дело.
То, что открылось в тот день взору путешественников, не было обозначено на картах. Горы и долы лежали перед ними, расцвеченные закатом, в ретуши теней, прекрасные и безымянные.
– Так как же с обрядом крещения? – негромко спросил Ценковский.
– В святцы заглянем, – хмуро отшутился Егор Петрович. Еще в Петербурге ему дали понять, чье имя непременно должно появиться на карте. Он не спорил. Но теперь Егору Петровичу было как-то неловко, даже стыдно объявить это имя своему спутнику. И он спросил:
– А вы как полагаете, Лев Семенович?
Тот помолчал, потом ответил:
– Из названия должно быть ясно, какой нации были путешественники. Может, Новая Московия?
– М-да… Уж больно знакомый рецепт: Новая Голландия, Новая Англия…
– Ну хорошо, хорошо, – согласился Левушка. – Тогда так: Страна Ковалевского. И гадать нечего!
– Э, нет, – возразил Егор Петрович. – Это уж, батенька, оставьте.
Ценковский пожал плечами:
– Не вижу, почему «нет»… Впрочем, время позднее. Идемте, Егор Петрович, утро вечера мудренее.
В лагере близ истока Тумата горели костры. У огней сидели и лежали солдаты. Ослы были стреножены, ружья составлены в пирамиды.
День быстро мерк. Неподалеку затрубил слон. Потом другой, третий. Торжественно и победно. Они шли на водопой к Тумату.
Река пересохшая? О, слоны знали, как добыть воду. Они ложились на песок, поднимались и ждали, пошевеливая ушами, а во вмятины с беззвучным натиском набегала вода.
– Слоны! Слоны! – кричали суданцы, вскакивая и разбирая оружие.
– Погодите, – остановил их инженер Али. – Не надо, ведь они трубят в нашу честь…
Поутру отряд выступил в обратный путь.
– Так как же? – спросил Ковалевского Лев Семенович.
– Уже, – нехотя ответил Егор Петрович, не глядя на Ценковского.
– И на карту нанесли?
– И на карту нанес, – с приметным раздражением сказал Ковалевский.
Ценковский не понял причины его раздражения и обиженно умолк.
– Страна Николаевская, – вымученно, но решительно, заранее пресекая возражения, отрезал Ковалевский и прибавил шагу.
«Боже мой, – растерялся Ценковский, – человек гуманного направления и вот… называет страну именем императора, да еще такого императора…» И Левушке стало и досадно, и как-то сумеречно на душе. Натуралист посмотрел вслед Ковалевскому, казалось, Егор Петрович шагает очень прямо и напряженно.
9
Инженера Дашури изводила лихорадка. Когда бы не этот уральский бородач, пришлось бы ему с фабрикой худо. Инженер Дашури дивился на Ивана Терентьевича: исконный северянин, а суданское пекло его не берет.
Суданское пекло, однако, «забирало» Ивана Терентьевича. Порою ломило его и познабливало, под коленками жила какая-то ослабла. «Спаси господь обезножить», – тревожился Бородин и лечился способом самоличного изобретения: наливал в стакан рому, настаивал на нем три добрых понюшки табаку и выпивал залпом. И вроде бы «отпускало». Впрочем, не вчистую. Недостаточное действие «лекарствия» объяснял Иван Терентьевич дурными качествами рома.
По правде говоря, вызволяла его из хворости не табачная крошка, настоянная на роме, а непрестанная забота о фабрике. Крепость данного слова почитал Иван Терентьевич как заповедь. Он посулил Егору Петровичу поставить фабрику, и он ставил ее. И даже не из того бился и хлопотал, что обещал Ковалевскому «сдюжить», а потому, что слово дал не кто иной, а именно он, штейгер Терентьич, известный на всех Златоустовских рудниках и заводах.
Биться же и хлопотать приходилось с утра до ночи. Бедняга Дашури стал как жердь. Трясет лихоманка, того гляди, пополам переломит. Гамиль-паша со своими офицерами-турками знай твердят: «На все воля Аллаха, а фабрика не получится». Черные солдаты стараются вовсю, да где же вскорости машиной-то овладеть? Промывают за день пудов триста – четыреста песку, а на Урале ребята проворачивали в три-четыре раза больше. Беда… Мало-помалу, как казалось Ивану Терентьевичу, а в действительности весьма скоро люди из военного лагеря в Кезане наловчились управляться со всеми этими чашами разных размеров и форм, по которым проходил разжиженный туматский песок, с этими грохотами и отсадочными корытами и не только перестали пугаться огнедышащего чудища, но старались уразуметь, что у него там, внутри.
День ото дня количество пудов промытого песку, а стало быть, и количество золотников благородного металла увеличивалось. И когда отряд Ковалевского, встреченный барабанами и трубами, пришел в Кезан и Бородин протолкался наконец к Егору Петровичу, то Егор Петрович услышал:
– А мы, ваше высокородие, за тыщу переваливаем.
– За тыщу пудов в день? Ей-богу? – с радостным недоверием воскликнул Егор Петрович, но, взглянув на спокойно-удовлетворенное лицо штейгера, выдохнул ласково: – Спасибо, старина!
– Да и вы, чай, не с пустыми руками? – Заулыбался Бородин.
– Не с пустыми, Терентьич. И не только что золотишко, но и магнитный железняк нашли. Такой, братец, – пальчики оближешь. – Ковалевский рассмеялся и махнул рукой: – Ну, да об этом после. Соловья баснями не кормят. – Он подозвал Ценковского и предложил соорудить ужин, «дабы взбрызнуть окончание Туматского похода».
С того самого дня, как экспедиция пустилась в обратный путь, а вернее, с того дня, как на карте была помечена Страна Николаевская, инженер и натуралист были в натянутых отношениях.
Не то чтобы враждовали или выказывали открытое неудовольствие друг другом, но задушевность, возникшая с самого начала путешествия, исчезла. У каждого были свои резоны касательно имени на карте, и каждый понимал резоны другого, но объяснений на сей счет они старательно избегали. Потом желание объясняться пропало, оба тяготились «неувязкой», понимая, что надо перешагнуть какую-то черту.
И теперь, глядя в глаза Ковалевского, глядя на своего несколько смущенного старшего сотоварища, Ценковский явственно почувствовал, как дорог ему стал за месяцы трудов и скитаний этот горный инженер и что без прежней задушевности им не прожить.
Егор Петрович испытывал то же, что и Ценковский, но ему было досадно своей сконфуженности, которая – он это понимал – была теперь в его глазах.
– Надо взбрызнуть, – согласился Ценковский, краснея.
– Вот и хорошо, – сказал Егор Петрович и, как бы спохватившись, прибавил: – Вы тут, Левушка, распорядитесь, а я пойду к нашему сатрапу. – Он иронически сдвинул брови. – Начальство надо чтить.
Егор Петрович отправился к Гамиль-паше, а Ценковский, провожая его взглядом, догадался, что Егор Петрович, говоря о почтении к начальству, насмехался над самим собою за это имя на карте: «Николаевская»…
До «открытия навигации», как Егор Петрович в шутку называл период тропических дождей, оставалось меньше месяца, а надо было еще исследовать гористый район к юго-западу от Кезана. То был край, где господствовала крепость Дуль.
«О Дуль!» – твердил старый правитель Египта, беседуя с Ковалевским в Каире. «О Дуль!» – говорил он вздыхая, и его выцветшие глаза подергивались влагой… Окрестности Дуля распаляли воображение паши. В старинной рукописи читал он, что именно из тех мест шли караваны с бочками золота во времена древних фараонов. Там, именно там, в глубине Судана, считал он, была «страна Офир».
Однако ни один подданный, посланный в Дуль, не пролил бальзам на его душу. Бананов, дикого зверя и черного дерева – вдоволь, а золота так мало, что и говорить обидно.
Но старик верил: приспеют сроки, и «страна Офир» осчастливит его своими сокровищами. Тянулись годы. А заветный срок не приспевал. Иной предел был близок, кончалась жизнь. Он это знал и решился: если русский ученый скажет «нет», крепость Дуль будет покинута, «страна Офир» предана забвению…
«Страну Офир» увидел Ковалевский в апреле. И тогда же впервые увидел облака на суданском небе. Они предвещали ливень.
Отряд двигался прямиком. Цепкие заросли, усеянные колючками, как ежи иглами, накинулись на путешественников. «Вот тебе и терновый венец, мученик», – невесело думал Ковалевский, продираясь за проводником-арабом.
Вокруг горы Сода было множество пещер. В пещерах, рассказывал проводник, укрывались горцы, известные своим мужеством и свободолюбием. Не сладко приходилось от их копий и стрел египетским завоевателям. Когда же воинов загнали в эти пещеры и обложили, как диких зверей, они предпочли самоубийство сдаче в плен. Теперь, говорил проводник, гора Сода почти обезлюдела: часть жителей истреблена, часть уведена в рабство, а те, что остались…
– Они, господин! – воскликнул араб и показал на каких-то людей, вышедших из зарослей, павших ниц и целовавших землю в знак покорности.
Егор Петрович велел им встать. Первым поднялся старик, должно быть вождь. От макушки до пят он был выкрашен в красный цвет. Даже брови у него казались густыми мазками сурика. Он стоял потупившись, боясь, что чужеземец увидит на лице его бессильную ярость. И вот так, потупившись, с бессильной яростью на лице, вождь молился богам об избавлении его людей от гибели и не сразу даже понял то, что говорил ему со слов Егора Петровича проводник-араб.
А тот говорил «краснокожему», что отряд не тронет его людей, что им не нужно невольников.
– И, – заключил переводчик уже от своего имени, – верь нам, ибо ведет нас тот, кого здесь зовут белым всадником. Вот он, перед тобой, хоть ныне и пеший.
Тогда вождь поднял голову, на лице его отобразились радость и изумление. Егор Петрович не удержался от улыбки и, покосившись на Ценковского, мальчишески смущенно сказал:
– Что и толковать, завидная у меня репутация!
– Завидная, – серьезно ответил Ценковский. – Будь она иной, я перестал бы уважать вас.
Ночью грянул ливень. Его пролили облака – предвестники затяжных тропических дождей. К утру ливень стал стихать, как колымага, проехавшая бревенчатый мост и покатившая по мягкому большаку.
И опять палило солнце, духота густела. У Егора Петровича было такое ощущение, точно его посадили под стеклянный колпак. Он завидовал Левушке. Левушка собирает гербарий, недосуг думать о себе.
И точно: у Ценковского была та сосредоточенно-восторженная мина, какая всегда появлялась на лице его при виде «роскоши и неги натуры».
Тропические заросли, изможденные многодневными жарами и напившиеся воды лишь давешней ночью, роняли тяжелые, словно скатный жемчуг, дождевые капли. Тут все было в полный рост, все в полную силу и меру, ибо возрастало на могучей земле, под могучим солнцем и могучими дождями: баобабы и черное дерево, дикий виноград и дикая слива, дикие бананы и дикие абрикосы.
Отряд выбрался к широкому сухому руслу. В дождливое время здесь ревела река Дуль. За рекой тянулась новая гряда гор. Там была крепость Дуль.
Не прошло и часу, как из-за скал вынеслись кавалеристы в белых свитках, в распахнутых красных камзолах, в алых шапочках. Они стреляли на скаку из длинноствольных ружей, черные клубочки дыма висели позади кавалькады. Егору Петровичу на миг показалось, что он вновь в милой его сердцу Черногории. Вон же идут на рысях переники – стражники из города Цетинье, что сопровождали его, молодого тогда инженера, в странствиях по Черногории… Ба, да это и впрямь черногорцы!.. Егор Петрович вспомнил: в крепости Дуль служат и славяне, и греки, и турки.
Первым подлетел командир крепостного гарнизона. У него были вислые черные усы, его глаза метали искры, вся его стать выдавала в нем бесшабашного удальца.
Егор Петрович приветствовал его по-черногорски; Омар-ага скатился с седла, бросил поводья подоспевшему адъютанту, враскачку подбежал к Егору Петровичу и обнял его.
Они пошли рядом. Омар, ковыляя на кривых кавалерийских ногах, торопливо осведомлялся, зачем пожаловал в эти распроклятые края ученый русский господин, и, слушая Ковалевского, удивленно и радостно цокал языком, пожимал Егору Петровичу локоть, прихлопывал себя по бокам.
Скоро показалась крепость Дуль. Ее мог назвать крепостью лишь тот, кто умеет строить замки из воздуха. Егору Петровичу она напомнила захудалые фортеции, которые торчали в Оренбургских степях. Ров, не страшный и младенцу, плетень, не страшный и курице, две пушечки «времен очаковских» – вот вам и крепость Дуль. А в фортеции – тукули, огороды, верблюды да две-три беленькие мазанки: точь-в-точь как под Харьковом, в селе Ярошовке.
Омар-ага хотел было закатить пирушку в своем домике, убранном коврами и оружием, но Егор Петрович просил повременить с празднеством.
Ковалевскому был памятен недавний ливень. Такие могли зарядить денно и нощно, и тогда изыскания взяли бы бог знает сколько времени.
Омар-ага не перечил. Напротив, поспешность русского инженера его только радовала. Омар-ага знал: золота здесь что доброты в сердце турецкого бея. И если русский убедится в этом, гарнизон немедля покинет Дуль.
Жизнь здешняя вконец опротивела Омару. Уж на что он неунывающая душа, а зачастую готов взвыть. И давно уж не на радость ему дульские увеселения: ни несчастный мальчишка, которого он поит допьяна и глядит, тоскуя и злобствуя, на его штукарства; ни рабы, которых стравливают, как бойцовых петухов; ни танцы невольников в кандалах; ни фальшивая любовь чернокожих красавиц, изловленных в соседних деревушках… Шесть лет стоит во глубине Судана чертова крепость Дуль, и за плетнем ее больше покойников, чем живых в гарнизоне, потому что каждодневно хоронят в Дуле умерших от подлой лихорадки и злодейки тоски.
– Все перемрем, – убежденно говорил Омар-ага Ковалевскому, и глаза у него меркли, – если вы, эфенди, не выведете нас отсюда.
Нет, Омар-ага не удерживал Ковалевского. Пусть русский инженер поскорее убедится в истине его слов: может, и было золото в окрестных горах, но только, наверное, еще до потопа, а нынче на месте древних приисков лишь кучи пустой породы, да и те давным-давно обросли кустарником и деревьями, как – «помните, эфенди?» – развалины венецианских башен на побережье Адриатики… Да, да. Омар-ага не лжет. Он готов поклясться в том и Христом-спасителем, а Аллахом, и «в придачу дюжиной негритянских боженят»…
– Не надо клятв, – засмеялся Егор Петрович. – Не надо, потому что, если ты ошибешься, все боги мира ополчатся на тебя.
Передохнув в фортеции, Ковалевский и Бородин ушли в разведку, от результатов которой зависело осуществление и заветных чаяний правителя Египта, и надежд безвестных гарнизонных служителей.
Три дня спустя Егор Петрович и Бородин почти уверились в правоте Омар-аги. В «стране Офир» когда-то существовали прииски. Теперь золота не было. А еще несколько дней спустя и горный инженер, и штейгер готовы были биться об заклад, что ставить фабрику в Дуле может лишь тот, кто рехнулся.
Но Ковалевский не спешил оглашать радостное известие. Он опасался, и не без оснований, как бы Омар-ага тотчас не увел гарнизон из опостылевшей ему крепости Дуль. А Ковалевский с Левушкой хотели получше познакомиться с окрестными племенами.
Наконец Егор Петрович открылся Омар-are. Удальца захлестнуло такое счастье, что он не сдвинулся с места, и лицо его стало суровым.
В ту минуту светло затрепетала молния, ударил гром и пошел себе громыхать молодым басом. Омар-ага встрепенулся, сорвал с головы алую шапочку, кинул ее под ноги, выхватил из-за пояса пистолет и выпалил, ликуя.
10
Падре Рилло умирал от дизентерии.
Будучи короток с богом, Рилло говорил: «Право, вы могли бы найти более благородный способ вытряхнуть душу из моего бренного тела». Господь неостроумно шутил: «Надоумить, что ли, аптекаря Лумелло?» Сдохнуть от зелия хартумского отравителя падре Рилло не нравилось. Он обиженно поджимал сухой блеклый рот: «Я всегда служил вам, а вы не захотели уготовить мне иной кончины». – «Послушай, Рилло! А разве я мало для тебя сделал, а? Терпи: скоро будешь на небесах». – «Да, но у меня пропасть забот в Хартуме», – возражал иезуит. Господь терял терпение: «Черт возьми, как только дело доходит до точки, вы все норовите заменить ее многоточием». И оба умолкали, недовольные друг другом.
Падре лежал на широкой постели в доме, занятом миссионерами. Дождь на дворе хлестал рьяно, молнии, полыхая за окнами, выхватывали из темноты стол с книгами, стул, деревянное распятие на стене.
Падре думал о смерти. Он не боялся ее, когда жил. Теперь же, умирая, боялся. В сущности, падре лукавил, когда перечислял богу неотложные свои заботы: дождаться русских, заполучить карту… Рилло знает: все будет так, как задумано. Мастеровой выкрадет карту у Ковалевского, а Рилло отдаст мастеровому кожаную суму с золотыми монетами. Падре Рилло всегда платил сполна. Да, карту он добудет. В Ватикан повезет ее Никола Уливи. И разумеется, какие-нибудь подставные лица сумеют обосноваться там, где русский инженер найдет золото… Все, что задумано, исполнится. Но какой в том прок ему, падре Рилло? «Суета сует и всяческая суета…»
Рилло уснул под утро. Он лежал плоский, с черными тенями под запавшими глазами, на шишковатом лбу проступали капли пота. Помощник Рилло падре дон Анджело Винко, зайдя в комнату утром, осенил себя крестным знамением: дону Анджело показалось, что Рилло мертв. Он приблизился на цыпочках к широкой постели. Веки у Рилло дрогнули. Одно мгновение он безучастно глядел на дона Анджело, потом прошелестел сухими губами:
– Я еще здесь.
Дон Анджело возблагодарил бога: падре Рилло очень нужен именно здесь, на земле; на небесах же… падре Винко сильно сомневался, нужен ли там падре Рилло.
– Они прибыли, – прошептал дон Анджело, складывая и прижимая к груди жилистые руки. – Они в Хартуме.
Рилло рывком приподнялся на постели.
– Не теряйте времени, – сказал он с тем энергичным напором в голосе, который заставил дона Анджело в сотый, если не в тысячный раз позавидовать несокрушимости падре Рилло, столь ценимого Ватиканом. – Не теряйте времени. Пошлите за Уливи. Скорее.
Уливи примчался, его глазки блестели, бегали, седые волосы взмокли.
– Вы видели их, Никола? – спросил Рилло.
– Видел, падре. Видел. Ковалевскому не жить… его выворачивает наизнанку… рвота беспрерывно…
– Погодите, – оборвал Рилло. – Этот молодой человек с ним?
– С ним, падре, с ним. Все там, кроме натуралиста. Тот, говорят…
– Вы ему не сказали… – Рилло не договорил, вспомнив, что Уливи не знает по-русски. – Сколько они думают пробыть в Хартуме? Торопятся? – Падре устало откинулся на подушки. Он почувствовал, что ослабел еще больше и погружается в забытье, как в теплую ванну.
Барка, на которой экспедиция Ковалевского возвращалась с Тумата, пришла в Хартум ночью. Егор Петрович хотел нынче, хотя бы к вечеру, плыть дальше. Он спешил, ибо ему, как и говорил Никола Уливи, действительно было худо. Прежестокой лихорадкой и желудочной болезнью расплачивался он за свое путешествие.
Хартум… А путь на родину еще так далек. И Левушки не было рядом. Свидятся ль когда-нибудь? Если выживет Егор Петрович, то свидятся в Петербурге. Но ведь и Левушка не из железа кованный.
В низенькой каюте было сумеречно. Слышались всплески, шум дождя, шлепанье босых ног. На барку грузили провизию.
– Терентьич, – позвал Егор Петрович. – Ты как?
– Слава богу, – тихо отвечал Бородин из угла каюты.
Ковалевский печально улыбнулся: «Помирать будет, не признается». Егор Петрович отлично знал: штейгера тоже скрутила лихорадка. И не помогал Терентьичу ром с табаком, совсем не помогал.
– Нам бы, ваше высокородие, только бы до дому добраться.
– Я загадал, Терентьич: если нынче уйдем из Хартума, будет хорошо.
– На все воля божья, – вздохнул Бородин. Помолчал и сказал: – Дозвольте Илюшку кликнуть.
– На что он тебе?
– Спросить, скоро ль с погрузкой кончит?
Илья Фомин нетерпеливо присматривал за работой матросов. Ему нужно было отлучиться, но он не решался оставить барку и вот бегал по палубе, покрикивал, пособлял, а сам все посматривал на берег.
Нет, Илюшка Фомин не позабыл про свой сговор с тем высохшим попом. Не-ет, не позабыл. Отдаст он ему карту. Пусть берет. Ух и пофартило, вовек не снилось! И заживешь ты, Илюшка, в славном городе Златоусте, заживешь кум королю, сват министру.
Илья услышал голос Терентьича и поспешил в каюту. На вопрос дяди Ивана отвечал, что с погрузкой вот-вот будет покончено, а после побежит он на торжище приобресть что-нибудь из съестного отдельно для его высокородия.
– Возьми денег, – сонно сказал Ковалевский. – Аптекаря найди. Медикаменты…
– Чего? – не понял Фомин.
– Лекарства спроси, – вяло пробормотал Ковалевский, протягивая ключ от сундука.
Сундук стоял в головах у Егора Петровича. Илья щелкнул замком, приподнял крышку. Справа были бумаги Егора Петровича, стопка маленьких записных книжечек, кожаный футляр с картами. Рядом – инструменты чертежные, термометры и барометр, секстан и компасы, а вот и деньги.
– Да ты фонарь засвети, – глухо сказал Бородин из дальнего угла сумеречной каюты.
– Ничего… ничего, – бормотал Фомин, шаря в сундуке. – Я так… так…
Ковалевский застонал от пронзительных болей, скрипнул зубами, отвернулся к стене.
– Ключ, ваше высокородь, куда ключ-то? – спросил Фомин.
– Под… подушку, – процедил Ковалевский не поворачиваясь.
Илья вышел из каюты, притворил дверь.
В полдень барка была изготовлена к дальнейшему плаванию, и Фомин, не мешкая, сбежал на берег.
Дождь перестал, сквозь тучи глухо светило солнце, было парко, как на банном полке. Сердце у Илюшки колотилось, под ложечкой екало. Карта с отметками местонахождения золота лежала у него на груди, под рубахой, сложенная вчетверо, и Фомин чувствовал, как толстая шершавая бумага щекочет тело. Он шел быстро, не оглядываясь, думая только о том, как бы поскорее обделать все, после сбегать на торжище и к аптекарю да и воротиться на барку, чтобы тут же отшвартоваться.
Едва Фомин переступил порог дома, где жили миссионеры, как ему попался Никола Уливи. Фомин сказал:
– Мне Риллу надоть.
Уливи затряс головой, указал на двери, пропустил Илюшку вперед, сам пошел позади.
Падре Рилло пребывал в странном состоянии: сознание то прояснялось, будто вспыхивал в душе какой-то яркий светоч, то опять меркло, заволакивалось гудящей мглою. Падре чудилось, что он в одно время и погружается в теплую ванну, и всплывает, но совсем всплыть не может и опять погружается, и хотелось ему лишь одного – либо уж всплыть, либо уж вовсе погрузиться. И вдруг Рилло явственно услышал голос Уливи:
– Падре, он здесь.
Падре собрал остаток сил. Фомин стоял в двух шагах от постели. Рилло молвил:
– Приблизься, сын мой.
Он говорил по-французски. Фомин попятился: «Этот совсем не тот». Но это был «тот», хоть и донельзя измененный болезнью. Рилло не мог припомнить русские слова. Пот проступил на его шишковатом лбу. Он пошевелил пальцами, развел ладонями, стараясь объяснить: карту, давай карту. Наконец память подсказала нужные слова.
– Ты исполнил обещанное, сын мой?
Фомина бросило в жар, он кивнул, сглатывая слюну, и молвил нетвердо:
– Пусть господин-то выйдет, а?
Падре мигнул Уливи, тот ушел.
– Скорее. – Рилло чувствовал, что еще немного, он потеряет сознание, и пролепетал, запинаясь: – Давай.
Илюшка поддернул штаны.
– А наградные-то, ваша милость?
– Покажи, – недоверчиво сказал Рилло.
– Ишь вы какой, – заколебался Илюшка.
– Покажи из своих рук.
Илья подошел к постели и, выпростав из-за кушака рубашку, осторожно извлек карту.
– Ближе, – прошипел падре. – Еще ближе. Разверни.
Рилло увидел линию реки Тумат. К югу от ее верховьев были помечены отроги Лунных гор. Там, на отрогах, сидели жирные паучки, около каждого – градусы, минуты, секунды: широты и долготы месторождений золота… Рилло опустил глаза, Плюшкины руки, державшие карту, приметно дрожали.
– Подвинь левую руку, сын мой, – с неожиданным спокойствием произнес Рилло.
Илюшка послушался, и падре увидел размашистую, в завитушках подпись: «Ковалевский»… И ниже – дату. «Ну что же, слава богу, слава богу», – вяло подумалось Рилло, он уже терял сознание.
– Деньги под постелью. – Падре едва ворочал языком. – Давай карту.
Но Илюшка сперва заглянул под кровать. Там, выпятив кожаное брюшко, лежал мешочек. Илюшка почтительно тронул его большим пальцем. В мешочке звякнуло золото. Илюшку проняло радостью, и опять засосало под ложечкой.
– Карту, карту, – шептал Рилло. – С нею ты отсюда не выйдешь.
– Получай, ваше степенство. Пользуйся.
Илюшка ловко выволок мешочек, любовно опустил его в корзинку, прихваченную на барке для закупки провизии, и поспешил вон. В дверях он едва не столкнулся с Уливи. Торговец больно стукнулся о косяк и вскочил в комнату падре Рилло. На пороге миссионерского дома стоял дон Анджело. Он скосил заблестевшие по-собачьему глаза на корзинку, прерывисто вздохнул и певуче пустил вдогонку Фомину:
– О figlio mio, la strada della saluta e apperta per voi![2]
– Угу, – ответил Илюшка, – прощевайте. – Завернул за угол и полетел, как на крыльях, с удовольствием ощущая тяжесть плетеной корзины.
Часа через два, когда барка Ковалевского уже отдавала швартовы, на пристани появилось трое носильщиков. Они принесли Ковалевскому подарки и письмо от Никола Уливи. Торговец живым товаром желал «сыну Севера» избавления от болезней и умолял черкнуть хотя бы два слова хартумским «соотечественникам», сохранившим о нем самые лучшие воспоминания. Егор Петрович растрогался и написал благодарственную записочку «уважаемому господину Уливи».
Как только записка была отправлена, барка отдала швартовы, и прости-прощай город Хартум.
Ковалевский и Бородин тихонько и устало переговаривались, лежа в низкой полутемной каюте. Путь впереди еще тяжкий: переход Нубийской пустыней, длительное речное плавание в Каир, морем из Александрии в Одессу, пусть многое еще впереди, но и Егор Петрович, и Иван Терентьевич почему-то уверовали, что теперь, миновав Хартум, живыми доберутся до дому.
Но вместе с этим чувством облегчения и радости гнездилась в душе Егора Петровича грусть по оставленным навсегда землям африканских племен, по Али и Дашури, осиротевшим вновь, по реке Тумат, что в период дождей набухает мутными водами и несется с ревом.
Фомин тем временем забрался в укромное местечко. «Нету мочи терпеть до ночи», – складно бормотал он себе под нос, развязывая тесьму и запуская руку в мешок. Наклонив голову, как в дуду игрец, он прислушался к звону золотых монет. Две-три вытащил наобум, куснул зубом и удовлетворился: настоящие, чистые.
Эк, лихую штуку удрал он! Не зазря чертил в Кезане карту, покамест его высокородие с Терентьичем в отлучке были. А теперь пускай поп ищет ветра в поле. Срамота, а не поп. Удумал его, Плюшкину, душу грехом покрыть. Умный, умный, а дурак…
Илюшка улегся под навесом. Барку нес попутный ветер. Все дальше уходила барка вниз по Нилу, все дальше был Хартум…
А в Хартуме, в доме с верандой, где столь часто пьянствовали «соотечественники», метался Никола Уливи.
Получив записочку Ковалевского, он сличил почерк Егора Петровича с надписями на карте, переданной Фоминым, и жесткие седые волосы торговца поднялись дыбом. Почерки были разительно не схожи!
Правда, Уливи тут же спохватился: может, этот малый передал копию карты? Но еще раз взглянув на записку Ковалевского и прочтя в ней, что экспедиция доходила до восьмого градуса северной широты, убедился, что они с Рилло заполучили фальшивку. Черт побери, пометки – жирные крестики – были разбросаны по отрогам Лунных гор и на шестом, и на пятом, и даже на четвертом градусе.
Уливи забегал по комнате, расшвыривая стулья. Как быть? Устроить погоню? Сказать Рилло?
Он пропустил стакан, постоял и вдруг тихо сел в кресло.
Никола Уливи сидел в кресле и смотрел, как вздрагивает листва в саду под потоками дождя. Слуга скрипнул дверью, сказал, что ужин подан. Уливи не ответил.
Идти к падре Рилло? Он не станет огорчать умирающего.
Больше полувека падре дурачил других, а перед смертью одурачили падре. Погоня, убийство? Тьфу, какие страсти! Все куда проще: он, Никола Уливи, которого эти иезуиты держат на привязи, зная за ним кое-что предосудительное, он поедет в Рим и отвезет им карту. Пусть тешатся. Никола получит отпущение грехов, прошлых и будущих, а сверх того – что гораздо важнее – изрядную мзду. И какое ему дело до того, что карта неверная? Он мог бы и не знать этого. Не Рилло со своими попами догадался заполучить письмецо Ковалевского, чтобы сличить почерки, а он, Никола Уливи. Вот так-то, господа, и не о чем больше думать.
Уливи поднялся с кресла и пошел ужинать, насвистывая баркаролу из «Фенеллы».
11
Давно уж оставили Африку Егор Петрович и два его помощника-уральца, а Ценковский, изучавший тропические леса на берегах Голубого Нила, с немалыми злоключениями добирался из деревни Росейрес в Александрию.
В Александрию прибыл он в конце июля 1849 года, совершенно больной и обессиленный. Дожидаясь парохода, чтобы отплыть если и не прямо в Одессу, то хотя бы в Константинополь, он остановился в гостинице, сожалея, что нет в Александрии ни друзей, ни знакомых.
В один из томительных и пустых дней в номер вошел молодой высоколобый человек с орлиным носом и густой шевелюрой. Ценковский взглянул на него с удивлением и вдруг просиял: признал своего хартумского собеседника.
На лице же молодого человека при виде русского натуралиста отобразились такая растерянность и такое сочувствие, что Лев Семенович только руками развел и сказал тихо:
– Что поделаешь, друг мой: Париж стоит мессы.
Как и тогда в Хартуме, в саду Николы Уливи, они беседовали долго, доверительно и задушевно.
А потом Альфред Брем, путешественник и будущий автор знаменитой «Жизни животных», продолжая свои африканские заметки, писал в дневнике:
«Несколько дней назад приехал сюда наш старый знакомец из Судана – профессор Ценковский, посланный Петербургской Академией наук. Во время своего путешествия во внутренней Африке он терпел не только всевозможные неудачи, но еще самую жестокую лихорадку, которая иссушила его так, что едва можно было узнать. Неизбежный недуг Восточного Судана вовсе испортил ему здоровье. Кроме того, в Египте он потерпел кораблекрушение и потерял большую часть естественноисторических коллекций, которые он собирал так долго, жертвуя для этих сокровищ своим здоровьем и не раз рискуя жизнью. Я охотно верил его рассказам обо всех пережитых страданиях, потому что по опыту знал Судан с его адским климатом».
12
Пролог петербургской зимы уныл, как дворы-колодцы этого города. Кажется, нет ни утра, ни дня, а есть одни только сумерки. И в этих сумерках захлебываются водосточные трубы, в этих сумерках слабо дымят трубы печные, а окна домов, как и глаза прохожих, слезятся, слезятся…
Петербург в конце октября никто не признает местом, врачующим недуг. Но врачует воздух родины. И Егор Петрович избавился от болезни. Он избавился от нее незаметно, словно бы потерял где-то, как теряешь носовой платок.
За окном зяб день, нахохленный, взъерошенный, как воробьи на карнизах. Немало обреталось в Питере людей, впадавших от этих безнадежных сумерек в отчаяннейшую хандру. Но Егору Петровичу именно они, сумерки эти, были приятны: его зрение отдыхало от резкого пронзительного света и красок Африки, и это чувство «отдыхающего зрения» радовало.
Он работал неустанно, как нильские сакии, и, как некогда французский ученый Кювье, взбадривался переменой занятий. Статья о геологическом строении Нильского бассейна, потом очерк об Африке для «Современника». Рапорт об итогах экспедиции в Штаб корпуса горных инженеров, потом обработка метеорологических наблюдений.
Редакция «Современника» приняла его очерк с такими похвалами, что они почти могли бы заменить гонорар. Редактор журнала поэт Некрасов прислал письмо: «Ваша статья прекрасна и чрезвычайно всем нравится. Все жалеют только, что мало. Нужно еще».
Егор Петрович тоже думал: «Нужно еще». Правда, он не знал, кто напечатает его статью – журнал «Современник» или «Отечественные записки», но знал, что должен ее написать. И она, статья эта, должна прозвучать отповедью колонистам-европейцам.
На Петербург валил мокрый снег. Печь в комнате дымила. Егор Петрович отворил форточку. Простуды он не боялся. Когда так работается, никакая хворь тебя не берет.
Статью об африканцах он написал быстро, потому что обдумывал ее долго – и в Африке, и по дороге домой.
Берясь за перо, он вовсе не мыслил сочинить панегирик. Среди любого народа, любого племени были люди добрые и злые, поумнее и поглупее, с большими или меньшими достоинствами. Но белый всадник хотел защитить темнокожего человека от колонизаторов.
Чай стыл в стакане. Набросив на плечи форменный сюртук, Егор Петрович писал лист за листом.
«Понятие о красоте совершенно условно; предрассудки и навык глаза в этом случае часто вводят нас в заблуждение. Я не считаю себя совершенно лишенным изящного вкуса, тем не менее, однако, находил между неграми красавцев. Мы увидим ниже описание их физических свойств. Говорят, что негры от рождения издают от себя им одним да некоторым животным свойственный запах. Странно, но это почти всегдашнее обвинение народа, который хотят унизить, уничтожить… В подтверждение такого обвинения приводят чутье собак, употребляемых для охоты за злополучными неграми. Не говорю о зверском обычае европейских колонистов, упражняющихся в подобном промысле, на который не решится негр, но замечу, что даже и в самом изобретении его мало остроумия; легко приучить по чутью узнавать невольника, потому что все негры натирают свое тело известным составом жира. Я знал одного француза, который приучил свою собаку отличать иезуитов и кидаться на них при встрече, это несколько потруднее…»
«Негр привык думать и размышлять; вопрос ваш он обнимает быстро; память его светла; скоро выучивается арабскому языку и вообще очень понятлив…»
«Своему развитию они обязаны доброй природе и врожденным способностям, которые у негров не только не ниже, чем у других людей, но выше, чем у многих…»
Черновик был готов. Ковалевский перебелил рукопись и отвез в редакцию «Отечественных записок».
Очерк напечатали. Вскоре один из читателей отметил в дневнике: «Прочитал «Негрицию» Ковалевского – весьма понравился он за то, что так говорит о неграх, что они ровно ничем не хуже нас, с этим я от души согласен; когда говорят противное, мне всегда кажется, что это такой же вздор, как слова Аристотеля, что народ на север от Греции самим климатом и своею расою осужден на рабство и варварство…»
Этого читателя звали Николай Чернышевский.
Немного времени спустя другой читатель – он, правда, предпочитал «литературу» иного рода, – узнав из официального донесения, что подполковник горной службы Ковалевский Егор вступился за порабощенных, повелел посадить дерзновенного автора на гауптвахту, а после отсидки «иметь под строжайшим надзором».
Этого читателя звали Николай Романов.
Примечания
1
Вашгерд – простейшее устройство для промывки золотоносных песков.
(обратно)2
О сын мой, путь к спасению открыт для вас! (ит.)
(обратно)


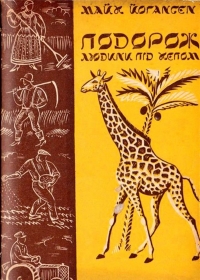

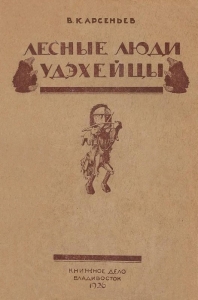
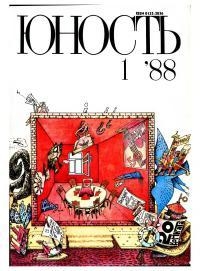
Комментарии к книге «Белый всадник», Юрий Владимирович Давыдов
Всего 0 комментариев