Владимир Гораль Боцман и Паганель или Тайна полярного острова
Если радость на всех одна, на всех и беда одна.
В море встает за волной волна и за спиной спина.
Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг.
Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг.
Песня о друге Слова Г. Поженяна; Музыка А. Петрова"А над морем небо чище, даже в шторм и ненастье. Даже если закрыто тяжелыми, свинцовыми облаками. Мне кажется, что душам моряков, коль нет на них греха большого, куда как проще оказаться пусть не в раю, но все же, по дороге к Свету. И не во сне… "
Глава 1. «Купель»
— «Паганель, шевели помидорами, салабон!» — зычно гаркнул дюжий матрос, зловеще помахивая в воздухе окровавленным шкерочным ножом. Я стоял в дощатом рыбном ящике в просторных грязно-оранжевых рокен-буксах (брезентовой робе). Стоял я, стараясь не упасть — на раскоряку, весь из себя молодой и красивый в съезжающей на лоб зелёной пластиковой каске, по колено в прыгающей и пахнущей огурцами крупной, свежевыловленной треске.
«Жуковск» — наш ржавый рыбачок, потерявший покой после подъема трала, встал носом на волну. А вахта — пятеро матросов палубников принялась шкерить (разделывать) улов.
Погода была свежая — предштормовая и судно, то задирало нос вверх, обнажая щербатый форштевень, то словно жёлтая субмарина, зарываясь в волну, браво шло на погружение.
Я исполнял славные обязанности подавалы. Заключались — же они в том, чтобы в «темпе вальса» подбрасывать трех — пяти килограммовых рыбин под палаческий тесак матроса — «головоруба». От нашей с ним расторопности зависело, будут ли вдоволь обеспечены обезглавленной рыбой трое опытных шкерщиков. Если же они начнут простаивать, то откроют рты и начнут «Говорить». Тут уж мало не покажется. Услышь их в этот момент какая-нибудь случайно проплывающая мимо беременная акула и у неё непременно случился бы выкидыш.
Я никогда не отличался особой сноровкой и сейчас у меня были проблемы. Если бы только у меня, проблемы были у всей моей смены. Дело в том, что для того, чтобы быстро и качественно переработать улов, поднять трал и приняться за следующий, вахта (смена) должна быть опытной и сработанной. В противном случае, а благодаря мне он был точно противным, выработка снижалась ну и заработок соответственно. Пока же скорбное поприще помощника палача давалось мне не слишком.
В своем первом рейсе я узнал о себе много нового. Помимо банальностей в адрес моей мамы, мне открылась тайна моего происхождения. По мнению моих коллег среди моих предков были не только обычные животные, но и какие-то неизвестные науке приматы — дрочеры-гамадрилы и мартыны косорукие.
Наш старпом — тучный бородатый мужчина лет пятидесяти пяти походил на слегка опустившегося Хэма (Хэмингуэя). Имя как и судьбу он имел трудное: Владлен Георгиевич Дураченко. По причине сложности последнего, отзывался он на Георгиныча. Был он человек эрудированный и как многие моряки начитанный, а потому выражался порой весьма литературно.
Вдоволь налюбовавшись из штурманской рубки на мои кувыркания в рыбном ящике, он торжественно произнес по громкой связи: «Картина маслом, неизданные главы из романа „Война и Мир“ — Пьер Безухов, Дуэль с треской».
По настоящему на меня не злились. Многим из экипажа я годился в сыновья и видимо будил здоровые родительские инстинкты, слава богу, что не другие, впрочем тогда это еще не вошло в моду. Виноват был матрос по причине чрезмерных возлияний тупо опоздавший на отход в рейс. Меня же в срочном порядке выслали на замену опоздавшему из вахтенного резерва отдела кадров.
С бортом 2113 «Жуковск» свела меня как видно судьба. Но это я понял позже. А тогда 18-летний курсант 4-го судоводительского курса Мурманской мореходки имени Месяцева был я направлен на плавательную практику для начала бесклассным матросом. Это через год после сдачи госэкзаменов и получения диплома штурмана — судоводителя ждала меня практика штурмана — стажера, а пока хрен мамин, салага, солдат, зелень подкильная или если попроще — юнга.
Малый морозильный траулер — бортовик 2113 имел дурную славу. Редко год — два обходился он без ЧП. Бывало в шторм кого за борт волной направит — «и пишите письма…» Бывало кому гаком (такелажно-грузовой крюк) в висок ни за что. А потом следствия, проверки… Моряки называли Жуковск — «Заходя не бойся, уходя не плачь…» Борт 2113 захочешь не забудешь, тут тебе и «очко» и «чертова дюжина». Да и то сказать, на промысле ему везло — всегда был с рыбой.
Все-же бортовичок (бортовое траление), таки решил напомнить мне салаге о своей дурной, но все же славе. Как-то в ночную вахту поднимали мы «авоську» (куток, конечная часть трала) на борт. Я должен был переносить с кормы к баку (с задней части судна в переднюю), «бешеный конец» — траловый трос.
При подъеме трал затягивался тросами в верхней части, превращаясь в подобие авоськи с рыбой. «Бешеным» конец назывался потому, что при волнении он мог «сыграть» (сорваться) и его полупудовый гак (крюк), да и сам трос дуэтом пропели бы старинный романс: «Милый, ты не вспомнишь нашей встречи…»
Конец этот переносили быстрым аллюром, да и весь подъем проходил в том же темпе. Смутно помню упругий, нежный контакт своего молодого девственного тела с чем-то массивным и влажным. Помню гордый, одинокий полет в ночи. Помню постаревшими ягодицами смачный шлепок о жесткую как асфальт и жгучую как кипяток, баренцеву воду.
После ребята рассказали, как я, вскользь задетый сорвавшимся «бешеным», мощно шмякнулся о каучуковый пантон и отпружиненный по красивой параболе направился за борт.
Сыграли тревогу — «человек за бортом», но пока трал не поднят судно маломаневренно, и мало-что можно сделать. Быстро подняли трал, а там сюрпрайз.
Вахта впала в шоковое состояние в полном составе. Моя персона вывалилась из трала вперемешку с центнером живой рыбы, эдаким «тресковым бароном» — медленно и вальяжно. Все было при мне — члены, чресла, а так-же штатный спасжилет и аккуратная половинка зеленой пластиковой каски на вполне целой башке. Сам же спасенный, плотно покрытый чешуей, царственно переливался перламутром, словно новорождённый наследник самого Посейдона.
Медперсонал на малых судах не предусмотрен. Случись что — связываются по рации. Затем Полный ход, и куда ближе: в порт или к плавбазе. Туда где есть врач или хотя бы фельдшер. В моем случае помощь была близка. Это был истинный человек возрождения, светлая личность — боцман Бронислав Устинович Друзь.
Моряк от бога, боцман от черта. В сорок шесть лет он успешно сдал экзамен и получил диплом фельдшера. Устиныч прекрасно играл в шахматы, мастерил из ракушек, ушных камней и глазных хрусталиков крупной рыбы оригинальные шкатулки и сувениры, рисовал лаковые по дереву миниатюры, писал стихи. Хотя стихи — неповторимая муза народного поэта Б.У. Друзя это «песнь — песен» и тема особая
Последствия моего недолгого пребывания в роли Садко ужасными не были.
Я был торжественно внесен в салон, причем ногами вперед. Несшие тело правда вовремя спохватились и принялись меня кантовать. Это мероприятие закончилось драматичным ударом потерпевшего головой о переборку. Последнее и привело его в чувство.
Боцман в роли фельдшера принял к пострадавшему медицинские меры, причем как научного так и народного характера. Кроме укола камфоры и дозы нашатыря я был темпераментно растерт спиртом, а приличная часть его была почти насильно и перорально (то-есть через рот) введена внутрь организма. Мне стало приятно и сказал я, что это хорошо! Почти в полном составе натолкавшийся в салон экипаж, во влажной робе и в сухом штатском, дружно и облегченно выдохнул. После чего большинство решило поддержать и поздравить заново рождённого и так-же приняло перорально, причём неоднократно.
«Ты, Вальдамир теперь крещеный!» — провозгласил боцман. Устиныч на правах медработника состоял при мне неотлучно все десять часов перехода до Мурманска. Обращался он ко мне по имени, но как-то странно на нормано-варяжский лад. Кстати по его словам, топонимика слова Мурманск восходит к старинному морман-моряк — человек моря. Да и дореволюционное название Мурманска — Николаев на Мурмане.
— «Крещен ты, Вальдамир не грешным русским попом, а литым морским железом и соленой купелью, а потому быть тебе подлецу мореманом!» — Велеречивость сия нашла на немолодого усатого моряка не по внезапному вдохновению, а вследствие продолжительного психотерапевтического сеанса, который он предпринял как медик. В наше время это бы назвали снятием посттравматического стресса. Естественно, что быстродействующий, релаксирующий препарат с резким запахом был успешно применен как к пациенту, так и к целителю.
Между тем, судно миновало остров Кильдин и вошло в створ Кольского залива. Мы с боцманом выпили по кружке крепчайшего «собачьего» чая, цвета вишнёвого янтаря. Такой чай обычно готовят в «собачью вахту» с четырех до восьми утра. Напиток этот слабее чифиря в три раза, да и содержит сахар. Поэтому он не дурманит, а бодрит и тонизирует, к тому же нейтрализует алкоголь, принятый естественно в человеческих, а не в драматических дозах. Так-что, к моменту постановки судна на рейд напротив рыбного порта, боцман вышел на полубак (носовая возвышенная надстройка) трезвее самой якорной лебедки — брашпиля. Команда с мостика — «Отдать левый якорь!» была исполнена. Загрохотала цепь и судно, слегка качнувшись, замерло в спокойных водах родного порта приписки.
Глава 2. «Остров Медвежий»
Этой же ночью «Жуковск» уже был пришвартован к причалу. Стояли мы третьим корпусом между сейнером и БМРТ (большой морозильный траулер). Ближе к утру меня разбудил шум доносившийся откуда-то сверху, пустого пространства между падволоком (потолком на судне) и палубой над ним. Слышалось цоканье десятков коготков, мерзкий писк и возня. Крысы! Меня передёрнуло от отвращения. Перед рейсом этих тварей потравили газом на спецпричале и в рейсе их почти не было слышно. А тут за пару часов уже набежали с соседних бортов.
«Фу! Фу-фу! Фу-фу-фу!»- донеслось от соседней койки. Вообще то часом ранее на ней мирно почил боцман. Теперь же он вдруг вместо нормального мужицкого храпа почему-то издавал эти странные звуки, как будто дул в блюдце с кипятком. Я щёлкнул светильником в изголовье. В мертвенно-жёлтом свете ночника передо мною открылась жуткая картина.
Несчастный Устиныч лежал смирно, боясь пошевелиться, выпучив безумные глаза. На его широкой морской груди, обтянутой шерстяной тельняшкой в позе любимой кошечки возлежала огромная серая с проседью чучундра- портовая крыса. Длинный, розово-чешуйчатый хвост свисал до простыни и интимно подрагивал. Чучундра была занята противоестественным действом: шевеля острым носом с жёстким кустиком чувствительных усов, обнажив мелкие, острые зубки, она с неуёмным вожделением обнюхивала красу и гордость старого боцмана, его роскошные, серебристые усы.
Бедный Устиныч, боясь напугать товарку и получить полный ужасной заразы укус, усиленно дул ей в нос, пытаясь хотя бы таким образом прекратить крысиные ласки. Однако любвеобильное существо никак не реагировало на боцманское «Фу-фу». Мои нервы и без того ударенные стрессом при падении за борт не выдержали и я с визгом: «На, сука!», запустил в несчастного Устиныча, попавшим под руку кирзовым ботинком. Боцман потом полчаса промывал с мылом и спиртом свою осквернённую гордость. На моё легкомысленное предложение сбрить подвергшуюся надругательству растительность, он невежливо ответил: «Мошонку себе побрей, салага! О том, что видел никому ни слова! Или мы не друзья!» Эту страшную тайну я пронёс сквозь годы, а если и рассказывал кому, то вместо Устиныча упоминал «некого моряка».
Уже к обеду нас перешвартовали к причалу на выгрузку из трюма 75 тонн разделанной мороженной трески. Груз был в ящиках по 30 кг. (в ящике — 3 плиты по 10 кг). Наш траулер имел одну морозильную камеру и сравнительно небольшой трюм — рефрижератор, если не ошибаюсь до 150 тонн.
Для сравнения БМРТ построенные на Украине в г. Николаев в 60 — х годах прошлого века имели две большие линии заморозки и вмещали в трюма до 1000 тонн. Николаевцы весьма походили крейсерскими обводами корпусов на военные корабли, только перекрашенные в гражданские цвета. Проектировали их военные корабелы. Мне приходилось ходить на одном из них (о чем рассказ впереди) и на главной палубе действительно находилась массивная станина — место под корабельное орудие.
Во время рейса один такой работал с нашей группой небольших промысловиков в качестве базы — накопителя и принимал разделанную треску в авоськах по две тонны, по 3–4 авоськи в связке. На базе рыбу фасовали и замораживали, а разделанное сырье записывали на сдатчика по вполне приличным расценкам. Авоськи с треской БМРТ поднимал на борт как трал, через слип (вырез — горка в кормовой части для спуска — подъма трала на судах кормового траления).
Один из малышей — промысловиков подходил к базе на один — пол кабельтов (1/10 морской мили — 185,2 метра). С борта БМРТ выбрасывался трос с поплавком, на малыше трос вылавливали и принайтовывали (прикрепляли) к нему авоськи с рыбой, выбрасывали такелажной стрелой (грузовое устройство) их за борт, а БМРТ благополучно поднимал улов.
Однажды в свежую, на волнении, погоду мы сдавали таким образом груз — 5 авосек по 1,5–2 тонны. На волне, от рывка трос оборвался (замечу трос, а не груз — вина не наша) и вся рыба ушла на дно — к родным пенатам, на вечное упокоение. База приняла потерю на себя и стала уточнять по радиосвязи сколько груза ушло. Наш хитроумный Уллис — старпом Георгиныч заявил о безвременной утрате 8-ми авосек, увеличив таки наш доход, процентов на пятьдесят.
Немедленно-же экипаж произвел секретную операцию под кодовым именем «Эксгумация». Мы поставили трал и прошлись по месту потери, благо были точные координаты. Утопленницы, общим весом более 8-ми тонн и имевшие легкую бледность от четырехчасового пребывания в морской воде были расфасованы, заморожены и уложены на недолгий покой в трюм. Таким образом мы перевыполнили рейсовый план на 10 процентов и заработали 25-ти процентную премию.
Мое пребывание за бортом, поскольку все обошлось и у капитана были связи, транспортная прокуратура спустила на тормозах и дела заводить не стала. Капитан получил новое рейсовое задание и через трое суток судно, загрузив снабжение и топливо отправилось к новому месту промысла — в район острова Медвежий.
Через двое суток перехода наш бортовик подошел к южной части архипелага Шпицберген в промысловый район острова Медвежий. Шпицберген, или по «русски» — Грумант, архипелаг суровый и неприветливый, его шахтерская столица — Баренцбург заселена русскими куда менее плотно, чем его южные, но не слишком теплые воды нашими промысловыми судами. Порой кажется, что на серых волнах студеного моря покачивается, дымя трубами, целый город из кораблей. Впрочем Медвежий находится между Баренцевым и Норвежским морями в отличии от Шпицбергена, который омывает Баренцево море. С востока на остров накатывают студенные волны моря Баренца, а с западной стороны та же фигня, но море Норвежское.
Теплое Норвежское (продолжение Гольфстрима) течение хранит эти воды от льда вплоть до нашего Кольского залива (хотя отдельные льдины у Шпица не редкость), а восточнее уже царство Снежной, а вернее Ледяной королевы. Когда-то эти места были вотчиной поморских, голландских, датских и иных китобоев. Очевидцы писали, что судам мешали двигаться китовые туши, переполнявшие эти воды, как народ московское метро в час пик. Эти ребята-китобои славно потрудились и нынче киты здесь редкость. Хотя касатки встречаются — одна шаровица однажды попортила нам трал, позарившись на дармовую пикшу (сестру трески).
Поначалу рыбалка пошла неплохо — за неделю мы взяли тонн 25 пикши и тонн 20 трески. Треска и пикша это сводные сестры рыбьего семейства тресковых. Почему сводные? А разная у них внешность, хотя обе красавицы. Если треска имеет малахитово — зеленый окрас и округлое тело, то Пикша телом площе, а окрас у нее цвета благородного серебра и у изголовья большое, темное родимое пятно. Кому — как, а я нахожу его даже слегка эротичным. Ну это к слову, а к делу — подъемы становились все беднее.
Появилось много сорной рыбы — скаты, пинагоры (водянистые уродцы, хотя их засоленная икра неплоха), а так-же мелкие и средние акулы и прочие морские бомжи. Так бывает — ведь «не все коту масленица». А причин тут море (извиняюсь за каламбур). То ли рыбаков стало больше, чем рыбы, то ли погода, то ли корм (мелкая рыбешка., креветки, водоросль.) истощился. А может архаровцы (рыбаки из Архангельска) по разгильдяйству с дизелем (не со зла) ночью слили за борт добрую порцию мазута (это на моей памяти сними случалось чаще, чем с другими). А какой рыбе такое понравится?
Так — что рыба ушла… Иной капитан скажет: «Да лучше бы от меня жена ушла!» «И вместе с тещей!» — добавит старпом. Где рыба? А эхолот ее знает. Может за углом. А где БЛИЖАЙШИЙ УГОЛ? Да вот-же он — высится полукилометровой горой в тумане. Остров Медвежий — настоящий медвежий угол королевства Норвегия.
Важно сказать, что согласно советско — норвежскому договору 1978 года наши суда могли свободно промышлять рыбу в норвежских водах Баренцева моря, а соответственно норвежцы в наших. В ледовитых прибрежных водах архипелага Шпицберген у наших рыбаков проблемы если и возникали, то только из-за размеров траловой ячеи (с норвежскими рыбинспекторами). Что касается Медвежьего то он в отличии от Шпица находиться на нечеткой границе Баренцева и Норвежского морей и норги частенько преподносили неприятные сюрпайзы. Кроме того с размером траловой ячеи у наших как правило так-же было не того и пойманный на этом капитан в Союзе автоматом лишался лицензии.
Страшная страсть — Азарт. Азартные люди проигрывают состояния, жен и дочерей своих не жалея. В плену азарта мирный человек способен убить и просто поставить на кон собственную задницу в прямом и переносном смыслах. С другой стороны медали без настоящего азарта не сделаешь ни одного реального, большого дела. В конце — концов даже ребенок, сделанный без азарта выходит какой — то несимпатичный и квёлый.
Капитан Дураченко был человек азартный и весьма упертый, упрямый. И в то-же время неглупый и эрудированный, с крестьянским хитроумием и сметкой, порой даже с претензией на интеллигентность. В детстве и юности, видимо изрядно настрадавшись от сверстников из-за неблагозвучности фамилии приобрел он немало комплексов (у кого из русских их нет?), но фамилии не сменил и даже гордился ею. Частенько за рюмкой чая намекал он на свое дворянское происхождение, что в более ранние времена было — бы небезопасно.
Удостоверение капитана имел он давно, но по страстности натуры и недостатка связей дебютировал в этом качестве лишь полмесяца назад, получив протекцию прежнего капитана «Жуковска». Тот пошел на повышение и на прощание сделал доброе дело. С началом своего капитанства на Георгиныча наш кэп более не отзывался (дозволялось исключительно — Владлен Георгич) и это правильно — на корабле капитан первый после бога.
На безрыбье мастер затосковал, хотелось вернуться из первого рейса со щитом, то есть с полными трюмами. Оно и понятно — хорошее начало… Да и азарт жег бывалого промысловика и не просто азарт, Азарт — страсть. Вся группа рыбаков сплошь таскала пустышки. В то же время несколько небольших норвежских судов ловивших в своих 12-мильных тер. водах Медвежьего, за пару суток затарились рыбой до клотиков (образ — верхушка мачты) и с товаром ушли домой в порт.
Кораблей норвежской береговой охраны, к тому- же, за все время не встречалось не разу. И Дураченко решился. Белой апрельской полярной ночью наш ржавый диверсант вероломно пересек морскую границу королевства Норвегия и вошел в территориальные воды принадлежащего ей острова Медвежий. Ровно через минуту вышел и тут же снова вошел и тут же вышел…
Двигаясь таким противолодочным зигзагом, словно уклоняясь от торпедной атаки неприятельской субмарины, мы и поставили наш полубраконьерский трал. Одной своей половиной он находился в тер. водах Норвегии, а другой как- бы в нейтральных. Таким образом Владлен Георгиевич по доброй национальной традиции пытался и «рыбку с]есть и за это не сесть».
К слову сказать решение о 200-мильных экономических зонах ООН примет только в 1982 году, то есть через два года. В 1980 лишь немногие страны пытались охранить свой береговой шельф от разграбления таким образом. Норвегия портить отношения с могучим восточным соседом в этом смысле пока не пыталась, хотя и без того являлась северным форпостом НАТО.
Сам архипелаг Щпицберген (Грумант) до 20-х годов 20-го века был спорной территорией между Россией и Норвегией. Тогда же Советская Россия отказалась от своих претензий на Шпиц и Медвежий в обмен на признание своей государственности Норвегией.
Так протралили — пропахали мы — «пахари моря» «запретку» пару часов и вышли в нейтральные воды на подъем трала. Рыба была — пару тонн и какая! Отборная метровая треска и пикша, здоровенные ерши — завяленные, это изумительный, исходящий янтарным соком пивной деликатес, полсотни пурпурных метровых, шипастых и лупоглазых морских окуней, темносиние в перламутр плоские толстые палтусы, их младшие сестры — желтые в черных пятнах упитанные камбалы. Был с ними каким- то чудом заблудившийся атлантический угорь, похожий на небольшую, желтую анаконду.
От такого изобилия ассортимента впали в ступор бывалые рыбаки, восхищенным шепотом (что- бы не спугнуть удачу) приговаривая: «Трах меня в клюз, красота то какая!» Капитан стоял молча, грузно опершись на рыбный ящик. Он смотрел на рыбу остановившимся взглядом, мертво вцепившись в мокрое дерево побелевшими костяшками пальцев.
И только мудрый боцман Устиныч был хмур и спокоен. «Заманивает он нас сука» — произнес он. «Кто?» — удивился я. «Да вот он — Медведь». — кивнул Устиныч в сторону острова.
Прибрежные воды западной стороны Медвежьего, богатые рыбой, манили, разумеется, не только нашего капитана. Многие мастера нашей многочисленной группы советских промысловиков — мурманчан, архангелогородцев, беломорцев, калининградцев хотели — бы повторить наш удачный зигзаг по запретке. Но во — первых, Владлен свою авантюру не афишировал, потому как знал — свои-же и заложат, а во вторых были и другие умные, — втихаря заскакивали в терводы. Такой ухарь быстро заходил в запретрайон с уже поставленным тралом и с тралом же разворачиваясь, шел на выход в нейтральные.
Но одной лихости мало. Нужны опыт и интуиция — чуйка. У нашего мастера было и то и другое, в противном случае в самом рыбном месте будут подъемы — пустышки, разорванное в клочья или вовсе потерянное траловое вооружение из-за неуказанных на карте или провороненных подводных препятствий. К слову сказать, то навигационное и промысловое оборудование, которым были в те годы оборудованы штурманские рубки промысловых судов уже тогда производили впечатление музейных экспонатов.
Похожие на ящики на мощных станинах, радиолокаторы были еще сравнительно современны (выпуска конца 50-х) и для навигации вполне годились. Из промысловых вспомогачей — похожий на пианино донный эхолот с силуэтом подлодки на экране, поговаривали, что это былая гордость третьего рейха, созданный для своевременного обнаружения вражеских субмарин, рыба это знала и ехидно улыбалась.
На больших более современных судах встречались уже отечественные цветные донные эхолоты (цветники) размером с пол штурманской рубки. Лет через пять появятся на наших бортах компактные японские цветники — пишущие скопления рыбы в разных цветах и формах, надежные системы спутниковой навигации и прочие радости. Весной 80-го об этом и не мечталось.
Глава 3. «Здравствуй, Сеня!»
В дневную вахту, в урочное время проходило на всех бортах радиосовещание капитанов. Главной темой конечно было безрыбье. Среди прочего, как-бы невзначай, отметили, что в последние две недели пропали из виду норвежские морские пограничники. Обычно один или два сторожевика постоянно патрулировали побережье Медвежьего. И что по слухам из-за бугра, норвежский парламент срочно урезал расходы на военных и в частности на береговую охрану отдаленных островных территорий.
Для Владлена вся эта левая информация была как евангелие от лукавого. Трижды искушаем был старый толстый моряк и наконец покусился. В ночь с воскресенья на понедельник, серым, туманным майским полярным днем наш немного ржавый красавец — флибустьер вошел в Норвежское море. Своим крейсерским ходом в 8.5 узлов он за полчаса углубился почти в середину территориальной 12-мильной зоны Норвегии и нагло поставил трал.
Таким образом было совершено двойное правонарушение: Во первых мы, как-бы опирались на как-бы действующий договор 1978 года и как-бы запамятовали, что ежегодно он продлевается заново (в этом году радиограммы с подтверждением еще не было из-за проблем между нашими и натовскими военными летунами (кто-то от кого-то почему-то залетел)
2) Рубашка нашего трала донного типа была, мягко говоря, не совсем нужного размера ячеи, то есть говоря прямо с мелкой ячеёй и некондиционной (на складе промыслового вооружения другой не было.) Траление донным тралом с такой ячеей по законам Норвегии являлось уголовным преступлением, так-как наносило серьезный ущерб экологии морского дна.
Через два часа мы начали подъем трала на борт и уже по прошествии двадцати минут в рыбном ящике подпрыгивало порядка четырех тонн отборной пикши, трески и прочей красивой прелести. А еще через десять минут на траверзе в тумане возник зловещий светло-серый силуэт и чей-то грубый голос, насилуя английскую речь твердым раскатистым RRR,по ужасно ГРОМКОЙ — громкой связи повелительно произнес: «Борт 2113, говорит корабль береговой охраны королевства Норвегия „СЕНЬЯ“. Вы незаконно находитесь в пределах наших территориальных вод. Приказываю лечь в дрейф для приема досмотровой группы. В случае неповиновения буду вынужден открыть предупредительный огонь».
«Ну здравствуй… мля, Сеня». — хмуро произнес капитан.
«Уже никто, никуда, не идет!» —, мрачно выдал шутку-юмора рыжий Геша, высокий веснушчатый типчик лет тридцати. (Геша (Генка Эпельбаум) и был тот самый матрос-прогульщик, взамен которого я попал на этот веселый борт. По смене капитанов он был прощен, и лишь понижен с матроса 1-го класса до 2-го. «Все равно, что сволочь старую назначить сволочью молодой» — скалился Геша.) Смысл произнесенной на чужом языке грозной тирады был ясен без перевода.
Капитан Дураченко успокоился совершенно. Убеждённый фаталист решил сдаться на поруки своей трудной судьбе. На высокой ноте заныл со стороны норвежца движок быстроходного катера. Боцман Друзь спустил штормтрап с правого борта и во внезапно наступившей тишине мы услышали тяжелое, хрипловатое дыхание. Это карабкался к нам по волосатым тросам штормтрапа наш первый варяжский гость, хотя, скорее хозяин.
Не по нашему слишком длинный (метра под два, просто верста варяжская), не по нашему слишком рыжий, что твой огонь. В довершение полного очарования имел этот свежий кавалер пунцовую, как из бани, с могучей конской челюстью морду лица. «Внешность благородного животного выведенного на регулярный пробздец из королевских конюшен». — без особого куража прокомментировал это явление Геша.
«Гуд дэй, мистер. Ай эм из мастер»- шагнул к нему навстречу Дураченко. «Монинг. Хау ар ю, мастер?» — неожиданно приятным баритоном спросил конь
«Да уж хаваю, хаваю полной ложкой!» — горько махнув рукой, истощился в английском Владлен. От неловкой ситуации его спасло следующее. По стальным частям палубы глухим, мягким тустэпом застучали тяжелые ботинки. Из — за правого и левого фальшборта (ограждение наружной палубы) пятнистыми чертями, галлюцинацией алкогольного психоза запрыгали вниз здоровенные жуткие гоблины. В их черных лоснящихся лапах возникали словно из ниоткуда, вороненые с раструбами пламегасителей на стволах, штурмовые винтовки.
И тут произошло то, что потрясает меня по сию пору — реакция моего экипажа на внезапную внешнюю агрессию. Это произошло с совершенной автоматичностью и практически мгновенно. Матросы очередной вахты и вышедшие на подвахту в помощь для обработки улова матросы вахты свободной, вдруг примкнули по трое друг к другу, спиной к спине. Каждый из них занял оборонительную позицию. В руках моряков зловеще сверкнули острейшие шкерочные ножи, а у одного даже здоровенный тесак — головоруб.
Лица у наших ребят стали багровыми, страшными. Боцман Устиныч, мужчина пятидесяти шести лет среагировал так-же молниеносно. Он встал третьим к двум неукомплектованным матросам образовав тем самым третью оборонительную тройку. Положенный ему по штату мощный боцманский нож был переделан из охотничьего и по мистическому совпадению назывался — «Медведь».
Позднее остроумец Геша заявит, что всю заварушку затеяли только ради того, чтобы у боцмана появилась возможность вынуть и показать норвежцам своего Медведя. Тогда же в момент абордажа нашего корыта вооруженной до зубов лихой толпой викингов, никому смешно не было. К слову сказать, что из бывших в момент высадки норвежского десанта на палубе матросов, двое в «ЭПОХАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ ЖУКОВСКА» (по выражению того же Геши) участия не принимали.
Ну во первых это ваш покорный слуга и… Геша. Я и Генка Эпельбаум стояли столбом. Это меня или Генку заменил в одной из матросских троек доблестный боцман Друзь. Самой остроумной позднее признали Генкину тираду о том, что группироваться по трое старинная русская национальная забава. (Гена Эпельбаум (Генрих Оскарович) был из поволжских немцев) Товарищи шутку оценили по достоинству и Гена наконец получил в лоб.
Сами ребята отнеслись к своему, как мне тогда виделось, (да и сейчас я не изменил своего мнения) доблестному трюку, как к вещи вполне естественной. Они уже лет пять держались вместе, одним матросским экипажем. Ходили только на малых промысловиках — траулерах и сейнерах. За кордон не рвались, поскольку полугодовые рейсы их не прельщали (на малышах рейс — месяц — полтора) Зарабатывали они отменно, всегда работали с удивительной сноровкой. За годы проведенные в северных морях, а это вечная болтанка, (хороший шторм просто качели сатаны) превратили их по сути в сработанную цирковую труппу эквилибристов, ведь они работали в море почти в любую погоду. не удивительно, что в минуты опасности действовали они с такой же быстротой и четкостью, что и в своей непростой работе. На мои душевные терзания по поводу собственного малодушия в роковую минуту, мне было сказано что это все равно, что зрителю в цирке терзаться невозможностью повторить немедленно трюки воздушного акробата. И если кто сыкло, так это Геша, поскольку он один из них.
Со мной же все в порядке, поскольку после всего, что мне выпало в первом рейсе кто нибудь другой бежал бы, причитая, от порта и кораблей в даль светлую. А потом только при одном виде и запахе рыбы поспешал бы поблевать в теплый мамин унитаз.
Однако вернемся к нашим норманам. Гоблины впоследствии оказались нормальными норвежскими дылдами, по мне так даже слишком дружелюбными и общительными для потомков варягов. Тогда же впечатления добродушия они не производили. Норвежцы в свою очередь таких устрашающих трюков с ножами от русских явно не ожидали. Стрелять естественно тоже никто не собирался. Когда планируют пострелять, не выскакивают с двух сторон друг против друга — не идиоты же они.
Норги, бравые вояки, мгновенно перехватили свои американские железки (по моему это были М16 А2) в обе руки параллельно палубе, прикрывая грудь и подбородок, при этом все как по команде выставили вперед правую ногу (хотя слегка в разнобой, не то что наши.) — диспозиция для рукопашного боя с отказавшим или разряженным оружием. В общем все как учили их в их варяжской учебке, дабы не посрамить славных предков — звероподобных дядек в рогатых шлемах.
В общем все могло кончиться плохо, поскольку не ведали эти сопливые викинги, как способны жонглировать ножами наши морячки, в полете разделывающие здоровенную рыбину, одним движением делая точный разрез брюшины, одновременно, начисто удаляя требуху.
«Вурьфур фан, луйтнант?» — рявкнул командирским рыком, все еще стоящий у фальшборта краснолицый великан. Тут же пред ним возник, отделившись от противоположной группы десантников, вояка в таком же пятнистом комбезе, что и его товарищи. Отличался он тем, что был по цыгански усат, наголову ниже их и еще как минимум вдвое старше. Из знаков различия имел он на синем кашемировом берете щеголеватую эмблему в виде золотистого якоря с норвежской короной в красном эмалевом поле. Такие же были и у других бойцов, но попроще — из штампованного металла. Его же цацка походила на стильную дамскую брошь. У всех береты по уставному были заправлены под левые наплечные шлейки, и лейтенант, (как стало уже ясно) метнувшись к командиру, успел ловко присобачить его на башку поверх пятнистого в темных разводах камуфляжа подшлемника.
Начальник с лицом не предвещающим приятности, резко взмахнул рукой в черной элегантной перчатке, предлагая подчиненному уединиться неподалеку, — в простенке между траловой лебедкой и надстройкой, со штурманской рубкой. По всей видимости у старших норвежских офицеров было не принято устраивать младшим командирам разносы и прочие «Эль скандаль» при подчиненных, и уж тем более при посторонних.
Бойцы в ярко — оранжевых спасжилетах, поверх пятнистых непромокаемых комбезов, человек по семь с каждого борта, получили от лейтенанта отмашку — «отбой». Все отошли назад и немного расслабились. Наши, почуяв, что «кина не будет,» попрятали «орудия труда и обороны» в ножны. Мне почему — то пришло в голову, что сочетание тщательного камуфляжа с таким кричащим демаскирующим пятном, как спасжилет, мягко говоря — несколько странно.
Из — за лебедки тем временем раздавалось злобное шипение старшего и придушенное бухтенье младшего командира: «Най, майор. Йа майор. Деклагерь, майор». И в конце громко и четко: «Йа, орлогс-кэйптен!»
Глава 4. «Под медвежьим крылом»
Не по норвежски темноволосый и невысокий лейтенант, жестом без слов, дал команду своим бойцам. Те так же, как и появились, мгновенно исчезли с нашей палубы. Мы кинулись к бортам. Одному нашему моряку даже повезло получить в нос чем-то весомым. Он потом клялся, что успел разглядеть предмет. Это была поддернутая снизу абордажная кошка на прочном тросике, который вскользь задел его по руке. Кошка и трос были покрыты черной резиной, что и спасло нос нашего друга от большого ущерба. Мы же успели увидеть, удаляющиеся плоскодонные катера по одному от каждого борта. Двигались они почти бесшумно — с низким, ровным гудением.
«„Устиныч, поднимись“. — позвал старпом из штурманской рубки. Боцман недоуменно пожал плечами и направился к адресату. „Чего с рыбой то делать?“ „Жалко, пропадает добро!“ — тоскливо толковали матросы. Слышь, Паганель, ты бы сходил, студент, в рубку. Пусть хоть старпом скажет, что делать».
Старпом Кондратьевич был вполне свой мужик. Сам из старинной, поморской фамилии, прошел он путь от матроса до старшего штурмана, однако князя из себя не строил, поскольку не из грязи произошел. Поморы — народ свободный, с чувством собственного достоинства, не испорченный веками крепостного рабства. Но, сейчас не об этом.
Поднявшись по трапу, я подошел к входу в штурманскую рубку. И тут я услышал нечто. На борту нагло свистели и не где — нибудь, а в святая святых — на капитанском мостике. Причем свист был мастерски виртуозным. Поясню, что свист на бортах парусных кораблей Флота российского, еще со времен его отца-основателя Петра Великого, был занятием строго регламентированным. По приказу старшего офицера, в штиль, старший боцман высвистывал специальным, чаще серебряным свистком попутный ветер. Бездумное же насвистывание, могущее вызвать нежеланный и опасный шторм — строжайше каралось.
Я шагнул через комингс — высокий порог штурманской рубки. Посреди рубки, наклонив голову (чтобы не зашибиться о бронзовые переговорные трубки и прочие выступы падволока (потолка) торчала линкольновская фигура краснолицего майора. «Прифьет, как дала?» — поинтересовался норвежец, покончив с художественным свистом. Я замялся с ответом, несколько офигев от столь пристального интереса к моей гипотетической интимной жизни. Не дождавшись моей реакции майор поманил меня указательным пальцем, изящной не по телосложению руки.
Я с определенной опаской приблизился. Норвежец стоял напротив донного эхолота. В темноте рубки работающий прибор освещал наши лица зеленовато — фосфорическим светом. Размеренное пикание посылаемого на дно моря эхо — сигнала, ранее казавшееся мне уютно — убаюкивающим, теперь более всего напоминало мне ритмы сердечной деятельности в послеоперационной палате. Я покосился на своего визави. В темном плаще-накидке, в мистическом полумраке затемненной рубки, он почему-то напомнил мне незабвенного литературного персонажа графа Дракулу из недавно прочитанного (перепечатанного на машинке и с трудом выпрошенного на одну ночь) романа Брэма Стокера. В том самом месте где оголодавший граф, покинув уютный гробик, на корабле посреди океана с аристократическим изяществом расправляется с экипажем.
Я невольно вздрогнул, почувствовав, как изящная рука мягко легла мне на плечо. Неожиданно тихим приятным баритоном норвежец запел: «We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine». Я вдруг понял, что за мелодию насвистывал, не чтящий морские традиции, этот флотский майор. Один из незабываемых хитов легендарной четвёрки «Битлз» — «Желтая подводная лодка».
Норвежец, тихо посмеиваясь, тыкал пальцем в подсвеченную панель эхолота. Меня наконец осенило, всё это время его развлекал небольшой, чёрный силуэт подводной лодки, плавно покачивающийся на освещенном экране навигационно — промыслового радиоприбора. Наверно его забавляло это забавное для иностранца проявление «советского милитаризма» в рубке, в общем-то мирного промыслового судна. Чем обернётся для экипажа нашего «Жуковска» непринуждённое веселье рыжего норвежского майора на нашем мостике мне предстояло узнать несколько позднее.
Из состояния легкой оцепенелости меня вывел шум шагов и знакомое тяжёлое дыхание. На капитанский мостик поднимались трое. Впереди с потертым кейсом Владлен, за ним боцман и старпом Сава Кондратьевич.
«Да, что уж теперь. Банкуем не мы» — одышливо бормотал капитан, тяжело преодолевая высокий порог — комингс. Кэп открыл кейс и вывалил на штурманский стол, прямо на навигационную карту с островом в середине, солидную горку разноцветных «корок». Это были паспорта и медицинские книжки экипажа, а так же разнообразные сертификаты и квалификационные удостоверения.
Свое капитанское удостоверение и сертификат с англоязычным вкладышем Владлен аккуратно положил сбоку, припечатав им судовую роль (список членов экипажа). Со стола соскользнул и упал на палубу какой-то документ в красной обложке. Я машинально поднял его — с фотографии гордо взирал на меня боцман Друзь, молодой со смоляными, с едва тронутыми сединой знаменитыми своими усами. Он был на фото в снежно-белом халате, который грубо пятнала большая синяя печать. На печати извивалась змея, склонившаяся над чашей, похожей на конусовидный фужер для шампанского. Фельдшерский сертификат, дошло до меня. Сей медицинский символ всегда странно ассоциировался у меня с алкоголиками и уголовными татуировками.
Капитан повернулся к норвежскому майору и сделал приглашающий жест по направлению стола с документами — «Зри, мол». Норвежец подошел к столу и без особого энтузиазма начал перебирать бумаги. Я полушепотом осведомился у старпома по поводу злополучного улова и печалящегося над ним экипажа. «Устиныч, спроси у варяга, что с рыбой? За борт ее, или как? А то моряки переживают — пропадает мол». — переадресовался старпом к боцману.
Полиглот Устиныч начал издалека, его английский был странен и пространен. Язык деловых людей, с краткими, конкретными смыслами не терпящий двойных, тройных толкований (в отличии от нашего Великого и Могучего — палитры для великих стихов и романов, а так же национального инструмента по сокрытию правды.) наш палубный Да Винчи сумел превратить в нечто.
В своей тяге к интеллектуальным вершинам человечества Бронислав Устиныч не обошел языкознания и… не искал легких путей. Друзь изучал язык, пытаясь переводить и заучивать оригиналы, из какой — то антологии английских поэтов 16 — 18-го веков — антикварного издания тысяча восемьсот лохматого года. Память у него, как у человека всю жизнь что-либо изучавшего, была отменной. И он шпарил, как считал к месту, целыми кусками рифмованного староанглийского (да еще с калужским акцентом).
Простой вопрос, — «Что делать с уловом?» наша жертва самообразования излагал минут несколько. Из его абракадабры с некоторой вероятностью просвечивало, что-то вроде: «Позвольте не продлить мне втуне ожидание. Ответа Вашего в немом томленьи жду». И о рыбе — «Безмолвный житель вод нас ныне озаботил».
Потрясенный норвежец впал в интеллектуальный ступор. «Are you crazy?»- хриплым шепотом, не без труда оклемавшись, вопросил он престарелого вундеркинда.
На этом месте я почувствовал назревшую необходимость во вмешательстве. Пренебрегая субординацией и внутренним голосом, советовавшим: «Не лезь!». Я, не спросив начальства, напрямую обратился к рыжему майору: «I'm sorry, what to do with the catch?»- типа — «Что делать с уловом?» Норвежец сделал радостно-удовлетворенный жест руками, вроде как: «Ну, наконец-то!» «All that you would like to». — ответил он. Делайте мол, что хотите. Затем покосившись на боцмана, криво усмехнулся и добавил: «Only it doesn't keep people away from.Lean fish get away with crayzy». — Ну, мол только боцмана не зовите, а не то рыба в свой последний час еще и рехнется.
Часом позднее я нашёл моего доброго приятеля Устиныча под полубаком, восседавшим в позе оскорблённого достоинства на бухте нового швартовного троса. Лучший боцман Мурманского рыбфлота терзался вселенской печалью. И правда, кого из великих ценили при жизни? Я начал каятся с извинениями за свою инициативу с переводом. «Да я тебя не виню, Вальдамир» — с горечью молвил боцман. Наши то что, народ смышленый, но не развитый. Ленивы мы русские, ленивы и нелюбопытны. Читать лень, учиться лень. Каким мир божий сотворен, когда Вселенная родилась? Как Человек устроен? Узнать поспешай! Так нет, опять лень! Наши то ладно, лапотники, простота! Ну этот то, ведь офицер королевский, видно же граф (!) белая кость, дворянчик… и не понимай, Ай донт андестенд, их нихт ферштейн, Йай фуштур икке, понимаешь. Ты же форпост научный, родина университетов, просвещенная Европа, понимаешь. Я же ведь к нему с респектом. На языке Шекспира и Бернса, понимаешь. А он: «Kрэйзи, крэйзи!»
В то время, как наш усатый полиглот с гордо поднятой головой, приговорённого к казни Сократа удалялся к себе в каптёрку под полубак, Ваш покорный слуга был оперативно произведен начальством в штатные толмачи, то бишь в переводчики. Мой английский, мягко говоря — «оставлял желать…» Я выезжал на нескольких десятках типичных и специальных морских фраз и выражений, вызубренных в мореходке. Это давало какой-то словарный запас и привычку к арифметически правильной конструкции английской фразы. Не обладая особыми способностями, как у боцмана (а он и правда был человек талантливый) Шекспира и Бернса, особенно в оригинале, я опасался. Тем не менее с моей помощью наладилась какая-никакая коммуникация. Норвежец наконец смог представиться плененным им русским офицерам — капитану Владлену и старпому — Савелию Кондратьевичу.
Тут нас ждал сюрприз, майор к эффекту привык и посмеивался — командира береговой охраны сектора Медвежий (по норвежски звучит как Бьернья) звали Свен, ну а фамилия (ой — вэй, вы не поверите…) — Бьернсон. Я так думаю, что у его начальства в военно-морском штабе, где-нибудь в Осло, а то и поближе в Трамсё, попросту военное чувство юмора — «Ах, у нас тут майор Медведев. А не послать ли нам Медведева в сектор Медвежий. Охранять наш родной норвежский Медвежий от набегов русских медведей будет бравый майор Медведев… (Господа офицеры, всем смеяться!)»
В полдень Бьернсон вежливо объявил капитану, чтобы экипаж приготовился к швартовке со сторожевиком «Сенья» и официальным тоном добавил: «Жуковск» будет далее препровожден в надежное недалекое место. Там он будет оставлен на несколько суток для ожидания начала расследования инцидента и решений норвежских властей относительно дальнейшей судьбы судна и экипажа. «Я не без самолюбования переводил капитану этот интернациональный канцелярит (воистину — „Бюрократы Всех Стран — Объединяйтесь!“»
Наш ржавенький рыбачок пришвартованный к новенькому, пахнущему свежей краской (словно только сошедшему со стапелей верфи) военному — красавцу «Сенье» производил впечатление блудного сына, который капитально истаскавшись, в сопровождении красивого и ухоженного, а главное умного брата (оставшегося при богатом родителе) волочиться со скорбной рожей к папаше на покаяние.
Меньше, чем через час наша сладкая парочка подошла к западному, покрытому высокими отвесными скалами побережью. Самым малым ходом, изрядно петляя, мы вошли в небольшой фьорд (залив). Со стороны моря это место совершенно не просматривалось и должно было представлять превосходную базу для небольших военных кораблей и подлодок. За каким лешим норвежцы засветили его перед советскими рыбаками мы совершенно не понимали.
Нас пришвартовали к импровизированному причалу, словно вырубленному в виде очень глубокой ниши в отвесной скале. Наш траулер полностью скрылся в этой нише под нависающим скалистым козырьком. Норвежец пришвартовался к нам вторым бортом и остался под открытым небом. Швартовные тросы закрепили на мощных железных скобах, намертво вделанных в твердую скальную породу. Боцман, запрокинув голову посмотрел вверх. Нависающая черная скала полностью закрывала от нас серое полярное небо. «Под медвежьим крылом». — изрек наш народный поэт..
Глава 5. Лирическая
Между тем, как мы осматриваясь, дивились фантазиям судьбы, забросившей нас к столь неожиданному и экзотичному причалу, который наш судовой Вергилий (боцман Друзь) с поэтичной меткостью (словно модный отель в швейцарских Альпах) нарек — «Под медвежьим крылом». События подле нас, как говориться, продолжали развиваться.
Сторожевик «Сенье», покинул наш (уже наш?!) таинственный фьорд. Мы не сомневались, что он с крейсерской скоростью — узлов в тридцать торопиться к материку, с тем, чтобы заложить нас, пардон, доложить о нас береговому начальству.
Будущее однако показало, что во первых — радио и телеграф давно изобретены и во вторых, что приступы «Маньки Велички» не щадят ни детей, ни женщин, ни пойманных с поличным советских рыбаков — браконьеров.
Погода вне нашего, укрытого ото всех глаз и ветров, тайного убежища, ухудшалась с необещающей приятностей скоростью.
Сразу после составления «протокола о задержании» (как в милицейском участке) или как он там назывался, нашу радиорубку посетил норвежский спец и изъяв передающий блок (или несколько, я не спец) оную опечатал.
Дальнейшие сеансы радиосвязи с Мурманском или вообще с кем либо должны были происходить на «Сенье» под присмотром и с разрешения банкующей стороны.
В Сенино же отсутствие разрешался выход в эфир в экстренных случаях и только с самим Сеней (как мы привыкли уже называть, пленивший нас сторожевик) посредством переносной мощной радиостанции, презентованной нам во временное пользование.
Устройство работало на прием — передачу в заданном диапазоне, блокируя другие частоты («Прошу извинить, если перепутал термины. Есть вещи, в которых я не разбираюсь! Их не так много и как раз сейчас я над этим работаю. Пардон, приступ „Маньки“. Зая, где мое успокоительное?»)
Еще до происшедших вышеописанных событий группа советских промысловиков у острова Медвежий получила погодные карты (направление ветров, перемещение, зарождение циклонов, антициклонов — зон низкого и высокого давления, облачность, температура воды, воздуха, сезонные изменения направлений морских течений и т. п.)
С геостационарной орбиты наши доблестные метеорологи перехватили зарождение у берегов Гренландии мощного внетропического циклона быстро развивающегося и столь же быстро перемещающегося на восток. Экипажи находящихся на его пути судов на данный момент должны были крепиться по штормовому, поднять на борт тралы и приготовившись к штормованию, лечь носом на волну.
Обычно в свежую погоду или в средней силы шторм, нередкий для высоких широт, уловы, как правило, только увеличиваются и промысел продолжается.
Торговые моряки проходящие мимо на своих сухогрузах, танкерах, балкерах, контейнеровозах и прочих уважаемых и солидных «торгашах», с высоты своих огромных надстроек на просторных, как квартира миллионера капитанских мостиках наблюдают через цейсовские бинокли за очередной группой промышляющих (в эдакий шторм) рыбачков.
— «Тут даже нашего здоровяка прилично подбрасывает, а эти „пахари моря“ на своих ржавых тазиках, эти „дважды моряки“ на крохотной, открытой палубе еще и суетятся — рыбку шкерят».
— «Вон тот мелкий, что невод поднял, не утонул часом, нырнул под волнищу и не видать. Минуты полторы прошло. Может помощь нужна?! А нет — живой гад, выскочил как пробка! Даже в воздухе завис на пару секунд.
А эти то — циркачи в оранжевых трико (брезентовая роба, рокен-буксы), как будто так и надо — стоят, обтекают и рыбку шкерят. Крэйзи, просто крэйзи! Маньяки!.. Это же просто воздушный атракцион с элементами секса на американских горках!»
Атмосферное давление, между тем, продолжало быстро падать. Ветер усилился до штормового. Раздался резкий короткий гудок, и из — за черной скалы показался мощный серый форштевень — «Сеня» возвращался.
Что могло приключиться? Шторм даже сильный, даже ураган, не помеха военному кораблю следовать по назначению. Чтобы помешать выполнению приказа должна быть серьезная, очень серьезная причина.
На капитанском мостике ожила радиостанция. Со сторожевика распорядились освободить стенку скалистого причала. Норвежцы собирались занять наше место, а затем уже поставить нас к своему левому, свободному борту.
Экипажи справились с задачей быстро. Наши, по неволе близкие знакомцы, из недоброй памяти абордажной команды, оказались по совместительству еще и командой швартовной. Без своего воинственного макияжа, в серых, грубой вязки верблюжьих свитерах, парни выглядели куда как симпатичнее.
Белобрысый, голубоглазый балбес поднял с палубы какую-то железку и изобразил зверское смертоубийство товарища. Словно злодей-самурай он всадил свою импровизированную катану в мягкий живот жертвы. Далее последовало натуральное Кабуки, средневековый японский театр с мужской труппой.
Парень был явно звездой корабельной самодеятельности. Он принялся дико вращать глазами и громоподобно хохотать, не забывая медленно и сладострастно изображать вытягивание кишок из живота своей жертвы.
Зверски убиваемый страдалец был менее талантлив, к тому же явно перепутал мизансцены. Несчастный с похвальным усердием изображал смерть… через повешение. Хрипел, выкатывал до слез глаза из орбит, (как страдающий от фатального запора) не забывая вываливать из пасти фиолетовый, неаппетитный язык.
В довершении трагедии маньяк-убийца зачем то из японца переквалифицировался в людоеда-папуаса, принявшись исполнять вокруг дрыгающейся, вероятно в конвульсиях жертвы, ритуальный предобеденный танец — «Бон аппетит». Вся эта катастрофа сопровождалась визгливыми воплями маньяка: «Блад! Блад!»
Смышленый рыжий Геша заржал первым. Парень быстро сообразил, что громогласное «Блад» вовсе не английское — blood (кровь), а совсем даже теплое, родное, столь часто употребляемое исконно русское слово.
Следом заржали все мы. С опозданием, но все же до нас дошло, что за сцену только — что изобразили перед нами. Это была палуба нашего «Жуковска», на которую высадился не так давно норвежский десант. Конвульсирующая жертва — зверски зашкереный норвежский моряк-спецназовец, а соответственно, бьющийся в пене и однообразно матерящийся маньяк-убийца, наш типический образ — доброго, русского парня.
В этом месте наши морячки вдруг прекратили ржать, и продолжая улыбаться (правда еще шире — до ушей) как по команде повернули головы. Придерживая тяжелую, клинкетную дверь, судя по звону кастрюль и пробивающемуся пару, ведущую в корабельный камбуз, на нашу гоп-компанию, улыбаясь смотрела она.
Молоденькая темноволосая норвежка в белой камбузной куртке и цвета мокрого хаки обтягивающих стройные ноги брючках. Она не была куклой, но эти ямочки на щеках, эти темные искрящиеся глаза и главное ее юный, заметный как яркий лучик издалека, естественный, природный шарм.
Она более всего походила на увиденную мной через много лет в кино, молодую актрису — Чулпан Хаматову. Тот же тип девушки, та же пряная азиатчинка в разрезе глаз и лёгкой скуластости, нередкая у северных скандинавов носящих в своих жилах частицы саамской и угрской крови.
Что сказать? Не миновала и старика Паганеля чаша сия. Как в той популярной песенке: «Мое сердце остановилось! Мое сердце замерло»…
Вне нашего «Медвежьего крыла» — нерушимого тысячелетнего убежища созданного самой природой, бушевала «Кашуту» (Пьяная Эскимоска).
Так наречена была, имеющая всех и вся полярная буря, еще не достаточно политкорректными в те годы штатовскими метеорологами. Итак, снаружи бушевала она — дама пренеприятная во всех отношениях. Горе тому экипажу, чей борт окажется несчастливым. Выйдет ли вдруг посреди урагана из строя вся ходовая часть. Откажет ли, бывшее много месяцев в безотказной работе, рулевое устройство.
Или возьмет и взбесится сам корабль, выполняя все команды из штурманской рубки с точностью до наоборот. И не будет не сил, не времени для поиска причин корабельного безумия. Да и не найти тех причин, поскольку в царстве морских стихий чаще, гораздо чаще и реальнее действуют эманации мира тонкого, пронизывающего все сущее, но нами людьми не ощущаемые.
Кто знает, может довольно было самой малости. Да и малости ли. Кто и как может взвесить степень тоски и отчаяния жены капитана обезумевшего судна. Она одна, она видит мужа не так часто — несколько раза в год. Дети растут и она все меньше нужна им. Кто спросит — каково ей замужней без мужа Приятно ли ложиться в одинокую, холодную как могила, но все еще почему то супружескую постель.
И однажды вечером она пойдет в город и встретиться с каким — то мужчиной и пойдет с ним и проведет с ним вечер, а позже и ночь. Ей будет хорошо или просто не так одиноко и может она захочет повторить этот опыт еще и еще раз. Но однажды она отчего-то среди ночи проснется в слезах и поймет, что ее любовник просто чужой, не близкий ей человек. А она все еще любит мужа и не знает как посмотреть ему в глаза, когда он все-таки вернется.
И снова отчаяние захлестнет ее душу штормовой волной. Не ведая, что творит пошлет она страшной силы проклятье. Проклятье мужу и его кораблю. Будь проклят ты, мой любимый, кто оставил меня здесь одну, на этом постылом берегу. Будь проклят ты и твоя ржавая плавучая домовина, бездушный кусок железа — покрытый немытыми иллюминаторами гроб. Твой чертов корабль, который тебе дороже меня. Так плывите же вместе в преисподнюю…
Суша покрыта несметными скопищами людей, чьи мелкие и не мелкие страсти, властные над нами инстинкты, смутные и определенные желания, вязкая повседневная суета уничтожают самое суть человека — светлую его сторону.
Поднимается над городами и поселениями нечистое невидимое облако отчаяния и неверия. Поднимается, и чем его больше, тем плотнее оно в холодной выси. И вот уже возвышается над ореолами наших обиталищ, та самая небесная твердь, первые признаки которой ощущали наши далекие предки. Они видели её, еще тонкую и незаконченную, но обещающую закрыть все небеса исполинскую конструкцию.
Полный смысл и предназначение этих куполов непостижим для человека. Лишь некоторые из нас по счастью или несчастью не утратившие микроны духовного зрения очень грубо и примитивно (что охраняет нас от безумия), но все же способны увидеть — Наша лень, наше безволие, наша ложь и жестокость, наше нежелание каждый Божий День преодолевать тьму в себе и есть те самые невидимые, мешающие излиянию на землю Горнего Света нечистые ледяные частицы, что закрывают от нас Небо.
А над морем небо чище, даже в шторм и ненастье. Даже если оно закрыто тяжелыми, свинцовыми облаками.
Мне кажется, что душам моряков, коль нет на них греха большого, куда как проще оказаться пусть не в раю, но все же, по дороге к Свету. И не во сне…
Глава 6. «Страсти по Титанику»
В эту не теплую, буйную майскую ночь, светлую, по воле уже месяц, как вступившего в свои права полярного дня, двоим не спалось. Разумеется не спала и судовая вахта: моторист в машинном отделении, штурман в рубке и вахтенный матрос у переходного трапа. Последний был круто задран вверх по направлению от нашей верхней палубы к главной палубе норвежца. На приливе крепежные тросы этого переходного мостика опасно натянулись и грозили оборваться. Пришло время вахтенному матросу поработать и ослабить крепление, приведя трап в божеский вид.
Так-что не спали мы двое. Я — «юноша бледный со взором горящим», по вине гормонов разыгравшихся наподобие «эскимоски — кашуту» за ближними скалами, и друг мой Устиныч.
— «Пьяная эскимоска», говоришь, «Кашуту», говоришь? Вот ведь убогие! Слышали звон!.. Ну что за народ нынче? Cловами то сыпят, а смысла не знают и тем дураками себя выставляют! Ты смотри! — не без самодовольства усмехнулся Устиныч. «Это ж, improvisus! Видать правду говорят: „Талант не пропьешь!“»
— «Так что там с Кашуту?» — оторвал я спонтанного импровизатора от приступа нездорового самолюбования. — «Бывал я там в конце шестидесятых, а эскимосы — родня считай». — как то странно усмехнулся Друзь.
— «Между прочим преславный народ — братья наших чукчей. Таких отчаянных корешей нет более на свете. Это я в смысле дружбы. Было дело, повстречался наш бортовик с айсбергом вблизи Готхоба, Нуука по ихнему. Это у них, у эскимосов столица такая на Юго — Западе Гренландии. Основали то ее рыбачки — датчане конечно, и порт невеликий построили. Ну да эскимосы конечно настаивают, что у них там поселение уже лет пятьсот как стояло, еще до принцев этих датских».
И,мол, большое село было, иглу в триста, по их понятиям считай город. Летом, как потеплеет немного, чуть снег в низинах сойдет, так они заместо избушек ледяных, иглу этих, землянки рыли. Кто из охотников удачливей, да науку знает — чумы ставили, как наши, чукотские. У вождей да старейшин сараи — дворцы стояли из настоящего корабельного дерева, что море подарило.
А бухта там, ух богатая: на лежбищах из гальки тюлени да зайцы морские (лахтаки) нежатся. Жирные, что твои купчихи. Глянешь и аж до самого горизонта берег шевелиться. И клокочет! И тявкает! И рявкает! Кипит жизнь! А в море рыбы стада, чисто бизоны в прериях. Гуляет рыбка, ходит и боками толкается, туда — сюда, туда — сюда. А нерпа — жирдяйка рыбину ухватит, чавкнет пару раз и как бросит в соседок, да злобно так заверещит: «Что это мне мол, первый сорт суют. Я вам не какая-нибудь, а как есть уважаемая дама, с моржами в родстве. Мне высшего сорту подавай!»
«Тогда только весна началась — лед в море почти сошел и бортовичкам типа нашего для промысла не помеха. И все бы ничего, да был у нас тогда штурманец молодой, да на тебя Паганелька похожий, тот же тип психический!» — В этом месте я вздрогнул.
«Да нет, не дрейфь, захихикал боцман, я не к тому. Это я ж в Мурманске, в прошлом году фельдшерский зачёт сдавал, ну и профессор — экзаменатор отчего уж не знаю, но видать из психиатров. Сидит, значит и солидный такой журнал листает, смотрю — журнальчик то германский, по немецки все.
На титуле фото. Человек, как мумия спеленутый, в койке больничной, ясно — страдает. Рядом доктор сидит, добрый такой и с бородкой. И руку так ласково больному на лоб положил — психиатр, кто же еще?»
«Ну думаю не иначе, как „Ярбух фюр психоаналитик унд психопаталогик“[1]. А я ведь немецкий еще с войны освоил, да и психиатрия меня всегда привлекала. Что найду — читаю, а редко находил то. Умолил я профессора — презентовал он мне журнал, значит. — „Вы, — говорит — Бронеслав, несите сей благодатный сосуд знаний, а я понесу свой старый зад. Домой к жене, да ко щам, тем паче немецкого, говорит, я не знаю“».
— «О чем бишь я?» (Я тут слегка задремал.) — «О том как вы с Жюль Верном родили Паганеля». — деликатно зевнул я в ладонь. Боцман потряс рукой, призывая внимание. — «Статья была в том журнале и среди прочего упоминался там ты — Вальдамир, как психический тип». — «Чем же я удостоился?» — изумился я слегка.
— «Так слушай — есть такой тип людей, романтики — созерцатели, ценители красот божьего мира. Народ этот часто „витает в облаках“. Пребывает в „горних высях“. И оттого бывает не только по жизни не практичен, но и рассеян до крайности. И кстати по этой причине может быть небезопасен для себя и других. Называется этот психотип — Паганель».
«Да и еще. Человек этого типа, как правило, много читает, обладает хорошим интеллектом, будучи доброжелательным к людям, любит делиться информацией. Обладает развитой речью, красноречив, и в этом плане популярен у окружающих. Так что, Паганюша, это я тебя окрестил» — боцман ткнул мне железным пальцем в грудь. — «И ведь в точку попал!»
«Да ты спишь никак? Нет? Ну так слушай и имей в виду, что боцман Друзь не врёт никогда. Не имеет такой привычки. Да и нужды нет. Вот умалчивать кое о чём приходилось, чтобы дурнем старым за глаза не звали. Ведь такое иной раз приключалось, что и сам подумаешь — „Было ль?“»
Штурманца того Витьком звали, фамилия Шептицкий. Он сейчас с беломорскими промышляет — капитаном у них. И капитан знатный — везун. Кто как, а Шептила всегда с рыбой. Он с ней, как с бабой — с лаской, да с уважением.
На косяк выйдет, ну и пройдется малым ходом рядышком. Вроде как: «Не поймите превратно, рыба моя дорогая. Интерес к вам имею, но наглеть не приучен. А в нужный момент тральчик то и выставит. „Я, мол, гражданочки скумбриевичи или там окуневские, такой „жгучий лямур“ до ваших прекрасных персон ощущаю, что вот не выдержал — решил вас, гражданочки на свой уютный борт пригласить. Для приватной, так сказать, беседы за рюмкой чаю. Дабы обсудить с вами развитие наших нежных отношений и дальнейшую, миль пардон, диспозицию в пространстве“».
Ну, у кого ничего, а у Шептилы, как правило, в трале тонн двадцать молодой, красивой рыбки. Ну а больше то и не надо за один подъем, подавиться рыба в трале — товарный вид потеряет.
Тогда у Нуука, Готхоба, стало быть, Витька Шептила совсем еще пацаном был. Да и как штурман, без опыта. Как говорят — «зелень подкильная». Ну вот как ты покаместь…
Вахту на мосту он стоял с капитаном, на подстраховке, значит. А в рейсе, бывало, капитан посмотрит вокруг, что мол все спокойно, ну и пойдет себе из рубки — бумаги там или еще, что. А ведь не положено это — мостик на штурманца — салагу оставлять. Ну да кто без греха? Ну Витюша то наш и учудил. Это он сейчас жук, практичный да деловой, видать испуг тот ему сильно на пользу пошел — изменил ему психотип, по научному вышло, во как.
Увидал Витя айсберг, а они порой красивые черти. Летом, когда и весной уже солнце в силе, айсберг тот, играет под лучами, как бриллиантами усыпанный. Это ведь цельный кусок льда, замерзшего двадцать тысяч лет назад. Несколько тысяч лет подтаивал да в Гренландское море сползал. И высоты они порой огромной, пока не увидишь, не поверишь.
Хотя ты то точно увидишь. А в воде то теплее по любому, и солнышко незакатное опять же. Айсберг тот тает, да так чудно. Иной плывет по морю — замок короля Артура, не иначе, а другой один к одному — скульптора Родена — «Ромео и Джульета» из Эрмитажа. В масштабе эдак 1:1000.
Ну и как на такую красоту не поглазеть. А тут как раз такое чудо в полумиле и проплывало. Глядит Витя в бинокль и видит, что на вершине горы ледяной, как — будто человек сидит, да преогромный, и то ли в шкуре звериной, то ли своей буйной шерстью покрытый. Не иначе Йети, человек снежный. Ну, думает Витюня, надо брать! Даже если от капитана влетит, Нобелевская премия все окупит.
Если ты думаешь, что Витюша неуч какой был и про айсберги в мореходке не проходил. Так как в Одессе говорят: «Таки нет!» Он ведь как рассудил: «Оно понятно, что штука опасная и под водой у нее в три раза больше, чем над. Однако когда охрененный Айсберг топил охрененный Титаник, так это ж была картина маслом, солидняк. Так за каким ему сподобиться наше старое корыто, пропахшее к тому же не Шанелью номер пять, а вовсе даже протухшей по щелям рыбкой».
Ну и подвернул Витя к этой пятидесяти метровой ледышке втихаря. Капитан уже неладное почуял. Чувствует судно на несанкционированный поворот пошло. Может он в гальюне думу думал, может еще чего, но замешкался что-то. Я то в каптерке сурик, краску коричневую, растворителем разводил и в аккурат, когда Витька на подводную часть того айсберга наскочил, я мордой лица тот сурик то и принял.
Машина — стоп. Тревога «по борьбе за живучесть судна» названивает, панику нагнетает. Народ пластырь разворачивает 7:7 метров. Готовиться с носа, с полубака под киль его заводить, чтобы если пробоина в прочном корпусе, да ниже ватерлинии, закрыть временно. Ну, ты знаешь.
А я же процессом командовать должен, а с личности сурик стекает. Люди пугаются, ну как я умом повредился и на нож мой боцманский втихаря косятся.
Капитан, когда в рубку залетел, желал Витюшу того придушить, натурально… Однако застал его в состоянии прострации, нервный шок стал быть. Только и успел, болезный — ручку машинного телеграфа в положение «СТОП» вздернуть. И оцепенел! Потом уже, когда улеглось все и доложили, мол пробоины в борту нет, зовут меня в рубку, на мостик.
Я же тогда медицинской науке всякий свободный момент посвящал, к экзамену готовился. Ну поднимаюсь, смотрю. Витек мой в кресло капитанское усаженный, сидит недвижно со спиной прямой и ручки на коленках сложивши, прямо статуя Аминхотепа, фараона египетского. Сидит без звука и в одну точку уставившись. Ну подошел я и как полагается, по всем правилам психиатрической науки по личности то его и хряпнул, чтобы значит из шока вывести. А у меня же рука не дай боже, железо. Ну не рассчитал малость. (Я вспомнил историю с суриком и слегка усомнился.)
Ну Витя мой с легонца в воздух то поднялся, и у дальней то переборки на палубу и опустился. Некрупный был парень. Я смотрю — он опять молчит, только уже лежа. Ну думаю, из нервного шока я может его и вывел, да по запарке то в летальное состояние ввел. А тут еще второй штурман, ясень ясенем. Здоровый бык и такой же смышленый.
— «Как, говорит, судоводительский состав сокращать и где, на нашей исконной территории, в рубке штурманской? Валик ты, орет, малярный!» И биноклем цейсовским мне в рыло. «Каюсь, не стерпел я слов его последних. Личность свою, биноклем задетую стерпел бы, а вот намеков неприличных в адрес свой, в форме непристойно — эпической не терпел, и в преть терпеть не намерен».
Безобразие тут форменное началось. Капитан наш, Луи де Фюнес вылитый, что лицом, что фигурою — метр пятьдесят два в прыжке. Так он для харизмы бороду отпустил. Только и проку, что его еще и барбосом обозвали. Да братва ещё траулер, что под его началом ходил «Барбос карабас» окрестила. Бывало, психанёт и давай от нервов бороденку то чесать, ну прям барбоска плюгавая. А туда же — разнимать нас кинулся. Это же как бычару с лосярой мирить, мною то есть. Он же нам по эти, по гениталии. Ну, задели мы его в разминке. Глядь, а барбосик то наш, «Капитоша» (его так за глаза весь флот звал) лежит у знакомой переборочки, Витюней нашим облюбованной. Лежат они оба два, что братики — щеночки.
Охолонули мы с ругателем моим от такой Цусимы. Стоим любуемся, гладиаторы херовы. Штурманец мой шепчет: «Устиныч, шепчет, гребут нашу мэм в клюз на ватерлинии. Это же двойная мокруха. Это же ты зуйка — салабона прижмурил, а я стало быть „Капитошу“ для изящной комплектации». — «Ладно, говорю, не дрейф, дрейфила, учи матчасть. У них у обоих жилы на шеях бьются, живые значить».
Бог миловал, обошлось тогда. Они же оба родимые, как оттерли мы их скипидаром, болезных, да как оба очухались, глядь, а ведь не буя то и не помнят, ну как отшибло. Ну мы со вторым, не будь мормышки, переглянулись. Второй то левым глазом подмигнуть хотел, да как подмигнешь ежели он у него заплыл напрочь, только зашипел — болит мол. Ну да я и без того понял, чего он сказать хотел: «Ври, мол, боцман. У тебя складнее выйдет».
Ему что — циклопу бестолковому, а мне грех на душу. Ну не приучен я. Врать, то есть. А куда денешься — жизнь то заставит. Ну наплел я, аж вспоминать противно. Дескать капитоша наш в порыве яростном на мост заскочил, чтобы значит Витюню то покарать самосудом беззаконным. Ага, тут мне пол бинокля с треснутой линзой на глаза попались, я и продолжил импровизацию. «А вы, говорю, Ромуальд Никанорыч (так мастеру нашему родители удружили) себя не помня, да в состоянии аффекта пребывая, за инвентарь схватились и на младшего коллегу замахнулись. Да на наше с вами удачное счастье пребывал рядом второй помощник ваш — мужчина во всех местах героический. И заслонил он от удара вашего могучего отрока сего злополучного лицом своим коровьим. Ага?»
Тут малость запнулся я, чего дальше врать? «Ага, говорю (и вроде с покаянием) Я тут давеча у вас леер ржавый пошкрябал и нынче же хотел покрыть, суриком то. А тут сами знаете — шибануло, сурик то возьми и пролейся. Ну вы то по запарке и в движениях. Не заметили, ну и по склизкому делу, значит, головой повредились о переборку то, ну и прилегли не надолго».
Вроде складно вышло. Тем более сурик тот с меня малость еще подкапывал и палубу на мостике изгадил изрядно. Ну капитан посмотрел на меня подозрительно, не дурак же, чует не то что — то. Потом глянул снизу вверх на помощника и вроде как лестно ему стало. Как же, сам мол мал, да удал. Аж позу статуи Давида принял. Эвон как Голиафа местного отделал.
В тот же день получили мы по радио распоряжение от руководства с берега следовать в ближайший порт (Готхоб значит) для постановки в сухой док, осмотра и производства очередного ремонта судна. Уже к вечеру встали мы у причала пятым, считай, корпусом. А к утру уже стоял наш «барбос карабас» в доке. Весь правый борт от форштевня до середины корпуса (выше и ниже ватерлинии) имел печальный вид маминой стиральной доски, так, что рельефом выпирали корабельные ребра жесткости. Смотрелось это жутковато, как то по человечьи. Смотрю Витя Шептицкий подошел не веселый, ясно. Стоит смотрит на дело рук своих, а в шевелюре у двадцатилетнего пацана прядки седые.
Глава 7. «Обыкновенное чудо»
Ее звали Ленни. Правда в тот момент, когда наутро я вновь увидел ее, мне это было еще не ведомо. Она в сопровождении какого — то парня карабкалась вниз по переходному мостику на нашу палубу. Они вдвоем несли большой пластиковый бидон, держа его за синие пластиковые ручки. Бидон был не легок, литров на тридцать и в нем булькала какая то химия. Парень же был высок, гораздо выше ее, и я с неуместным облегчением констатировал, что мы с ней примерно одного роста.
Как говориться: «Кто о чем…»Зато нести поклажу из-за разнице в росте им было явно неудобно. У меня появился повод вмешаться. Я протянул ей руку, в жесте — давай помогу. Она улыбнулась уже знакомой, еще вчера сразившей меня улыбкой. — «Прифьет, как дала?» вдруг выдала она до боли знакомый аля рюсс. Я все же счел за благо прибегнуть к услугам моего хоть и не большого, но как оказалось вполне эффективного naval english.
(Далее я буду передавать наше с Ленни общение (и вообще все диалоги и монологи) уже по русски. Во первых, чтобы не выпендриваться перед читателем, а во вторых, чтобы не выеживаться с английской клавиатурой. Ну а в третьих — Оно вам надо?) «Ты преподаешь русский?» — выдал я первое, что пришло в голову.
— «Как ты знаешь?» — ответила она вопросом на вопрос, явно изумленная моей нечеловеческой проницательностью. Слава Юпитеру, Фебу, Киприде и всей олимпийской родне! Она говорила по русски! Часто ошибаясь, с сильным, похожим на финский акцентом, но она говорила по русски! Я стоял и улыбался, как сами знаете кто. Видимо высокому парню все это начинало надоедать. Он аккуратно поставил тяжелую флягу на мою ногу и с ледяной вежливостью эсквайра осведомился по английски: «Не соблаговолит ли досточтимый сэр принять этот скромный презент от нашего экипажа, а именно — туалетный деодорант в изящном тридцатилитровом флаконе».
— «Что, так воняет?» покраснев и тупя от неожиданности, спросил я отчего то шепотом. — «Ужасно, сэр. Просто катастрофа, сэр». печально закивал норвежец. — «Надеюсь это поможет». Он гулко булькнул флягой, приподнимая ее, после чего попытался с силой вернуть ее обратно на мою ногу. Однако я успел отскочить с несвойственной мне сноровкой. — «Ничего, ничего. Я помогай! Я Ленни. Ленни Бьернсон. Так приятно!» — протянула она узкую ладонь. — «Так приятно». — согласился я вполне искренне и протянул свою, забыв между прочим представиться. Она ответила неожиданно сильным для девушки ее сложения рукопожатием. — «Я слышала как тебя звали друзья. Как это… Погоняло». Я не стал уточнять насколько она близка к истине. Чтобы не мучить Ленни громоздким для нерусского уха Владимиром, или невнятными Володями, Вовками и Вовами. Я решил тупо сократиться и выдал: — «Влади, зови меня Влади».
Какая это роковая ошибка я понял несколько позже, когда рыжая скотина Геша, засунув мокрый нос в судовую парилку где я мирно балдел, гнусаво и похотливо проблеял: «Влади, девочка моя. Твой суслик идет к тебе. Чмоки, чмоки — заодно и помоемся!» Это еще ничего, когда мне к примеру в дальнейшем довелось общаться с арабами так те с уважением и не без пафоса называли меня (увидите детей) — Блядимир. (с ударением на последнем слоге)
Надо сказать, что промысловые суда в рейсе и вправду не благоухают. Когда идет рыба просто не до тщательной уборки — нет времени. Это уже на переходе в порт все драют и чистят, сливая мощными струями забортной воды из пожарных гидрантов. В тот день мы потрудились на славу под руководством боцмана и Ленни, которая оказалась весьма занудной чистюлей и к тому же студенткой университета в Осло по специальности: санитарно — пищевой технологии, разумеется рыбной отрасли.
Боцман с русской щедростью плеснул на палубу из нерусской фляги половину мыльного, резко пахнущего хвоей туалетного счастья. После чего принялся сливать мощным пожарным напором. Однако эффект произошел иной. Наш работяга — жучок стал стремительно превращаться в некое заполненное душистой хвойной пеной исполинское, невыносимо гламурное джакузи. Чем остервенело-старательнее смывал мыло за борт боцман тем агрессивнее и вызывающе вела себя пена. Это напоминало оригинальный фильм ужасов.
Пахучая интимно потрескивающая пена заполняла собой все судовое пространство, проникая в каждую щель. Выйдя из каюты или поднявшись из машинного человек попадал как бы между мирами. Здесь не было не право и не лева, ни верха и не низа, ни времени, ни пространства, а только потрескивающая, благоухающая хвоей долгожданная нирвана, банно — прачечная вечность.
Только неблагодарный Дураченко не оценил этого намека судьбы, дескать смирись, оставь суету и заботы, отринь страсти человек, содрогнись, твою маман, перед лицом вечности. Его красное, разъяренное лицо, обрамленное седой хэмэнгуэевской бородой показалось из верхотуры третьего этажа палубной надстройки. Капитанская голова увенчанная пенной шапочкой словно облачком небесным, осветилась торжественно и мощно солнечными лучами из-за просветов тяжко — лиловых облаков, утихающей наконец бури.
— «Боцман!» раздался сверху громоподобный глас капитана, усиленный микрофоном громкой связи. И еще раз громоподобно: «Боцман!» Несчастный Устиныч, изнемогший в борьбе с мыльной напастью и мокрый до нитки, возвёл очи горе.
«Бронислав Устиныч», — продолжил вдруг капитан с неожиданной, что называется ледяной, но все — таки вежливостью. Причиной тому была следующая диспозиция. Наш пенный ковчег, как я уже упоминал, был пришвартован своим правым бортом к левому борту норвежца. Соответственно, когда началась невиданная доселе в ихних европах мыльная русская опера (с непередаваемым национальным каларитом). Весь личный состав Сеньи, включая, вахтенных, высыпал на свой левый борт, имея видимое намерение воспользоваться дармовым зрелищем нашего бродячего, пардон, плавучего цирка.
По мере явления из бездн нашего морского скитальца очередного, плюющегося мылом пенного призрака норвежцы все более впадали в состояние клинической истерии. Выход на мыльную сцену главного персонажа — мастера Дураченко в роли Савоофа на воздусях сопровождался уже обессиленным молчанием зрителей, вполне соответствующим кульминации мистерии. Наш кэп заметил сосредоточенных зрителей и счел за благо не подливать масло, пардон, мыло в пространство.
— «Бронислав Устиныч» — продолжил Владлен квазиспокойным тоном. — «Слушаю вас, Владлен Георгиевич». Не без претензии на светскость ответствовал мокрый боцман. — «А не жмут ли вам яйца, любезнейший?» С медоточивым иезуитством осведомилось начальство. — «Никак нет, ничуть». последовала ослепительная желтозубая улыбка. Непринужденная беседа двух светских (морских) львов была бесцеремонно прервана резкой командной фразой по норвежски, раздавшейся по громкой связи из командирской рубки «Сенья». Галерка мгновенно опустела. Зрители без аплодисментов исчезли по местам несения службы.
— «Влади!» — раздался знакомый девичий голос с палубы норвежца. — «Иди на нас, хочу тебе дать!» «Не теряйся Паганюха, беги, а то передумает». Прогнусавил глумливым Петрушкой вездесущий пошляк Геша. Я не без смущения поднялся по трапу на борт норвежца. Лени взяла меня за руку своей теплой ладонью. Это ее вполне невинное действие тем не менее породило у меня приступ внезапной аритмии.
— «Надо брать анализ фиш, ваш рыба, еще наш кук просила один, два картон кушать. Варить на наш кру (экипаж)». Мы заглянули на камбуз, где кок — молодая, лет двадцати пяти, рыжеволосая, пышногрудая фру, посмеиваясь и весело косясь в мою сторону о чем то переговорила с Ленни. После чего произошло совсем уж немыслимое. Эта Магдолина приблизилась, и демонстрируя отсутствие комплексов, пребольно ущипнула меня за щеку двумя толстыми пальцами. — «Найс бэби!», сложив губы трубочкой смачно прогудела она, словно и в самом деле имела перед собой пухлощекого, пускающего пузыри младенца.
Я отскочил, шипя от боли и негодования, чувствуя как заливаюсь пунцовым колером вареного лобстера. Агрессорша погрозила мне толстым пальцем: «Если проголодаешься, приходи когда хочешь. Я с удовольствием дам тебе грудь». томным голосом добавила она по английски. От дальнейшего, возможно рокового развития событий меня спасла Ленни.
«Идем!» Она как-то уж слишком по хозяйски схватила меня за указательный палец левой руки и потащила меня из камбуза. Я охотно подчинился. Процесс тащения за палец доставлял мне какое-то особое, возможно эротическое удовольствие. Видимо все дело было в персоне тащившей. — «Эта Марта — джаст крэйзи. Был бой, сэйлор (моряк). Он получал здесь», она коснулась моего затылка, «от Марта рукой. Сэйлор сказал, что ее суп много масла, как ее здесь», она похлопала себя по аккуратной упругой попке. «Бедный бой упадал в большой горячий суп. Доктор сказывал, что его голова, брэйн ин шок, а низ спина вареный — можно кушать».
Ее рассказ и мое эротическое удовольствие от тащения за палец прервал знакомый приятный баритон: «Капрал Бьернсон!» В узком корабельном коридоре прямо перед нами возвышался майор Бьернсон. Он же конь красный. Он же граф. Он же просвещенная Европа. Он же дворянчик и белая кость. Как и давеча с лейтенантом, он отозвал Ленни в сторону, коротко переговорил с ней, кивнул и перевел взгляд на меня. — «Хау а ю?» Я было открыл рот для ответа, однако Бьернсон опередил меня. — «Райт!» Ответил он сам себе, и заложив руки в черных лайковых перчатках за спину, заметно сутулясь отправился далее по коридору.
— «Вы однофамильцы?» спросил я, когда майорская спина исчезла из виду. — «Йа, одна фэмэли, орлогс-кэйптэн май анкл». Она отперла ключом дверь. Мы вошли в помещение похожее на кладовую. — «Дядя, удивился я, вот те здрасте. Погоди, майор твой дядя, ты капрал. У вас, что династия?» — «Как ты все знаешь?» изумилась она в свой черед, смешно приподняв выщипанные бровки. — «Йа династия. Отец деда, моего дяди, майора Свена Бьернсон фром Свэдэн, из Свеция. Он был граф Бьернсон, двойной (двоюродный) брат король Бернадот, друг Бонапарт». — «Убиться можно!» спонтанно процитировал я Утесова. «Так ты что, отпрыск династии Бернадотов королей Швеции и Норвегии, потомков напалеоновского маршала? Ты что, принцесса?» — «Йа принцесс, э литл, чуть-чуть», она показала пальчиками насколько чуть-чуть, очаровательно наморщив носик. И вдруг совершенно неожиданно обвила руками мою шею, прильнув теплыми и почему то солоноватыми губами к моим, пересохшим от вселенского восторга.
Глава 8. «Паруса Катти Сарк»
По словам все той рыжей бестии Эпельбаума, ваш визави спускался на родной борт по трапу со счастливой, блуждающей улыбкой клинического идиота, отягощенного к тому же приступами спонтанного лунатизма. На вытянутых руках я держал большую пластиковую емкость по форме весьма напоминающую детскую ванну для купания младенцев. Ванна к тому же была заполнена какими то картонными коробками. Все это, в купе с моей врожденной нечеловеческой (паганельской) ловкостью, превращало такое в сущности незначительное по сложности сооружение, как карабельные сходни (трап) в практически непреодолимое препятствие.
Насколько помниться, мой литературный предтеча — жюльверновский Паганель, в силу своей легендарной рассеянности постоянно куда-то падал, проваливался, сверзался и обрушивался, тем не менее во всех случаях, отделываясь лишь легким испугом. Могу лишь по прошествии многих лет торжественно констатировать: высокое звание Паганеля, столь удачно приклеенное мне незабвенным Устинычем, стало для меня своеобразным оберегом. Так, что все мои последовавшие по жизни дивертисменты, как то: падения со всевозможных высот, провалы в любви и дружбе, свержения с карьерных и иных лестниц и даже, как казалось, последнее окончательное обрушение судьбы, в итоге оканчивалось не то чтобы легким, но все же только испугом.
Наверное в прошлой жизни я был домашним гусем. Нереализованная мечта о полете тайно жгла мое сердце и в этой жизни. Пролетая над родной, свежевымытой, пахнущей хвоей палубой я сомнамбулически размышлял стоит ли мне обогнать летящую впереди детскую ванну, или же избрать для приземления чью то рыжую голову маячившую вблизи ярким посадочным знаком. Встреча друзей прошла в теплой непринужденной атмосфере…
Столь близкое знакомство с тощей арийской задницей Генриха Оскаровича не входило в число моих ближайших планов (к тому же вряд ли было бы одобрено покойным фюрером). В свете вышеизложенного мне пришлось спешно покинуть столь удачное (сравнительно мягкое) место посадки. К тому же непосредственная реакция самого «авианосца» не оставляла времени для продолжительных размышлений. «Пенипона Дульядед Рама тринадцатый! Свазиленд об Лесото через Антананариву поперек брашпиля! В рот тебе клеш, сволота малолетняя! Баб ему уже мало! „Какие буйные фантазии рыжего пробудили к жизни последний пассаж остается только догадываться, но как учитель географии он дал бы фору многим нынешним“».
Детская ванночка и главное упаковки с анализатором и еще чем то удачно попали на сохнущую у фальшборта, вырезанную норвежскими инспекторами сеть — часть рубашки трала. Мы втроем: Я с глухо ворчащим о каких то летающих мужеложцах Эпельбаумом и присоединившаяся к нам, успевшая переодеться в прорезиненный оранжевый комбинезон моя (О, юность!) Ленни, уложили выбранные из разных ящиков несколько десятков тушек разделанной, мороженной рыбы в емкость (летучую ванну) для дефростации (разморозки). У Ленни, казалось, открылся преподавательский талант. Я с гордостью констатировал, что наше не слишком продолжительное общение явно пошло на пользу ее лингвистическим способностям. Ее русский заметно похорошел. Собравшаяся возле нас немногочисленная, но все же толпа моряков внимала, кто с искренним интересом, а кто попросту пользовался возможностью потереться рядом с хорошенькой, да к тому же импортной «мамзелечкой».
Между тем, Ленни говорила действительно интересные вещи. Прежде всего наша советская шкерка (разделка) рыбы никуда не годилась, поскольку не соответствовала непросто международным, а элементарным медико-пищевым стандартам. В ту пору в советских магазинах купить просто кусок нормального съедобного мяса или колбасы было не так уж просто. Зато мороженной и консервированной рыбы было, что называется, завались. За мутными стеклянными витринами отделов продунивермагов под оригинальным названием МЯСО — РЫБА, первое, если и наблюдалось, то в виде обглоданных неизвестными людоедами костях безымянных страдальцев. Зато рыбный отдел был забаррикадирован огромными, пугающе похожими на противотанковые мины, банками с дальневосточной сельдью по имени Иваси. А за стеклом холодильных витрин высились горки из тушек серой неаппетитной мороженной рыбы.
Госплан гнал план. (посмотрите Википедию,т. к. пересказывать новейшую Историю СССР довольно долго.) Количество продукции было гораздо важнее качества. Наша рыбная продукция исключением не являлась. А всего то и надо было, как это делали к примеру норвежцы, при разделке зачистить позвоночное скопление крови и поместить разделанную рыбу на некоторое время в емкость с проточной забортной водой. Цвет мяса у такой рыбы был светлым и приятным для глаз. Наша же продукция имела депрессивно серый оттенок. Соответственно разнилось и пищевая ценность.
Но не будем скучно о грустном. Наша судовая разведка тоже не дремала. В русский матросский кубрик пригласили парочку языков из числа юных театралов — десантников. Норвежских ребят, что называется приманили на любопытство. Эта спецоперация происходила той же ночью, когда боцман Устиныч делил со мной бессонницу и между прочим только начал свой увлекательный рассказ о своих друзьях — гренландских эскимосах. Наши ребята, как говориться, накрыли поляну и поляна сия заслуживает отдельного описания. Вы знаете, что такое рулет из скумбрии? Не знаете? Тогда поезжайте в Мурманск и спросите! Нет, вы поезжайте и спросите! Ей боже, оно того стоит!
С крупной свежей, не менее двух килограммов рыбины аккуратно снимают филе. Затем ненадолго (часов на десять-двенадцать)помещают в тузлук (раствор соли), тут могут быть нюансы, как во времени пребывания скумбрии в тузлуке, так и в приготовлении тузлука. Затем вымоченное филе выкладывают на плотный пергамент и посыпают специями, тут есть место для творчества, но знай меру. Кто-то добавляет молотый черный перец, а кто-то горошек, обязательно два-три лавровых листа и чайную ложку рубленного чеснока. Филе заворачивают рулетом и тщательно упаковывают в пергамент. Сверток перевязывают суровой ниткой. Это счастье кладут в морозильную камеру. На следующие сутки рулет достают за час-полтора до трапезы. Упакованный в пергамент, чуть размороженный рулет режут ломтями наточенным шкерочным ножом. Сочетание запахов специй, чеснока, лавра и вкуса только-что размороженного, льдистого, отдающего морской солью мяса скумбрии непередаваемо.
Как-то приходилось в тропиках готовить рулет примерно по тому же рецепту из мяса сто килограммовой меч-рыбы. Получилось неплохо, но не то. Норвежские гости и хлебосольные хозяева нашего матросского кубрика вообщем посидели неплохо и без лишнего шума. Алкоголь в рейсе не приветствуется, но как говориться, у нас с собой было! В качестве переводчика дебютировал все тот же рыжий Эпельбаум. Бабушкины уроки родной речи оказались полезными. Норвежские же ребята, в отличие от нашей братии в школе действительно учили иностранные языки, а немецкий входил в число обязательных предметов. В процессе русско-норвежского братания под звуки немецкой речи была получена следующая ценная информация.
Прежде всего, сторожевик типа «Нордкап» — «Сенья» не должен был находиться в акватории острова Медвежий, то есть по месту несения службы! Здесь вообще в течении нескольких недель не должны были находиться корабли береговой охраны норвежских ВМФ! Причины такого не свойственного норвежцам бардака лежали в политико-экономических и внутренних межпартийных дрязгах королевства. Во всяком случае ранее такого не припоминалось. Что касаемо нашего Сени («Сенья»), то он, как только что сошедший со стапелей кораблестроительной верфи должен был мирно бороздить прибрежные воды в районе Трамсё, проходя ходовые испытания. Вообщем, не вдаваясь в подробности, орлогскэйптэн Бьернсон нарушил приказ и принял волевое решение охранять сектор Медвежий (как наиболее рискованный), руководствуясь исключительно чувством долга офицера и патриота.
Показательное задержание и демонстративное дефиле с нашим бедным «Жуковском» имело целью психологический прессинг на всех потенциальных нарушителей-браконьеров из многочисленной и пестрой группы иностранных и прежде всего советских судов промышляющих у Медвежьего. После такого норвежцы могли быть по опыту уверены, что в ближайшие пару недель никто не осмелиться повторить нашу авантюру. И лишь внезапно разыгравшаяся буря и кое какие проблемы с одним из двигателей не обкатанного корабля смешали планы майора Бьернсона.
Существовала ли в норвежских ВМФ контрразведка, как к примеру на нашем Северном и других флотах Союза? Проводилась ли какая никакая работа с личным составом, например лекции на тему: «Болтун находка для шпиона!»? Эти вопросы так и остались без ответа. Не могли мы, выросшие при Советской власти и с нашим историческими опытом вечного противостояния с соседними государствами. понять такую, мягко говоря, непринужденность в общении молодых норвежских военнослужащих с нами, вообщем то представителями «конкурирующей фирмы». Во первых для простых матросов они, что называется, слишком много знали, а это означало, что конфиденциальные разговоры велись командирами на командирском же мостике в присутствии вахтенных рулевых матросов. Во вторых и в третьих, наличие какого либо бардака не есть монополия только лишь русской нации.
Светлым полярным вечером, часов эдак в восемь, в нашем скромном, уютном, немного пропахшем мужским духом и рыбой матросском кубрике, возник наш новый корешок до гроба — Юрик Скелет. Вообще то, вчерашней ночью старший капрал представился, как Йорик Бриньюльф. Однако через пару часов общения с нашими северными альбатросами, это самое общение перешло в братание с элементами дружеских лобзаний. Бедный Йорик не страдавший избытком веса, зато имевший немалый избыток роста был скоропостижно перекрещен в Юрика Скелета. Иногда для разнообразия к нему обращались иначе. Например так: «Cлышь Юрок, дай я тя поцелую, нет погоди, сначала выпьем на брудершвахт, нет на брудершвайн, ну ты понял».
Не помню точно, действовал ли уже тогда в королевстве сухой закон или нет, но Йорик в этот вечер, как и в прошлый, его сторонником быть явно не собирался. Подмышкой тощего Йорика что-то булькало. Этим что-то оказалась завернутая, вы не поверите, в норвежский флаг, литровая бутылка виски «Катти Сарк». Так вышло, что еще вчера нетрезвый толмач Гена Эпельбаум сообщил о своем нынешнем дне рождения и от широты своей давно обрусевшей немецкой души пригласил к себе на днюху всю ораву дружелюбных варягов.
Следом шествовал белобрысый красавчик Фритьоф, вылитый Ди Каприо из «Титаника» (впрочем тогда Леонардо еще «под стол пешком ходил»). Парень был той самой звездой палубной самодеятельности, разыгравшей перед нами что-то вроде японских воинственных разборок со вспарыванием живота неприятеля. В Союзе в те годы был популярен японский боевик о средневековой Японии времён военных правителей сегунов «Знамена самураев». С легкой руки негласного лидера всех наших матросов Семена Анатольевича (Толяныча) парень получил гордое имя Ямамото, одного из главных персонажей фильма. Кроме них двоих явились еще трое или четверо незнакомых норвежских ребят, движимых естественным любопытством.
Но главный и самый приятный сюрприз был впереди. На трапе ведущем вниз в наши матросские покои знакомый девичий голос мелодично запел: «Хэпи бефдэй ту ю!» «Хэпи бефдэй ту ю!» На пороге матросского кубрика стояла и улыбалась моя Ленни. Она была одета в зауженные слегка расклешенные синие джинсы, подчеркивающих стройность ее ног и модную в те годы узкую блузку с логотипом шведского топквартета АББА. В руках она держала довольно большой и судя по запаху свежеиспеченный пирог овальной формы. Довершал этот кулинарный шедевр, восседающий посередине небольшой игрушечный клоун с красным носом и красной же торчащей во все стороны фирменной цирковой прической.
Ленни полагалось в третий раз пропеть Хэпи бефдэй, но уже с указанием имени потерпевшего. Она, улыбаясь потыкала пальчиком в сторону зардевшегося, что маков цвет именинника, призывая присутствующих подсказать ей его имя. — «Cволочь, сволочь рыжая!» подсказал кто-то из дорогих коллег-товарищей. Гену спасло улучшающееся на глазах владение Ленни нюансами русской речи. — «Най, най! Он не есть сволочь. Он есть, как это — найс соул?» — повернулась она ко мне. — «Душка!» — догадался я. — «Йа! Йа! Дущка!» — Ленни запрыгала на месте прелестной козочкой, рискуя уронить пирог на палубу. Доверив безопастность деликатеса моим надежным рукам, она приблизилась к новорожденному и нежно чмокнула его в пылающую, пунцовую щеку. — «Хэпи бефдэй ту дущка!» провозгласила она смеясь, победно подняв руки. Рыжего, видимо, проняло до глубины его арийско-русского естества.
Не зря говорят. что многие немцы сентиментальны. Гена позднее весь вечер не сводил с Ленни голубых преданных глаз. Изрядно же, разогревшись с помощью очередной бутылки с чайным клипером на этикетке (у норвежцев за душой оказался целый ящик) именинник принялся угрожать несуществующим обидчикам девушки, используя при этом оба доступных ему языка. Касаемо пирога, то он оказался не только с рыбой, что не удивило, но и с ревенем и в этом была некая скандинавская пикантность. Испекла его Ленни при мощной поддержке пышнотелой Марты, чьим оригинальным предложением о кормлении я так и не воспользовался. Чего уж там, опыт приходит со временем, а тогда молодой был, глупый!
В кубрике было очень тесно и очень весело. Помню ощущение распирающей юношеской гордости, когда дивно пахнущая Ленни уютно расположилась у меня на коленях. Я тут же неимоверно вырос в собственных глазах. Моя обычная застенчивость мгновенно скрылась в волнах гормонального шторма и я обозрел товарищей по застолью взглядом бывалого морского орла. Меня охладила и даже несколько привела в чувство чуть заметная и чуть презрительная полуулыбка нордического красавца Фритьофа, явно адресованная нашей паре. Я с язвительной неприязнью подумал, что ему весьма пошла бы эсэсовская фуражка с высокой тульей. И еще я был почти уверен, что выскажи я ему это в лицо, он принял бы это как комплимент.
Незаметно дело дошло до культурной программы. Старшина Толяныч достал свою семиструнку и настроив ее, взял несколько виртуозных аккордов. Семен Анатольевич давал свою любимую ' Вершину ' из фильма ' Вертикаль'.
В 1967 году он молодой инструктор по альпинизму познакомился с великим Высоцким на съемках фильма ' Вертикаль'. Они были, что называется родственные души и даже внешне чем то похожи. Только Семен был повыше ростом и как признавался сам Владимир Семенович лучше, профессиональнее играл на гитаре. Лучше, не значит талантливее, парировал Семен Анатольевич. Через два месяца, в конце июля он выйдет под бодрую песенку о Московской Олимпиаде из радиорубки, сжимая в кисти с побелевшими костяшками смятую радиограмму. Семёныч умер, почти прошепчет он пересохшими губами и замолчит надолго, уставившись на сидящую у кромки фальшборта серую чайку.
А в тот вечер тесный кубрик набитый людьми захватила мощная энергетика великой песни, не нуждающейся в переводе. Всякий раз услышав ее, я вижу лицо Семена вдохновенно поющего эти строки, строки ставшие его судьбой: «Нет скорбных речей и траурных лент и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает в нем вершина изумрудным днем, которую ты так и не покорил». Семен погиб через год, на Кавказе, спасая в буран группу неопытных альпинистов.
Глава 9. «Душевники — ителлектуалы»
Как обычно бывает в застолье самое интересное происходит в течении первых двух часов. Здесь следует несколько стадий. Стадия первая — выпивающие и закусывающие душевники. Стадия вторая — выпивающие и поющие душевники. Стадия третья — регулярно выпивающие душевники, нерегулярно выпивающие душевники — интеллектуалы и забывающие выпивать интеллектуалы — задушевники. Успешно преодолев две первые стадии ваш скромный Парис и его юная Елена бежали от пирующих друзей по трапу к воздуху свободы. Здесь на верхней палубе мы встретили группу лирически настроенных мужчин.
Поистине не знаешь, с кем найдешь, с кем потеряешь. На круглых бухтах швартовных тросов, укрытых чистой ветошью., у возвышения трюмного люка, накрытого чистым куском парусины, словно за столиком уличного кафе сидели четверо. Главой квартета в силу естественной харизмы ощущался покинувший загулявшую молодежь, старшина Толяныч, тихо напевающий что-то под перебор своей семиструнной. Седобородым и суровым посаженным отцом грузно восседал капитан Владлен Георгиевич. Со светлой печалью в серых поморских глазах покачивал седеющей головой старпом Савва Кондратьевич в такт гитарным аккордам. Довершал живописную группу колоритных мужчин незаменимый и вездесущий боцман Друзь.
К нашему с Ленни внезапному появлению компания отнеслась вполне доброжелательно. Суровый доселе Владлен заулыбался и даже слегка разрумянился, отчего стал походить на подтаявшего деда Мороза. — «Ситдаун, доча». — похлопал он на место подле себя. — «О, май гад. Как похож на мой деда Урхо!» — прошептала мне Ленни. — «Ну, не совсем гад» — сострил я не то, чтоб удачно. Изрядно поддатый Устиныч, что называется: «Снял тапочки и полез в душу».
Не без труда повернувшись к нам, с легкой слезой в голосе он стал причитать: — «Ребята мои дорогие, смотрю я на вас и душа рыдает. Вы же классика — Рома и Юля, Орфей и Эвредика, вечный сюжет». — Он бы еще чего наговорил, но мужика захлестнули эмоции и он всхлипнув, с влажным носом полез целоваться. Полез естественно не ко мне. Ленни, прижав к груди сжатые кулачки, со смущенной улыбкой попыталась спрятаться за моей надежной спиной. Спасая свою Сюзанну от расчувствовашегося старца, я сам бросился в его благоухающие объятья. — «Устиныч, стихи почитаешь? Что — нибудь из классиков, свои например». — пришёл нам на помощь Семен
Бронислав Устиныч окинул публику вмиг прояснившимся взором. — «Вальдамир!» — боцман вскинул голову с благородством достойным предводителя уездного дворянства. — «Алене, если затрудниться с пониманием все поясню сам». — «На языке Шекспира и Бернса?» — догадался я. — «Именно!» — не без вызова подтвердил седоусый стихотворец, приняв позу Наполеона на берегу Святой Елены. — «Поэма в белом верлибре» — посуровев лицом и голосом провозгласил декламатор. — «Раскинулся залив широкий» — «Раскинулся залив широкий, на много милей врезался он в землю! От брака с солнцем и луной полярной рожден им был на побережье город».
Тут я живо представил себе картину, как на некое побережье ползет на четвереньках, хронически нетрезвый мужчина с роковой фамилией в паспорте — Залив. Мужчина обременен огромным животом. Несчастный басом стенает и охает, явно собираясь рожать и не каких — то там мальчиков, девочек, а целый город! Несколько смущала проблема отцовства, кто же собственно из двоих небесных полярников — луна или солнце собирается отвечать за содеяное.
— «Яай шеонер икке! Я не понимай!» — забеспокоилась Ленни. — «Я тоже».- поспешил успокоить я девушку. Тут зазвучали патриотические мотивы, правда уже не в белом, а скорее в военно — морском верлибре — «В борта союзного конвоя, торпеды крупповский металл, вгрызался хищно, за собою надежды он не оставлял. Но след пиратской субмарины не растворялся в глубине — качались траурные пятна на русской северной волне!» Вот это уже лучше, народу должно нравиться. «Глубине — волне», даже как-то захлестывает. — «Йа, таккь. Я понимай. Cтихи про война с Гитлер. Итс ноу бэд. Этто не плохо». — подтвердила мое впечатление Ленни.
Далее последовали производственные сонеты аля Шекспир: — «Постыла жизнь и незачем стараться достоинства хоть каплю сохранить. Несчастный человек, я должен унижаться, лишб что — нибудь на складе получить». Частица лишб, произнесенная с нервическим скрежетом зубовным впечатляла особо. Драматически прозвучало стихотворение «Под судом». Реальная история из жизни Устиныча, когда на траулере «Краснознаменск» (в народе прозванным «Измена») на старика попытались повесить крупную недостачу и даже открыли уголовное дело, грозившее ему немалым сроком за хищение социмущества.
Особенно эффектно звучала кульминация — «Бьют склянки, значит срок отмерен, в глазах уж меркнет жизни свет и старый боцман на „Измене“ к виску подносит пистолет…» Какой системы, калибра, откуда взялся и куда подевался этот самый пистолет история умалчивает, зато известно, что за старого работягу заступились все капитаны флота и «поставив на уши» транспортную прокуратуру, заставили последнюю спустить «дело на тормозах».
Постепенно стихла стихия советско — норвежской дружбы. Я проводил Ленни по трапу ровно до границы ее территории. Все таки военный корабль не прогулочная яхта, да и демократичности наши северные соседи выказали более чем достаточно. Опустели палубы обоих бортов и из своей каптерки под полубаком появился все тот же Устиныч. Не удивительно, судно это такое место, где постоянно мелькают одни и те же персонажи. Я заступил на вахту у трапа до утра. Старого боцмана (это пятидесяти шестилетний мужчина, мне юнцу, казался тогда дедом) так же в сон явно не клонило. Он любил выпить и частенько перебирал, но совершенно не был пьяницей.
Когда Бронислав Устиныч был при деле, а это бывало в девяноста случаев из ста, к спиртному он становился равнодушен. Я невольно описываю те моменты его жизни когда он бывал разговорчив или расслаблен вынужденным бездельем и будучи человеком веселым и общительным иной раз, что назывется «играл клоуна». Люди, хорошо его знавшие (а среди его друзей дураков не было) понимали, что эти дивертисменты всего лишь проявление артистичности одаренного человека, его стиль борьбы с серостью будней.
Как говаривал сам Устиныч: «Не водись с дураком, он скушен и тосклив, а в его суждениях столько же логики, сколько у матроса денег в конце стоянки. А вот если тебе с дураком весело, то стало быть и не дурак он вовсе, а только притворяется для удовольствия или по какой другой надобности».
Боцман — опытный человек никогда не страдал похмельем. Даже если накануне изрядно выпивал. Секрет в том, что он никогда не ложился спать пьяным. Перед сном Устиныч выпивал кружку — другую крепчайшего и сладчайшего собачьего чаю (смотри в гл.1) Хотя, говоря по научному тут имеются противопоказания. Необходима сильная и устойчивая нервная система, каковой я похвастаться не мог. Когда я попытался собезьянничать и влил в свое паганельское нутро кружку такого чая (после дозы спиртного), то утром похмелья таки не было, поскольку ночью не было сна, а была хорошенькая аритмия, украшенная приступами морской болезни на берегу.
Глава 10. «Честный Урсус»
Между тем эта ночь, как и прошлая судя по всему сна мне не обещала. Наш дорогой именинник Гоша Эпельбаум на подошедшую ему по графику ночную вахту с 4 до 8 утра заступить был явно не способен и мне, как самому молодому по негласной традиции доверили это, впрочем не слишком тяжкое бремя. Да и не особо спалось мне теми светлыми незабываемыми ночами, ну а друг мой Устиныч по ставшей уже доброй традицией привычке, примостился у моего вахтенного поста — переходного трапа.
«Вот что я тебе скажу, май диа янг фрэнд». — Начал боцман в своей излюбленной слегка витиеватой манере. — «Ты что же думаешь Бронислав Устиныч старый болтун, не спиться ему по ночам вот он и шарахается по пароходу в поисках свободных ушей. Так то оно так, да не совсем так. Вон видишь в рубке вахтенный второй штурман маячит, между прочим вдвое старше тебя и жизни хлебал поболее твоего, а я к нему с разговорами не полезу, потому как не интересны мы друг другу. Мужик он неглупый, бывалый, да только разные мы. Ему всякие разговоры о космосе или литературе параллельны. Ты с ним о видах на выполнение плана поговори, да о стратегии рыбного промысла или любимая тема — в каком порту выгоднее авто-секонд хэнд прикупить. А с тобой пацаном зелёным, хоть ты и жизни ещё не видел, да на девок телячьими глазами хлопаешь, мне чудаку старому интересно».
Ты пойми, Паганюха, что настоящих дураков, как и людей по настоящему умных не так уж и много. Бывают разные виды ума. Кто-то практичный к деланию реальному способный, на таких мир держится, им почёт и уважение, а кто-то артист в английском смысле этого слова — художник по натуре. Это тебе и актёры и живописцы-скульпторы и режиссёры, писатели с поэтами.
Есть еще и такая порода людей — созерцатели, это как мы с тобой. Эти все книжки разные читают, да мир божий созерцают, особливо самую интересную его часть, своего брата, то есть человека да и себя самого любимого. В жизни то оно конечно сложнее, четкой градации, как говориться не прослеживается. Есть деятели с артистическими наклонностями, а есть артисты с деятельными. А вот скажем врач, если он врач от бога, а не фуфло какое, это ведь художник-деятель, а в особых случаях и подмастерье Бога. Бывает и такое, был человек — созерцатель в чистом виде, да получил от судьбы гаком полупудовым по башке, оклемался и глядишь, совсем другой человек. Помер созерцатель и родился типичный деятель.
Вот так и с Витей Шептицким вышло, ты помнишь, я тебе давеча, прошлой ночью рассказывал как он по своей созерцательской дури возле Готхоба гренландского с айсбергом швартоваться надумал? «Так это же самое интересное!» — оживился я, несколько осоловев от боцманских философствований — «Что у вас там дальше то было с эскимосами этими гренландскими?» «Да уж было». — Усмехнулся боцман в сивые усы — «И с эскимосами и с эскимосками. Как налетели мы на махину ту ледяную, и как поставили тогда в Готхобе, Нууке по эскимосски, нашего рыбачка в сухой док, я тебе уже рассказывал».
Должен уже ремонт начаться, а капитан наш Ромуальд Никанорыч, ну махонький такой на француза Де Фюнеса шибко похожий (хотя сам из коренных беломорских поморов) поутру получает радиограмму, а в ней говориться, что траулер наш под фрахт пойдет к датчанам на период летнего рыбного промысла. Экипаж мол наш остаётся, датчане же не дураки — русская рабсила она завсегда ценилась и работать умели (чтобы там не говорили) и стоит не дорого — по их понятиям считай даром.
Ну экипаж, как узнал — возрадовался. Это же удача то какая под фрахтом у капиталистов поработать. Да на материке, чтобы под этот самый фрахт попасть надо хитропопейшим жуком быть и нужные знакомства иметь и нужных людей из рыбного министерства (не меньше) уметь крутым заморским презентом растрогать. А всё почему, да потому, что простой матрос за полгода иной раз тысячу долларов получал, а капитан порой и больше двух тысяч зелёных американских денег.
На штурманца этого молодого после того, как он судовую обшивку ниже ватерлинии в стиральную доску превратил, с айсбергом поцеловавшись, поначалу экипаж злился. Ну как-же заработка лишил. Сиди, мол, теперь в ремонте. А тут получается, что своим расфиздяйством он удачу экипажу принёс. Прям не пацан, а талисман. И ведь будущее показало, что Витька Шептицкий и взаправду редкий удачник и как рыбак и вообще по жизни.
Меня капитоша наш Ромуальд тогда в толмачи-переводчики произвел. Для датчан немецкий язык (уж не знаю, как сейчас), что второй родной был. А я то по германски свободно шпрехаю ещё с войны, со школы юнг. Нас старшина Зельдович сурово по языку гонял — сто слов за неделю не освоишь, месяц без увольнения просидишь и девок поселковых на танцах в клубе не пощупаешь. А после войны я еще служил три года и с немцами пленными вдоволь напрактиковался. Помню даже Лили Марлен на праздник первомайский певали. Слава богу до особиста не дошло, а то ведь оприходовали бы дурачка-морячка на Колыму за такую солидарность трудящихся.
Вызвали нас с капитаном в сопровождении представителя Министерства рыбхоза в датский офис, частной конторы, фирма по ихнему, артель значит. Называлась она «Урсус» и герб у них был — белый медведь на задних лапах с огромной рыбиной в обнимку, чуть не с него ростом и держит он её как-то странно, будто целует. Оттого создается такое неприличное впечатление, что мишка этот вроде-как рыбу с медведицей перепутал и вот вот её болезную оприходует, как дельфин русалку.
Поговорили мы с датчанами. Этот в фетровой шляпе из министерства нашего рыбного всё со своим, как-бы, английским встревал: «Тел ми плиз, да тел ми плиз». У датчан от него аж зубы заныли — такой нудник, ведь подробностей не догоняет, зато имеет право главной подписи в контракте с артелью этой «Урсус». Я и перешел на немецкий к их датскому удовольствию и выяснилась одна интереснейшая подробность. В контракте том указано, что минимальная месячная зарплата (без премии) «фишарбайтера», по нашему матроса-рыбообработчика, ты не поверишь — 750 американских долларов, а с премией до полутора тысяч и еще 1750 долларов каждому на пять ежемесячных заходов в порт, по трое суток на заход, для отдыха экипажа. И при этом питание и одежда за счёт «Урсуса» этого.
И вдруг эта шляпа министерская как давай руками махать: «Что вы, что вы мистеры! Ноу, ноу, итс импосибл! Тут в контракте сказано, что наши советские моряки будут от представителя „Урсуса“ все деньги ежемесячно кэшэм, то есть наличными получать, поскольку личных банковских счетов у них, как ни странно, не имеется. Однако я, как представитель советской договаривающейся стороны настаиваю на том, чтобы деньги экипажу выдавал наш советский гражданин, в противном случае суммы выплат экипажу нам категорически не подходят!»
Ну как ведется из всей его речи на министерском инглише датчане хорошо поняли только последний пассаж, ну и зачесали затылки свои рыжие да белобрысые. Что же говорят мы пожалуй согласны, что наша бухгалтерия проявила так сказать излишнюю экономию на выплатах советским морякам и мы, мол, сходу согласны поднять ежемесячный минимум до 1000 долларов американских, но более не цента.
А шляпа опять руками машет: «Вы не совсем поняли. Для нас главное, чтобы всю сумму заработанную экипажем наш советский представитель получал, вот он всё советским морякам и заплатит, как положено по нашим советским законам. А если вы категорически не согласны, тогда наша советская сторона просит уменьшить ежемесячный минимум зарплаты моряка до 250, нет даже до 200 долларов США».
Тут то у принцев наших датских челюсти и отвалились. Товарищ этот министерский в натуральный шок ввёл проклятых капиталистов, озадачил их не по детски. А те когда в себя немного пришли, то обратились ко мне за повторным переводом, дескать что-то мы несмотря на замечательный английский советского господина не совсем «андестенд». Я им всю диспозицию этого министерского херра в шляпе по немецки и повторил, а у самого аж скулы сводит, как я себе и друзьям своим прошу заработок урезать, чтобы господа капиталисты на нашем брате советском работяге побольше прибавочной стоимости поимели.
Тут один пожилой датчанин, как потом оказалось вице-президент артели этой рыбье-медвежьей «Урсуса» и говорит эдак с волнением датские, немецкие и английские слова мешая, но вообщем понятно. Я, говорит, потомственный марксист-социалист, еще дед мой лично знал товарища Каутского и ценности социализма, говорит, во многом разделяю. А то, что предлагает уважаемый советский товарищ имеет отношение не марксизму-социализму, а скорее к кретинизму-идиотизму, так и сказал — идиотие, глупость по немецки.
По законам, говорит, датского королевства заработок работника выплачивает непосредственно фирма- работодатель и всяческие посредники запрещены, дабы не было махинаций и уголовщины. И вообще Урсус честная фирма и работают в ней честные предприниматели, которые простых честных тружеников моря обсчитывать и обманывать не приучены. И вообще, да будет вам известно, что основатель предприятия Урсус Симсон, 120 лет назад начавший дело с одним рыбацким баркасом «Глад Дракар», имел почётное прозвище честный Урсус, а посему и нынешний Урсус честный и уважаемый торговый знак и работает на него честный и компетентный персонал, который простых и честных тружеников моря обсчитывать и обманывать не приучен. Говорит, а у самого аж кожа на голове под седым бобриком от негодования покраснела. Сильно зауважал я тогда капиталиста этого.
Тут капитан наш Ромуальдыч вмешался. Хоть и росточком не вышел, а умом бог не обидел. Отвёл он эту шляпу в сторонку и тихонько эдак советует: «Вы, дорогой товарищ, на компромисс пойдите». А тот долдон отвечает: «Какой, дескать, может быть компромисс с министерской инструкцией. Мол, в инструкции этой сказано, что согласно закрытому постановлению ЦК КПСС месячный заработок в иностранной валюте для рядовых советских работников за границей не может превышать 250 долларов США. Почему, да потому, что у ЦК распоряжений не уточняют, а берут под козырёк».
Ромуальдыч опять за своё: «Да вы на компромисс пойдите не с капиталистами-социалистами этими или не дай боже с инструкцией ЦК, а с экипажем. Договоритесь с моряками, что после получения месячного довольствия в 750 долларов 500 из них они будут возвращать вашему представителю c письменной гарантией возврата в рублях по гос. курсу. Это же ежемесячная прибавка к рейсовой зарплате в 380 полноценных ярких советских рублей, а не долларов там каких то серо-зелёных. Какой же дурак откажется».
Сдвинул министерский шляпу на лоб, зачесал в затылке. А ведь дельное предложение, нам работникам министерства премию за экономию валюты выписывают в чеках Внешторгбанка и если дело выгорит, то сэкономим мы Родине 15000 серо-зелёных в месяц или 90000 за полгода, а это чревато уже не премией — благодарностью от ЦК, что посерьёзнее любых денег. Вообщем ударили все по рукам и контракт с этим честным Урсусом подписали. Знать бы мне тогда, что ждёт меня впереди теплое знакомство с настоящими гренландскими урсусами.
Глава 11. «Таинственный остров»
Заслушался я нашего судового «шахерезада» (шутка рыжего) и даже подскочил на перекладине трапа от неожиданного звука, донесшегося сверху из нашей штурманской рубки. Звук был такой, какой издаёт велосипедный тренькающий звонок, только гораздо резче, явно рассчитанный на удар по нервам вахтенной службы. В то же время на сигнал судовой тревоги он не походил совершенно. — «Что это там?» — Встрепенулся Бронислав Устиныч и по скобам приваренным к металлу судовой надстройки ловко и быстро забрался на левое боковое крыло капитанского мостика, откуда толкнув массивную дверь вошел в рубку. Я не удержался от соблазна и последовал его примеру. Выражаясь литературным штампом, в рубке царил таинственный полумрак. Неяркий свет исходил только от небольшой лампы на подвижном креплении над штурманским столом. Траулер наш, как я уже говорил помещён был под скалистый навес в подобие каменного грота, словно игрушечная модель в полуоткрытую пасть исполинского изваяния неведомого каменного зверя. От того в пределах нашего судна было достаточно темно.
Наружный естественный свет, несмотря на молодой полярный день, яркостью нас и наш остров тоже не баловал. Недавно пронесшийся, необычный для этого времени года ураган Кашуту, разогнал было облака и дал погулять полярному солнышку, но уже менее чем через сутки северные широты напомнили о том, что мы не у Санта Крус де Тенерифе, а у немного другого острова и небо вновь заволокло привычной серой пеленой низких облаков.
Итак в штурманской рубке что-то происходило. Когда я перешагнул через комингс (высокий порог на судне) и вошел внутрь, неприятное треньканье внезапно прервалось, это второй штурман Алексей Иваныч щелчком выключил звуковой тумблер донного эхолота. Только-что прекратившиеся звуки издавал мой старый знакомец, тот самый с силуэтом субмарины на светящейся застеклённой панели самописцев и тот самый, который вдохновил краснолицего норвежского великана майора Свенсона на не бесталанное, хотя и короткое исполнение музыкальной фразы о жёлтой подводной лодке.
«Ты прикинь!»- с удивлением и тревогой в голосе заговорил вахтенный штурман Алексей Иваныч. — «Решил я, как положено на стоянке донник прогреть, самописцы там протестировать, ну всё как обычно. Включил, ну думаю пусть пока покапает, постучит по дну, пока я на вахте. Ну он у меня всегда включен, люблю этого старичка, он мне нервы успокаивает своим БИП-БИП, бибикает как наш первый спутник. А он вдруг взял и растренькался, как велосипед почтальона».
— Я с ним в эксплуатации не первый год и не разу такого звона не слышал. он когда под ним косяк рыбы проходит, свое БИП-БИП учащать начинает и чем плотнее косяк, тем чаще. Но главное, мать его ити, ты глянь что он самописцами начертил, сколько туши извел. Штурман с боцманом с озадаченными лицами наклонились к зеленоватому свечению экрана донного эхолота. Я охваченный неуёмным любопытством молодого кота, привлечённого таинственным шуршанием, тоже, привстав на цыпочки полез глядеть на художества самописцев через спины впереди стоящих.
— «Ты ещё мне на шею влезь, гусь лапчатый!»- нервно дернув лопатками пробурчал второй помощник. Однако мне удалось разглядеть освящённый экран, где весь низ листа части плотной бумажной ленты, рабочего поля самописцев был сплошь покрыт чёрной лоснящейся тушью. «Если это косяк,» — усмехнулся он — «то не иначе рыбка нашла себе бочку на несколько тысяч тонн, упаковалась в неё и таким манером путешествует». — «А что здесь под нашей шхерой и вправду глубина около двухсот метров?» — c удивлением осведомился боцман. — «Такое бывает» — ответил штурман — «остров то древним вулканом образован, где то были разрывы дна, взрывы при выходе раскаленной лавы в морскую воду, отсюда резкие перепады глубин на береговом шельфе».
— «Ну, что тут у вас опять за хрень?» За нашими спинами тучный, раздражённый и одышливый, стоял, выставив вперёд седую кудлатую бороду, наш невезучий капитан Дураченко. Вахтенный штурман принялся объяснять диспозицию, правда уже без всяких эпитетов. Владлен Георгиевич слушал с заметно возрастающим вниманием. — «А ведь это господа-товарищи вполне возможно наша удача под нами проплыла и где-то рядом таинственно пристроилась» — Проговорил он с новой надеждой в голосе. — «А ты, что здесь забыл?» — капитан посмотрел на меня через плечо и махнул рукой в сторону выхода. — «Иди к трапу, вахту неси». — В его интонациях уже не было ни злости ни раздражения. Я спустился вниз на своё вахтенное место. Через небольшое время ко мне вновь присоединился боцман. — «Так что это было?» — нетерпеливо прервал я затянувшееся, как мне показалось молчание.
— «Наутилуc!» — Устиныч усмехнулся в седые усы. — «Ты что Жюль Верна не читал? „Таинственный остров“ помнишь? Ну, так тут у нас под Медвежьим крылом одно к одному приключение происходит». Боцман пребольно хлопнул меня по плечу тяжелой лапой. — «Осталось только дождаться явления капитана Немо» — Несколько раздосадованный неуместными, как мне показалось шутками, отметил я. Устиныч перестал улыбаться и посмотрел на меня с прищуром, что выражало у него работу мысли. — «А знаешь парень, ты ведь и сам не понимаешь, что возможно случайно попал сейчас в нужную щелочку». Я уставился на него озадаченно. С идиотским выражением морды-лица верблюда, случайно взглянувшего на себя в зеркало. — «Я тебе больше скажу, сдаётся мне, что явление капитана Немо на его таинственном острове уже состоялось и мы его попросту не заметили».
Напрасно я пытался разговорить боцмана о том, к чему пришёл их тройственный совет, происшедший на мостике. Устиныч молчал так, как не молчал бы, будь он на самом деле тем старым говоруном, каким мог иногда казаться.
Его шутка о таинственном острове, Наутилусе и капитане Немо мне ничего особо не прояснила и вообще показалась на тот момент пустым снисходительным трёпом бывалого морского бродяги с наивным салажонком. «Оставь малый» — добавил он без улыбки — «Во первых со временем сам все узнаешь, а если и чего не узнаешь, стало быть так оно и положено. Знаний не почину не унести дурачину. У тебя сейчас детское любопытство в розовой попе играет, а станешь старше поймёшь, что есть информация случайное обладание которой равносильно удовольствию обладания гранатой с вырванной чекой в закрытой комнате».
— «А чего эскимоски и урсусы нам больше без интересу?» — перешёл он на свой обычный говорок и сразу превратился в привычного и от того более симпатичного мне Устиныча. Расценив моё надутое молчание, как сдержанное одобрение к продолжению эпических повествований своей гренландской Одиссеи, боцман без промедления этим и занялся. — «Помню, что когда вернулись мы на судно капитан наш махонький и дядя этот министерский в шляпе порешили провести общесудовое собрание экипажа. Ни как и ожидалось от наших неизбалованных работяг все их предложения по поводу валютных выплат прошли, как говориться „На ура“. Тем паче, что начальство как правило не делает предложений от которых можно отказаться. Министерский, довольный тем, что всё прошло гладко распорядился выдать положенную валюту для отдыха экипажа в порту захода из расчета 2,5 доллара в день для рядового состава на десять дней стоянки».
Выходило 25 долларов на одну забубённую матросско-мотористскую личность. Это же было в конце шестидесятых и американская деньга побольше весила да и товар всякий колониальный вроде джинсов-техасов (штанов этих ковбойских по которым нынешний молодняк с ума сходит) на этот четвертной можно было сторговавшись в лавке с хозяином целых две пары купить. Как получишь свой паспорт моряка, да за кордон сходишь первый раз сам всё увидишь и всё пощупаешь, хотя последним не увлекайся…
Я вон тогда пару купил себе для работы, (им же как робе сносу нет) так в Мурманске заведующий складом такелажным Вахтанг Шавлович, как узрел меня в них, так прицепился хуже рыбы-прилипалы: «Как брата» — говорит — «прошу, продай „Ливайс“. Cын день и ночь клянчит, с ума свёл». Я отвечаю: «Ты чего Шавлович? Они мной второй месяц ношены-переношены, все в краске-сурике». А он мне: «Ничего, в скипидаре — растворителе отстираю, линялые даже моднее. Устиныч бери 100 рублей, а то умру от темперамента. На твоей совести будет, батоно!» «Ну я же не фарцовщик-барыга какой, денег не взял, а на складе у Вахтанга такелажем дифицитным разжился, такелажными блоками лёгкими немецкими, ГДР-овскими. Так о чём это я?»
Боцман потряс стриженной седой головой, как бы ставя мысли на место. Мне на миг показалось, что он сейчас не так уж увлечён собственным повествованием, что свойственно всем хорошим рассказчикам. Скорее его все ещё занимало недавнее странное происшествие с донным эхолотом, а точнее загадочные показания его самописцев. — «Ну я и говорю. К вечеру получили мы от начальства на руки паспорта моряков и положенный инструктаж о поведении советских моряков за границей, на берег гренландского Готхопа сошли как в песне одиннадцать советских моряков».
Тут я, как автор, должен кое-что пояснить: По правилам, разработанным компетентными органами, советские моряки за границей во избежании ЧП, должны были передвигаться по территории заграничного порта захода в группах по пять человек. Назначался и старший группы, который отвечал за всех, как впрочем и все отвечали за каждого.
Если в группе что-то случалось или не дай бог кто-то становился невозвращенцем (просил политического убежища), то по полной программе получал (не считая капитана) прежде всего старший группы, вплоть до лишения права на заграничные рейсы на многие годы, а то и пожизненно, а в худшем же случае несчастному старшему грозило увольнение с флота с волчьим билетом, что было равносильно запрету на профессию. Не в чём не повинные члены проштрафившейся пятерки, как правило лишались загранрейсов как минимум на три года.
Помню, как в отделе визирования в комнате получения паспортов моряка для заграничных рейсов, висел, потрясший меня плакат-памятка, где кроме длиннейших списков книг и записей рокгрупп, запрещённых к ввозу в СССР находился и список моряков, наказанных пожизненным запретом выезда за границу. Причина — неумышленная порча загранпаспорта (паспорта моряка) и подробности «тяжких преступлений» — У одного двухгодовалая дочка разрисовала папин паспорт цветными карандашами, у другого жена не проверив карманы мужа (хорошая жена) постирала паспорт с вещами…
Когда я получал свой паспорт моряка на собрании-инструктаже выступал солидный, убелённый сединами офицер-особист, курировавший Мурманский рыбфлот. Он нёс нечто. По его патриотическому мнению выходило, что поскольку загранпаспорт красного цвета, то он является священной частицой знамени советской Родины, а за утрату знамени на фронте расстреливали. В наше же «доброе время» всего лишь навсегда закрывают загранвизу, хотя лично он ставил бы к стенке и как говориться — «недрогнувшей рукой». Здесь этот садо-златоуст сделал паузу, заставив потенциальных «смертников» вяло поаплодировать. Мне представилась поставленная к стенке двухлетняя крошка с цветными карандашами в руках, посягнувшая на «частицу Знамени». Этот пассаж, как мне известно повторялся многие годы и всякий раз при вручении паспортов очередной группе моряков. Начальству этого патриотически настроенного идиота наверняка были известны его лирические отступления, однако никто не нашёл нужным его вразумить. По принципу «Себе дороже».
Глава 12. «Нуук»
Я оставил моего доброго приятеля боцмана Бронислава Устиныча в тот момент его гренландских приключений, когда он произнёс фразу: «На берег гренландского Нуука (Годхоба) сошли, как в песне одиннадцать советских моряков. Кстати тогда» — продолжал боцман — «клеша снова в моду входили и мурманские менты частенько именовали наших морячков клёшниками. И опять, как в песне, идём мы большой, тёплой компанией по Нууку. „Идём сутулимся по узкой улице, а клёши новые ласкает бриз“. Лето как никак, хотя и полярное».
Особых достопримечательностей не замечалось, да и городом это трудно назвать, скорее посёлок. Одна улица, дома всё деревянной постройки в один, два этажа. Более всего этот городок Нуук походил на города Дикого Запада из американских вестернов. Складывалось такое смутное впечатление, что из ближайшего салуна вот-вот вывалится компания подгулявших ковбоев в широкополых шляпах и начнет от избытка своих ковбойских чувств палить в воздух из огромных длинноствольных кольтов. Однако смотрим в низине новостройка — длинный дом на сваях, пятиэтажный и современный из стекла и бетона, прям дворец посреди хижин.
Хотя главное отличие пожалуй было. Как и наш родной заполярный Мурманск располагался этот Нуук (Годхоб) не на равнине, а на самых натуральных, привычным нам северянам сопках. От того, как и наш Мурманск (правда Мурманск, что Нью-Йорк по сравнению с этим городком) был покрыт этот Нуук широкими крутыми лестницами, как корабль трапами. Так, что особо не нагуляешься по лестницам этим, да и воздух, как и в наших высоких широтах малость разряженный. Кто постарше эту нехватку кислородную через свою одышку быстренько ощущал. А нам молодым всё это не мешало и лестницы мы эти перемахивали без одышки, как у себя дома.
Идём мы себе и навстречу разный народ местный. Датчан-европейцев много, в основном понятно — мужики, но и дамочки попадаются. И те и другие одеты по мужицки в штанах-джинсах по летнему делу, да куртках-кухлянках или брезентовых алясках, собачьим мехом подбитых. Эскимосы те с фантазией. Смотрим — сидит на крыльце бабка, длинным чубуком дымит, на голове платок пёстрый, китайский с драконами и сверх того советская полковничья папаха из серой мерлушки. Пригляделись, а на папахе той сзади ценник с надписью ВоенТорг. Ну говорю, ребята, не первые мы тут, не первые.
Да уж какие там первые, выруливает из-за поворота и прёт на нас, подпрыгивая на ухабах, кто бы ты думал. Нет не иномарка какая-нибудь, а новенький наш Москвич 412. За рулём раскосый парень лет 25-ти. Машина несётся километров под 100 и это не германский автобан какой-нибудь, нормальная ухабистая дорога. Гляжу, мать моя, на дороге, прям посредине дитё местное в пыли копошится, годов двух не боле. Ну думаю — пропадёт карапуз, сшибёт его лихач этот. Ну и как-то само собой получилось, скакнул я как кенгуру австралийский метров на пять вперёд, ребёнка схватил и вместе с ним сальто-мортале изобразил. Вместе в сторонку и укатились.
Дитё перепугалось, орёт. Народ из домов выскочил. Мамка непутёвая малого своего у меня выхватила и бежать, да и наши все подоспели, суетятся. А этот автогонщик нуукский на Москвиче, он не затормозил, нет. Понимал видать, что его на такой скорости занесёт и по инерции и перевернёт вверх колёсами. Он и впрямь водилой классным оказался, управляемый занос мастерски исполнил и машину плавно кормой вперёд поставил. Ну я сгоряча мастерства его не оценил, обложил трехэтажным по матушке при всём гренландском народе.
Парень этот понял, что ругаюсь я и в душу и в мать, да и тюлень бы понял. Стал он умиротворяющие жесты делать — успокойся, мол, и говорит что-то. Сначала на английском, потом на датском Поостыл я малость, как-никак родная душа — полиглот эрудированный, не дикарь какой. Спрашиваю на удачу — Шпрехен зи дойч. А он мне в ответ: «Я! Я! Натюрлих!» Тут я от умиления совсем успокоился. Похлопали мы друг друга по плечам и начал я общаться с жителем столицы гренландской города Нуук
«Оказывается наша русская слава не миновала и такой беломедвежий угол, как столицу эту эскимосскую Нуук-Готхоб,» — продолжил, испивший любимого индийского чая со слоном, Бронислав Устиныч. Представь себе, пригласил меня мой новый приятель по имени Миник, так он представился, новое знакомство отметить. Подходим мы с ребятами к местному заведению с новым другом. Салун, как салун прямо из вестерна, а на нём, ты не поверишь, хоть и белый день на дворе, вывеска неоновая сине-голубая мерцает и буквы наши русские.
Написано там Гагарин, только в конце вместо русской Н, латинская N присобачена. Заходим внутрь — обычный кабачок, чем то на наши мурманские «Полярные Зори» смахивает, только столы без скатертей и не пластиковые, как у нас, а как есть солидные из морёного корабельного дерева. Дизайн такой. Слово такое новомодное, ты мне напомни, я потом объясню, что оно значит. Заходим мы с нашим провожатым всей честной, клёшной компанией, глядим — «Твою маман!» портрет на стене метровый и на нём Юра Гагарин в русской рубашке и улыбается своей улыбкой, солнышко наше.
Фото цветное, увеличенное и в углу автограф, как положено. Сели мы за стол деревянный, длинный такой со скамьями, как в деревнях наших, все уместились. Официант пиво принес, отменное — датское, куда нашим жигулёвским. Ну наш знакомец встал и тост произнёс короткий: «Кашута!» Я то подумал, что-то вроде нашего — «За здоровье!» Ан нет, как Миник потом объяснил, это пожелание мужчинам удачной охоты. Так, что американцы обмишурились, когда циклон Кашуту пьяной эскимоской выставили.
Как выпили мы за дружбу советских и эскимосских рыбаков, Миник мне доверительно так и говорит: «Рони, (это он меня так из Брониславов перекрестил) просьба у меня к тебе, пока вы в Гренландии, пожалуйста не называйте мой народ Эскимосами. Мы калааллит — люди. А эскимос — ругательство, означает, пожиратель сырого мяса. Мы и в самом деле никогда сырым мясом не брезговали, но слово для нас звучит оскорбительно. Как ты для меня теперь близкий друг — ааккияк, то сделай, как прошу».
«Я, говорит, хочу видеть тебя братом, а потому приглашаю тебя поохотится со мной и с братом моим по имени Нанок, что значит медведь. Пусть будут тому свидетели Килак и Имек — небо и вода, а так же эти большие сильные мужчины, твои братья, поскольку ты с ними много раз охотился на славную большую рыбу в диком холодном море». Красиво сказал, почти как грузин. Беда, что кроме меня его гренландско-кавказское красноречие, исполненное на языке Гёте и Шиллера никто из наших не оценил. Я то конечно перевёл, но это всё одно, что Баха напеть. Одно стало понятно — гренландцы-калааллиты народ весьма красноречивый и дружелюбный.
А что? Cпрашиваю я и на потрет Юры Гагарина киваю. Неужто когда первый космонавт Земли, после подвига своего вокруг света путешествовал и к вам калааллитам в Нуук наведался? Он смеётся, нет говорит. Я мол, тогда в Дании в Университете учился, а Ури (они так Юрий произносят) в Копенгагене королевскую семью навещал и на приёме во дворце меня ему представили, как самого лучшего студента самой большой датской провинции самого большого острова на глобусе. Гагарин улыбнулся и сказал, что видел из космоса Гренландию и что она самая белая и чистая страна на планете и сверкает под облаками словно королевский бриллиант. Миник по пути во дворец в газетном киоске открытку с Гагариным в русской косоворотке купил, вот Юра ему автограф и подписал.
А когда год назад дядя Миника получил лицензию на открытие заведения, то племянник ему идею с названием и подбросил. Вывеску в Дании заказали, да там с буквами напутали, ну не переделывать же из-за одной буквы. Дорого, долго да и далековато будет. Что скажешь, вздохнул Устиныч, капиталисты, деловые ребята, портит людей мир чистогана.
Глава 13. «Два капитана»
— Хей, watch! Алеу! — услышал я знакомый голос сверху, со стороны военного борта. Я было подскочил от неожиданности, поскольку увлечённый мастерством седоусого рассказчика к тому времени совершенно переместился в суровую экзотику далёкой Гренландии. Подняв голову я увидел, как вы уже догадались незабвенного дорогого дядюшку Свена Бьернсона собственной персоной.
Командир корвета был облачен в куртку тёмного хаки с поднятым, по случаю назойливо моросящего дождя капюшоном, из под которого выпячивалась высокой тульей наполовину скрытая офицерская морская фуражка. Сверкнул золотом на красной эмали краб-кокарда — позолоченный якорёк увенчанный королевской короной. Изображение символа норвежских монархов заставило меня внутренне улыбнуться — припомнился недавний разговор с юной принцессой Ленни Бьернсон в тесной корабельной каптёрке.
«Сейчас без четверти пять». — взглянув на часы, продолжил майор по английски. «Есть срочное дело. Сообщи капитану, что я жду его в своей каюте. Вахтенный, кивнул он в сторону стоящего рядом по стойке смирно долговязого матроса, вас проводит». Меня, каюсь, пробрал детский овечий страх, других детских неожиданностей к счастью не произошло. Я вообразил себе не больше, не меньше, что предстоящий серьёзный разговор двух грозных капитанов пойдёт о моей скромной персоне, вернее о наших с племянницей Ленни вполне себе невинных, хотя и мезальянс отношениях.
Это был совершенно классический приступ Мании Величия, в народе именуемой Манькой Величкой. Эта зараза чаще всего цепляется к вшивым начитанным интеллигентам любого пола и возраста, отягощённым самоедским комплексом неполноценности и являет собой не что иное, как обратную сторону этого самого комплекса. Ещё я заметил по мере накопления личного опыта, что болезнь эта чаще предпочитает чудаков именно русской нации, вернее русских по духу. Ну много вы видели закомплексованных половозрелых американцев или каких иных нерусей. Нет ежели перед вами закомплексованный пациент с амбициями непризнанного гения, так это всенепременно или русский немец или русский еврей или какой другой русский. Впрочем это мнение субъективное и без претензии на конечную истину.
Я передал вахтенному штурману известие о том, что наш мастер Владлен Георгиевич приглашен на срочное рандеву командиром норвежского сторожевика «Сенья». Штурман потянулся было к трубке висевшего на переборке корабельного телефона, но тут из своей каюты поднялся на мостик сам Дураченко. Капитан не выглядел бодрячком, но и унылым его назвать тоже было нельзя. Он скорее походил на человека, ожидавшего какого то важного известия и наконец то его получившего. Однако оказывается, что известие это требует мягко говоря разъяснений, поскольку мало, что проясняет и даже ещё более «нагоняет туман».
Владлен выслушал меня и кивнул: «Что же пойду, отчего не пойти. Как родного в гости зовут. К тёще на блины, мля…» — «Тут вот, что ещё, Владлен Георгиевич» — замялся я — «Майор вроде сказал, что нас с вами вместе приглашает». Сказав это я почувствовал, что уши мои горят в полумраке штурманской рубки, возможно даже освещая некоторое пространство. Капитан взглянул на меня исподлобья острым взглядом битого и умного волка. «Много о себе мните, юноша» — едва заметно усмехнувшись в седую бороду, проворчал он — «В толмачи он тебя зовёт. Я ему боцмана сватал, дескать шпрехен зи дойч вери гуд знает, так он руками замахал: „Ноу, ноу. Он крэйзи. Я мол его вери гуд инглиш уже слышал. Пусть юнга переводит, хотя бы по сути понятнее“.
Мы с Владленом гуськом, как внучек с дедушкой поднялись по трапу на борт норвежца. Долговязый матрос, при ближайшем рассмотрении им оказался старина Йорик Скелет, оставив вместо себя другого матроса проводил нас в носовую надстройку к командирской каюте, месту встречи двух капитанов. Майор Бьернсон ожидал нас с открытой дверью и услышав шаги вышел навстречу. Он был облачён в явно неуставной белоснежный шерстяной свитер водолазку, который, как не странно шёл к его красному, обветренному лицу и стриженной ёжиком рыжей причёске.
— „Прошу садиться“.Хозяин каюты указал на небольшой, прикрученный к палубе полукруглый диван, обитый синим бархатом. Диван этот располагался почти в центре довольно просторной каюты. Три длинных больших иллюминатора с массивными броневыми заглушками напоминали о военном предназначении этого морского жилища.
Тут же находился небольшой, но весьма примечательный стол овальной формы. Вещь была явно антикварной и очень дорогой, такое мне приходилось видеть разве что в ленинградском Эрмитаже. Это была искусная инкрустация из разноцветного янтаря на мраморной столешнице. Янтарная мозаика изображала шведский королевский герб, знакомый мне по форме шведских же длинноволосых хоккеистов — увенчанный короной лев, стоящий на задних лапах в явно агрессивном расположении духа.
Майор вежливым жестом указал на блестящий металлический чайник с деревянной ручкой и две большие чайные чашки, затем поднялся и принёс из буфета открытую жестяную коробку с печеньем. Роскошный королевский лев с неодобрением косился оранжевым янтарным глазом на эти явно не аристократические чайные причиндалы. Однако чайник источал такой чарующий аромат, что Владлен Георгиевич не выдержал и смущённо кряхтя, наполнил наши с ним чашки. — „Я пригласил вас господин капитан“ — начал Бьернсон». «Чтобы сообщить пренеприятное известие» — машинально дополнил я про себя. «С тем, чтобы уведомить вас о ближайшем будущем» — продолжил он. «Через несколько дней ваше судно будет сопровождено в порт Трамсё».
Там вам предстоит стоянка, возможно длительная, не менее месяца. Вероятно и к сожалению вас может ожидать суд, впрочем это как решат вышестоящие инстанции. Советская сторона извещена о задержании вашего судна и как у вас принято выразила протест. Мой корабль по срочным причинам должен покинуть акваторию острова. Это произойдёт через, он взглянул на часы-хронометр, через 46 минут. А сейчас прошу сюда господин капитан. Я должен вас кое с чем ознакомить. Майор указал на противоположную сторону каюты, где находился высокий штурманский стол с картами и бумагами. Он жестом приказал мне оставаться на месте, а сам с Владленом подошёл к штурманскому столу.
Два капитана опершись на локти склонили головы над бумагами. Я же вынуждено пребывая в неведении и одиночестве незаметно для себя опустошил коробку с ванильным датским печеньем, когда я очнулся на дне коробки сиротливо ютились две печенюшки, покаянный стыд охватил мою душу, но было поздно. Минут через двадцать оба капитана отошли от стола и направились к двери. Я вскочил и последовал за ними. Дураченко преобразился, глаза заблестели знакомым азартным блеском. Спускаясь по трапу на свой борт он даже напевал что-то не совсем приличное про Гитлера с хвостом, пойманного под мостом из репертуара сорванцов конца сороковых годов. Мне же оставалось только гадать и мучиться в неведении: «Что же обсуждали два капитана и что так обнадёжило нашего Владлена?»
В назначенный срок корвет «Сенья» отшвартовался от скалистого причала тайного фьорда, развернулся на выход и покидая нас дал на прощанье два длинных и как показалось тревожных гудка. Наш работяга «Жуковск» остался в гордом одиночестве под нависающими скалами «Медвежьего крыла». Капитан через боцмана вызвал к себе в каюту старшину Толяныча где уже находились старший и второй помощники. Я же находился в прострации, вызванной, как нетрудно догадаться злой судьбой, столь бездарно и жестоко оборвавшей мои романтические отношения с юной принцессой Ленни Бьернсон. В душе моей звучали печальные, а порой и траурные мелодии в диапазоне от Полонеза Огинского до моцартовского Реквиема.
— «Die Leiden des jungen Werthers» — услышал я за своей спиной. Такой хох дойч, без малейшего русского акцента мог выдать на судне только один человек. — «Невозможно без рыданий видеть страдания молодого Вертера» театрально закатив голубые зенки и воздев длани в направлении высших сил, продекламировал Эпельбаум. Мне же несмотря на терзающую душу вселенскую скорбь удалось выдать в ответ более талантливую тираду, в которой я не стесняясь в выражениях пожелал истинному арийцу противоестественного группового любовного экстаза с покойной Эльзой Кох, Евой Браун, а так же всей нацистской гоп компанией во главе с незабвенным Адди.
— «С Евочкой было бы не плохо под винцо — либер фрау мильх, а старичков-нациков прошу исключить — несексуальны-с, найн унд найн майн либэ юнге. Короче, страдалец, тебе пакет от предмета грёз». Рыжий протянул мне белый почтовый конверт, который был немедленно и судорожно схвачен. Конверт был кем то вскрыт и сиротски пуст. — «Издеваться, пёс! — взревел я с неожиданными для самого себя интонациями Иоанна Грозного, почуяв непреодолимое желание немедленно удавить кощунника. Обалдевший от такого нежданного проявления моего темперамента Геша, успокаивающе замахал руками. — „Тихо, тихо параноик, можно подумать его оскорбляют в лучших чувствах. Времени у неё не было послания писать, на корму во время отшвартовки прибежала запыхавшаяся, кричит — „Дущка, дущка, дай это Влади, здесь мой дом“. Адрес это её, понял, зелень подкильная, пишите письма“.
— „Парни, Толяныч до кубрика зовёт“ — окликнул нас один из матросов.
— „Дело такое, братва. Дело серьёзное, хотя и мутное“ — начал Семен Анатольевич. Даже не знаю, как начать. Данные такие — влип наш мастер капитально, да и мы с ним. Влезли мы всем трудовым экипажем в грязное дело — политика называется. Владлен, конечно больше знает, да не распространяется и правильно делает. А из того, что он мне выдал и я вам всего не скажу.
Для общей пользы, повысил он голос, перекрывая возникший было ропот среди матросов. Дуракам объяснять смысла не вижу, а умные сами допрут. Короче островок наш Медвежий не так прост, с начинкой говорят островок. Когда мы под этим скалистым крылышком оказались, что первое в голову пришло? Шхера эта секретная, ни на наших, ни на их картах не обозначенная. Вопрос — зачем норги нас сюда затащили, зачем шхеру эту нам засветили? Вопрос без ответа, пока. Дальше — Владлен показал ночные показания донника, походу подлодка под нами прошла и подлодка не маленькая. Чья не известно. Одно ясно — под островом есть что-то вроде тайной базы».
Эта фраза Семёна произвела на кубрик сильное впечатление. Лица матросов выражали одновременно изумление, испуг и растерянность. — «Правильно понимаете, братва», понизив голос, продолжил старшина. «На данный момент тухлое наше дело. Нас вписали, как выражаются бывалые люди, в блудняк, чужую игру. Каждый год на морях-океанах исчезают без следа сотни малых и десятки больших судов. Не хочу вас стращать, но исчезни наш „Титаник“ вместе с экипажем, это будет наше личное горе и наших близких. Мировой сенсации не последует».
В этот момент наступившей напряжённой тишины поднялся, сидевший у выхода на ступеньках трапа непривычно серьёзный Эпельбаум: «Толяныч, до меня только сейчас дошло, в свете новых обстоятельств, как говорится. Мы когда с викингами праздновали, то Йорик Скелет перебрал шибко и когда я его спать укладывал вроде как бредить начал и какие то Сказки братьев Гримм понёс. Нёс то он по немецки, так что кроме меня никто и не понял. Говорил, что Медвежий не просто остров, а вроде как пирог с сюрпризной начинкой, вроде того, что норвежки с корабля преподнесли. Они в пирог монету серебряную запекли на удачу, так я чуть зуб не сломал об неё. Вот Йорик и хихикал, мол кто Медвежий пирог укусить пожелает, тот зубы и обломает. И главное, что он выдал, мол в пироге этом хитрые мышки завелись и норки в нём прогрызли, чтобы воздухом вольным дышать».
— «Спасибо, Гена»- кивнул старшина — «Как говорится ценная информация к размышлению. Кстати она подтверждает кое какие уже имеющиеся данные в этом ребусе. Значит так братва, шутки за борт».
Мы все здесь служили и все военнообязанные, поэтому по распоряжению капитана на судне объявляется особое положение. Единственный выход для нас действовать быстро, решительно и с такой наглостью на которую способно только наше русопятое войско. Думаю последнего они (при слове ОНИ Толяныч направил указательный палец вниз) ожидают меньше всего. Они опасны, пока в тени. Если удастся их засветить, хотя бы частично, то зачищать нас для них уже не будет иметь смысла, а банальной местью эти серьёзные ребята не занимаются.
«Дальше: ни водолазов, ни снаряжения у нас нет и поэтому вниз», старшина опять ткнул пальцем в сторону палубы, «вниз мы не пойдём. Мы пойдём вверх, „мышиные норки“ искать, озадачил он собравшихся. В общем так, братва — по случаю особого положения властью данной мне капитаном объявляю общий аврал по судну».
Глава 14. «Альпинисты»
Избитое выражение — «рояль в кустах», но, как говорят в Одессе — «Я вам скажу из жизни».Cамое странное, что этот пресловутый рояль и в самом деле оказывался (почти всегда) в нужном месте и в нужное время в наиболее критические моменты моей не бедной на не скучные события жизни. Первое, что пришло в голову, после заявления старшины о том, что он предлагает штурмовать отвесные скалы Медвежьего крыла, это вопрос — «Как?» Можно на автомате ответить — «Каком к верху» и это таки будет ответ, но ответ не серьёзный и не по делу. Дело же у нас было серьёзней некуда, поскольку речь шла о наших родных и любимых морских задницах, а они нам «были дороги, как память».
Старшина Семён Анатольевич и наш общий друг Бронислав Устинович, призвав в помощники мою незаменимую персону, все мы вместе направились в «Закрома Родины» — легендарную каптёрку под полубаком (носовой надстройкой) Это была каптёрка боцмана Друзя. Об этом скромном складском помещении на судне ходили легенды. Кроме пошлого «Закрома Родины». его так же называли «Пещерой Али Бабы». Между тем на этом маленьком складе никогда не было ничего лишнего, было лишь то, что могло вдруг срочно понадобится причём случайным и самым непредсказуемым образом.
Это был какой то мистический промысел (извините за каламбур) Ну по какому скажите странному совпадению заядлый альпинист старшина Толяныч перед самым отходом в рейс за громкую игру на гитаре был изгнан сварливой хозяйкой из съёмной квартиры вместе со старым рюкзаком и двумя пятидесяти килограммовыми баулами с новым альпинистским снаряжением, купленным буквально за сутки до этого. Снаряжение было заграничным и баснословно дорогим. Толяныч заказал его ещё год назад у одного крутого фарцовщика с крутыми же связями на чёрном рынке. По слухам старшина отдал за него стоимость половины Жигулей популярной тогда пятой модели в экспортной комплектации.
И ещё страннее, что боцман согласился взять на хранение эти, вообще то не отражённые ни в каких накладных вещи альпиниста, попавшие в Союз не всегда ясным путём. Судно объект режимный и даже не собираясь в загран. рейс постоянно осматривается на стоянке соответствующими службами, например пограничными нарядами. Тут могут возникнуть неприятные вопросы. К тому же, побывав под следствием по делу о мнимой растрате казённого имущества, Устиныч стал в таких делах, что называется пуганной вороной, которая как известно дует на воду.
Боже мой, чего там только не было в этих баулах. У Семёна азартно заблестели глаза, когда он принялся разбирать все эти веревки, обвязки, жумары, карабины. Подошли ещё двое ребят, товарищей Толяныча по альпинистским походам. Они заговорили непонятное — френд, маятник, шлямбур, Гри-гри, репшнур, оттяжка, восьмёрка, закладка, зацеп, кошки, такелажная плата. Всё это заграничное великолепие сверкало и переливалось праздничными цветами новогодних ёлочных игрушек.
Альпинисты принялись споро и деловито вооружать всю эту абракадабру — обвязку, привязь, спусковик. Но самое-самое невыносимо романтическое, неизгладимое впечатление произвели на меня роскошные жёлтые швейцарские ботинки фирмы Монблан.
В джинсах Монтана, размечтался я, замшевой куртке и в этих щикарных кедах да под ручку с моей норвежской принцессой. Я бы смотрелся истинным Аленом Делоном. Как говорится кто о чём..
Между тем не прошло и пары часов, как Семён начал свой подъём на скалы, под горячо-сочувственными и кровно заинтересованными взглядами всего экипажа, высыпавшего на открытую часть каменистого берега, справа от нависающего над гротом каменного козырька. Медвежье крыло представляло собой сложное скалистое образование с множеством участков, порой с отрицательным углом восхождения. Скалолазание здесь могло быть под силу только очень опытному спортсмену. Порой встречались места, которые проще было бы обойти, однако времени для этого просто не было.
Семён сноровисто забивал крючья и (или) вставлял закладки, в которые в свою очередь, вставлялся карабин. Один из стоящих внизу матросов, товарищей Толяныча по альпинистским походам, страховал его внизу на скальном причале, удерживая страховочный трос. Несколько раз Семён, вбивая крюк альпинистским молотком, или вставляя очередную закладку зависал вниз головой словно огромная летучая мышь в зелёной пластиковой каске.
Второй из друзей Семёна по скалолазанию, решив сменить страхующего, который несмотря на прохладную погоду успел изрядно взмокнуть от нервного напряжения, по ходу дела задал непонятный, видимо профессиональный вопрос. — «Как думаешь, по норвежской классификации не меньше семерки плюс будет?» — «Да тут вся восьмёрка плюс, если не девятка». — ответил первый. В этот момент, Толяныч, видимо подскользнувшись на влажном камне, сорвался и с криком — «Держи!», полетел со скал спиной вниз. Оба стоящих внизу альпиниста среагировали молниеносно, повиснув двойным весом на страховочном тросе, удерживая товарища от дальнейшего падения. Падавший тем временем успел мгновенно сгруппироваться и на лету зацепится правой рукой за выступающий из скалы камень.
Стоявшая внизу толпа в два десятка зрителей в начале падения Семёна синхронно-судорожно вздохнула — «А-А-Х!!» и через три секунды, после его благополучного зацепа за счастливый камень так же синхронно, но уже с явным облегчением выдохнула — «У-У-Х!!»
Спустившегося со скал старшину подменили двое его товарищей и уже сравнительно быстро по проложенному пути поднялись на скалы и продолжили восхождение вплоть до самых верхних уступов на высоте не менее ста метров. Здесь покорители Медвежьего крыла поднялись и выпрямились во весь рост. — «Справа и слева вершины метров по 400. Главную вершину видно, далеко совсем на северо-восток, тридцать- сорок километров. В трёх километрах узкая низина между скал. Сарай деревянный ближе к берегу, лодка перевёрнута. Рядом дед какой-то, сети чинит». — «Хорош парни». — ответил Сёмен. «Давайте вниз, не светитесь, не надо. чтоб вас видели». Мы с боцманом, рядом, как два разновозрастных неразлучника стояли подле старшины Семёна, упакованного в первязи альпинистского снаряжения. Стояли, готовясь принять на себя страховку спускающихся вниз скалолазов. — «Хреново, сказал Семён вполголоса. Походу нет здесь никаких „мышкиных норок“, не в Туапсе чай. Думать надо».
Неожиданно вскрикнул один из спускающихся альпинистов. Из под посверкивающей металлом подошвы его ботинка вывернулся огромный валун и полетел вниз, грузно ударяясь о встречные уступы скалы, выламывая массивные куски гранита. — «Обвал! В строну!» — Зычно крикнул старшина и кинулся прочь, увлекая нас за собой, на ходу подхватывая конец страховочной веревки, которую боцман впрочем не собирался выпускать из рук, так же помня о своём долге страхующего.
Овал был неслабый, поскольку в полминуты его буйства все ощутили толчки отдачи от падения огромных кусков гранита, словно толчки землетрясения средней силы. Однако стоящим внизу он вреда не причинил, поскольку основная масса камней рухнула на нависающий над нашим скрытным причалом козырёк — огромный скальный выступ.
Когда альпинисты, спускаясь почти достигли этого выступа, находящегося метрах в двадцати от земли, то оба дуэтом, словно гоголевские Бобчинский и Добчинский, развлекающиеся на досуге экстремальным видом спорта, оба вдруг в унисон заорали — «Ни хрена себе норки!!»
Наши покорители скал. издав дуэтом радостный вопль- «Ни хрена себе норки!!» спустились на широкий, нависающим над нами каменный козырёк, под которым находилась наша стоянка. Это было что-то вроде глубоко врезанного в скалы каменного грота в котором полностью помещался наш траулер. С правой стороны каменный навес обрывался и находился довольно большой участок каменистой суши, откуда наши скалолазы и начинали подъём и откуда оставшиеся внизу могли наблюдать за всеми их действиями. Однако значительная часть скал над каменным козырьком была скрыта для обзора снизу. Эта часть находилась на высоте примерно 20–30 метров над нами и именно там на козырьке находились спустившиеся вниз скалолазы.
— «Здесь норка метра полтора в диаметре, не для мышки, для мишки норка» — громко, чтобы услышали внизу объяснял один из них. — «По бокам, слева внизу и метрах в 7 справа дыры поменьше по полметра в диаметре» — добавил другой. — «Внутри темень, фонари нужны». — «Парни, мы вот, что сделаем, ответил снизу Семён. Погодите спускаться, есть мысль. Устиныч, у тебя запасной шторм-трап есть? Если два вместе связать, то удобная дорога получится». — «Ну, вздохнул боцман, раз пошла такая пьянка… Есть три по двадцать метров. Один новый и два бэушные, но крепкие, манильские». — «Ну боцман, рассмеялся старшина. Был бы ты девкой, я бы»… — «Чего ты бы, король морской — осерчал старый. — Женился бы на тебе, усатый, смеясь заключил, позвякивая альпинистской сбруей Анатолич». — «Ну, ежели законным браком, „тоды ой“, принимая шутку- юмора смягчился Устиныч. В кормовой малярке, под брезентом ещё два по 15 метров. Пользуй приданное женишок».
Я вместе с другими оставшимися внизу матросами организовали быструю доставку верёвочных лестниц. К месту действия подошёл и капитан Владлен Георгиевич со своей штурманской свитой. — «Ну что Анатолич, обратился он к старшине. Хорошее начало — половина дела. Информация наша, как цветные стёклышки потихоньку складывается в красивый витраж. Сейчас поглядим, что за мишкина норка там приоткрылась». Он покрутил пальцем cпираль по направлению к каменному навесу.
Через час наверх уже вела удобная, привычная для моряков дорожка, состоящая из трёх связанных вместе шторм-трапов. Капитан, не смотря на тучность, ловко и быстро вскарабкался по ним. За ним последовали Семён, старпом Савва Кондратьевичь и боцман. Оставшиеся внизу матросы, среди которых находился и я стеснялись недолго. Я подхватил два тяжелых переносных фонаря с аккумуляторной зарядкой и перебросив их на ремнях за спину, вместе с другими, сгорающими от любопытства и нетерпения моряками по одному отправились к свежеоткрытым мишкиным норкам
Мы поднялись на довольно обширное скальное плато, сплошь усыпанное битым щебнем и камнями различной величины, последствиями недавнего обвала. Здесь мне пришлось совершить неприятное для моей мнительной персоны открытие. Взглянув вниз я поперхнулся воздухом и с ужасом понял — у меня была подлая и мерзкая акрофобия — страх высоты.
Никогда прежде я не чувствовал подобного, поистине животного страха за свою шкуру. Я бывал в детстве и позже на крышах пяти и десятиэтажек вместе с другими мальчишками, было страшновато. но такого ужаса я не испытывал никогда. Захотелось лечь животом на острый битый камень, не шевелится и по возможности не дышать. а главное не смотреть, не смотреть вниз. Если бы был под рукой смертельный яд, то лучше бы принять его и умереть мгновенно, но только не ощущать этого мерзкого, удавьева чувства, ужаса выкручивающего душу словно уборщица половую тряпку.
Меня выручили злость и стыд. Стыд и злость иногда весьма полезны. — «Стоять, ССука! — заорал я на себя беззвучно. Любимец принцесс, мля!» Для пущего эффекта я двинул себя кулаком под кадык, закашлялся до слёз и под оторопелыми взорами товарищей стал понемногу приходить в себя. Тут я поймал пристальный взгляд старшины Семёна. Он улыбнулся мне понимающей и одобряющей улыбкой.
Мишкина норка и впрямь более напоминала вход в немаленькую пещеру, в которую можно было войти, правда с приличным поклоном. Две другие дыры так же были приличных размеров. но походили скорее на округлые отдушины и для прохода и даже прополза были маловаты. Я сбросил на камни, изрядно оттянувшие плечи тяжелые аккумуляторные фонари. Один из них при соприкосновении с большим плоским обломком ржавого цвета издал глухой, но отчётливый звук удара металла о металл. Я поднял этот обломок размером смою ладонь и потер о брезентовые штаны. Сквозь осыпавшийся слой ржавчины проступили рельефные латинские буквы — S NAV.
US NAVY, мысленно восстановил я надпись. Это был осколок американской авиабомбы.
Глава 15. «Пещера»
Зажав свою находку в мокрой от пережитого ладони я поспешил к группе моряков совещавшихся у пещеры. «Цемент, к бабке не ходи, бетонный раствор, причём разводили лохи, хреновый получился раствор, песка много». — толковал Устиныч, растирая пальцами тёмно-серый порошок, который за минуту до этого соскоблил пальцами с лежащего возле пещеры большого валуна, весом килограмм в двадцать. — «Может ты, Бронислав скажешь когда пещерку то нашу замуровали, хотя бы примерно — плюс, минус?» — осведомился капитан, прищурившись, что твой Ильич на картине «Ходоки у Ленина».
Боцман задумчиво пошевелил пышными усами: «Трудно сказать, потому, как замуровывали нору эту не раз, а как минимум дважды. Впервые давненько, лет двадцать, тридцать назад, потом кто-то частично разрушил кладку и восстановили её совсем недавно меньше трех, пяти лет назад. Причём восстановили не профессионально, раз достаточно было невеликого камнепада, чтобы все три кладки разом обвалились». Мне не терпелось заявить о своей, как я был убеждён, важной находке и я отважно пренебрегая субординацией влез в беседу старших.
— «Осколок вот нашёл от бомбы штатовской», — смущаясь выдал я, мучимый приступом врождённой деликатности. — «Опаньки!» — бурно обрадовался капитан, выхватывая у меня из руки теплую и влажную, потемневшую от пребывания в моей потной ладони железку. «Что и требовалось доказать. Ещё одно крупное цветное стёклышко в нашу ценную мозаику» — заявил он непонятное, пристально вглядываясь в ставшие вполне отчётливыми четыре латинские буквы «US NAVY» — догадался он без моего эрудированного участия. «А ведь пещера эта скорее след сил человеческих, а не природных. Пробоина это в скале от бомбы американской».
— «Так, теперь уже кое-что начинает прояснятся» — растягивая слова, произнес Устиныч. — «Во время войны в этих широтах не один союзный конвой с лендлизом прошёл. Американцы с англичанами в Мурманск оружие поставляли — танки, самолёты, орудия, боеприпасы. Продовольствия много везли, одной американской тушенкой все фронта считай обеспечивали. Наши её ещё „второй фронт“ называли. Язвили, значит. Мы мол в войне с Гитлером кровью и жизнями участвуем, а союзнички, мол тушёнкой».
Да и тушёнка та была не очень. Пол банки всего мяса, остальное жир. Только и союзники своё получали от немца. Из тех конвоев, почитай дай бог половина до Мурманска доходила. Остальные люфтваффе — ассы немецкие топили, да кригсмарине[2], в основном подводники германские, что в тайных местах базировались и в Норвегии и поговаривают в нашей Арктике. На Новой земле, вроде тоже в пещере, скелет нашли в мундире германском и бочки из под солярки со свастикой, где то там в гротах тайных немецкие подлодки и хоронились.
Тогда союзники решили конвои в полярный день не пускать, а дождались полярной ночи и аккурат 31 декабря 42 года здесь, чуток южнее острова нашего Медвежьего в Баренцевом море британец с германцем «Новогоднюю баталию» устроили. Немцами адмирал Редер командовал, а у англичан капраз (капитан первого ранга) Шербруг. Он в том бою глаз потерял, как адмирал Нельсон. Ну и порядком надавали фрицам. Конвой все танспорты целёхонькими в Мурманск привёл, а Редера того, говорят, Гитлер, чуть было самолично челюстями своими вставными не загрыз, когда бился в падучей.
— «Так-то оно так, только почему бомбу эту американскую на остров сбросили?» — поддержал разговор Семён «И когда cбросили?» «Полярной ночью особо не разлетаешься по тем временам. У немцев хотя бы аэродромы на материке были, а у союзников где? Да и далековато это от места того боя новогоднего. Кроме того конвой то был английский и с чего бы англичанам американскими бомбами кидаться».
— «Всему своё время, парни. Придёт время, всё прояснится и время это не за горами,» — загадочно и не без патетики закруглил затянувшийся исторический диспут капитан. «Фонари давай», — протянул он ко мне руку. — «Владлен Георгиевич» — обратился к нему Семён. — «Разрешите нам с ребятами вначале разведать. Незнакомые пещеры вещь опасная, а нам оно как-то привычнее». Освещая себе дорогу жёлтым лучом громоздкого фонаря, старшина осторожно двинулся вперёд. Двое его друзей, тихо позвякивая альпинистском снаряжением направились за ним.
Через каких-то полминуты, всё ещё видимая нами, недалеко ушедшая группа остановилась и послышался, отчётливый и словно усиленный мегафоном голос Семёна. — Здесь обрыв глубокий, темно, дна не видно, луч не достаёт. Давайте ещё фонари, света больше надо. Я бросился с оставшимися двумя фонарями вперёд. Скалолазы включили принесённые мной аккумуляторные фонари и скрестив три луча принялись сканировать светом этого мини прожектора, находящееся перед ними неизвестное тёмное пространство.
Мощности трёх фонарей явно не доставало, так что ни дна ни противоположной стороны их свет не достигал. Мы видели только ближние скалистые стены и метров пятнадцать в глубину отвесной пропасти. Луч света выхватил участок каменной стены, мелькнул ряд тёмных, параллельно расположенных полос. Прямо под нами находилась лестница из железных вбитых в гранит скоб.
— «Когда долго везёт, надо остановится и подумать — Не везёт ли это везение в ад». — изрёк китайскую мудрость, стоящий у нас за спинами боцман. Он тоже увидел лестницу из скоб, ведущую в темноту и это обстоятельство вдохновило его на конфуцианскую велеречивость. Капитан стоял рядом и успел оценить обстановку: «Вот что, мой мудрый боцман. Все идут вниз, обратно на борт и во главе с менее мудрым капитаном будут думать свои скромные думы. Заодно протянем сюда электро кабель и поднимем малый прожектор с мостика. Вы же с вашим учеником, юнгой-философом останетесь в уютной тьме на вахте у этого трапа, мотнул он бородой в сторону пропасти. Пофилософствуйте здесь пару часов.
И смотрите, чтобы здесь никакие приведения не шныряли. а то чего доброго напакостят тут, а нам расхлёбывай. Вот тебе оружие на всякий пожарный». Он достал из кармана необъятной куртки ракетницу и протянул Устинычу. Тот принял её со вздохом безысходности и уселся у каменной стены, напротив провала. Я последовал его примеру и примостился рядом.
Сидение в тёмной сырой пещере, да к тому же на острове откуда не так уж и далеко до Северного полюса, занятие не из приятных. Тот факт, что над этим суровым местом висит 24 часа в сутки полярное Солнце рядом с бледной Луной как-то тоже особого тепла не прибавляет. Утешала немного мысль, что зимой было бы куда неприятнее. Рассказ боцмана о его Гренландской эпопее в силу места действия тоже особо не грел. Устиныч остановился на том пафосном моменте, когда его новый приятель Миник пригласил на настоящую гренландскую охоту, которая по местным обычаям должна была не больше не меньше, как сделать побратимами вообщем то случайных знакомцев.
Однако чего в жизни не бывает и как сказал всё тот же рыжий Гена, возвратившись в родном порту на судно c огромным фингалом под левым глазом, будучи побитым и обобранным мурманскими ментами: «Всякий развлекается по своему».
Услышав зябкое постукивание моих зубов, Бронислав Устиныч сказал: «Ну вот что милый, пошли ка наружу. Там какое-никакое, а солнце. Пока же вот, глотни. Это я тебе как медик прописываю» — он протянул мне плоскую титановую флягу и шмыгнув носом добавил — «Нам сейчас ещё больных не хватало». Во фляге, как я почему то и ожидал было всё то же — виски «Катти Сарк». Владыка морей, благослови запасливых и главное щедрых боцманов!
Приложившись и сам ко фляге, вероятно так же из соображений профилактики простудных заболеваний, Бронислав Устиныч продолжил: «Знаешь, у небольших народов, имеющих крохотные, похожие на посёлки столицы есть масса своих выгод и преимуществ. К примеру все знают всех и все родственники. Когда я посетовал, что на столь важное мероприятие, как охота с моим будущим братом меня советского моряка попросту не отпустит начальство, то Миник только кивнул и сказал, что всё устроит. Я честно скажу не поверил, привык, что в нашем мире слова недорого стоят».
Утром вызывает меня капитан наш Ромуальд Никанорович, ну ты помнишь- махонький такой, которого мы со вторым штурманом (два лося рогатых) случайно на мостике зашибли. Это когда ещё Витька Шептицкий местный айсберг на таран взял и пароходик наш таким макаром в Готхоб — Нуук на ремонт отправил. Зовёт он меня в каюту и так торжественно, пошкрябывая бородёнку заявляет: «Для вас, Бронислав Устинович есть задание государственной важности».
«Высокое партийное начальство доверяет вам — беспартийному (цени мол) проведение важнейшего мероприятия политического масштаба. Так и сказал „Цицерон морской“. Вы направляетесь на трое суток укреплять мир и дружбу между советским народом и коренным населением острова Гренландия. Вы зарекомендовали себя как ответственного и в меру пьющего товарища. От себя добавлю — Бронислав не подведи, покажи товарищам чукчам, тьфу эскимосам настоящее советское воспитание. Вот тебе, 25$ командировочных, но особо не шикуй, будь скромен».
Выхожу я с мостика, спускаюсь по трапу, а у трапа Миник стоит, на капот своего зелёного москвича рукой опёрся и улыбается, что твой Элвис Пресли у розового кадиллака.
— «Гутен таг,» — говорит — «майне кляйне брудер». Шутит значит. Это он промеж своих эскимосов, то бишь гренландцев — калааллит высокий да статный, а мне мой новый друг-ааккияк в самый раз по грудь. Наклонился я слегка — поздороваться, а он тут странное удумал — ухватил меня рукой за шею и давай своим носом о мой шнобель тереться. Я аж взмок с перепугу, оттолкнул я его слегка: «Вас ист дас?» — Что это, мол, за шутки. Он смеётся, это говорит по нашему, по калааллитски просто приветствие. Давай, говорит, садись, поехали. А если с девушкой, тогда не так простецки, как сейчас, а совсем по другому нежнее и тоньше. Куда там, мол, вашим поцелуям. Наши носы умеют выразить в тысячу раз больше, чем ваши губы. Ну ничего наши девушки тебя быстро обучат. Взглянул на меня в зеркало заднего вида и серьёзно так добавил: «Если захотят».
А с командировкой этой охотничьей он так устроил. Оказывается в Гренландия уже тогда была что-то вроде автономной провинции в в королевстве Дания. И было у них кое-какое самоуправление и даже своё правительство местное, ну что-то вроде наших месткомов или собесов, я не очень вникал. И оказывается Миник (кореш мой новоиспечённый) не последний человек в том самоуправлении. К тому же один из его дядьёв не больше не меньше, как член правления фирмы «Урсус», той самой, которая наш траулер зафрахтовала. Дальше — дело техники. Позвонили нашему представителю из министерства, тому который в шляпе щеголяет и пообщались по деловому, мол для обмена опытом надёжный человек нужен из экипажа и чтобы какой-то из трёх языков знал: датский, английский или хотя бы немецкий. Всё просто.
Вот мы уже и в пути на охоту. Выехали за город, подъехали к какому-то ангару длинному. Миник ворота открыл, а там вездеход на гусеничном ходу. Тут он из багажника москвича достает ружьё в чехле, не новое, но ухоженное, германской фирмы Зауэр. Оружие двуствольное, вертикалка, с тремя крупповскими пересекающимися кольцами. Пока Миник вездеход готовил я к сопке отошел, ружьё пристрелять, благо патронташ он мне тоже выдал. Стрелял я ещё с войны неплохо, но гладкоствол особого пристрела требует. Пристрелялся по камешкам, всё ништяк — бьёт кучно.
«Сели мы в вездеход, поехали. Местность тяжелая, тундра, да скалы, трава редко, чаще мох. Растрясло с непривычки, я же не танкист какой, не дай боже. Долго ехали, всё на север и на север, часа четыре и всё время как будто в гору и снежных полей всё больше и больше. Вдруг ещё резкий подъём и выскакивает наш вездеход на ледяное, белое плато, покрытое волнами застывшего снега и как будто на море шторм был и волны эти какой-то чародей в один миг заморозил. Ох и красота я тебе скажу, Паганюха. Всё сверкает, как будто алмазы рассыпаны, даже глаза заслезились. Этого не передашь, это надо видеть. Что сказать — „Великое ледяное царство“».
Глава 16. «Штормтрапы на скалах»
Глоток другой шотландского виски под сводами полярных скал, а так же мастерство рассказчика моего напарника по пещерной вахте окончательно привели меня в состояние романтической эйфории и я, воспылав дружеским восхищением вослед одному не слишком романтичному историческому персонажу уже готов был воскликнуть: «Бронислав Устиныч, эта штука, эта ваша гренландская эпопея посильнее „Белого безмолвия“ Джека Лондона». Но… высшие силы не допустили такой пошлости.
Мы с боцманом вдруг явственно услышали звук. Он шёл снизу из этой тёмной мрачности или мрачной тёмности, это уже как кому нравится. В общем внизу, в чёрной глубине кто-то живой гулко и мощно рявкнул, затем раздались странные звуки, как-будто отряхивался мокрый, только что вылезший из водоёма гигантский косматый сенбернар. Затем неизвестный обитатель тьмы рявкнул ещё пару раз и затих.
Я всё это время сжимал в руке ракетницу, которую рефлекторно схватил, благо Устиныч положил её между нами. Рука у меня вспотела от внезапного шума, а точнее от испуга им вызванного, палец соскользнул на гашетку и… вылетела птичка. Грохот раздался такой, будто пальнули из пушки. Белая слепящая ракета ударилась о ближнюю скалу и рикошетом вернулась к нам с боцманом, слава Богу не попав ни в одну из целей. Затем началась какая то буйная огненная феерия с каскадами сверкающих искр и прочими фейерверками.
Поскольку это огненное шоу мы с боцманом не заказывали и платить за него уж точно не собирались, то не сговариваясь рванули к выходу под ободряющий мат Устиныча. Когда словно морские черти из чёрного жерла пещеры мы выскочили на поверхность, мой седоусый приятель, едва отдышавшись, произнёс сакраментальное: «Да Вальдамир, ты хоть и не боцман, но шутки у тебя боцманские».
— «Что это было?» — дрожащим голосом осведомился я. — «Привидение — дикое, но симпатичное — вспомнил Устиныч мультик про Карлсона». Скорее всего это была игра звука в замкнутом пространстве. В таком месте даже мышь может наделать шума не меньше слона. Cлушай, Вальдамир, а ведь у тебя просто какой то талант притягивать к себе всякие события, как у твоего тёзки Паганеля, тот тоже был магнитом для всяких, понимаешь, происшествий. Мы с тобой знакомы всего ничего — пару месяцев, а приключений вокруг тебя и нас соответственно, как в романе Жюль Верна, понимаешь. Вот мы с тобой в этой скале меньше пары часов просидели, а успели и привидение подземное приманить и фейерверком полюбоваться и всё твоими молитвами.
Ладно давай посидим снаружи, солнышко северное худо бедно, а греет. Если не в тени то почитай градусов 15–18 будет. А знаешь ведь там на ледяном панцире гренландском даже загорать в полярный день можно и загар такой бронзовый, получше чем в Ялте или на Канарах. Мы, как на ледяное это плато с волнами снега застывшего на вездеходе то выскочили, так я, скажу тебе, просто ослеп от белизны, да ещё кристаллы ледяные на солнце сверкают, так, что глазам больно. Есть такая штука — снежная болезнь, когда роговица получает солнечный ожог на снежных полях от отраженных лучей Солнца. Миник конечно это знал и очки тёмные для меня припас, а сами то местные к такому делу привычные, почитай веками тренировались. Как у калааллит говорят, охотник-инук — настоящий человек.
Тут включает он рацию коротковолновую и вызывает кого-то. Ты, Рони-ааккияк, говорит он мне, разомнись пока минут десять пока мой брат-инук не подъедет. Вышел я из вездехода, поразмяться и вправду стоило, растрясло меня порядком с непривычки. Прохаживаюсь, жду когда послышится шум двигателя того на чём это брат Миника подъехать должен. И тут на тебе — тишина полная и в этой тишине появляется на вершине ближайшего ледяного бархана какие-то косматые тени, затем доносится возглас, на высокой такой ноте, почти визг — Унаие!!! Юк! Юк! Юк!
Тени эти превращаются в запряжённую веером собачью упряжку и летят вниз по снежному насту, следом взлетают над вершиной бархана длинные нарты, красиво приземляются и вся эта гренландская экзотика натурально прёт на меня со скоростью выше собачьего визга. Признаться честно, струхнул я малость от неожиданности, да и дежавю какое то. У них, что в Гренландии, такое своеобразное чувство юмора — живых людей наездом пугать?
То понимаешь родным «Москвичём» давят, то экзотикой этой собачьей. И что потом на моей могилке напишут: «Здесь покоится боцман Друзь, героически погибший под собачками». Ну братец этот на нартах в двух метрах от меня притормаживает своих гренландских хаски-киммеков[3], а нарты по инерции вылетают вперёд и разворачиваясь кормой останавливаются прямо возле носков моих унт. Семейное это у них с Миником, что ли?
Потёрлись братья-ааккияки носами. Миник родственника представил, Нанок его звали — медведь значит (везёт мне на медведей) Парень и вправду крупный для эскимоса, гренландца то есть, широкий такой, коренастый и одет уже совсем по местному в собачьих унтах. в штанах из тюленьей шкуры и в парке из волчьего меха с капюшоном.
Парень этот, Нанок на иностранных языках не говорил, разве-что по датски, а я к тому времени ужу десятка три слов на их языке освоил, пока в пути были с Миником. Я на лайку показываю и говорю — киммек, собака значит, а Нанок этот смеётся-заливается, ну как дите малое. Ну как же носатый да усатый великан-чужак на человеческом-калааллит языке говорить пытается. Ну это как если бы тюлень у старика-эскимоса трубку покурить попросил. А я люблю когда дети смеются, искренне так, светло, ну как Нанок этот. Тогда я и выдал простенькую конструкцию из трех слов: «Киммек ааккияк инук», что-то вроде: «Собака друг человека». Нанок тут прямо в полное восхищение пришёл, подбежал к Минеку, лопочет что-то по своему, по калааллитски. Минек улыбается, переводит — Нанок мол говорит ты талантливый человек, поэт, так песни слагать только наш дед Иннек умел, а ты всего несколько слов знаешь, а уже песню сложил: «Киммек ааккияк инук», красиво однако. Я улыбнулся и говорю, то ли ещё будет братья-инуки, друзья-человеки.
— «Устиныч, подъём! Паганель, не спи — замёрзнешь!» (тогда это была ещё свежая шутка) К нам на верхотуру скального навеса вскарабкался Рома — один из тройки моряков-скалолазов, двумя часами ранее покоривших грозные отвесные уступы Медвежьего крыла. К его широкому брезентовому поясу была прикреплена верхняя часть бросательного конца с небольшим грузилом-набалдашником для удобства и прицельной точности в полёте при швартовных операциях.
Нижняя свободная часть бросательного принайтовывалась (привязывалась) простым морским узлом к бухте (петле) тяжёлого и толстого швартовного троса. Передняя часть утяжеленная на конце влетала на причал или борт другого судна и там попадала в руки швартовной команде, которая с его помощью вытягивала швартовный конец и крепила его на кнехт — причальную или швартовную тумбу, как правило в виде двух металлических столбиков-тумб со шляпами, удерживающих закреплённый восьмёркой швартов.
— «А чего снизу не подали то?» — поинтересовался Устиныч. Подали бы, мы бы приняли. — «Так с тобой же Паганель, заёрничал Рома. Вот он грузилом в лоб бросательный бы и принял, при его талантах да ловкости, к бабке не ходи… Да ладно Паганюха, не журись, шутка. Там внизу по любому дура железная — прожектор в центнер не меньше весом, мы его ветошью и брезентом обмотали, чтобы не помять, хоть стекло под колпаком решётки железной, а поднимать надо осторожно, медленно — вещь хрупкая, как пианино. Вот втроём и потащим потихоньку».
«Ты поучи жену щи варить, грузчик из мебельного» — проворчал боцман. «По скалам прыгаешь ловко, что твой архар гималайский, а во всём остальном ты для меня салабон, не лучше Паганеля, ущучил солдат вчерашний? Вирай давай!» Поставив таким образом чересчур самонадеянного матроса на место Устиныч принялся помогать нам с притихшим Романом поднимать тяжелый, даром, что малый прожектор, который часом ранее был по распоряжению капитана временно демонтирован с верхнего мостика. Всё таки, что не говори, а боцман наш был одарён не только интеллектуально, но и физически. Я всегда завидовал силачам, думалось, насколько же им легче и приятнее жить, поскольку сам, увы, талантами и в этой сфере природой наделён не был.
Уже минут через двадцать многострадальный прожектор, а заодно и сто пятидесяти метровый силовой кабель электропитания были подняты и подтащены к пещере и всё это по большей части усилиями самого боцмана, который разогревшись в работе, демонстрировал, что называется бычью силу. Посильно помогал ему Роман, тоже парень не хилый. Я же к концу действа вымотался настолько (поскольку старался как мог — народ между прочим не обманешь, а филонов нигде не уважают), что дышал как паровоз под парами и старался не дуть на свежеприобретённые на ладонях мозоли.
Ещё через час добрая треть экипажа, включая капитана, старшину Семёна и активную группу поддержки деловито сновала в акватории пещеры. Прожектор был внесён внутрь и установлен на станину у края пропасти, для страховки его закрепили тросами за вбитые в скалу скобы. Капитан Владлен Георгиевич, торжественно, словно директор Цирка открывающий новый умопомрачительный аттракцион, торжественно взмахнул рукой и прокричал наружу из пещеры: «Врубай!» Слегка засветились и стали всё мощнее разгораться нити накаливания галогенной лампы мощного морского прожектора, способного пробить своим лучом мглу и туман в открытом море.
Расчёт опытного моряка Владлена оказался верен, тьма вокруг сгинула, испугавшись принесённого людьми в пещеру маленького Солнца. Мы находились, как бы, в горловине гигантского скального колодца, расширяющегося вниз наподобие бутылочного горлышка. В метрах сорока ниже антрацитно поблёскивала гладкая поверхность морской воды. Это был гигантский островной грот, внешне по странной и ироничной прихоти природы весьма напоминавший грот из довоенного детского фильма «Таинственный остров».
Что поделать, видимо число сюжетов ограничено не только в литературе, но и в жизни…
Рома с помощью старшины Семёна закрепил на нескольких вбитых в скальную стену пещеры креплениях страховочный трос и начал осторожный спуск в горловину уже освещённого колодца. Он медленно спускался по обнаруженной ранее красной от ржавчины железной лестнице из скоб, прощупывая прочность очередной скобы ступнёй, прежде чем перенести на неё всю тяжесть тела.
— Принимай подмогу, к краю горловины подошёл боцман с двумя матросами. Они успели притащить снизу два скреплённых между собой пятнадцати метровых штормтрапа изготовленных из прочной манильской пеньки. Устиныч с помощниками прочно закрепили один конец на камнях, освободив несколько метров, а связанную колесом бухту 30-ти метровой морской верёвочной лестницы медленно опустили вниз к Роману. Тот одним движением руки распустил морской узел и освобождённые метры пеньки и деревянных перекладин с гулким шорохом полетели вниз, не достигнув метров пяти до скального дна морского грота. До воды было ещё метров 7 сухого пространства.
— «Смотри-ка пригодились, таки, мои штормтрапы на скалах», — Не без самодовольства изрёк боцман.
Глава 17. «Туннели»
Дорога к подземному гроту была открыта и обустроена, что называется быстро и качественно. Капитан от избытка чувств даже ударился в квазипатриотическую риторику: «Ведь можем мы русские когда хотим. Вот бы нам бы так обустроить Россию — раз и в дамки, так нет же всё мешает что-то, как тому танцору. Может нам всем на острова какие податься необитаемые».
Между тем время не ждало и разведгруппа из шести человек во главе с капитаном, спустилась на дно подземного скалистого грота. Как можно было догадаться, кроме тройки матросов-скалолазов во главе с Семёном, к разведчикам примкнул боцман и конечно ваш покорный слуга, в качестве его постоянного спутника. Прогнать меня никто не пытался. Наверно я уже воспринимался, как неотъемлемый боцманский атрибут. Ну например, как юный говорящий попугай по кличке Паганель восседающий на плече старого морехода.
А посмотреть внизу было на что. Свет прожектора отражался от чёрного зеркала воды и рассеиваясь в окружающем полутёмном подземелье, открывал почти инопланетный пейзаж. Сине-голубые блики, отражаясь от легкой водяной ряби таинственно плясали на скалах, создавая какую-то нереальную, сказочную атмосферу. Меня посетили два, казалось бы взаимоисключающих чувства. Первое, что всё это происходит со мной в каком-то причудливом, фантастическом сне и второе, знакомое многим «Дежавю» — «уже виденное», как будто смотришь смутно знакомый, виденный давным-давно старый-престарый фильм.
От сплошной каменной стены до кромки воды было от пяти до десяти метров почти ровного, покрытого скальным щебнем сухого пространства. Мы медленно, подсвечивая себе дорогу аккумуляторным фонарём, двигались почти вплотную прижимаясь к скалам.
Подземное морское озеро, судя по всему имело форму близкую к горизонтальной восьмёрке — знак бесконечности. То озеро которое открылось нам первым имело овальную форму и в самом широком месте достигало метров двухсот. Пройдя около километра мы обнаружили сужение водного пространства в виде перемычки до десяти, пятнадцати метров шириной. Скалистые стены в этом месте так-же сужались с обоих сторон и опускались вниз, смыкаясь и образуя своеобразный коридор-тоннель. Над тоннелем судя по всему было пустое пространство, так-как миновав этот коридор мы не оказались в полной тьме. Часть света прожектора достигало и сюда.
Мы вошли в новый грот, который как минимум был вдвое больше нашего прежнего знакомца. Сухое пространство у воды было уже не 5–7 метров, как раньше, а напоминало небольшое футбольное поле. К тому же оно явно было зачищено от битого камня и щебня и это не могли сделать нерпы или полярные медведи. Это было делом рук человеческих. Выйдя на это ровное каменное плато мы принялись осматриваться.
Я же как всегда первым нашёл себе приключение на свою паганельскую задницу, вернее коленку. Зацепившись в полумраке обо что-то, похожее на капкан или ловушку, я полетел вперёд, пребольно ударившись коленом при не очень удачном и совсем не мягком приземлении. В метрах двух от кромки воды была вделана в каменный пол массивная, полуметровая железная скоба, об эту скобу я и споткнулся. Метров через 5–7 ровно, как по линии мы нашли ещё одну скобу и ещё. Всего мы насчитали десяток таких скоб.
«Не иначе скобы эти причальные» — задумчиво проговорил капитан. «А причалить в этом тихом местечке могла только подлодка, маман её в клюз. Давайте парни осмотримся ещё раз, должно быть что-то ещё. Только не спешите, а не то расшибётесь мне тут, как молодой давеча». Через четверть часа поисков из темноты раздался радостный голос Устиныча: «Оба на, Георгич — кажись есть контакт, давайте братва с фонарём сюда». Все поспешили на голос боцмана.
Нам открылась живописная картина, как любил выразится капитан. В каменной стене, едва видимый в полумраке, а сейчас хорошо освещенный переносным фонарём зиял большой, в полтора человеческих роста в высоту и метра три в ширину вход в тёмный, похоже рукотворный тоннель с аккуратным овальным сводом. В него мы было и поспешили войти, но Владлен Георгиевич остановил нас: «Погодите ребята, похоже схорон этот ещё во время войны немцы обустроили, а от них подлецов-фашистов, всякой пакости надо ожидать. Я мальцом был, когда дружок мой Колька на мине-лягушке в заброшенном немецком блиндаже подорвался. Правой ноги до колена. как и не было, добро мимо наш офицер на Виллисе проезжал, так до госпиталя доставил, выжил пацан. Я к чему? Прогуляюсь-ка я в гордом одиночестве по коридорчику этому. Всей компанией рисковать нужды нет. А ты малой, вообще внутрь не суйся, запрещаю». Капитан повернулся ко мне: «А то ты со своим везением и ловкостью…» — и он махнул на меня рукой. Никто из присутствующих не решился возразить командиру.
Владлен вооружился аккумуляторником и выставив вперёд седую бороду, словно сканируя ею тёмное, опасное пространство направился во мглу туннеля. Вся группа, оставшаяся снаружи несколько минут напряжённо молчала, пока усиленный сводами туннеля изнутри не раздался голос капитана: «Да тут рельсы, братцы». — «Если там рельсы нашлись, то и здесь должны быть» — заявил Семён и опустившись на колени у входа в тоннель принялся разгребать мелкий щебень. «Ну точно». — Семён поднял голову и указал на тускло блеснувшую в полутьме металлическую полосу. Мы все вместе продолжили изыскания. От туннеля к воде вела узкая колея рельсов. Узкоколейка заканчивалась в полуметре от причального среза у воды своеобразным тупичком из уже знакомых полуметровых скоб у каждой рельсы.
Не прошло и получаса, как из глубины тоннеля послышалось всё нарастающее жужжание и ритмичное постукивание и вскоре на выходе, что называется нарисовался наш незабвенный мастер, торжественно восседающий верхом на каком-то колёсном чуде, напоминающим мотодрезину, впрочем вонь от выхлопных газов, не оставляла сомнений — это была именно она. Судя по всему тайные туннели острова Медвежий были полны сюрпризов и обещали новые неожиданные открытия.
— «Графа Монте-Кристо из меня не вышло, пришлось переквалифицироваться в дризиноводители». Владлен Георгиевич кряхтя и посмеиваясь спустился со ступени высокой мотодрезины. Это было довольно массивное сооружение из шести железных колёс, рессор, двух трёхместных скамеек-сидений и вместительной, длиной метра в четыре грузовой платформы-прицепа с деревянным просмоленным дном и деревянными же откидными бортами, обитыми для чего-то по краям чёрной пористой резиной. В этом необычном кузове находился какой-то груз, несколько довольно объёмистых ящиков и нечто под ними, укрытое серым асбестовым противопожарным покрывалом. «На ящиках-то что-то по немецки написано»- заметил боцман Устиныч, перегнувшись через борт кузова и подсвечивая себе фонарём.
— «И.Г.Фарбениндустри», прочёл он, стерев с деревянного ящика слой сырого песка. — «Это случаем не тот Фарбен, который в лагеря смерти нацистские смертельную отраву, газ Циклон Б поставлял?» осведомился старшина Семён, осторожно опуская деревянный бортик кузова. — «Он самый!» подтвердили в унисон боцман и капитан Владлен. — «Как бы нам самим не отравиться?» озаботился Рома, всё же поднимаясь в кузов следом за Семёном.
— «Да где наша не пропадала!» — присоединяясь к товарищам, махнул рукой Борис, напарник Романа по покорению скал Медвежьего крыла. Быстро орудуя коротким металлическим альпенштоком, Семён вскрыл один из ящиков. В нём находились чёрные эбонитовые коробки, длинной в метр, шириной около полуметра и такой же высотой. К каждой был прикреплён металлический рычажок-ключ на цепочке, помещавшийся на одном из торцов в специальной нише, снабженной перемычкой-удерживателем. Тут же на торцах таким же образом помещались массивные ручки, видимо для переноса этих тяжёлых на вид бандур.
— «Никак мина?» — озабоченно поскрёб бороду капитан. — «Вряд ли». — отозвался боцман Устиныч. «С чего бы химическому концерну мины производить, не их профиль. Ищите инструкцию, у фрицев всё всегда по инструкции, без неё и немец не немец». — «И то дело»- поддержал боцмана Владлен. Моряки более тщательно осмотрев эбонитовую коробку и правда нашли на боковине довольно длинный, убористый, выполненный выпуклыми буквами текст на немецком языке.
— «Вот немчура, хитроумный народ! Были бы все их изобретения полезными для людей, цены бы им не было». Не без восхищения заявил боцман через минуту, после начала изучения инструкции. «Перед нами аварийная химическая батарея-грелка. Включается поворотом ключа по часовой стрелке до щелчка. Ключ вставляется в скважину на торце батареи. Таким образом вскрывается колба с катализатором и начинается медленная химическая реакция с постепенным выделением тепла».
Через 24 часа при необходимости производится ещё один поворот ключа для подключения следующей секции батареи и ещё через 24 часа есть возможность подключить последнюю третью секцию. Однако, ОЧЕНЬ ВАЖНО! — каждые 7–8 часов происходит наполнение специального газосжимающего резервуара ядовитым угарным газом. В этом случае загорается красная сигнальная лампочка под текстом-инструкцией, но даже если этого не произошло совершенно необходимо исполнить следующее: Отсоединить крышку-поддон батареи.
Вы найдёте 3 метра тонкой резиновой трубки. Выбросите свободный конец с переходником наружу, лучше в воду (на субмаринах имеется специальный ниппельный штуцер газосброса в каждом отсеке.) поворотом против часовой стрелки того же ключа-рычага, что используется для переключения секций батареи, в скважине у края поддона, открывается стравливание угарного газа в течение 2–3 минут. По прекращению характерного шипения тем же ключом закрывается газоёмкость. При невыполнении этих условий батарея не готова к работе.
Батарея способна 72 часа поддерживать комнатную температуру в 21–23 градус по Цельсию в небольшом закрытом пространстве, например в корабельной каюте, спасательном плоту, палатке и т. п. Так-же 15–17 градусов в небольшом отсеке, например субмарины в аварийных обстоятельствах. «Пишут умники, что это, мол, оптимальная рабочая температура». Предупреждение: «ОПАСНО! Категорически воспрещается производить более одного поворота ключа в сутки, так-как это произведёт расплавление кожуха батареи и опасный выход в атмосферу ядовитых паров, производимых химической реакцией в замкнутом пространстве».
— «Да ты нам целую повесть прочёл, заметил Семён. Как только это там всё уместилось?» — «Издержки перевода на русский, пояснил боцман. На немецком техническом. а тем паче английском это излагается гораздо компактнее, чем на нашем могучем…»
— «А что, тогда разве уже спасательные плоты были?» — поинтересовался Боря. — «Спасательный плот изобрела в 1882 году Мария Беасели»- не удержался я от соблазна блеснуть эрудицией. — «Да ладно, не верю, что баба, не трави…»- не поверил Борис. — «Почему нет, поддержал меня Семён. Между прочем сигнальные ракеты изобретение американки Марты Костон вдовы моряка, правда она развила идею мужа». — «А перископ для подлодок сконструировала Сара Мэтер в 1845 году» — вошёл я во вкус. — «То правда, могут бабы, когда хотят». — отозвался Устиныч. — «Астролябию, предшественницу секстана тоже женщина придумала, аж в 370 году до нашей эры, Гипатией Александрийской её звали, умнейший был человек, даром, что баба».
Капитан Дураченко при этих словах боцмана раздраженно замотал своей седой бородой: «А моя теща изобрела мистический способ находить заначку, причём в самых немыслимых местах. Сначала тестю покойному дыхнуть не давала, а потом с дочкой своей за меня взялась. Стерва… Хорош трындеть, эрудиты. Надо стоящие вещдоки искать, изобретения посовременнее этого музея второй мировой».
Последний пассаж капитана о «стоящих вещдоках» меня озадачил. И не только меня, Боря и Рома то же посмотрели на Владлена вопросительными взглядами. Заговорил боцман: «Георгич, а может нет современных то, ну улик этих, что мы ищем? Может норвежец этот-майор рыжий разводит нас в тёмную, может он собака в свой преферанс играет? И что-то мутно как-то с этой субмариной- наутилусом, которая под нами прошлась, то ли зашла в эту шхеру, грот тайный, то ли вышла, то ли так, мимо проходила».
— «И зашла, Устиныч и вышла и судя по этой ленточке не впервой». — Кэп достал из кармана куртки какой-то шуршащий, скомканный пучок лент — белый и искрящийся, как новогодняя мишура. — «Как думаешь боцман, это изобретение то-же дело рук твоих мозговитых учёных немцев из сороковых годов?»
Боцман со старшиной Семёном принялись разворачивать и распутывать ленту, чтобы рассмотреть её поподробнее. Лента, шириной в сантиметров 15, была изготовлена из какого-то ещё не виданного в Союзе синтетического материала похоже на основе полиэстеров, поскольку порвать её было легче, надрезав чем нибудь острым, в противном случае она тянулась в руках, словно кусок целлофана. Лента была окаймлена белыми светоотрожательными полосками, которые кроме этого, ещё и довольно интенсивно светились в темноте.
Но самое интересное, что, через каждые полметра по ленте шла надпись крупными и так же фосфоресцирующими буквами: «Dangerous! Don't cross!» Между надписями красовался красноречивый рисуночек всеобщий знакомец, череп со скрещёнными костями. Тут, как говориться и без перевода всем всё ясно. Так в бородатом анекдоте ответил один неудавшийся перебежчик на советско-финской границе, окликнутый собакой и её пограничным нарядом: «Гав, гав! Стой, кто идёт!?» — «Ша ребятки, я всё понял. Уже никто, никуда не идёт…»
Глава 18. «Боцман и коньяк»
Капитан, посовещавшись со своим мозговым трестом — боцманом и старшиной Семёном, пришел к заключению, что пока суд да дело неплохо было бы задокументировать уже найденные в тоннеле улики, а особенно эту хитрую пёструю ленту, явно суперсовременную, да еще и с английским текстом. Владлен так же распорядился взять с собой на судно и одну из хитрых немецких хим. грелок, как нечто явно не ординарное (а вдруг пригодится, как вещдок). Кроме того решено было подзарядить наш и принести к тоннелю все имеющиеся на судне фонари-аккумуляторники для продолжения наших археологических изысканий в этих «Копях царя Соломона»
Грелка весила килограмм сорок, Боря и Рома понесли её, взяв за встроенные в торцы ручки и при этом почему-то не особо радовались. Мы с боцманом по доброй традиции, чему я был весьма рад, остались на вахте у туннеля в густом полумраке и сырости морского грота. Причём выражение — «остались на вахте» было по моему не совсем верным при данных обстоятельствах. Здесь подошло бы больше — «встали на стрёме», поскольку наши действия более походили на шалости Али Бабы, взявшего по тихому на «гоп-стоп» пещеру Сорока Разбойников.
Долго ли коротко ли, но остались мы с Устинычем вдвоём. Сидели мы верхом на скамейке трофейной дрезины, как боцман вдруг забеспокоился. Не зря боцманов на флоте обижают в недобрые моменты кулаками, куркулями, каптёрщиками и завхозами. Последнее особенно верно, поскольку хороший боцман, он же и крепкий хозяин корабельного двора, запасливый и прижимистый. — «Сдаётся мне Вальдамир. что Владлен не всё в этой коробочке подчистил».
Тихо мурлыча: «Эх полным-полна моя коробочка…»и одновременно хищно принюхиваясь большим породистым носом, боцман, словно живой циркуль, одним шагом переместился с дрезины в её деревянный кузов. Он достал из широких ножен своего блеснувшего мощным лезвием «Медведя», сильным толчком отодвинул здоровенный ящик с хим. батареями и одним движением вспорол устилавшую пол кузова плотную парусину.
— «Ну-ка, ну-ка» пробормотал Устиныч и вытащил из образовавшейся дыры на свет, а вернее в полумрак божий небольшой очень похожий на посылочный фанерный ящик. Затем, так же, лишь слегка развернувшись, одним шагом вернулся на скамейку дрезины и поместив ящик на колени принялся вскрывать его ножом. Крышка полетела вниз и открылся слой пергаментной вощёной бумаги под которой лежала большая, яркая, явно рождественская открытка. На открытке красовались, белокурые арийские девочки-ангелочки в коротких шубках. Девочки сладко улыбались и звонили поднятыми над светлыми головками рождественскими колокольчиками. На обороте готическим шрифтом был напечатан поздравительный текст на фоне имперского орла со свастикой в когтистых лапах.
Под открыткой лежала деревянная плоская коробка, когда мы вскрыли её на нас пахнуло томным запахом сигарного табака. — «Кубинские, ручной работы, на бёдрах мулаток скатанные», уважительно произнёс Устиныч. Рядом с сигарами, в специальной нише находились — миниатюрный прибор для срезания кончиков сигар и изящная золотистая зажигалка, всё с тем же имперским орлом. Зажигалка была бензиновой, заправленной и вполне рабочей. Впрочем кубинские сигары меня не потрясли. Все вино-водочно-табачные отделы советских магазинов в те годы были заполнены этим роскошным товаром: Белинда, Ромео и Джульета, Гавана-Гранде.
Правда в Союзе ценителей этого сигарного великолепия было немного. Все знатоки и любители кубинских сигар ручной работы остались в отгородившихся экономической блокадой от острова Свободы, Соединённых Штатах. В дефиците были обычные сигареты с фильтром, разумеется не вьетнамские со вкусом подгоревшего риса или те-же кубинские из ароматного, но крепчайшего сигарного табака, а хотя бы болгарские, пригодные для курения.
Под коробкой сигар в картонных ячейках покоились шесть аристократически упакованных в соломку стеклянных, пузатеньких бутылок. О, это был мини-музей объединённый общим названием: «Французский Коньяк». Устиныч бережно, по одной, доставал бутылки и подсвечивая трофейной зажигалкой, вслух читал каждую этикетку, вернее аккуратно приклеенную к каждой бутылке аннотацию на немецком.
«Вальдамир,» — торжественным тоном декламировал боцман — «Позволь тебе представить, благородный Шабасс производства 1925 года. Этот Коньячный дом был основан в 1818 г. Жаном Батистом Шабассом из городка Сен-Жан-д'Анджели.
Далее. К вашему вниманию мягчайший Мартель — его символ ласточка, открывшая солнечную долину для виноградника в провинции Коньяк.
Прошу любить и жаловать — старейший из коньяков от коньячного дома Фрапэн известного с XIII века.
Курвуазье- любимый коньяк Напалеона III. Хеннеси- был обожаем королём Луи XVI и угоден русским императорам. И наконец, красавчик Реми Мартин. По своему мягкому шарму рекомендован к амурным свиданиям.
В продолжении всего этого торжественного монолога я чувствовал себя словно Алиса в Стране чудес, которую на званом обеде у королевы знакомят с пудингом.
Вдоволь налюбовавшись благородными трофеями победоносного вермахта (плодами разгрома Франции в мае-июне 1940 года). Бронислав Устиныч изрёк: „Сей королевский напиток заслуживает старинного хрусталя, однако в отсутствие графини граф, по слухам, музицировал для горничных. Да не сочтут меня духи этого места презренным плебеем“.По окончании этой витиеватой тирады боцман, жестом поручика Ржевского ловко откупорил бутылку Курвуазье. Вначале был сбит сургуч, а затем одним ударом ладони о дно выбита на две трети пробка из горлышка. После этого мощного действа наш морской гусар достал свою объёмистою титановую флягу, подарок приятеля, трудившегося недалеко от Мурманска на судоремонтной верфи Северного флота. Подпольное производство фляжек, штопоров для вина, а так же других сувениров из стратегического титана на оборонных объектах ВМФ происходило в массовом порядке. Откупорив коньяк, Устиныч перелил большую часть благородного напитка во флягу. Во влажном солёном воздухе воздухе морского грота разлился дивный изысканный аромат — гордость прекрасной Франции. Последнее обстоятельство видимо, каким-то образом усовестило нашего героя и боцман намеревавшийся было глотнуть коньяк из горла, словно портвейн в подъезде, крякнув произнёс: „Нет, не гоже так-то. Погоди- ка, Паганюха“ — и стал копаться в ящике с коньяком.
„Ну!“ — торжествующе воскликнул он через минуту». Сюрпризы не иссякают! Я же фрицев изучил, как поп писание. Думаю, быть не может, чтобы такой богатый подарок, да не укомплектован на все сто. Гляди. И он жестом фокусника, развернув ладонь, показал стопку из шести, вставленных друг в друга 50- граммовых стаканчиков, изготовленных из какого-то серебристого металла, похожего на алюминий. Усатый сноровисто наполнил из бутылки две коньячных стопки.
— «Давай-ка, малой. Не пьянства ради, а пользы для. Как говорят студенты-медики, употребляя в сырую погоду: „Чтоб носоглотка за нас не краснела“.Залпом не пей, не водка. Оцени букет. Ты таких королевских нектаров не пил и вряд ли когда ещё выпьешь». — произнес он скороговоркой и залпом, игнорируя собственное ценное указание, выпил. Я последовал его примеру, коньяк был крепок и великолепно ароматен. В озябшем желудке поселилось приятное тепло и неторопливо стало растекаться по всему телу. Я взял в руки почти пустую бутылку и взглянул на год выпуска -1925.
«Так что, этому Курвуазье на сегодняшний день 55 лет?» — осведомился я у своего всезнающего приятеля. «Ни разу не правда» — ответствовал бывалый Устиныч. «Смотри, Паганюха. Тут написано — произведён в 1925, разлит в 1940, значит возраст его 15 лет и таким и останется, поскольку коньяк стареет (выдерживается) только в дубовой бочке, а будучи разлит по бутылкам он только хранится десятки лет, может больше. Если бы при выдержке или изготовлении произошло малейшее нарушение рецептуры, то коньяк этот мог выйти в уксус (прокиснуть) лет через 15 после разлития, согласно возрасту. Вот такая алхимия. И ещё, смотри фокус».
Боцман заткнул пробкой бутылку и перевернул её вверх дном, включил зажигалку занёс её за бутылку, как бы просвечивая посудину. Остатки элитного алкоголя собрались в центре донышка в большую вязкую каплю, которая секунд пять повисела, а затем тяжело плюхнулась вниз.
«Если бы это было пойло, то оно по простецки растеклось бы по стенкам бутылки, но вот эта самая капля говорит о правильности напитка. Или вот ещё фокус-покус». Он прижал большой палец к стенке бутылки, наклонил её так, чтобы остатки коньяка закрыли контур пальца и подсветил всё это зажигалкой. Отчетливо проступили сквозь стекло и жидкость папиллярные завитки боцмановского пальца. «И это то же признак породы» — пояснил наш корабельный знаток прекрасного.
Я взглянул на происходящее с некоторой отстранённостью. Огонёк зажигалки подсвечивал через тёмное стекло бутылки жидкий янтарь благородного алкоголя. Цветные лёгкие блики в полумраке мягко освещали грубоватое с крупными чертами, колоритное лицо старого моряка. Оно в этот момент было вдохновенно-живописным. Если бы я был художником, то написал бы холст, естественно маслом. Назвал бы я эту великую картину просто и не витиевато — «Боцман и коньяк»
Глава 19. «От фитиля к электростанции»
Остатков Курвуазье хватило ещё на пару неполных стопок. Я хотел было отказаться в пользу старшего, однако боцман пресёк мое поползновение, заявив, что совместное распитие драгоценного нектара не поездка в переполненном трамвае, где проявление почтения к ветерану было бы более уместно. Впрочем надо отдать ему должное — прикасаться к заветной титановой фляге с целью «продолжения банкета» Устиныч тоже не собирался.
Несколько смущаясь, боцман осведомился: «Видишь ли, Вальдамир. Разумеется, как честный советский моряк я должен был бы объявить о нашем трофее начальству. Однако какую пользу это принесёт и кому? Владлен в лучшем случае воспользуется этими дарами фортуны сам и поделится с друзьями. Скорее же всего, как бы приобщит к своим хитрым вещественным доказательствам, что бы, не будь дурак, как-то порадовать уже своё начальство, закатись оно за брашпиль. Скажи честно, ты получишь удовольствие от того, что какой-то пузатый хрен вылакает наш с тобой трофей с другими такими же чиновными пупсами в ведомственной сауне с голыми секретутками?» Я живо представил себе все непотребства начальственного разврата и чуть не задохнулся в праведном гневе. «Значит вопросов нет!» — констатировал Друзь.
С этими словами боцман легко подхватил под мышку немаленький короб с «фрицевскими дарами» и решительно направился с зажжённой зажигалкой в темноту туннеля. Разумеется я, как верный и слегка поддатый друг человека, не виляя хвостом лишь по причине отсутствия последнего, последовал за ним. Звуки наших шагов гулко отдавались во мгле, отражаясь от каменных сводов мрачного коридора, ведущего в неизвестность (видимо даже небольшая доза французского элитного алкоголя заставляет выражать мысли литературными штампами а-ля Ги де Мопассан плюс оба Дюма в одном, пардон, флаконе)
Под ногами едва заметно поблёскивали свежеопробованные капитаном Дураченко рельсы узкоколейки. Впрочем долго и далеко уйти нам не удалось бы, поскольку зажигалка не факел. Неожиданно справа что-то блеснуло, а скорее сверкнуло белой короткой вспышкой. Устиныч достал вощеную обёрточную бумагу из ящика и соорудив из неё подобие фитиля, поджёг его гаснущей уже зажигалкой. В сплошной скальной стене тоннеля показался узкий не более метра в ширину и едва ли полтора в высоту проход. Его крест накрест заграждала уже знакомая нам светоотражающая лента-страшилка с предостерегающей надписью по английски и хищно-зелёными фосфоресцирующими в темноте мило-улыбчивыми черепами.
Концы лент были обильно смазаны какой-то, видимо клеящей субстанцией и таким образом крепились к скальному камню. «Ещё одна пещерка и это то, что надо» — пробормотал боцман и без церемоний полоснув ножом по ленте, полез внутрь дыры, не забывая на ходу философствовать: «Брать, что-либо без спросу у современников, Вальдамир, пошлое и низкое воровство, однако по прошествии минимум двух поколений, эдак лет сорока-пятидесяти, даже недостойное джентльмена мародёрство, превращается в романтическое кладоискательство. Хотя и тут не всё гладко. Насколько законны и моральны к примеру, растудыть их в клюз, (тут боцман неудачно задел головой выступающий камень) наши странные изыскания на территории суверенной Норвегии?»
Устиныч, согнувшись изрядно по причине немалого роста, придерживал одной рукой ящик, а другой освещал дорогу слабеющим фитилём. Впрочем он приготовил их с десяток, положил в ящик и использовал по необходимости. Неожиданно узкий проход прервался и мы оказались в каком-то помещении, во всяком случае Устиныч смог выпрямится во весь рост.
Боцман запалил очередной фитиль и мы увидели, что находимся в небольшом зале, а скорее в большой полукруглой комнате сплошь увитой толстенными и потоньше чёрными, бардовыми и грязно-белёсыми, скорее всего электрическими кабелями. У стен с осыпавшейся от сырости штукатуркой стояли какие-то громоздкие агрегаты не слишком современного вида, которые посредством более тонких кабелей, словно крашеные серые металлические пауки сигнальными паутинками были соединены с основной паутиной из толстых как тросы, по преимуществу чёрных нитей.
— «Все страньше и страньше! — воскликнула Алиса» — не удержался я от цитаты из любимой книги детства. — «Да уж». «Всё смешалось в доме Обломских» — ответил боцман цитатой из другого классика, как мне показалось, несколько исказив Льва Николаевича. «Ваша, юнга, паганельская хренова удача нас не покидает. Шли по тихому зашхерить хабар, а набрели на электростанцию» — «А это электростанция?» — засомневался я. — «Нет, это одесский подпольный цех по пошиву французских бюстгальтеров» — съязвил старый.
Он запалил новый фитиль и уже стоял у самого большого агрегата с обширной панелью, напоминающую обилием тумблеров переключения, кнопок, индикаторных ламп, рычажков и прочих хреновин штурманскую панель управления на капитанском мостике. Всё это техническое старьё в изобилии сопровождалось пояснительными надписями по немецки. Боцман с минуту вчитывался в длиннющие немецкие слова, шевеля от усердия правым более пышным, чем его левый собрат усом. Он крякнул и со словами: «Эх, небось давно уж сдохло всё» — решительно повернул вправо большой чёрный тумблер в центре панели.
«Небось» не сдохло. Раздалось тихое гудение и над нами, наверху метрах в двух с половиной, медленно накаляясь, стала разгораться спираль большой грушевидной лампы под абажуром из белого металла в виде конуса. «От фитиля к электростанции!» — покачав головой с мечтательно-задумчивой интонацией в голосе произнёс Устиныч. Да, видимо страсть к литературным изыскам была у старого в крови. Например это изречение с успехом украсило бы фронтальный транспарант первомайской колонны ветеранов-электриков.
Устиныч поднял с пола и с интересом принялся изучать изрядно полинявший плотный лист бумаги со слегка размытым текстом. На небольшом фанерном листе когда-то был прикреплен кусок ватмана с текстом, помещён под стекло и повешен на стену. Штукатурка от времени осыпалась, фанерка упала на пол и стекло разбилось, но текст на ватмане почти сохранился. Вдруг мы почувствовали лёгкое сотрясение земли под ногами, как будто неподалёку прошёл поезд или заработал какой-то электро-агрегат.
— «Это электроподстанция», пояснил боцман уже более человеческим тоном. «Ты когда-нибудь слышал про Кислогубскую ПЭС — единственную приливную электростанцию в Союзе?»
Я ответил, что даже бывал там со школьной экскурсии лет пять назад. Это сравнительно недалеко от Мурманска в поселке Ура-Губа. Учительница рассказывала, что построили её, как экспериментальную в 1968 году. Заливчик Кислая губа место узкое, да и сама электростанция производит скромное впечатление, просто высота прилива здесь доходит до пяти метров. Вырабатываемой же электроэнергии хватало самой электростанции и поселку на сотню жителей.
«Это потому дети,» — пояснил проходящий мимо экскурсии тощий пожилой человек в синем халате — «что на станции в работе только один небольшой ротор, произведённый во Франции. Видите рядом с ним пустует большое место. Это мы уже много лет ждём наш отечественный ротор, побольше и посильнее старого». Человек нервно мотнул седой эйнштейновской шевелюрой и заложив руки за спину, быстро зашагал прочь.
— «Так вот, Паганюха. Считай, что у тебя через пять лет, понимаешь, продолжение той вашей школьной экскурсии. Немцы где-то ещё до войны разведали это место и даже успели его капитально обустроить на будущее. С дальним, маман их об кнехт, можно сказать перископным прицелом. И руководили этим обустройством, видать люди незаурядные, можно сказать талантливые.
Это же надо на таком отшибе, в таком, извиняюсь за банальность в медвежьем углу умудрились ещё и хотя и экспериментальную, но действующую электростанцию собрать. Как я понял из описания со схемой (на ватмане) для своих (посторонние тут, понятно не шлялись) где-то под скалой на выходе из грота немцы установили маленькое, в метр диаметром колесо-ротор, которое на приливе (прилив здесь до шести метров) в половине шестого вечера начинает вращаться и вырабатывать, понимаешь, энергию для небольшой электростанции. В принципе её хватило бы на небольшой посёлок на Медвежьем.
Однако загуляли мы с тобой, Вальдамир, всполошился вдруг Устиныч. Заболтался я, Цицерон мурманский, давай-ка двигать обратным курсом, а посылочку мы таки зашхерим».
С этими словами боцман вошёл в узкий коридор прохода и засунул ящик с коньяком в большую расщелину в скале на высоте не меньше двух метров, после чего прикрыл тайник несколькими крупными камнями. Мы, как аккуратные новоиспечённые хозяева уходя погасили свет на подстанции и запалив предпоследний фитиль направились к неправедно покинутому месту несения вахты, где и оказались минут через семь.
Мама дорогая, нас ожидал мягко говоря неприятный сюрпрайз, как выразился бы Гена Эпельбаум. Дрезины на месте не было. На месте пропажи стоял вперив толстые кулаки в не худые бока наш дорогой и любимый капитан Владлен Георгиевич. Чело его было зело красно и добродушием не светилось, незабвенная борода агрессивно стояла торчком. Мне что-то вдруг поплохело и даже воспоминание о выпитом коньяке не согрело душу. Владлен уставился почему-то на меня пылающим взором и вдруг с необычайно язвительным чувством продекламировал: «Мы с Бронислав Устинычем работали на дизеле. Я мудак и он мудак — у нас дизель спи-дили!»
Глава 20. «Боцман-хаскиводитель»
Я пребывал в душевном состоянии морской каракатицы распластанной на промысловой палубе, в немом бессилии ожидающей роковой встречи с подошвой неизящного матросского сапога. В то же время, мой старший товарищ по несчастью повёл себя мягко говоря неординарно для подобной ситуации. Боцман принял позу благородного патриция на плебейском судилище и глядя в пространство куда-то то поверх головы разъярённого начальника, гордо топорща свои почти гусарские усы, ледяным тоном осведомился: «Какие ещё будут оскорбления?» Кто-нибудь другой на месте Владлена опешил бы от такой наглости подчиненного, однако наш капитан слишком хорошо знал своего приятеля-боцмана. Если Устиныч вёл себя таким образом значит имел к тому основания. Капитан подошёл к нему и глядя волчьим манером исподлобья, мрачно приказал: «Говори!»
Они отошли к стоящему неподалёку Семёну и Устиныч принялся что-то излагать, время от времени тыча себе за спину (в направлении туннеля) большим пальцем правой руки. До меня, как я не пытался шевелить ушами от напряжения, как говориться — долетали лишь обрывки фраз. Боцман толковал, что-то про подстанцию и прилив, так же мне удалось расслышать: «Сименс, агрегат и и новый» Услышанная обрывочная информация меня порядком задела. Получалось, что мой обожаемый наставник откровенен со мной не на все сто. Хотя поразмыслив немного я пришёл к выводу, что это нормально и несколько успокоился.
Закончив говорить боцман подвёл капитана и старшину к краю причала, до воды сейчас в шесть тридцать вечера было рукой подать, хотя несколько часов назад здесь зияла небольшая пропасть глубиной метра четыре с лишним. Впрочем это ни для кого новостью не было. Кому, как не вахтенным матросам у трапа была известна здешняя разница между полной в пять тридцать вечера и малой водой в пять утра. В первом случае сходни круто поднимались вверх вместе с поднимающимся, словно растущим над причалом судном, а во втором почти падали вниз, когда судно будто погружалось и с причала была видна лишь часть надстройки и мачты. В обоих случаях с трапом было не мало возни, приходилось перенайтовывать (перевязывать) крепёжные тросы и то удлинять, то укорачивать двигающиеся как живые, сходни.
Затем вся компания, включая меня, направилась, подсвечивая путь заряженным аккумуляторником, по уже знакомому маршруту к вновь открытой электроподстанции. Тяжелее всех в узком проходе к найденной нами аппаратной пришлось тучному Владлену, однако прошло и это — мы оказались на месте. Включив, уже известным манером освещение, боцман указал на незамеченный мной в первый визит агрегат, по размерам выглядящий гораздо скромнее, чем окружающие его громоздкие, словно старинные шкафы, сооружения. На дверце синей краской было отштамповано название фирмы производителя — Siemens. Открыв его, мы без малейших колебаний опознали в нём нашего современника.
Прозрачные плексигласовые кнопки с разноцветной индикационной подсветкой, пёстрые, всех цветов радуги пучки тонкой проволоки и миниатюрные датчики с дрожащими стрелками не оставляли места для иных толкований. Агрегат работал, издавая уютный звук похожий на сонное, сытое урчание домашней кошки.
Капитан просто расцвёл при виде находки. Повернувшись к Семёну, он радостно сказал: «Это то что надо, Сёма доставай камеру», и в сторону боцмана: «Бронислав, я в тебе не ошибся». Старшина скинул осторожно заплечный ранец и вынул оттуда на электрический свет божий два коричневых футляра свиной кожи- один большой и другой поменьше. Это была гордость нашего деда — старшего механика Ипполита Геннадьевича — приобретённый в ГДР фотоаппарат Exa 1b со встроенной вспышкой и сменными объективами.
Как не раз говаривал Устиныч по разным похожим поводам: «На корабле у моряков, как в Греции. Всё есть. Кликни посреди рейса, мол нужна срочно фрачная пара — Вопрос жизни и смерти, поворчат, поищут и найдут».
Ипполит Геннадьевич был страстным фотографом и фотографировал всё, что считал заслуживающим интереса. По этому поводу даже имел свежие неприятности — был списан с нового траулера идущего в загранрейс. Как он рассказывал — к нему прицепились люди из особого отдела за фотографирование секретного объекта — только что построенного в 1980 году в Швеции (!) по заказу Советского Союза самого большого плавучего дока в Европе ПД — 50. Махина предназначалась Северному флоту и в том числе для докования и ремонта подводных атомных ракетоносцев и тяжёлого авианесущего крейсера «Киев» (ныне плавучий отель в Китае)
Док швартовали к месту постоянного назначения ремонтной базы Северного флота — Росляково-1. Злополучный для Ипполита траулер проходил совсем рядом с огромным плавучим доком. С верхатуры верхней боковой палубы дока показалась вдруг весёлая, пьяная, рыжая физиономия, сопровождающего махину инженера шведа. Охальник узрел на проходящем траулере дородную сорокалетнюю буфетчицу Галю, выпростал наружу огромный разворот журнала «Playboy» с голой моделью и едва не вываливаясь за борт через леера вместе со своей полиграфической подружкой, стал козлиным голосом верещать свои шведские непотребства.
Наш патриотически настроенный, наивный Ипполит решил запечатлеть импортного похабника для последующей публикации во Всесоюзном Сатирическом Журнале «Крокодил» под рубрикой «Их нравы». Но не тут то было. Бдительные друзья-коллеги бедного Ипполита стукнули немедля помполиту (на крупных судах помощник капитана по политической части). Тот распорядился приостановить выход судна из Кольского залива и через пару часов к борту, стоящего на рейде траулера подошёл катер, оттуда явились два молодца одинаковых с лица — гомункулусы из «Конторы Глубокого Бурения».
Напрасно списанный с судна и доставленный для беседы в Контору стармех доказывал, что на плёнке нет ничего кроме пьяной шведской физиономии, ну разве что при ней непотребная картинка с голой девкой. Молодой симпатичный следователь заявил, что Ипполит давно замечен бдительными товарищами и что фотографирование при странных обстоятельствах вызывает у них смутные сомнения. Он принялся мягко, но настойчиво уговаривать Ипполита признаться, что на одном из заходов в загранпорт у него якобы были некие контакты с некими людьми, которые и попросили незадачливого советского моряка стать внештатным фотокорреспондентом для малоизвестного западноевропейского издательства и потихоньку, без шума и пыли собирать различную интересную фото-информацию (в том числе о военных объектах). Как бы невинная работа свободного художника для иллюстрированных журналов.
Ипполит понял куда клонит ласковый следователь и похолодел. Его мягко и непринуждённо выводили на расстрельную статью 58- измена Родине, шпионаж. К счастью стармех вспомнил о своем добром приятеле, так же страстном фотографе и товарище по рыбалке и выпивке Саше-майоре. Ходили упорные слухи, что Саша служит в Конторе. Ипполит Геннадьевич назвал следователю фамилию Саши. Следователь переменился в лице, резко сменил тон с мягко-приятельского на официальный и позвонил куда-то по внутреннему телефону. Через десять минут явился Саша-майор, почему-то при погонах полковника.
Ипполита попросили подождать в коридоре. Вскоре вышел Саша и сказал, что вопрос исперчен и можно идти домой. Позже за рюмкой чая Саша ворчал: «Комсомольский призыв, из райкомов, мать их. В 25 лет уже конченая сволочь. Наследнички Ежова. Ради карьеры готовы по трупам идти. Вот такие Союз и погубят».
Вот эту то превосходную немецкую фотокамеру с трудной судьбой (едва не погубившую своего обладателя) и собрался использовать Владлен для фотографирования при странных обстоятельствах странного агрегата, найденного в странном месте, оборудованного неизвестными для непонятных целей.
Семён по распоряжению капитана фотографировал, сверкая вспышкой, словно опытный криминалист на месте преступления. Фиксировали по системе — «Всё включено» или от печки, то есть от найденного «электроящика» «Siemens» и старогерманских трансформаторов по соседству, до узкоколейки и причальных скоб у воды грота. Трофейная чудо-грелка была сфотографирована ещё будучи допёртой до судна вконец измотанными за день Борей и Ромой. Они были отправлены отдыхать по приказу капитана, с тем, чтобы сменить нас с Устинычем на подскальной вахте в полночь. Новых людей из экипажа Владлен решил в грот не допускать, чтобы не устраивать, как он тонко выразился: «В сакральном, тайном месте проходной двор и этим спугнуть удачу».
За хлопотами вокруг приливной подстанции, как-то забылось о немалой пропаже — угнанной кем-то дрезине. Решено было направиться по следам угонщиков (или угонщика) в глубь тоннеля. Заодно имелась перспектива набрести на что-то не менее, а может быть более интересное чем то, что было уже найдено, запротоколировано и приобщено к «Cледствию по делу» грот «Медвежий и партнёры».
Покидая электроподстанцию мы по запарке и второпях забыли, что называется: «Уходя погасить свет» Наша забывчивость обернулась приятным сюрпризом. Выйдя в большой тоннель мы с радостью обнаружили, что он неплохо освещен такими же грушевидными лампами накаливания под алюминиевыми конусами, что и в покинутой подстанции. Хватало и перегоревших ламп, однако и оставшихся было достаточно для нормальной ориентации.
Вскоре мы вышли на то место где Владлен несколько часов назад нашёл мотодрезину. Здесь же валялись обрывки англоязычной ленты, которые прежде, по словам капитана, огораживали подход к дрезине и дальнейший проход по туннелю. Наша четвёрка во главе с капитаном двинулась вперёд по рельсам узкоколейки.
Этот чёртов туннель всё никак не хотел заканчиваться. Скажу больше — он над нами издевался. Чем дальше мы продвигались тем всё круче и заметнее дорога в туннеле поднималась вверх. В конце-концов мы уже с трудом плелись в гору и наш неспортивный кэп тяжело отдуваясь, заявил: «Хорош парни! Умный в гору не пойдёт, а поскольку самый умный здесь я, то я возвращаюсь на судно. Семён со мной, он мне там нужен. А вы, двое кадров, Владлен кивнул в нашу с Устинычем сторону, пара гнедых, по чьей милости мы здесь пешком стоим, останетесь здесь ждать сменщиков. Мы километра три прошли от входа, значит по любому до выхода на поверхность еще столько же, может чуть больше».
Последняя фраза капитана меня в очередной раз озадачила. Я видимо плохо скрываю эмоции и он это заметил. «Раз говорю, значит знаю». — резюмировал командир. — «Есть вопросы?» Мне вдруг вспомнился недавний наш визит в каюту майора Бьернсона и как Владлен почти полчаса колдовал с ним над картами и схемами. Вопросов у меня пока больше не было.
Освещение туннеля в этом месте оставляло желать лучшего. В отрезке метров на пятьдесят горела всего одна лампа, да и то с каким то старческим близоруким прищуром, в полсилы. Когда капитан с Семёном скрылись за дальним поворотом мы с боцманом присели у стены, не стоять же столбами. Устиныч приятно удивил меня, достав из противогазной сумки на поясе, где обычно держал мелкий такелажный инструмент, большую консервную банку со скумбрией в собственном соку, а так же завернутую в газету гарбуху посоленного серого хлеба.
Скумбрия была родная, из нашего судового автоклава — агрегата для варки свежезакатаных рыбных консервов, а так же дефицитной, а потому часто неучтённой тресковой печени. По этому случаю в каптёрке у боцмана хранились так же нелегальные соль, специи и десяток другой ящиков с пустыми консервными банками и крышками для них. Это был не совсем, а точнее совсем незаконный маленький бизнес экипажа. Чаще всего произведенная таким образом неучтенная продукция просто съедалась самими производителями или членами их семей с друзьями. Однако, скажу я вам, рыбные консервы купленные в магазине и рыбные консервы сваренные для себя это две большие разницы. Первое — вкуснейший деликатес (фактор первой и последней свежести) Второе — (свежесть, увы, тоже вторая) просто еда бедняков.
Позже ни в каких изысканных рыбных ресторанах не пробовал я ничего вкуснее той консервированной скумбрии. Я со слезой в голосе признаюсь, что даже видел эту красавицу живой. Её двух килограммовую полосатую и трепыхающуюся я лично выудил за хвост среди прыгающей трески и отправил в ящик для прилова.
Покончив с трапезой мы совершенно расслабились и даже задремали. Но молодому всегда неймётся и минут через двадцать я принялся теребить боцмана мирно посапывающего в усы (он таки принял колпачок-другой из заветной титановой фляжки) — «Устинычь, спишь?» задал я шёпотом полутёмному пространству туннеля почти риторический вопрос. Старый приоткрыл левый глаз под сивой мохнатой бровью и недовольно пробурчал: «Нет, придуриваюсь». В его ответе было столько же логики сколько и в моём вопросе, что не помешало мне продолжить наш светский диалог.
Я решил напомнить автору содержание предыдущей серии: «Ты про Гренландию рассказывал, когда на охоту собрался, да тебя тогда прервали — Бьернсон помешал. На самом интересном месте, когда брат Миника за вами на собачьей упряжке приехал». — «Ну, предположим это не самое интересное, а только начало интересного». — заметно оживился боцман. Я без труда попал в точку — любил Бронислав Устиныч порассказать. Как выражались некоторые не слишком благодарные слушатели из экипажа — «мемуары потравить».
Могли бы быть и учтивее, в конце концов делал это наш баян с завидным для многих мастерством. Выдержав короткую театральную паузу, он продолжил: «Тогда, прежде чем отправиться в дорогу на собачьей упряжке, предложили мне братья-инуки перекусить чем духи Гренландии послали. Разложил этот толстенький Нанок закуски и рукой мне жест делает: „Угощайся, мол“.Я бы рад угостится, да снедь больно непривычная — рыба вяленая на ветру и солнце — юкола, хотя и без пива, но пожевать можно. Но откровенно протухшие куски мяса с зелёной плесенью, что твой Камамбер и куски посвежее, но совершенно сырые — это было слишком».
Да и дух от этой скатерти — самобранки шёл такой, что хоть гренландских святых выноси. Хотел я рыбки сухой пожевать, да она в узелке наноковом вперемешку с этой снедью такими ароматами пропиталась, что почудилось мне, что я три дня не стираным носком дяди Васи-сантехника полакомится пытаюсь. Неловко мне гостеприимных хозяев обижать, да чую — вот-вот «смычку брошу», сблюю то есть. Отродясь морской болезнью не страдал, а тут, стыд то какой, замутило, как какого-то салажонка.
Покосился я на Миника, а у того, хоть и не улыбается, а в чёрных, раскосых глазах черти прыгают. Ну думаю издеваются братья-эскимосы, как старослужащие над новобранцем. На «слабо» берут. Задело это меня шибко. Нет, говорю про себя: «Врёшь! Не возьмёшь! Никогда Бронислав Друзь не поднимал рук, прося о пощаде!»
Беру я твёрдой рукой большой кусок сырого мяса с душком, солю его крепко, чтоб значит шанс на выживание поиметь и только до рта донёс, как Миник мою руку останавливает и слегка улыбаясь, говорит: «Не надо Рони, наша еда не для европейских желудков, чтобы это есть надо родиться в Гренландии и родиться инуком. Не зря нас эскимосами, то есть пожирателями сырого мяса дразнят. „На вот, держи пока“ — и протягивает банку датской ветчины. „А когда“ — говорит — „приедем на место уху из свежей рыбы наварим“». Её, мол, уху все уважают: и наши и ваши.
На чём я только, Вальдамир за свою жизнь не ездил и на торпедном катере и на лошадках верхом и на снегоходе и на вездеходе. Сам машину вожу не плохо. А вот на собачках мне только в Гренландии довелось. С чем это сравнить? Ну разве что всякий, кому в детстве родители не запрещали или кто совсем уж трусишкой не был, может вспомнить катание на санках с крутой горки. Вспомнить вольный, холодный ветер бьющий в лицо и свежее детское, которое уходит с возрастом, неземное, захватывающее дух ощущение свободы, полёта и счастья.
Когда разогналась собачья упряжка по снежному насту и взлетели мы на первом снежном бархане захотелось мне, как пацану малолетнему заорать от избытка чувств, до того здорово это было. Правда, когда нарты приземлились вместе с моими кишками и я себе едва язык не откусил, поостыл я маленько. Потом понял, когда в таком раскладе вверх летишь, надо не только ребячий кайф ловить, но и успеть сгруппироваться для приземления — живот подобрать и привстать и сгруппироваться, а не сидеть, как поп на чаепитии. Понял я почему унуки — «хаскиводители» визжат в полёте и «Юк-Юк» кричат, вперед значит. Это, как я разумею, чтобы не только собачек взбодрить, но и из себя лишний лихой дух выпустить, а не то от дурного веселья заиграться можно, внимание ослабить, да в ледяное ущелье, а они там бездонные, вместе с упряжкой и сверзиться.
Ехали мы часа три, правда с остановками. Нанок собакам лапы проверял, чистил ото льда, что между пальцами собирается. Я было хотел приласкать одну симпатягу бирюзовоглазую, да Миник меня остановил, так сказал: «Взрослая гренландская Хаски, Рони, к ласке не приучена и, если что, ласкателя огорчить может до невозможности, поскольку просто не поймет его нежных порывов. Ездовой, каюр — хаскиводитель для собаки, что господь Бог для верующего и потому должен быть, как Большой отец для малых — неисповедимым в путях, строгим и иногда заботливым. Никогда не давай ездовой собаке почувствовать твою слабость. Она сама станет слабой — существом потерявшем веру и на неё нельзя уже будет надеяться. А тогда вам с нею уже ничего не поможет».
Собрался я с духом и попросил у братьев-инуков разрешения каюром побыть — собачьей упряжкой поуправлять. Миник вроде сразу согласился, А вот Нанок поначалу заупрямился: «Нет, мол и всё». Ревнует значит. Однако Миник его упрашивать не стал, а бросил короткую фразу и таким тоном, что и без перевода понятно — два слова: «Я сказал!» Сразу стало ясно — кто старший брат. Принял я из рук Нанока поводья упряжки и волнуюсь чего-то. Когда первый раз за штурвал боевого торпедного катера встал и то меньше волновался. Тут слышу Миник мне на ухо шепчет: «Юк! Юк!» командуй, мол. Ну я не будь дурак и взревел, что твой гудок пароходный, басом своим шаляпинским «Юк! Юк! А ну, залётные!»
Собачки наши от такого панславизма сначала на ходу все вдруг подпрыгнули, как бы свечку сделали, а после такой аллюр три креста дали, что твоя птица тройка. Эскимосы мои от неожиданности чуть из нарт не кувырнулись, однако сноровку не пропьёшь. Смеяться начали. Как оклемались Миник меня варежкой по плечу хлопает: «Признали тебя наши собачки». А мне грешным делом подумалось, что я, может быть, первый в мире боцман-хаскиводитель.
Глава 21. «Боцман в иглу»
Cидеть на холодном сыром камне в густом полумраке тоннеля было не то, чтобы слишком уютно. Боцман, увлечённый собственным повествованием, как многие прирождённые рассказчики настолько вживался в описываемые образы, что порой, словно настоящий актёр менял не только интонации и играл голосом, но воспроизводил мимику лица и жесты очередного персонажа. Совершенно увлёкшись, мой напарник сидя елозил, раскачивался и подпрыгивал, а иногда даже вскакивал и размахивал длинными руками.
Таким образом я ещё лет двадцать назад, задолго до любимых мной ныне: Евгения Гришковца, Александра Филипенко и Константина Райкина, познакомился с понятием — моноспектакль. Всё бы ничего — я всегда был благодарным зрителем талантливой актёрской работы, но наш судовой самородок, словно переполненный любовными песнями токующий глухарь, бывало переставал контактировать с действительностью. А действительность состояла из моего влажно-холодного шмыгающего носа цвета морской волны, заледеневших рук и ног, а так-же челюстей выбивающих бунтующими зубами неостановимую барабанную дробь.
Театральное соло Устиныча прервал дальний шум, донёсшийся с высокой стороны туннеля. После чего мы не то чтобы услышали, а скорее почувствовали нарастающую вибрацию исходящую от стен и каменного пола. Я ощутил плотную волну холодного воздуха, ударившую в лицо. Вдруг какая-то сила резко и грубо развернула меня в противоположную сторону и рванув за рукав куртки голосом боцмана, приправленным бонтонным запахом пятнадцатилетнего Курвуазье, рявкнула прямо в ухо: «Бегом!» Приказывать дважды не пришлось и я получив отменный заряд адреналина, словно учуявший жуткий волчий запах молодой олень, огромными, как будто во сне скачками, устремился вниз по туннелю.
Впереди, как в замедленных кинокадрах красиво отталкиваясь от земли длинными балетными ногами в кирзовых ботинках, (к данной мизансцене скорее подошли бы лёгкие, серебристые пуанты) нет не бежал — летел по воздуху мой дорогой друг и наставник Бронислав Устинович Друзь. В правой длани воздетой ввысь он торжественно, словно факел со священным Олимпийским огнем нёс благородно мерцающую в полумраке старинным серебром, заветную титановую флягу. Судя по всему внезапные тревожные звуки неудачно совпали у него с мимолётным желанием пригубить толику благородного напитка из сего изысканного сосуда.
Мы стремительно, словно заправские фавориты на бегах преодолели за каких-то несколько мгновений путь, на который совсем недавно потратили добрые минут пятнадцать и вылетели из полусвета туннеля в полумрак грота. Как по команде бросились мы в стороны от рельс и через секунд пять на выходе с лязгом и скрипом показалась уже потерявшая на пологом месте инерционную скорость наша недавняя пропажа — мотодрезина с прицепом. Я поразился самосохранительной интуиции Устиныча — тяжелые боковые борта прицепа были откинуты, так-что при движении дрезины находились под углом и не доходили до стен туннеля каких-то десятка сантиметров. По сути мирный рабочий транспорт был чьими-то недобрыми руками превращён в подобие древней боевой колесницы секущей толпу вражеских воинов вделанными в борта острыми косами.
Окажись боцман менее чувствительным к опасности, а мы оба не столь успешными в узкоколейных бегах, быть бы нашей «паре гнедых» сейчас капитально изувеченными, а может и того хуже. Отдышавшись и успокоившись Устиныч взглянул на светящийся циферблат своих японских «Seiko» (предмета моей тайной зависти) и немного помолчав, произнёс: «Минуло только два часа, а нас уже убить пытались».
Услышав сие явно не японское двустишие, я признаться не на шутку перепугался, обеспокоившись состоянием психического здоровья моего впечатлительного напарника. Однако вспомнив о неизбывной страсти боцмана к спонтанным стихотворным импровизациям, я несколько успокоился и подержав минутную паузу с всей возможной вежливостью и тактом осведомился: «Бронислав Устинович, вы в порядке?»
Бронислав Устинович как-то по конски, едва не всхрапнув, покосился в мою сторону, фыркнул не разжимая губ и произнёс: «Не дрейфь, Паганюха. Тот кто на нас покушался, тот больше тебя дрейфил, поскольку такую хитроподлость, он кивнул в сторону дрезины с расхристанным кузовом, на такую пакость, повторил он, решится мог лишь человек с отчаянно расшатанной психикой. Это я тебе авторитетно, как человек близко знакомый с последними веяниями мировой психиатрической мысли заявляю».
— «А вы откуда знаете, что это сделал один человек, может там и не один вовсе?» резонно возразил я. — «Видите ли Вальдамир», начал издалека мой просвещённый друг. Мне почудилось, что в этом месте боцман просто обязан аристократическим жестом — тремя пальцами снять с массивного носа несуществующее пенсне и начать бережно протирать его белоснежным носовым платком, вынутым из нагрудного кармана элегантного пиджака английского твида.
— «Так видите ли, юноша. Группа людей, а группа это когда больше одного. Так вот, небольшая группа людей, не находящихся в состоянии панической истерии, гораздо реже, чем одиночка принимает необдуманные, спонтанные или я бы даже сказал эмоциональные решения. Если это конечно не группа детей или взрослых имбецилов, что в нашем случае маловероятно. А вот вполне не глупый, но уставший, растерянный и одинокий человек как раз способен на импульсивные и необдуманные поступки. Исходя из вышеизложенного мы дождёмся прихода ночной вахты и тогда уже вместе, оперативно посовещавшись, решимся на дальнейшие действия. Пока же мы сотворим вот что.
Боцман повернулся и подошёл к дрезине. В открытом кузове, казалось вначале пустом, из под скомканного пласта серой парусины выглядывал эбонитовый угол недавней знакомицы — химической чудо-грелки. Устиныч с моей помощью закрыл борта кузова и мы влезли в него. После чего мой одарённый приятель непринуждённо продемонстрировал техническую сторону своих талантов, заведя эту немецкую бандуру без малейших запинок. Уже через пять минут от неё повеяло всё усиливающимся теплом, словно от разгорающегося невидимого костра и в дощатом, грузовом кузове времён второй мировой войны стало уютно, словно у старинного камина.
Мы снова устроились рядом, блаженно вытянув две пары ног в сторону работающей химической батареи. Устиныч с несколько запоздалой любезностью протянул мне флягу с коньяком: „Хлебни для профилактики ОРЗ“ + с заботой в голосе сказал он. Для тех кто не в курсе ОРЗ — острое респираторное заболевание, в те годы врачи-терапевты так именовали банальную простуду». «Вот так и начинается алкоголизм» — подумалось мне. Однако профилактика — святое дело и я таки изрядно хлебнул. Вскоре я почувствовал, что счастлив, а мой спутник в эти чудные мгновенья дороже мне отца родного. Боцман тоже порядком расслабился и чтобы не уснуть к приходу сменщиков Бори и Ромы решил продолжить изрядно растянувшуюся по времени, но от того не менее захватывающую Гренландскую эпопею
— «Знаешь ли ты, Паганюха, что езда на собачьих упряжках столь радостная в начале, в течении нескольких часов непривычного седока утомляет куда более, чем скажем дневной переход по жаркой Сахаре между трясущихся горбов, какого-нибудь, понимаешь, верблюда-бактриана. Когда мы наконец спустились в небольшую светлую от плотного льдистого наста долину сплошь усеянную несколькими десятками полушарий, белоснежных домиков-иглу, я скажу тебе почти обрадовался. Это ведь всё дело привычки и когда пришлось ехать на собачках во второй раз, то было уже полегче».
Иглу эти при ближайшем рассмотрении оказались построенными из блоков-плит плотного снега. Позже мне повезло наблюдать, как гренландские эскимосы-инуки распилив на плиты длинными ножами для разделки тюленьих и китовых туш такой вот твёрдый, слежавшийся сугроб, за какой-то час с небольшим соорудили классический иглу. Плиты разных размеров располагались по спирали, словно в раковине улитки, сужающуюся к своду. Все снежные блоки они с врождённой сноровкой укладывали с опорой на предыдущие в трёх точках. В довершении готовый снежный домик для крепости конструкции полили с внешней стороны водой, растопив снег на огне в чане.
Когда мы спешились, Нанок пошёл распрягать и кормить собак, а мы с Миником направились к ближайшему иглу. Вход в этот ледяной домик меня, скажу я тебе, порядком озадачил, потому как более напоминал большую нору или в лучшем случае лаз, но никак не вход в нормальное жилище. Особенно он был неудобен для людей не эскимосской комплекции, типа меня. Однако, чего я хотел? Экзотика и комфорт понятия мало совместимые.
Вообщем лезу я следом за Миником по снежному проходу на самых, извиняюсь карачках, а самого смех разбирает. Подумалось, что так мог начинаться свежий анекдот из цикла «про боцманов»: «Ползёт, мол, по снежному ходу боцман в иглу, к эскимосам в гости, но что-то долго ползёт и никак не может определить в каком он собственно проходе, заднем или переднем?»
Я конечно, шутки ради, преувеличиваю, поскольку вход в иглу из наружного лаза короткий, так-что не заблудишься. Вообщем вынырнул я следом за Миником прямо внутри ледяной избушки. Признаться ожидал я, что воздух внутри будет мягко говоря тяжеловат, с учётом местных гастрономических особенностей, тем более. Однако ничего страшного, воздух был вполне в норме, поскольку пол в иглу, между прочим, располагается выше уровня входа, чтобы углекислота, которая тяжелее кислорода легко сменялась свежим более лёгким воздухом.
Вообщем внутри было светло, поскольку снежные блоки хорошо пропускают наружный свет, а так же и тепло — посреди жилища устланного в три слоя толстыми шкурами, слегка коптя, горел ровным пламенем небольшой костерок — тюлений жир в плоском корытце. Но самое главное и меня это приятно удивило в хижине-иглу было сухо, хотя я, признаюсь, опасался сырости от тающего снега. Самое приятное, Вальдамир, это было то, что в этом экзотическом помещении стоял чарующий запах варящейся ухи — в большом казане на треноге над костерком из тюленьего жира булькало и парилось аппетитное варево. В животе у меня заурчал небольшой, но весьма прожорливый зверь, давая почувствовать насколько он проголодался.
Тут я обратил внимание, что в домике похоже никого нет и уха, как в сказке, варится по собственному хотению. Мое фантастическое предположение опровергли совсем не сказочные звуки — из под шкур донеслось старческое кряхтенье, покашливание и как бы тебе сказать, не в обиду старичкам — попукивание. На свет божий, откинув в сторону не совсем чистое одеяло из песцовых шкур вылез дедушка с лицом сморщенным, как завяленная на северном солнце и ветру рыба. Личность гренландского ветерана украшала седая реденькая бородка, за которую я тут же окрестил старичка — дедушка Хо, в честь вьетнамского Ленина — Хо Ше Мина, портреты которого в те годы часто мелькали в советской прессе и в телевизоре.
Не обращая на нас ни малейшего внимания, он посапывая и бормоча, ловко сдвинул треногу с рыбным варевом в сторону от огня. — «Это Большой Джуулут — ангакок (шаман) нашего рода — Калаалит Анори, людей ветра, почтительно косясь глазами в сторону старика, прошептал мне на ухо Миник. Я про себя отметил, что живого веса в большом Джулуте, дай бог килограмм тридцать пять. Миник между тем продолжал нашёптывать: „Это он много месяцев назад сказал, что весной в Нуук на ледяной горе занесёт посланного нашему роду сильного человека. Ростом и удачей, как у двух охотников-инуков, с усами, как чёрные стрелы и руками сильными, как лапы нанока“».
Признаюсь, очень меня озадачили эти новые миниковы подробности, да и вопросов к нему возникло достаточно, но тут дедушка Хо (Большой Джуулут) выудил откуда то из под шкур три больших оловянных ложки и жестом пригласил нас к остывающему казану с ухой. Сижу я, хлебаю ароматное рыбное варево, заправленное неизвестными кореньями и думаю про себя: «Вот сижу я простой русский моряк, в иглу снежном между двумя эскимосами-инуками старым и молодым, сижу я здесь и местную уху дегустирую. А почему я здесь и зачем это одному Богу известно, да ещё может подчинённым ему местным гренландским духам, собеседникам худенького ангакока Большого Джуулута. Вот такие неисповедимые пути нас по жизни водят, Паганюха» — вздохнул с какой то затаённой грустью Бронислав Устиныч.
Глава 22. «Боцман и духи инуитов»
Устиныч замолчал, задумавшись о чём то своём на несколько невесёлых минут, в течении которых я, надо отдать мне должное, деликатно помалкивал. Наконец боцман вновь продолжил своё повествование, на этот раз (видимо для разнообразия) его речь строилась в несколько книжном, литературном стиле. Он и внешне как-то слегка изменился, видимо примерив образ интеллектуала-профессора и оттого начал выражаться в литературно-интеллигентной манере: «Как ни странно, но старик на протяжении всей нашей совместной трапезы, когда мы втроем сидели вокруг аппетитно парящего казанка с ухой не только не проронил ни слова, но даже не покосился в мою сторону, лишь шумно втягивал с ложки горячее варево».
И то сказать уха удалась на славу — кому как не обитателям богатого рыбой гренландского побережья не знать толк в её, милой, разнообразном приготовлении. Правда, как поведал мне Миник, его соплеменники-инуиты будучи на протяжении многих сотен лет заядлыми сыроядцами, твёрдо убеждены, что только через сырое мясо рыбы, морского и всякого иного зверя человек может получить жизненную энергию для тяжкого труда выживания на белой, студёной земле матери Гренландии. Варить или жарить пищу они стали чаще с приходом европейцев, которые принесли с собой не только разнообразные полезные вещи, но и множество болезней и дурных обычаев, таких например, как употребление алкоголя.
У инуков с этим та же беда, что и у их южных соседей и дальних родственников — североамериканских индейцев. Мне приходилось наблюдать неприятные, скажу я тебе, картины, когда суровый молчаливый охотник, зайдя в бар в Нууке, после стакана, другого, некрепкого светлого пива превращался в сползающее под стол бесполое, идиотски хихикающее ничтожество.
Некоторые рода племени инуитов, такой например, как род Миника — Калаалит Анори для оздоровления своих людей от таких «благ цивилизации» много месяцев в году проводят вдали от неё родимой: на холодных, но чистых просторах ледяного острова, освоенными восемьсот лет назад их далёкими предками племенами Туле, приплывшими с побережья Аляски. По обычаям предков и как велят духи инуитов они и стараются жить, хотя и не чураются некоторых полезных изобретений внешнего человечества — это современные ружья, капроновые рыболовные сети, антибиотики и множество мелочей отказаться от которых уже нет ни сил ни возможности.
Возвращение к истокам у людей — калааллит происходит совершенно добровольно и многие из них уже ставшие частью новой жизни и не помышляют о бегстве в прошлое, работая в горнорудных шахтах и на конвейерах заводов рыбообробатывающих компаний. Кто-то, такие как Миник — целеустремленные, со светлой головой, мужским твёрдым характером и душой влюблённой в мать-Гренландию, пытаются сохранить самобытность народа и одновременно по возможности безболезненно принять неизбежное — современный уклад жизни. Миник, скажу я тебе, жил одновременно в двух мирах — в мире духов инуитов, окружающих Большого Джуулута и в мире Новой современной Гренландии.
Я позже спросил у него: «Как человек с университетским образованием может искренне верить в существование каких-то надмирных сущностей — духов и прочей мистики?» Миник взглянул на меня своими антрацитно-раскосыми глазами и спросил: «Считаю ли я, к примеру японцев, отсталой и невежественной нацией?» Я, сам понимаешь, ответил отрицательно.
— «Тогда как объяснить, продолжил он, что в стране с пятнадцатью университетами миллионы людей с высшим образованием искренне и горячо исповедуют синтоизм — в котором у всех вещей и явлений природы есть своя духовная сущность — ками? Эти сущности, кроме духов священных материальных объектов, например духов долины, горы или духов природных явлений так же включают в себя и духов умерших предков, которые, получив от своих живых потомков духовные эманации почитания, уважения и любви отвечают им защитой и покровительством в повседневной жизни.
А как истолковать, не успокаивался Миник, что ангакок — старый Большой Джуулут, никогда не посещавший ни Нуука, ни других современных поселений и общавшийся с соплеменниками по мере необходимости и в основном жестами, ещё полгода назад предупредил о твоём Рони появлении в Нууке и с такими подробностями, что я никак не мог перепутать тебя с кем то другим. Он даже сказал, что у тебя под левой лопаткой имеется розовое солнце — подарок от твоего духа-покровителя, отклонившего железную смерть за твою доброту к людям».
В этом месте рассказа я почувствовал, что принятая ранее роль заумного интеллигента начинает боцману надоедать некоторой своей занудностью и он постепенно возвращается к своему обычному стилю: «Тут я, Вальдамир, умолк потрясённо. У меня, скажу я тебе, в самом деле такое было. В конце войны, когда наш торпедный катер на котором я юнгой ходил, с немецким мессером схлестнулся. Я в рубке за штурвалом стоял, поскольку штатного рулевого ранило тяжело и мессер этот сто девятый на очередной заход пошёл, чтобы из четырёх своих пулемётов — MG17 огорчить нас до невозможности. Рубка наша фанерная была, только усилена в трех местах броневыми листами, которые я между прочим (уже тогда боцманские замашки имел)на ящик американской тушёнки выменял».
Так, понимаешь одна из пулек, винтовочного калибра 7,92 мм кусок от моей выменянной брони отколола и это железо мне кожу с мясом аж до самых рёбер срезало. Хирург потом сказал, что аккурат напротив сердечной мышцы. Заживало потом долго, даже пересадку кожи с ягодицы делали — весь госпиталь ржал: «Мол скажи спасибо, Броня, что тебя не в лоб ранило, а то ходил бы с куском жопы в в виде солнца во лбу, как у тебя сейчас под левой лопаткой».
Всё это конечно, понимаешь ли Поганюха, было потрясающе интересно, однако, как говорится основная тема раскрыта не была. В чём спрашивается мораль сей басни и за каким гренландским лешим этот местный дедушка Хо — Большой Джуулут с его приятелями-надмирными сущностями и моим новым приятелем Миником выманили меня в эту белую глушь, якобы на промысел зверя? В чём, собственно, смысл мистически-таинственной связи русского боцмана и духов инуитов?
На этот вопрос, обращённый к Минику ответа я тогда не получил, лишь отговорку, что всему своё время и не стоит торопить события. Мне лишь посоветовали ложиться спать под тёплые шкуры, потому, как поход за добычей состоится уже через несколько часов. Всего-то и делов: советский, понимаешь, боцман и духи инуитов должны будут вступить в «невидимую, но прочную связь» (как выразился Миник) и произойти это эпохальное событие может только в процессе самого древнего мужского занятия — на охоте.
Где-то в половине четвёртого дедушка Хо — Большой Джуулут разбудил меня, причём самым оригинальным образом — мне подали кофе в постель. Ну, понимаешь, не совсем кофе, а скорее чай и не совсем в постель, а скорее в шкуры, но всё равно было бы весьма, знаешь ли, бонтонно, если бы не одно но (Дедушка Хо оказался тот ещё оригинал) — литровую жестяную кружку с почти живым кипятком он приставил к моему единственному и неповторимому спящему носу, вернее аккуратно расположил, прислонив к усам. Скорее всего старик желал выразить своё искреннее восхищение относительно окраса, пышности и размеров этой, к сожалению, не промысловой пушнины.
Я наверное всё-таки бы обжёгся, поскольку волею обстоятельств мой организм отреагировал соответствующим неприличным сновидением — будто мой щуплый капитан Ромуальдыч, безмерно осерчав на меня за что-то, размахивает у моего носа стянутым с его небольшой, но всё же капитанской ноги не совсем свежим и слегка ветхим носком, приговаривая зловещим шепотом Бабы Яги из кино сказки Кащей Бессмертный: «Чуешь командирский дух, боцман? Нет, я тебя гада спрашиваю, ты командирский дух чуешь?»
И такая оторопь меня во сне взяла, такое возмущение: «Нет, ну что этот клоун о себе вообразил? Ты возьми, если приспичило, с полки рундука чистый, выстиранный предмет интимного белья и размахивай им сколько влезет, так нет же духом он решил похвастаться, то же мне Василий Иванович выискался. Я что ему, Петька что ли? Осерчал я ответным образом не на шутку. Такой гнев меня во сне охватил, что изо рта, как у змея Горыныча из пасти пламя полыхнуло, да так, что нос припекло. Тут я и проснулся, подскочил и едва носом эту самую кружку с кипятком за ручку то и не подцепил, но пронесло, обошлось значит».
Должен сказать, что чай этот был особый, духовитый и жутко крепкий, но не чифирь — куда как хитрее рецептура. Приметил я у снежной стенки в корытце между свертками всякими большую початую пачку красного китайского чая. У нас он «Дружба» назывался, там ещё на этикетке желтая рука белую пожимает. Сахару в том чае тоже было более чем — ну очень сладкий. Только собрался я ещё отхлебнуть, как старый мне на ноже добрый кусок нерпичьего жира протягивает и целится мне этим куском прямо в кружку. Я конечно против — не по животу угощение. Хорошо Миник выручил — сказал он что-то Большому Джуулуту, так тот в ответ недовольно редкими седыми бровками пошевелил. Миник же взамен тюленьего жира мне в кружку добрый кусок датского коровьего масла булькнул. И на том спасибо — вот, мол, тебе царский завтрак охотник: бодрость, сытость и лёгкость в животе. Что может быть лучше, чтобы рука была твердой, а поступь лёгкой?
Глава 23. «Боцман в каяке»
Боцман прервал свою «гренландскую повесть», взглянул на светящийся циферблат наручных часов и поморщившись, проворчал: «И торопится вредно и медлить грех. Пока я тебе, малой, тут мемуары расписываю, что угодно произойти может. Надо к концу туннеля идти — там ответы на многие вопросы. Да нельзя вдвоём — опасно и всё дело испортить можно. Надо смену ждать». — «Ну мы же молча ждать не будем? Устиныч, а вы сами не задумывались всерьёз за настоящую книгу засесть. Название бы к примеру подошло — „Моя Гренландия“. Вы ведь, правда, классно излагаете» — вполне искренне польстил я своему талантливому напарнику.
Боцман не без грусти усмехнувшись, слегка помолчав, ответил: «Слышал такую мудрость — „Кто красиво говорит — красиво не напишет“. Так вот это про меня. То что я стишки кропаю, так это всё не серьёзно, больше для веселья, чтобы ребят уставших после вахты расшевелить. Мемуары травить — вот это моё (благо придумывать особо нечего — всё правда), а литератор из меня, как из Владлена нашего балерина. Вот ты, Вальдамир и запоминай мои излияния, может когда и запишешь, так упомяни меня в своих великих романах — соавтор, мол, Б. У. Друзь. Так, что слушай и запоминай, биограф ты мой подскальный».
Выбрался я с Миником на волю из снежной избушки Большого Джуулута и вижу, что братец Нанок со своими собачками уже тут как тут — ожидает. Сели мы в нарты и без лишних разговоров поехали курсом на Норд-Ост. Ехали недолго — через минут двадцать показалась большая морская бухта вся в белёсом крошеве мелкого битого льда. Остановились мы у пологого скалистого спуска к воде. Нанок остался со своей упряжкой, а мы с Миником подхватив ружья и амуницию стали спускаться вниз. Я сказать честно, с надеждой ожидал увидеть у воды моторную или хотя бы вёсельную, знакомую и привычную мне морскую шлюпку.
Однако к худу или к добру надежды мои не оправдались. Миник привел меня на галечный пляж, где у нависающей скалы из больших, неподъёмных для одного человека камней сооружено было подобие стен склада, крышей которому служил тот самый скальный навес. Дверью в эту каменное хранилище служил огромный, круглый валун, который мы вдвоём не без труда откатили в сторону. Нам открылся, как будто небольшой музей. Я бы назвал его «Инуиты и морское дело». Миник с гордостью принялся просвещать меня, на этот раз относительно морских достижений своего народа, выполняя ставшею уже привычной ему роль гида.
В хранилище из камня находилось более десятка экзотических для свежего взгляда туземных плавсредств разного размера и вида. «Это мужские лодки — каяки» — пояснял Миник указывая на небольшие остроносые лодки с одним или двумя люками для гребцов, с каркасом из гибких костяных планок, обтянутых моржовой кожей. — «На них наши охотники промышляют небольшого морского зверя: некрупную нерпу или молодого лахтака — морского зайца. „Это“ — показал он на самую большую и длинную с тупоконечным кормой и носом восьмиметровую лодку — „умиак, грузовая или женская лодка, ею управляют молодые женщины — до двух десятков в одной лодке. Пользуются ею когда перевозят грузы на летние охотничьи земли“.
Делают умиак из связанного в остов китового уса и обтягивают кожей морского зайца, кстати скоро она понадобится нашему роду, когда подойдут гренландские киты — на китобойном промысле умиак незаменим. Ну, а это байдара — наша инуитская яхта» — похлопал он по издавшей барабанный гул моржовой шкуре, обтягивающей нос шестиметровой, остроносой лодки с восемью люками и небольшой мачтой установленной посредине. С горизонтальной реи которой свисал необычный парус из полупрозрачных выделанных кишок тюленей.
У стены склада были свалены в отдельные стопки вёсла, связки каких-то шкур, а так же разнокалиберные гарпуны с мотками кожаных тросов и металлическими остро иззубренными наконечниками, для защиты от ржавчины густо смазанными тюленьим или китовым жиром. Здесь же находился большой кожаный баул из которого Миник выудил: пару штанов, подобие болотных сапог с высокими, доходящими до бёдер голенищами и глухую, одевающуюся через голову куртку c просторным капюшоном. Всё это было пошито из тщательно выделанной тюленьей шкуры и отделано внутри слоями нашитых на тонкую кожу серых гагачьих перьев для сохранения тепла. Поверх всего этого великолепия натягивалось водозащитное покрытие с капюшоном из кишок нерпы.
Я облачился в этот инуитский, охотничий скафандр и с удивлением обнаружил, что он мне вполне в пору и даже чуть великоват, это как раз было даже кстати, поскольку делало все движения более свободными. Я отметил, что размер этого костюмчика пожалуй более чем великоват для любого, даже самого рослого эскимоса. Миник перехватил мой вопросительный взгляд и усмехнувшись сказал, что мои размеры гренландские духи не сообщали, просто этот комплект держат для редких гостей — американцев, датчан и прочих гостей, которые все как на подбор (с чего бы это?) примерно моего гренадерского роста и комплекции.
Миник выбрал двухместный каяк, вёсла и пару небольших гарпунов с закреплёнными на них связками кожаных тросиков. Взгромоздив килем вверх сравнительно лёгкую инуитскую лодку себе на плечи мы отнесли её поближе к воде, после чего вернулись к каменному хранилищу и закрыли вход в него валуном. Всю амуницию и ружья мы разместили внутри каяка, причём Миник разместил возле себя гарпун, как охотник умеющий с ним обращаться, а мне отвёл роль человека с ружьём, который будет чётко выполнять его Миника указания. Это было разумно, поскольку хотя нас и было двое напарников, настоящий гренландский промысловик был только один и это был не я. Кроме прочего меня тревожила неприятная возможность осрамится перед моим новым другом инуком — аакияком. Негоже было бы русскому боцману в каяке инуитском опозориться.
Миник сноровисто порхал веслом по воде. Каяк чуть переваливаясь с борта на борт довольно быстро двигался вдоль скалистого берега курсом NW (на северо-запад). Я тоже работал веслом, стараясь двигаться в унисон с капитаном лодки, по принципу — делай как я. Помогала моя многолетняя морская сноровка. Первое время, честно признаюсь, я чувствовал себя в этой бесшумно скользящей по тяжёлой льдистой морской воде лёгкой конструкции неуверенно, однако по прошествии часа с небольшим, (к моменту прибытия к месту промысла) освоился совершенно.
Было дело! Так я умилился собственной персоной, что даже похвалил себя мысленно: «Броня Друзь нигде не пропадёт. Добрый боцман в каяке или в корыте стиральном — везде выживет, всюду приноровится! В общем, ты знаешь, сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Подошли мы к большому галечному пляжу, а на нём лежбище небольшое — нерпы числом несколько десятков, лахтаки — зайцы морские и в стороне несколько здоровенных клыкастых моржей со своими гаремами — моржихами молодыми. Близко подходить не стали, чтобы панику на зверей не навести, не спугнуть значит. Был случай, как Миник рассказывал, что перепуганное приблудным белым медведем лежбище разом в море спасаться кинулось и два каяка с охотниками попавшими в эту многотонную, мечащуюся в воде усатую, рявкающую и верещащую тюленью толпу, утонуло».
Я по моему упоминал, что каяк наш был в серовато-белого цвета, ну и хламиды наши непромокаемые из нерпичьих кишок примерно того же белесого окраса были. Миник велел пригнуться и не светить торсом, так чтобы для тюленьих глаз казались мы большим куском прибрежного, не очень чистого весеннего льда. Поскольку нас сносило ветровым течением, Минику постоянно приходилось осторожно подгребать веслом, что тоже могло отпугнуть желанного морского зверя. Так просидели мы согнувшись в каяке, в морской, понимаешь засаде добрых два часа, с непривычки показавшимися мне вечностью. В конце я уже ни ног своих, ни, извиняюсь, зада, ни спины не чувствовал. Наконец в метрах десяти от нас показались щурящиеся от солнца, усатые, отфыркивающиеся головы двух нерп — рыжеватой и блондинистой окраски.
Мой старший егерь сняв рукавицу и жестикулируя одними пальцами указал мне мою цель — рыжую нерпу. Я поработал кистями рук, сжимая и разжимая ладони, чтобы вернуть пальцам чувствительность. Затем поднял вручённый мне ещё в Нууке Миником, заранее приготовленный, заряженный Зауэр — двуствольную вертикалку и прицелился в рыжую голову. Вдруг воспоминание четверть вековой давности словно обожгло меня изнутри. Вспомнился мне далёкий сорок четвёртый год, как вышел я салагой-юнгой от Рыбачьего в своё первое боевое патрулирование на торпедном катере.
Повезло мне, говорю без всякой иронии, получить тогда боевое крещение. Наши летуны увидели сверху, что случалось летом при хорошей видимости, идущую на перископной глубине немецкую подлодку, или как называли свои субмарины сами фрицы — U-бот. Шла эта лодка с очень заметным дифферентом на левый борт. Значит с повреждением, подранилась где-то. Дали нам координаты, хотя торпедным катерам в одиночку вступать в боевой контакт с вражескими подлодками запрещалось. Однако на войне как на войне — обстоятельства перечёркивают инструкции. Благо, кроме нашего торпедного катера никого более серьёзного из кораблей Северного флота поблизости не было. Мы быстро вышли на точку упреждения, согласно определённому нашими лётчиками курсу этого фашистского U-бота.
Повезло нам, а немцам нет. U-бот их видимо получил серьезные повреждения и вынужден был пойти на всплытие. Засек их наш командир в полутора милях севернее и пошёл на сближение. Они нас тоже увидели и из палубной пушки огонь открыли, но для фрицев был не их день — мазали они, да и большой крен на левый борт прицельной стрельбе из палубной пушки не помогает. Наш же катер пустил обе торпеды и не промазал — первой же торпедой по длинной, идущей малым ходом цели и поцеловал немца в серёдку — под ватерлинию с правого борта. Взрыв, огонь — немца надвое раскололо. Подошли мы ближе и тут командир меня подзывает, вручает мне салаге бинокль и говорит: «Смотри, юнга. Там в воде несколько фашистов выживших жизни свои поганые спасают, а я знаю, что они отца твоего убили, так отомсти за него — и жестом матроса от зенитного пулемёта отстраняет и меня на его место ставит».
Нас в школе юнг многому учили и из зенитного стрелять тоже. Направил я решётку прицела на обломки U- бота фрицевского и вижу всего три головы мелькают: две белобрысых и одна рыжая, просто красная, как огонь. Тут я дружка своего вспомнил Кольку Медного, мы с ним с детства не разлей вода были, так у него башка под стать его фамилии, ну как у немца этого, который у меня в решете прицела маячит. Поворачиваюсь я командиру катера и говорю: «Товарищ капитан-лейтенант, разрешите обратится?» Тот смотрит на меня удивлённо. А я обмираю от собственной наглости и заявляю: «Товарищ капитан-лейтенант, нас в школе юнг по безоружным стрелять не учили».
У командира моего от такой наглости салаги зелёного даже нижняя челюсть отвалилась, однако он её быстро в порядок привёл и в глазах у него как будто тень промелькнула. Прогнал он меня, а команде приказал пленных немцев на борт принять. Сидят, помню, они на нашей палубе мокрые, несчастные, как цуцики от холода зубами лязгают, а рыжий этот в одной майке с германским орлом, что к тощим рёбрам прилип и вижу я, что вовсе он не похож на корешка моего Кольку. Противный какой-то фриц, длинноносый и всё время через фальшборт поблевать норовит, видать соляры наглотался, а значит нутро пожёг и вряд ли выживет.
Целюсь я в голову этой рыжей нерпе, а у меня от воспоминаний этих весь охотничий азарт, как ветром сдуло — не хочу стрелять и всё тут. Миник видит, что я мешкаю, рукой взмахнул и гарпун его только свистнул и точно нерпе-блондиночке в левый бок. Вот такая несуразная у меня вышла первая гренландская охота. Зря видать боцмана в каяк пустили.
Глава 24. «Ворота в остров»
Устиныч грустно вздохнул и помолчав продолжил: «Честно говоря я ведь охотник тот ещё. Стрелять метко меня во время войны в школе юнг научили, а вот азарта, настоящего, охотничьего никогда не испытывал. На охоту я езжу подальше от севера, куда-нибудь в среднюю полосу России. Бывало подстрелишь птицу какую — тетёрку или утку осенью и если сразу убил, то ладно. Худо если мазнёшь и подранка сделаешь, тогда приходится смотреть, как раненая птица в крови на земле бьётся или пробитое крыло по земле волочит, да на одном взлететь пытается. Приходится добивать, а это, знаешь ли, по мне совсем гнусно. Не охота, а маета одна выходит».
Понял я про себя, что для меня в охоте главное не стрельба и трофеи, а чистый воздух, запах прелых листьев, мха, болотной тины, тишина лесных лужаек и возможность просто побродить в одиночестве — отдохнуть от людей. Вздохнуть полной грудью и ощутить не привычный мне просоленный вкус морского простора или портовую смесь соляры, гниющих водорослей и вонь рыбной муки, а вкус русского леса: смесь берёзового сока с горчинкой, грибного духа, сосновой смолы и лесной дикой земляники. Этот странный лесной коктейль вкусов и запахов порой снится мне в море.
И вот, чтобы избежать глупых расспросов и подковырок придумал я нехитрый фокус — У знакомого егеря свежую дичь покупать. Он говорил бывало, что не один я такой горе-охотник и клиентов у него хватает. Кто жене и теще очки втирает по разным причинам, а кто просто мазила и неудачник. Так поброжу я неделю, другую по осенним лесам и болотам с незаряженным ружьишком, отведу душу на природе, да у костра вечером в блаженном одиночестве и доволен и не убил никого.
Боцман замолчал, задумавшись о чём то своём. Я решился прервать паузу и задал ему резонный вопрос: «Зачем же вы согласились на предложение Миника и отправились на гренландскую охоту, ведь это не просто прогулка, а как я понимаю промысел крупного зверя, много крови и чужой боли. То, чего вы так всегда избегали? „Старый взглянул на меня исподлобья и невесело усмехнулся: „В душу лезешь, малой? Ну, что же, я сам повод даю своими откровениями.
Душа эта самая порой новизны просит и человек, чтобы эту новизну прожить на многое готов. Себя или других слегка обмануть это самое малое. Кто же в здравом уме и теле упустит единственный в жизни шанс посетить наяву настоящую Великую Гренландию. Ты бы упустил такую возможность? Вот и я нет. А, что касаемо стрельбы по зверю, так я себя насиловать и не собирался. Как выйдет, так выйдет, а инуиты мои не дураки — поймут.
Так и получилось. Миник, увидев мою виноватую физиономию заявил, что Большой Джуулут никогда не ошибался в людях (духи ему в помощь) и если он сказал, что черноусый великан (то есть я) великий охотник, то значит так оно и есть. Если Великий Нерпа не позволил добыть одну из своих дочерей, значит у него на неё свои планы, может быть она должна стать праматерью большого племени красных нерп, которые в свою очередь спасут племя Калаалит Анори в голодный год от вымирания. Неисповедимы пути…“
— „Чего это вы, добрые люди тут делаете?“ — глумливо проблеял знакомый тенорок. Веснушчатая физиономия Генки Эпельбаума, перегнувшегося через борт прицепа дрезины, замаячила над нами в полумраке. — „Помяни рыжее племя всуе, а оно тут как тут“ — проворчал недовольно Устиныч. „Ты сам то, какими судьбами, Владлен то знает, что ты здесь?“ — „А то, посмеиваясь ответствовал Геша. В этом прибежище арийского духа истинный ариец вполне уместен и вообще, мы с тобой, Устиныч родственные души — ты боцман-германофил, а я какой-никакой немец и стало быть германофил по зову природы. Вот Владлен обдумал мое предложение об участии в вашей почти шлимановской экспедиции (тем паче, что я тоже Генрих в девичестве) и соизволил присоединить мою рыжею персону для интеллектуальной, так сказать, поддержки коллег по работе“.
— „Ну зачастил, балабол конопатый. Шлимана он знает, эрудит хренов. Вторую Трою раскапывать явился“. — раздражённо пробурчал боцман, явно недолюбливавший языкастого матроса. И то правда, подумалось мне. Есть на борту один белый клоун — боцман Друзь и довольно, однако тут ещё и рыжий нарисовался. Классический дуэт прямо. Бим и БОМ. Это уже не судно, а какой- то Цирк на цветном бульваре. Кино и немцы, понимаешь.
Наши скалолазы Боря и Рома стояли рядом и тихо посмеивались, слушая диалог двух пересмешников“.Да всё нормалёк, Устиныч» — вступил более серьёзный Борька — «Владлен правда добро дал — четверо мужиков лучше, чем трое». Меня, признаюсь, изрядно задел этот гамбургский счёт Бориса. Стало быть я для них не мужик, а так: зелень подкильная, салабон приблудный, говорящий какаду на могучем боцманском плече. Обидно знаете ли. «Ладно, хорош базарить, выступать пора» — как старший по должности авторитетно распорядился боцман. — «Зачем выступать, когда можно выезжать»- не без ехидства выдал Эпельбаум и постучал по глухо отозвавшейся пятнадцати литровой канистре с дизельным топливом, видимо принесённой с собой.
Залив соляру в бак и запустив двигатель дрезины, боцман и Геша в унисон и дуэтом похвалили немецкий механизм: «Добрый дизель». Все заулыбались, а Гена присовокупил: «Я же говорил, что мы с боцманом родственные души». Дрезина, пофыркивая движком и постукивая колёсами на стыках рельсов узкоколейки, двинулась в глубь туннеля кузовом вперёд. На верхней скамейке за рычагом управления и педалями тормозов расположились Устиныч с Борисом. Мы трое более молодых: Гена, Рома и я устроились, по выражению всё того же рыжего остроумца, как три лягушонка в тёплой коробчонке. Через несколько минут начался знакомый подъём. Скорость заметно упала и движок дрезины, чихнув заработал на более низкой ноте и уже с некоторым усилием.
Наконец подъём закончился, правда вместе с подъёмом наступил и конец света, пока всего лишь в нашем туннеле. Так, что мы вынуждены были вновь воспользоваться аккумуляторным фонарём и из разумной осторожности уменьшить скорость дрезины до минимальной. Вскоре луч фонаря упёрся, как будто в тупик, в бурые пятна на плоской стене выросшей у нас на пути. Мы остановили дрезину и спустились с неё. Борис подошёл к стене тупика и пнул её тяжёлым носком ботинка. Раздался металлический гул. «Так я и думал — ворота, выдвижные». — сказал он.
Мы принялись обследовать бурую поверхность лучом фонаря и вскоре у левой стены туннеля нашли две больших железных скобы того же рода, что встречались нам в разных местах грота. Скобы были приварены к левому краю ворот на высоте среднего человеческого роста. Ухватившись за скобы обеими руками Борис, навалившись толкнул створ ворот вправо от себя. Раздался громкий, крайне неприятный и резкий лязг железа по железу, который впрочем быстро прекратился и железная, в пятнах ржавчины стена по инерции и без усилий скользнула в правую сторону. В открывшийся проход на нас хлынул свежий морской воздух и свет пасмурного полярного дня, после темноты туннеля показавшийся нам ослепительным. Мы все, как по команде инстинктивно заслонили глаза. — «Вот тебе и ворота в остров» — зажмурившись пробормотал Устиныч.
Привыкнув к свету мы увидели, что находимся в довольно узком скальном ущелье, похожем на небольшой каньон. По сути это было продолжением туннеля, только вместо каменного свода над головой серело закрытое низкими облаками северное небо, да свежий, холодный воздух гулял между скалистых стен. Между тем рельсы узкоколейки продолжали свой путь куда-то меж серых скал, скрываясь за ближайшим крутым поворотом. Наконец подал голос, видимо, что-то решивший боцман: «Вот что братва, мы с вами, точнее я, всё-таки напрасно рисковали, когда поленились пойти пешком по тоннелю, а ведь так было бы куда как безопаснее, чем езда с ветерком по непроверенному маршруту. Ну бог с ним — дуракам везёт. Однако судьбу более испытывать нечего. Пойдём-ка мы парни дальше по шпалам, как в песне про сбежавшую электричку».
Наше путешествие по шпалам в узком каменном каньоне, высота скалистых стен которого порой доходила до тридцати — сорока метров, длилось недолго. Уже минут через двадцать этот туннель под открытым небом закончился вместе с рельсами узкоколейки, упершейся в массивное сосновое бревно в метр высотой, поставленное вертикально и прочно врытое в каменистый грунт словно обрубок корабельной мачты. Мы вышли к обширному галечному пляжу полого спускающемуся к морю. — «А вон тот самый сарай возле которого дед сети чинил!», обрадованно воскликнул Рома, показывая рукой на примостившееся в полукилометре восточнее, ветхое на вид, дощатое строение построенное на небольшом возвышении. — «Точно, добавил Борис, мы когда на самую вершину Медвежьего крыла поднялись с высоты его хорошо разглядели, не деда конечно, а халабуду его, нас то он без оптики вряд ли мог заметить».
Подойдя поближе к сараю мы увидели и самого хозяина этого замшелого особняка. Это был невысокий, но крепко сбитый и плечистый старик с красным обветренным лицом. У него были тонкие, плотно сомкнутые губы молчуна. Массивный носом с лёгкой горбинкой и почти скрывающие глаза мохнатые, словно из белой ваты, какие-то санта-клаусовские брови. Лицо колоритного старца обрамляла седая, подбритая по норвежски борода без усов. Хоть пиши с него портрет — иллюстрацию для хэмингуэевского рассказа «Старик и море»
Одет он был в темно синею брезентовую куртку и серый верблюжьей шерсти свитер грубой вязки. Образ типичного норвежского рыбака довершали высокие до бёдер чёрные резиновые сапоги. На крупной голове глубоко надвинутая, вязанная шерстяная шапка из-за почтенного возраста имевшая неопределённо — бурую расцветку. Из под шапки, несколько неопрятно, свисали давно нестриженые пряди неухоженных седых волос. Старик вышел из дверей постройки, коротко взглянул на нашу поднимающуюся со стороны пляжа компанию, отвернулся и как ни в чём не бывало продолжил починку развешенных на деревянных столбах сетей.
— «А что Вальдамир, как думаешь, не этот ли божий одуван на нас с тобой варварским образом дрезиной покушался?» многозначительно вопросил меня Устиныч, перейдя на витиеватые обороты. Это было верным признаком возросшей интенсивности боцманских мыслительных процессов. Я же не нашёлся с ответом, поскольку не обладал на этот счёт достаточно достоверной информацией. Честно говоря, после того, как нами были открыты ворота в остров, из-за резкой смены места действия я чувствовал себя несколько оглушённым. Голова была словно набита ватой. Всё вокруг казалось мне нереальным, словно происходящим во сне и я несколько раз ловил себя на мысли, что меня вот-вот разбудят на вахтенную смену.
Глава 25. «Верманд»
От старика шёл мощный рыбный дух. Совсем как от нашего брата рыбообработчика в разгар промысла. Я подумал, смущаясь за Устиныча, что он наверное всё-таки ошибся и перед нами настоящий норвежский рыбак, который ни сном не духом не ведает о происшествии с дрезиной, да и вообще не имеет ни малейшего отношения к нашей эпопее в духе жюльверновских приключений. Я покосился на боцмана, тот буравил деда тёплым взглядом голодного удава. Чтобы, как то смягчить ситуацию и прервать затянувшуюся паузу, я выдал традиционное: «Хэллоу, мистер. Хау ар ю?» Старик сверкнул в мою сторону колючими глазами из под лохматых бровей и недружелюбно буркнул по норвежски: «Яай шёонер икке»
Тут вступил, решивший видимо поставить все точки над i, боцман: «Не понимаешь, стало быть, борода? Ты же европеец как-никак и здрасте пожалуйста — „Хэллоу, мистер“ мы не понимаем. Ну а если так тебя спросить: „Халло, ман. Вии геетс?“» Бородач вздрогнул и мне показалось непроизвольно втянул голову в плечи. С этого момента боцман перешёл на немецкую речь. О содержании которой я где-то догадывался, а где-то восстановил по последовавшим позже рассказам Бронислава Устиныча и Гены Эпельбаума. Устиныч несколько минут гневно излагал старику, что в его годы пора о душе подумать, а не изображать юного вервольфовца — борца с «большевистскими патлатыми казаками» (цитата из Гебельса.) И нечего, мол, разыгрывать мирного норвежца, поскольку он — старшина первой статьи Бронислав Друзь германца за версту чует, потому как тесно общался с их пленным братом полные пять лет и все их нюансы изучил до доскональности.
Старик молча взирал на разошедшегося боцмана и его волнение выдавала лишь напряжённая поза и сжатые бледные губы. Пожалуй на редкость своевременным оказалось вмешательство Гены Эпельбаума, принявшего на себя роль миротворца. Он успокаивающе похлопал по широкой спине прокурорствующего боцмана и подчёркнуто вежливо, слегка поклонившись обратился к застывшему, аки соляной столб норвежцу. Говорил Генрих Оскорович по немецки бегло и слегка грассируя. Как не без зависти позднее заметил Устиныч на настоящем хох дойче.
Боря с Ромой с недоумением взирали на происходящее. Борька даже полушёпотом спросил у меня, как у неизменного спутника Устиныча, могущего обладать упущенной ими информацией: «Так что, дед этот немец что ли?» Я нерешительно кивнул: «Не исключено. Во всяком случае Бронислав с Геной так думают». В конце концов непонятный старец с усилием разомкнул свои словно склеенные уста и произнёс всего одно слово: «Битте». При этом он сделал несколько неподходящий для его облика и окружающей обстановки по джентльменски изящный пригласительный жест в сторону сарая, словно это была не дощатая развалина, (впрочем из небольшой железной трубы на покатой крыше уютно вилась струйка дыма) а как минимум симпатичный домик где нибудь в Тирольских Альпах. Мы вошли в сарай, ожидая увидеть убогое пристанище одинокого старика и остановились у порога едва войдя внутрь. Челюсти наши как по команде отвисли, выражая удивление и восхищение.
Приют седого отшельника в его внутренней части являл собой полную противоположность тому, как он выглядел снаружи. Старец был явно не чужд комфорту и обладал неплохим вкусом, как выразились бы в 21 веке: «Гросфатер не слабо шарит в креативном дизайне жилого пространства». Это был настоящий охотничий домик, обшитый внутри деревянным брусом. Стены были завешены искусно сшитыми коврами из однотонных песцовых и пёстрых нерпичьих шкур. В углу просторная лежанка была накрыта одеялом, на производство которого пожертвовали свои непростые жизни пара-тройка белых полярных волков. На полу красовался апофеоз этого торжества охотничьего искусства — шкура огромного белого медведя — урсуса маритимуса с устрашающе разинутой чёрной пастью и многообещающим оскалом мощных, жёлтых клыков. Над лежанкой висел охотничий карабин — верный помощник хозяина в коллекционировании всего этого великолепия.
Другой центральной частью этой незабываемой экспозиции был стол, сработанный из пустотелых корпусов морских мин. Как позже объяснил мне изрядно сведущий в военно-морских делах Бронислав Устиныч это были оболочки немецких мин LMB — трёхметровые торпедообразные дуры с хвостовым оперением, как у авиабомбы (для сбрасывания с самолёта на парашюте). Цилиндрическая часть корпуса мины, кроме отсека взрывного устройства, изготавливалась из водостойкой пластифицированной прессованной бумаги (пресс-штофа). (Это были мины неконтактного действия и устанавливались на небольших глубинах у берегового шельфа. Они срабатывали, когда над ними проходил корабль или судно. Подрыв на глубине до 40 метров под корпусом корабля 700 килограмм гексонита (смесь гексогена и нитроглицерина. Мощнее тротила на 40–45 %) приводил к весьма печальным последствиям.)
Корпуса двух этих милых игрушек были аккуратно распилены посредине, укорочены и установлены по бокам деревянной столешницы с опорой на хвостовое оперение. Срезы их куполообразных вершин, каждая высотой с полметра были закреплены на верху стола, образовывая как-бы одно целое со своими нижними частями. Оригинальность дизайнерского решения заключалась в том, что мины как бы протыкают поверхность стола, в то же время являясь его неотъемлемой частью.
Апофеоз этого прорыва в мебельном деле являло собой кресло, скорее напоминающее трон. Материал всё-тот же — морская немецкая мина LMB укороченная вдвое в верхней своей части и распиленная вдоль играла роль спинки. Нижняя часть с хвостовым оперением было искусно приспособлено под сиденье. Задрапированное накидкой из сшитых выбеленых шкурок полярного песца, оно производило мощное впечатление. Конусообразная высокая спинка и сиденье укрытые белоснежным мехом привели бы в восторг какого-нибудь маркграфа, владетеля средневекового замка. Хозяин этого чудесного жилища всё тем же странным, изысканным жестом пригласил нас садиться на стоящую с противоположной от кресла стороны стола длинную, укрытую мягким, желтоватым мехом скамью. После чего подошёл к небольшой чёрной печке явно фабричного производства с круглой плитой наверху. Печь по видимому растапливалась шпицбергеновским углём, наполнявшим большое цинковое ведро, стоящее тут же.
Старик снял с плиты эмалированный красный кофейник (как будто ждал гостей), источавший дивный запах арабики и водрузил его на свой экзотический стол. Из правого минного полушария словно из диковинного буфета он добыл несколько стограммовых граненных стаканчиков в серебренных подстаканниках, а так же фарфоровую сахарницу с рафинадом и горсть чайных ложек. Ложки он вынул из яркой жестяной коробки с арабской вязью и кофейными зёрнами на этикетке. Судя по ассортименту сервировки наш отшельник всё таки принимал иногда гостей. Впрочем, согласно морской лоции, в описании острова Медвежий значилось, что остров обитаем и на нём проживает, как минимум 7 человек.
За кофепитием наше общение с удивительным хозяином этого впечатляющего жилища поневоле обрела мирный оборот. Бородач сказал, что зовут его Верманд Вард и он норвежец, хотя когда то в молодые годы действительно жил и учился в Германии. О существовании грота и немецкой, времён войны инфраструктуры в нём разумеется знает, но в подробности вдаваться не хочет, потому как наша бравая команда, скорее всего случайно оказавшаяся в гроте, даже не представляет в какое мутное дело она влезла.
Где то с год назад в подскальных шхерах появились новые самозваные распорядители. Новые хозяева грота (по его словам, люди с неизвестными целями и неопределённым гражданством) гостям рады не будут и церемонится с ними уж точно не станут. За ними, судя по их оснащению и наисовременнейшей технике, которую они используют, стоят весьма серьёзные деньги и интересы. Дилетанты вроде нас должны держаться подальше от чужой игры подобного уровня.
— «Складно ты говоришь, Верманд» — вступил Устиныч по немецки. «Правда жути нагнал, а ничего конкретного не выдал. А как же с дрезиной вышло? У этих твоих новых хозяев грота, что не нашлось более эффективного способа с нами разобраться?» Седобородый Верманд смущённо пожал плечами: «Вам, русские, повезло, что эти деловые ребята сейчас в отсутствии. Дрезина пущенная под откос моя работа, уж простите. Я хотел для вашей же пользы остудить ваши горячие славянские натуры. Просто не видел другого способа вас образумить. Даже если бы кто то пострадал от встречи с дрезиной это, поверьте мне, была бы малая кровь, которой вы не отделаетесь если встретите тех кого не поминать бы к ночи».
— «Круто», буркнул Устиныч. «Хороший же ты способ выбрал предупредить людей об опасности. Что просто поговорить нельзя было? Мы, что по твоему деревянные лбы, слов не понимаем?» Старик пристально посмотрел на боцмана из под лохматых бровей: «Да ведь и ты, моряк, не слишком откровенен. Вас кто-то навёл на грот. Сами вы в жизни бы не догадались. И этот кто-то тоже использует вас, незадачливых простаков в своей игре истинный смысл которой нам с вами неведом».
Бронислав Устиныч задумчиво погладил пышные усы и после короткой паузы произнёс: «Ну вот что Верманд, хватит страшилок. Ты нас предупредил — мы услышали. То, что мы меж двух огней встряли нам и до тебя понятно было. Используют нас или нет уже дело второе. В этой, как ты говоришь мутной игре мы волей неволей стали третьей стороной и стороной активной. Кроме прочего, извини за каламбур мы слишком „глубоко влезли“ и обратной дороги не будет. Как говорится в серьёзных заведениях: „Cтавки сделаны, господа“.Спрошу прямо: „Намерен ли ты помочь нам вытащить на свет божий как можно больше достоверной информации о новых хозяевах грота или выберешь сторону невмешательства, что вполне простительно в твои годы“».
— «Не считай чужие годы, моряк, глухо ответил отшельник. Это занятие бесплодное. Я не такой древний каким мог бы показаться. Этого бродягу» — кивнул он на распластанную на полу шкуру белого медведя — «я убил почти два года назад, когда тёмной полярной ночью вышел на двор по нужде. Карабина при мне не было, а был только острый обломок соснового бруса по счастью попавшийся под руку. Я согласен помочь вам и не думайте, что из особых симпатий. Русские мне не слишком симпатичны. Я просто уважаю вас, поскольку есть за что. Ваш Сталин был тот ещё людоед, не лучше Гитлера. С другой стороны эти непонятные парни из грота могут добраться и до меня. Узкоколейка приведёт их почти к моему порогу и они поймут, если уже не поняли, что я ненужный свидетель их возни на острове».
Боцман удовлетворённо кивнул: «Спасибо за решение, Верманд. В таком случае не будем терять времени, поскольку наши общие недруги могут появиться в любую минуту». Все поднялись и во главе с хозяином направились к выходу. Решено было не теряя времени вернуться в грот на дрезине и как можно быстрее получить доказательства враждебного присутствия на норвежском острове. В силу его стратегического положения эта тайная сила могла представлять опасность как для Норвегии (между прочим активного члена НАТО), так и для Союза. То что люди тайно явившиеся в бывшую тайную базу германских подлодок времён второй мировой могут работать и на советские спецслужбы никому из нашего экипажа (включая капитана) почему-то в голову не пришло. Тогда охваченные охотничьим азартом мы словно гнались за призраками, забывая поговорку, что иногда охотник и добыча внезапно меняются местами.
Глава 26. «Ремонтники»
По дороге к узкоколейке и затем в туннеле Гена Эпельбаум постарался получить у Верманда ответы на некоторые занимавшие нас вопросы. Вард хорошо изучил грот за те годы пока он пустовал. Пару раз в нём появлялись люди — норвежцы, скорее всего военные. Та пещера-воронка от американской бомбы, через которую мы вышли на заброшенную немецкую базу, даже была этими военными замурована. Наверное они имели какие-то виды на удобное, сокрытое от лишних глаз место, но что-то у них не сложилось и в гроте до последнего времени больше никто не появлялся.
Меньше года назад на заброшенной базе германской кригсмарине появились гости. Верманд наведался туда пополнить кое-какие запасы из бесхозных кладовых. Тогда он впервые услышал голоса неизвестных людей в тоннеле и разумно решил не представляться незваным гостям. Как позднее выяснил норвежец числом их было человек двадцать пять-тридцать. Действовали они вполне уверенно, видимо имели нужные схемы расположения хранилищ и инфраструктуры бывшей германской базы.
Говорили они на плохом английском, приправленном марсельским арго, голландскими и немецкими словами и фразами. То и дело кто-то из них, общаясь видимо с соотечественником переходил на французский, нидерландский и даже арабский. Это был сброд, или если угодно интернационал. Преобладали смуглые южане, четверо чернокожих парней, а так же пять или шесть белых мужчин европейского типа. За главного был невысокий худой старик, говоривший по английски с заметным немецким акцентом.
Говорили они громко, никого не опасаясь и наш отшельник услышал, что в грот они прибыли на субмарине и занимаются восстановлением части инфраструктуры старой немецкой базы для приёма ещё то ли одной, то ли двух подлодок. Саму субмарину старик не видел, поскольку не мог наведаться в большой зал грота не будучи замеченным кем-то из её экипажа. Главной же их целью является проведение неких акций, суть которых была тогда неясной для норвежца. Верманд имел возможность наблюдать за этой группой, облачённой в тёмно-синие одинаковые комбинезоны и утеплённые куртки-аляски, из обнаруженного им ранее, скрытого, незаметного снаружи помещения. Он обещал, что покажет нам его. Если за столько месяцев незнакомцы в нём так не разу и не появились, то значит им об этой комнате неизвестно.
Устиныч всё это время негромко переводил для меня, Бориса и Ромы содержание рассказа Верманда, поскольку скорее предпочёл немного побыть синхронным переводчиком, чем любоваться на наши раздражённо непонимающие физиономии. Верманд остановил дрезину где-то посередине туннеля и спешившись направился к скалистой стене с правой стороны по направлению к гроту. Стоя спиной к нам, он нажал на один из камней и словно в фильме о старинном замке часть скалы с сдвинулась в сторону, но видимо недостаточно, поскольку старик в раздражении произнёс знакомое всем нам по фильмам про войну странное для норвежца хлёсткое, как удар стеком немецкое ругательство: «Шайзе!» Наверно вспомнились деду молодые годы и учёба в Германии. Верманд протиснул своё коренастое тело в образовавшуюся щель и надавив всем корпусом, заставил замаскированную в скале дверь сдвинуться ещё сантиметров на пятьдесят.
Затем норвежец исчез на несколько минут в темном проёме. Вскоре помещение осветилось желтоватым электрическим светом. Одновременно с этим мы почувствовали лёгкую вибрацию и гул, как выяснилось через минуту это работал небольшой автономный дизель генератор. Верманд пригласил нас внутрь и предложил осмотреться. Мы словно попали в небольшой политехнический музей со строгими правилами. Старик запретил прикасаться к экспонатам, то есть к приборам. Это была просторная комната с большой полукруглой панелью управления, которая походила на панель в операторском зале какой-нибудь невеликой электростанции середины двадцатого века. Нечто подобное я видел у нас на Кольском полуострове в Ура-Губе во время школьной экскурсии на Кислогубскую экспериментальную приливную электростанции. Несколько комодообразных панелей (гордость германской «электроники» конца тридцатых, начала сороковых) с разноцветными лампочками индикации, чёрными тумблерами переключателей и пучками жёлто-сине-красных проводков громоздились по обе стороны от центрального пульта.
«Скажи, Верманд, а как давно эти новоявленные хозяева грота были в нём в последний раз и вообще была ли в их визитах какая-то периодичность?» — Полностью перейдя на уважительно-доверительный тон, спросил боцман норвежца. Старик, тяжко вздохнув ответил: «Впервые они появились на острове летом прошлого года. Выгружали в гроте, видимо с подлодки какие-то ящики, много и большие. Как я понял с оборудованием и ещё бог знает с чем. Что-то монтировали в машинном и основном операционном зале старой немецкой инфраструктуры грота. Отремонтировали, обновили и запустили обветшавшую прежде приливную электростанцию. На это у них ушло три недели, видимо сказывалась нехватка рабочей силы. Затем исчезли и снова появились зимой, в конце февраля. Привезли, судя по более изящным ящикам и подслушанным мной разговорам какую-то электронику, толковали о монтаже пункта слежения, покрывающем Норвежское побережье с морями и окрестностями, говорили о каких-то сателлит-антеннах. Затем в конце марта исчезли. Так что какой-то периодичности в их визитах я не заметил».
Закончив рассказ Верманд заявил, что из всего вышеизложенного следует: «ремонтники», как назвал их сам норвежец, могут появиться в любую минуту и в целях безопасности нашей русско-норвежской компании не стоит «светится», а для этого он должен погасить свет в туннеле и поставить дрезину на прежнее место.
«Я надеюсь, что вы не трогали груза, который находился в кузове?» — с внезапным подозрением спросил он. Я почувствовал как мои щеки заливает краска. Мне почему-то вспомнились мои ощущения шестилетней давности, когда я был застукан домашними за злодейским хищением двух плиток шоколада из семейных запасов. «Кхе — кхе» — смущённо покашлял боцман Друзь. — «Тут такое дело, Верманд». Он отвёл старика в сторону и нервически шевеля усами, морщась как от зубной боли, полушёпотом изложил ему, так сказать «диспозицию».
«Это я Верманду про использованные и унесённые батареи доложил» — пряча глаза, объяснил он товарищам. В то же время Устиныч метнул в меня грозный взгляд: «Ни слова о коньяке». — прочёл я в этом молниеносном взоре. Старый Верманд заметил всё. Он усмехнулся, покачал головой и произнёс почему-то по английски: «Oh, those Russians… (Ох уж эти русские…)». «Вполне возможно», — подумалось мне — «что этот норвежский дед, так-же как и я является тайным поклонником поп группы Boney M».
Боцман, как старший нашей великолепной пятерки, распорядился, чтобы я и Генка поступили временно в распоряжение норвежца. Сам же Устиныч вместе с Борей и Ромой остался в секретной комнате в качестве охраны особо ценного объекта. В конце концов пресловутые «ремонтники» могут появиться в любой момент и точкой общего сбора будет именно это неизвестное им место. Владлен, капитан нашего траулера, между прочим предусмотрительно предупредил, что в гроте никто из экипажа не появиться, пока не вернётся группа во главе с боцманом. Мы двое под руководством «смотрящего» грота Верманда Варда (свежая шутка рыжего) должны были восстановить статус-кво, а именно вернуть пропавший из кузова дрезины груз, да и самоё средство туннельного передвижения поставить на то место, откуда его позаимствовал наш капитан Владлен.
Я с Геной под предводительством старого норвежца вышли в туннель и поднявшись на дрезину проехали на ней в направлении грота небольшой отрезок пути. Уже минут через пять мы добрались до знакомого нам узкого проёма, ведущего к приливной электроподстанции. Верманд подошёл к проёму и сдвинул, как и в случае с дверью ведущей в секретную комнату, большой камень в стене. В образовавшейся дыре он нащупал рычаг и с усилием повернул его. Узкий проём со скрежетом стал расширяться на глазах. Правда проход на подстанцию не стал шире, просто показался полуметровая полоса каменного простенка, а за ней открылся и стал увеличиваться широкий проход в другое помещение. Генератор приливной станции питавший электрическим освещением туннель, как оказалось работал и на этот довольно большой зал.
Верманд повернул тумблер освещения на стене и в неярком желтоватом свете идущем от потолочных ламп, нам открылось типичное складское помещение со стеллажами и широкими проходами между ними. На нас с Геной, детей «развитого социализма» 63-го года советской власти, богатство ассортимента этого хранилища немецко-фашистской бакалеи почти сорокалетнего возраста (о сроках годности мы подумали позже) произвело сильное впечатление. Это были сотни разноцветных консервных банок разных форм и размеров, снабженные не утратившими яркость за прошедшие годы наклейками. Как пояснил Верманд: мясные, рыбные, овощные консервы и прочие потенциальные носители ботулизма он, от греха, давно выбросил. Остались вполне пригодные «колониальные» товары: кофе, какао, плавленный шоколад, кусковой сахар, бисквиты, джемы, засахаренные фрукты и даже мёд в сотах. Всё в герметичных жестяных упаковках, а так же десятки ящиков с разнообразным алкоголем от шнапса и хереса, до элитных вин и нашего доброго друга французского коньяка.
Последние были расфасованы вместе с курительными принадлежностями и бритвами «золинген» в виде рождественских подарков для старших офицеров. В конце склада находился стеллаж со знакомыми нам хим. батареями-грелками. У стены стоял небольшой, но массивный несгораемый шкаф, замок которого был вырезан автогеном. Шкаф был пуст. «Выходит господин Вард, что ваши „ремонтники“ знали про склад и зачем-то позарились на эти греющие чемоданы?» — кивнул Гена в сторону стеллажа с грелками. (О содержании их с Вермандом диалогах Гена сообщал мне вкратце по ходу дела.) «Нет не знали». — ответил седобородый Вард. Батареи и еще кое-что (мне показалось, что он едва заметно усмехнулся при этих словах.) приготовил я, для своих нужд. Просто «ремонтники» видели дрезину и хотя не прикоснулись к ней, опасаясь мин, наверняка заметили её местоположение и большие ящики в кузове. Я полагаю они откуда то знают общую схему инфраструктуры грота, но не знают подробностей.
Старик прикатил, стоящую у стены железную, рыжеватую от ржавчины грузовую тележку и не успели мы с Геной прийти к нему на помощь, как он несколькими ловкими движениями перекантовал громоздкий, весом не менее центнера ящик со стеллажа на поддон тележки. Прикатив груз к кузову дрезины, он вновь отмахнувшись от нас, опустил борт кузова и без особого напряжения взгромоздил в него блок с грелками. После этой впечатляющей демонстрации физической формы псевдостарец не удержался от короткого победного взгляда в нашу сторону. Мы проехали в направлении грота ещё немного и спешившись оставили дрезину на её первоначальном месте. Верманд достал из кармана куртки пол рулона той самой ленты ограждения со светящимися черепами и предупредительными надписями по английски. «Подобрал в туннеле» — пояснил он. Ленту он дважды обмотал вокруг дрезины и кузова с грузом.
В этот момент со стороны входа в туннель раздался шум падающей воды и через несколько мгновений прекратился. Создавалось впечатление, что в гроте вдруг образовался небольшой и кратковременный водопад. «Infame Bande!» — рявкнул бородач и в сердцах смачно плюнул в ни в чём неповинную дрезину. «„Ремонтники“ всплыли, сволочи!»
Глава 27. «Брунгильда»
До выхода в грот из тоннеля было всего каких-то 100 метров, не больше. «Я должен видеть этот У-бот![4]» — неожиданно для нас с Геной вдруг заявил Вард и решительно направился в сторону грота. Мы с рыжим, словно щенки за взрослым псом неохотно затрусили за ним. «Чего он хочет видеть? Какой такой бот-калошу?» — Озадаченно хватая ртом сырой воздух грота вопросил Генка Эпельбаум, словно не он, а я виртуозно владел германской мовой. Гена из всей фразы Верманда не понял только слова У-бот, а я как раз наоборот — понял только это слово. Восстановить по нему и последовавшим за ним действием весь смысл намерения норвежца уже не составляло большого труда. «„U-Boot“ по немецки подлодка. По норвежски наверное тоже. Устиныч рассказывал» — пояснил я. Геша на ходу хлопнул себя по лбу: «Я билдербергский осёл! Это же сокращение от Unterseeboot — подводная лодка!»
— «Зачем же он в грот прётся? Сам ведь говорил, что опасно». Ремонтники «то вернулись». — просипел я, преодолевая одышку. «Доживёшь до его лет, ещё не так чудить будешь» — так же сипло резюмировал в ответ Гена.
Между тем Верманд не доходя до выхода из туннеля метра три прижался к стене, всматриваясь наружу. Мы подошли вплотную и последовали его примеру. «Вовремя мы свет в туннеле вырубили. Они нас не увидят, пока не приблизятся, а мы их да». — прошептал норвежец жадно вглядываясь в тёмный силуэт всплывшей субмарины. На задней части небольшой полукруглой рубки, похожей на горб дромадера ярко вспыхнул мощный прожектор и вдруг стал поворачиваться вверх, пока не упёрся лучом в каменистый свод грота. Отражённый свет осветил пространство большого скального зала мягко и непринуждённо, словно хрустальное бра в театральной ложе. В тот же момент погас свет нашего прожектора, расположенного в малом зале грота. «Молодцы парни» — подумал я — «не спят на вахте. Увидели свет чужого прожектора и приняли единственно правильное решение».
Подлодка была необычной формы и цвета. Она бочкообразной пузатостью весьма походила на опускавшийся в Марианскую впадину батискаф «Триест», увеличенный раз в десять. Эта пухлая субмарина, смахивающая на толстую скумбрию была в необычного цвета — тёмное маренго с серебристым отливом. Капли морской воды не спешили соскользнуть с даже издалека заметной шершавости бортов и посверкивали в отражённом свете прожектора подобно прозрачной ткани, расшитой стразами. Подлодка словно дородная невесте Гаргантюа расположилась в алькове огромного морского грота, как бы ожидая своего суженого. Загудело подруливающее устройство и лодка плавно прислонилась правой стороной к каменному причалу. После чего послышался звук напоминающий жужжание гигантского майского жука и верхний полукруглый срез рубки, увенчанный сияющим прожектором отодвинулся к корме.
Затем произошло нечто совсем неожиданное — рубка медленно стала погружаться внутрь корпуса лодки, пока её верхний срез, словно каска великана-шахтера со странно направленным вверх включённым фонариком, не улегся на палубу. Из овального отверстия на палубу стали выбираться люди в одинаковой синей одежде — куртках и комбинезонах. С палубы выдвинулся механический трап и первый из экипажа лодки сошёл по нему на берег. Он был явно немолод, небольшого роста, худой, сутулый и к тому же заметно прихрамывающий. «Арщлох, Щтейнкштифель. Я так и думал, что это он. Жив и здоров ублюдок» — захлебнулся злобным шёпотом Вард, явно предпочитающий экспрессию немецкого мата скромной родной норвежской ругани. С видимым усилием взяв себя в руки, бородач что-то тихо сказал Генке и тот повернулся ко мне со словами: «Сымаем боты, юноша и в носках дуем до боцмана с компанией. Старший приказал. Ему проще — он в резине и может двигать по тихому».
Верманд развернулся и действительно почти бесшумно зашагал по шпалам в глубь туннеля. Мы с рыжим матерясь беззвучно, двинулись рысью следом, ступая ногами облачёнными в мгновенно отсыревшие носки по тем же чёртовым шпалам. В руках мы держали снятую обувь и злобно шипели если доводилось напороться на какой нибудь особенно острый каменный осколок. В секретной комнате, которую правильнее было бы называть комнатой прослушивания нас ждал сюрприз. Бронислав Устиныч с присущей ему смекалкой успел разобраться с незнакомой техникой, снабжённой правда немецкими надписями. Он как раз нашёл «ухо» большой залы грота с причальной стенкой и когда мы с норвежцем вошли в комнату сидел за пультом, водрузив на голову большие эбонитовые наушники. Боцман выглядел словно заправский меломан-оригинал, пользующийся для своих нужд антикварными аксессуарами.
Норвежец увидев эту картину, хмыкнул неопределённо и подойдя к пульту щёлкнул каким-то рычажком, повернул колёсико громкости и вывел звук на микрофон, для внешнего прослушивания. В комнате раздались звуки шагов, негромкие голоса людей и даже шорох их одежды. Орудуя каким-то прибором похожим на регулятор настройки частоты радио, Верманд выделил один из них. Это был голос, неприятно скрипучий и глуховатый-надтреснутый, сиплый словно у человека пережившего тяжкую ангину. Я догадался, что это был голос того самого человека, который первым сошёл с трапа подлодки на причал грота. Это его появление вызвало такой бешеный приступ злобы у Варда. Видимо здесь крылась какая-то не изжитая личная драма, связывавшая этих двух немолодых мужчин. «Сиплый» говорил по английски с сильным акцентом похожим на немецкий.
Верманд пожевав губами всё таки счёл нужным пояснить: «Это тот самый старик о котором я вам упоминал. Он командует всей этой мутной компанией. Кроме прочего он весьма походит на одного негодяя из моей давней жизни в Германии из-за которого погибли дорогие мне люди. 90 из 100, что это он и есть. Высшие силы свели нас вновь в конце пути, но это уже мои проблемы».
Между тем сиплый до сих пор начальственно распоряжавшийся по английски, указывая какой груз в какое именно помещение следует доставить, вдруг сменил тон на более доверительный и интимный. К тому же он перешёл с английского на немецкий, обращаясь к невидимому нам собеседнику: «Герр Люци, мы всё таки должны обсудить тактику наших дальнейших действий. На „Брунгильде“ это было бы небезопасно, но здесь у нас есть более надёжное место — наш кабинет. Время не терпит, идёмте, герр Люци». Зазвучал другой голос — низкий и глубокий, словно говорил оперный певец: «На „Брунгильде“ есть вполне безопасные места. В частности моя каюта вполне защищена от прослушивания. Впрочем, как вам будет угодно, герр Кранке».
Раздались шуршащие звуки шагов двух людей. Сиплый говорил ещё что-то, его собеседник односложно отвечал ему, но вскоре звуки их голосов затихли, скорее всего они вошли в туннель. Бронислав Устиныч с любопытством посмотрел на Верманда: «Значит свой корабль они называют „Брунгильда“ при этом их Главарь с жалостливой фамилией[5]. говорит на немецком, как на родном и его собеседник отвечает ему тем же. К тому же вы утверждаете, что узнали этого Кранке, как своего старинного недруга. Не слишком ли много германизмов вокруг вас, господин норвежец?» Вард взглянул на своего визави с явным раздражением и недовольством: «Вы, господин боцман столь же проницательны, сколь и назойливы. Оставьте ваш интерес к подробностям моей биографии до более спокойных времён. В конце концов мы в одном деле и у нас общий неприятель, так что приберегите вашу „фултонскую речь“ хотя бы до окончания военных действий». Устиныч в ответ на его реплику только кивнул, как мне показалось не без смущения и с осознанием правоты Верманда.
Вард пощёлкал на пульте ещё какими-то переключателями и на панели с облезшей краской загорелись новые индикационные лампочки. Он посмотрел в нашу сторону и пояснил: «За долгие годы проведённые в этом месте я досконально изучил, как саму базу, так и всю её инфраструктуру. Не осталось ни одного уголка ни одной кнопки или тумблера назначение которых было бы мне не известно. К тому же немецкие порядки, стремление контролировать всё и всех знакомы мне не по наслышке. Существование этой комнаты контроля и прослушивания разговоров персонала и членов экипажей подлодок, посещавших эту секретную базу было вполне предсказуемо. На секретных объектах служили по меньшей мере два человека в обязанности которых входил контроль за настроениями их товарищей. Они наверняка регулярно писали отчёты об услышанном для контрразведки Кригсмарине. В особых случаях осуществлялась магнитофонная запись».
Бородач нажал на прямоугольную панель в центре пульта. С лёгким щелчком открылась ниша в которой находился небольшой серый магнитофон с круглыми бобинами, оснащёнными зеленоватой узкой магнитной лентой. Продемонстрировав эту немецкую техническую новинку времён «третьего рейха», он продолжил: «Для ведения конфиденциальных служебных разговоров у офицеров командного звена существовала специальная секретная комната. Которая, разумеется, прослушивалась особенно тщательно при каждом её посещении. К тому же всякий раз составлялся зашифрованный на „Энигме“ отчёт с грифом „Высшая категория секретности“. Я почти уверен, что этот Кранке имел ввиду именно это помещение, назвав его — „наш кабинет“. Судя по всему Кранке знает о базе многое, но к нашему счастью далеко не всё. Этот „их кабинет“ я включил сейчас для прослушивания».
В этот момент из встроенного в пульт небольшого динамика раздался уже знакомый нам жужжаще-лязгающий звук открываемой горизонтальной клинкетной двери. Затем послышались шаги вошедших в помещение людей и дверь с тем же неприятным звуком закрылась. Через мгновение мы услышали не менее неприятные звуки голоса господина Кранке. Мне подумалось, что эта говорящая фамилия, как нельзя лучше подходит этому персонажу нашей затянувшейся пьесы. Кранке старчески прокашлялся и с некоторой надсадностью произнёс: «Присаживайтесь в кресло, герр Люци. Здесь имеется в баре превосходный коньяк, но зная особенности и запреты вашего вероисповедания я не осмелюсь предложить вам алкоголь. Сочту за честь выступить в роли вашего покорного слуги и собственноручно сварить на этой спиртовке любимый вами напиток — крепкий кофе. Сам же я просто обязан принять лекарственную дозу спиртного, как профилактику от простуды. Вы уж простите старика». И Кранке вдруг с частыми придыханиями заскрипел, что видимо заменяло у него жизнерадостный смех.
Собеседник ответил ему своим низким голосом: «Отдаю должное вашей способности не падать духом или как говорят англичане: „Делать хорошую мину при плохой игре“. Между тем мы с вами прекрасно понимаем, что в результате ваших, Кранке необдуманных действий операция „Рагнарёк“ оказалась под угрозой срыва. Вашей „Брунгильде“, Кранке с самого начала была предназначена вспомогательная роль. Первоочередной задачей было обеспечить пункт базирования и провести разведывательные действия. Реальные акции должны были проводить подводные корабли „Ёрмунганд“ и „Нагльфар“[6], которые должны были прибыть позднее. Кроме того я заметил, что у вас серьёзные трения с вашим старшим помощником. Почему его нет здесь с нами? Вы ему не доверяете? Это серьёзно. Вы не молоды и не здоровы. Случись что мы должны быть уверены, что у вас есть надёжная замена. И наконец объясните, что делает у нас под боком это ржавое русское корыто с красной тряпкой на кормовом флагштоке? Когда я увидел это в перископ, то едва ли не решил, что у меня зрительная галлюцинация. Русские уже оккупируют эту, как вы клялись сверхсекретную базу, как вашу восточную Германию с куском Берлина? Я высочайше уполномочен передать Вам, Кранке, как командору „Брунгильды“ серьёзную обеспокоенность Его Высочества. Да продлит Всевышний его лучезарные дни на радость его подданным».
Этот монолог был произнесён невидимым Люци с заметно сдерживаемым гневом и темпераментом. Он говорил по немецки свободно, но от волнения в немецкой речи явственно проступал какой-то восточный воздушно-певучий акцент, кроме того, как заметил позже Гена Эпельбаум — Люци говорил с несвойственной немцам излишней цветистостью. Воцарилась минутная пауза и вновь раздались скрипучие звуки голоса командора «Брунгильды»: «Я прекрасно понимаю обеспокоенность Его Высочества, да продлятся его дни, но я так же понимаю, герр Люци чем вызвана эта обеспокоенность. Она результат неполной и искажённой информации переданной Центру моим старшим помощником Штинкером, который к несчастью оказался грязным интриганом и бесчестным карьеристом, банально мечтающим занять место командора „Брунгильды“. Этого моего детища, плода тяжких многолетних трудов и конструкторских озарений.
Что касается русского траулера, то один нечистый ведает, как он оказался в секретном фьорде. Русские это нация непредсказуемых и авантюрных кретинов. Русские не восприимчивы к элементарной логике и поэтому не поддаются просчитыванию. С ними невозможно иметь дело. С ними невозможно даже воевать. Проще всего от них избавиться и у нас есть способ обставить всё, как морское кораблекрушение в котором не будет выживших. Мне так же докладывали, что у внешних ворот базы живет какой-то старик- норвежец. Не исключено, что он забредал на базу во время её запустения. Это вообще не проблема. Он рыбак, а рыбаки бывает не возвращаются на берег».
Глава 28. «Братство Луны»
Гена тихо перевёл мне, Боре и Роману последнюю фразу сиплого Кранке. Бронислав Устинович, не нуждавшийся в переводе, сжал губы и покачал головой, как бы выражая общую мысль: «Вот мерзавец!» Верманд же ограничился лишь неопределённым жестом, мол другого от этого негодяя он и не ожидал. Прервал паузу звучный баритон таинственного Люци: «Поступим так командор Кранке. Я ступил на борт „Брунгильды“ чуть более суток назад, но пока я находился в воздухе на борту самолёта и плыл затем на нашей шхуне к месту встречи у меня было достаточно времени. Я всё обдумал и принял решение.
Вы, Кранке прекрасный моряк и командир. К тому же талантливый конструктор и лучше вас с „Брунгильдой“, построенной по вашим проектам, но напомню, на наши деньги, не справится никто. Однако, как у всякого талантливого человека у вас множество недостатков и даже пороков». «Помолчите!» — Люци повысил голос на собиравшегося, видимо, что-то возразить командора «Брунгильды». После чего продолжил: «С этого момента я буду неотлучно находится подле вас, командор. Всякое серьёзное действие может быть совершено вами только и исключительно после моего одобрения. Вы сказали, что собираетесь разобраться с русскими. Как именно?»
Кранке крякнув, видимо после выпитой рюмки ответил: «Мы преподнесём им прощальный букет из трёх чёрных роз с тупыми, но смертоносными шипами. Русские влезли в неизвестный фьорд и на выходе наткнулись на старые морские мины — привет из второй мировой. Несчастный случай. От этого корыта останутся одни воспоминания в семьях безутешных вдов и сирот». Люци холодно заметил: «Да вы у нас поэт, Кранке. Впрочем план прост и эффективен. Одобряю. Теперь к главному. Утром я выслушал вашу версию о том, что побудило вас провести несанкционированную акцию с платформой в Северном море. Вы заявили, что проявили инициативу для блага общего дела. Однако своим самоуправством вы как раз чуть было не погубили операцию ценой в многие сотни миллионов долларов. Ваши доводы не убедили меня. Хотите что-то добавить?»
Кранке тяжело вздохнув, ответил: «Герр Люци, основная польза от этой нашей, простите моей неудачной попытки провести полноценную акцию заключается в том, что мы точно установили ненадёжность кислотных мин. Я позволю себе напомнить, что их производитель двоюродный брат этого ничтожества Штинкера, моего старшего помощника. Как мне известно в их разработку и производство был вложен не один миллион, а я между тем предупреждал руководство, что с этой семьёй мошенников нельзя иметь дело».
Люци прервал речь капитана Брунгильды заметно раздражённым тоном: «Довольно герр командор. Ваши давние неприязненные отношения с семьёй Штинкер для нас не новость. Более того мы сознательно сделали одного из её членов, оказавшимся к тому же опытным моряком, вашим помощником. Древнее правило „разделяй и властвуй“ никто не отменял. Мы должны знать о каждом шаге, о каждом намерении наших ключевых фигур. Нам не нужны верные друзья, способные спеться за нашей спиной. Нам нужны надежные и контролируемые исполнители, а не авантюристы с непредсказуемой инициативой. Не играйте с роком, Кранке. Как вы удачно заметили по поводу русских с людьми не поддающимися просчитыванию нельзя иметь дело. Сейчас вы вернётесь на Брунгильду и смените на вахте Штинкера. Я хочу поговорить с ним. Пришлите его в эти апартаменты с портретом покойного фюрера на стене, кстати распорядитесь убрать этот шедевр. Он меня раздражает — физиономия того кто плохо кончил это мощный демотиватор».
Послышалось щелканье каблуков и сухой по военному, неожиданно чёткий голос Кранке: «Слушаюсь, мой командир». Снова раздался лязг открываемого и закрываемого клинкета. В наступившей тишине вдруг раздался звонкий шлепок, словно ударили открытой ладонью по столешнице. Мы услышали злобный, шипящий шёпот Люци: «Хадидж! Ибн ил хинзи!» В этот момент все присутствующие (за исключением Варда) как по команде взглянули на нашего всезнающего боцмана, ожидая, видимо, пояснений. Бронислав Устиныч, пожав плечами коротко резюмировал: «Араб».
Верманд кивнул согласно и добавил: «Недоносок и сын свиньи это точно не французский». Весь этот германоязычный поток информации доходил до меня и Ромы с Борькой только лишь трудами нашего тихо-синхронного переводчика Гены Эпельбаума. Последняя реплика норвежца заставила меня посмотреть на его персону более пристально. «Кажется в нашем полку эрудитов и полиглотов пополнение» — мелькнуло в моей голове казалось совсем некстати. Прошло минут десять. Всё это время Люци вышагивал по комнате и что-то неразборчиво бормотал. Наконец вновь с лязгом открылась дверь и состоялось новое явление нашего радиоспектакля — мсье Штинкер собственной персоной.
Мы услышали голос энергичного нестарого человека, говорившего по французски: «Бонсуар, мсье Люци! Коман сава?» Люци ответил с некоторой поспешностью: «Мерси, мсье Штинкер. Сава бьен. Силь ву пле. Э — э, дьявол!» вдруг перешёл Люци на английский: «Мсье Штинкер, я же просил не говорить со мной по французски. Франкофон из меня, как из Кранке дипломат. Раз уж вы брезгуете немецким, давайте обходиться вашим аргообразным английским».
Штинкер с хорошо слышной усмешкой ответил: «Как прикажете, мсье Люци. Я в состоянии изъясняться по английски, как лорд Байрон, но предпочитаю говорить без прикрас, как простой моряк, каким по сути и являюсь. Давно интересуюсь спросить — Какой остряк придумал вернуть нам троим на склоне лет детские клички? Штинкером меня прозвали в школе, когда я будто бы по детской слабости сдал своих соучеников директору за разбитую стеклянную дверь в в вестибюле. Эту ложь выдумал настоящий стукач, строивший из себя лидера и заводилу. Кранке получил своё прозвище в юности за вечно больное горло и хриплый голос. Подозреваю, что и с вами проделали нечто подобное. Так или нет, мсье Люци»
Люци ответил ему с нотками ворчания в голосе: «Вы мне симпатичны, Штинкер и только по этому я прощаю вам ваше амикошонство и такт воспитанника марсельских трущоб. Главное вы прямолинейны и говорите всё, что приходит вам в голову. Это хорошо. Вы не умеете хитрить и это тоже хорошо. Что же касается моего псевдонима — Люци, то вы и тут угадали. В юности я увлекался оперным пением, благо голосовые данные позволяли. Особенно мне удавалась ария Мефистофеля. За смуглое лицо и мощный баритон я и получил от своих университетских приятелей кличку Люци — сокращённое от Люцифер. Кстати у меня есть ответный вопрос. Я был весьма удивлён, когда узнал из вашего досье, что вы закончили тот же университет, что и я. Можно сказать, что мы с вами чуть ли не братья — сыновья одной Альма-матер. Как вам, выходцу из бедной семьи удалось поступить в Принстон, такой престижный и дорогой вуз?»
«Всё просто как яичница, мсье Вельзевул» — посмеиваясь заявил Штинкер. «Когда в 12 лет я загремел в колонию для малолеток и провёл там незабываемые полгода, то выйдя оттуда я поклялся себе, что стану человеком, а не ублюдком-уголовником. Упорства мне всегда было не занимать и уже через год я был лучшим учеником школы, а через три стал победителем международной математической олимпиады в Брашове. Учёбу в Принстоне мне оплатили Ротшильды — оказалось, что моя бабка, которая умерла ещё до моего рождения, была настоящей ашкеназийской еврейкой и к тому же уроженкой юга России, города Одесса. Для меня, вышедшего из марсельского сброда, где антисемитизм был хорошим тоном, это было таким же откровением, как если бы оказалось, что мой дедуля был папуасом и любил полакомиться на досуге человечинкой. По крайней мере в семье дяди, где я жил после смерти родителей, евреев уж точно не жаловали, видимо стеснялись собственной родословной.
Окончив Принстон я, как вам должно быть известно добровольно поступил на службу во французский военный флот, начав лейтенантом на дизельной подлодке я дослужился до кавторанга и старшего штурмана на атомном подводном катамаране. Я наверное стал бы адмиралом, но тут появляетесь вы и я послал бы вас к вашему тёзке, но возникшие на моём банковском счету 3 миллиона франков стали таки с вашей стороны мощным аргументом, а контракт на ещё 27 лимонов, но уже не франков, а долларов убедил меня окончательно. Я смог осуществить свою давнюю мечту. Химия моя вторая любовь после математики и мы с братом, который оказался неплохим менеджером открыли современную химико-технологическую лабораторию, где я начал реализовать самые смелые свои и чужие идеи.
Вот я вам и исповедовался, мсье Сатана. Кстати в каком тайном братстве нашей Альма- матер вы состояли? Названия им студиозы давали лихие одни „Благообразные кадавры“ или „Мистеры Хайды“ чего стоят или были ещё „Печальные дефлораторы“, но эти появились позже, когда в 1969-м в Принстон приняли первую сотню девушек. Вам было бы веселее грызть гранит науки, застань вы это время. Я слышал, как шутят в оперном мире: „Басы — пьяницы, баритоны — бабники, тенора — дураки!“»
Я заслушался этими откровениями невидимых собеседников настолько, что даже вздрогнул, когда у меня за спиной совершенно недвусмысленно всхрапнули. У стены на древнем диване со старомодными валиками по бокам, обитым когда то коричневым, а ныне почти полностью облезшим дерматином, крепко спали трое моих товарищей: Гена в центре почивал сидя, а Боря с Ромой по бокам, забравшись на диван с ногами. Только я, да Верманд с Устинычем продолжали торчать у пульта, внимательно прислушиваясь к происходящему в секретной комнате. Всё это время сидели мы на стальных стульях со ржавыми, но крепкими ножками и сиденьями обитыми тем же облезлым дерматином что и диван.
Вновь заговорил Люци, но уже с сентиментальными, мягкими нотками в голосе: «Браво, Штинкер. Вам удалось меня растрогать. Юность, как не банально это звучит неповторимое время. Юношеские шалости, студенческие, шутовские братства. Я же состоял в „Братстве Луны“, казалось бы одним из многих, хотя вряд ли вы о нём слышали, поскольку первым условием была полная конфиденциальность, а вторым, но совершенно обязательным то, что состояние семьи претендента должно было быть не менее четверти миллиарда американских долларов в активных счетах и состоянию этому должно быть не менее 75 лет — возрасту трёх поколений.
Братство в силу естественных причин было самым немногочисленным и самым закрытым из всех прочих. Совет братства сам выбирал претендентов, кстати отказы не принимались, да их и не могло быть, поскольку самые богатые люди, как не парадоксально самые несвободные люди на свете. Деньги рождают власть и одно без другого не существует. Это смертельный наркотик, вселенский оргазм от которого и только он, делает жизнь осмысленным занятием. Всему остальному стаду, именуемому человечеством только кажется, что оно живёт. Это не жизнь, а примитивное существование в трёхмиллиардной овечьей отаре и только несколько тысяч покупают себе истинное счастье жить и властвовать. Однако за всё надо платить и независимые и гордые господа должны подчиняться строгим правилам, чтобы не лишиться своего необходимого как воздух кайфа.
Такие как я — отпрыски влиятельнейших семей мира независимо от национальной или религиозной принадлежности становились членами „Братства Луны“. Юные годы мы проводили, учась в престижных университетах, как правило Лиги Плюща. Всё было овеяно флёром романтики и ореолом тайны, как например сама церемония приёма в братство в ночь полнолуния, но всё это только яркая мишура для малолеток и лишь по прошествии времени понимаешь насколько серьёзные люди управляют братством. Ты не вправе даже разориться или промотать своё состояние, поскольку являешься важным звеном в неразрывной цепи. Выходов из братства два — смерть или безумие. С первым всё ясно, а во втором привилегированного безумца ждёт ласковый врач в роскошной клинике и обходительные, но строгие санитары. Никто не сможет проверить какова природа вашей болезни. Вызвана ли она естественными причинами или вам помогли приобрести её. Ваше состояние будет по прежнему работать на благо ваших законных наследников, под внимательным и справедливым присмотром братства».
Штинкер и вправду не блиставший хорошим воспитанием, внезапно и эмоционально прервал собеседника: «О, Мон Дье! Мсье Люци, что я слышу! Эскьюзи муа за каламбур, но вы меня мистифицируете. Этакая мистификация от Мефистофеля. Опять эта теория заговоров: „Братство Луны“, масоны, „Вольные каменщики“, тамплиеры, иллюминаты. Просто какой-то восемнадцатый век. Всё, что планируют и осуществляют смертные люди не застраховано от ошибок и ошибок фатальных. Глобальное управление миром не возможно по той простой причине, что будущее это уравнение с бесконечным числом неизвестных. Это я вам говорю, как математик и даже великий старик Эйнштейн со мной согласен. Наше представление о мире обусловлено восприятием через искажающую призму человеческих чувств, даже строгие научные выводы не могут быть не искажены этим ограничителем познания сущего. Тепло и холод. Зло и добро. Это всего лишь человеческие понятия. Холод это отсутствие тепла, а зло это просто отсутствие бога. А эта ваша убеждение о том, что ощущение полноценной жизни дают лишь деньги и власть просто ущербно и отдаёт какой-то нечеловеческой, поистине сатанинской гордыней. Простите, но это смахивает на какую-то разновидность мании величия».
На этот раз философские экзерсисы Штинкера прервал Люци: «Вы неучтиво прервали меня, мсье Спиноза, между тем вы правы — стратегически миром не управляет никто, даже Господь, я полагаю, не желает этого, иначе ему не интересно было бы играть в игру с известным финалом. Он лишь следит, чтобы любимая игрушка, его творение, не пошла бы в разнос. Те же цели были у братства — никакой глобальной стратегии, только тактические поправки. Но люди есть люди и им свойственно увлекаться. „Братство Луны“, считавшее себя приемником великих масонов „Вольные каменщики“ по иронии просуществовало не более 75 лет и затем постепенно распалось на несколько центров власти относительно равновеликих и равно влиятельных, ныне соперничающих между собой. Иногда впрочем для общей пользы заключающих временные союзы для борьбы с общим врагом, как это было в истории с Гитлером, возомнившем себя тёмным мессией.
Если бы моё братство, куда я был принят на излёте его времени, существовало до сих пор я не словом не упомянул бы о нём. Теперь это только история, наивная сказка для непосвящённых. Я представляю ныне, условно говоря, некий Восточный анклав и всего лишь выполняю приказы его Высшего совета, который возглавляет мой дорогой кузен, да продлит Всевышний его лучезарные дни. Я его скромный слуга — один из десятка его двоюродных братьев. Я так откровенен с вами лишь потому, что у вас стойкая репутация балагура и трепача. Начни вы откровенничать на эту тему и вас тут-же зачислят в разряд контактёров с зелёными человечками. Теперь к существу дела — Кранке это заноза в заднице и постоянная опасность для нашей операции „Рагнорёк“. К сожалению с ним ничего нельзя поделать, поскольку он является одним из соавторов и вдохновителей самой идеи предприятия. Его ценит высшее руководство. К его мнению прислушивается даже Его Светлость, да хранит его Всемогущий. Как вам известно основной тезис операции — Норвегия не должна стать „Северными Эмиратами“, новым нефтяным клондайком. Это нарушит существующий баланс сил в мире и приведёт к новым непредсказуемым переделам властных линий. Мне нужны новые подробности в деле с норвежской платформой „Алекс“, затонувшей в Северном море».
Глава 29. «Покои Господина»
В какой то момент, где то в третьем часу ночи, боцман, устав от заумных диалогов инфернального Люци и фривольного Штинкера, совершил следующее истинно русское действие. Бронислав Устинович достал откуда то из под многочисленных одежд свою знаменитую титановую фляжку, протянул её Верманду и буркнул тоже по русски: «Угощайся!» Жест был понят без перевода. Норвежец отвинтил крышку, понюхал содержимое, покачал головой, взглянул на русского и внезапно рассмеялся. Смеялся он необычно — по виду заливисто и заразительно весело, но совершенно беззвучно. Боцман глядя на него, тоже заулыбался. Комизм ситуации был понятен — Устиныч широким жестом угощал хозяина коньяком, который у него же давеча скоммуниздил.
Между тем «радиоспектакль» (который я уже назвал про себя «Операция „Рагнарёк“») продолжался в нашем прямом эфире. Заговорил Штинкер, судя по звукам, предварительно приняв рюмку той же живительной амброзии, что и его тайные слушатели. Он видимо последовал мистически воспринятому инстинкту мужской солидарности. Перейдя на серьёзную интонацию, старший офицер «Брунгильды» заявил: «Мсье Люци, я не собираюсь снимать с себя ответственность за то, что произошло в Северном море. Позвольте мне только изложить периодичность событий, как говорится, „де факто“, как если бы я читал выдержки из судового журнала, буде таковой вёлся бы на нашей „Брунгилде“».
Нами производилась разведка в районе месторождения Эфиск. Изучался рельеф дна, составлялась карта подводных течений и места газовых выбросов. Внезапно посреди ночной вахты командор Кранке приказал четвёрке подводных пловцов прибыть к нему на мостик для инструктажа, а мне по судовому телефону был отдан приказ привести в готовность к применению 12 кислотных мин из 48. Все мины предназначались для тестирования на затонувших подводных объектах. Необходимо пояснить, что кислотная мина это идеальный инструмент для скрытых подводных диверсий. Это одна из первых и весьма удачная разработка нашей совместной с братом лаборатории.
Тестирование или при необходимости боевое применение происходит так: мина закрепляется на объекте, например на подводной части основания опоры морской платформы и после приведения её в боевое положение внутри корпуса мины запускается катализированная химическая реакция. В части мины, прилегающей к металлу опоры, растворяется плавкая перегородка и активная химическая смесь вступает во взаимодействие с железом опоры, так что в течении 6 часов в месте контакта образуется критический износ металла, впоследствии неотличимый от естественной коррозии. Пустая оболочка мины бесследно растворяется в морской воде за 24 часа.
Двенадцать мин, для краткости именуемых «кислотками», были уже опробованы в предшествующие месяцы и результат показали блестящий. Команда подводных пловцов на тренировках приближенным к реальным, также показала превосходные результаты и это не случайно, поскольку все четверо это ветераны диверсионной группы ВМФ «Дьяволы Посейдона». Всех я знаю лично по совместной службе и каждого в отдельности рекомендовал для вербовки и последующего участия в операции «Рагнарёк». Тем не менее считаю необходимым указать, что группа с самого начала имела прямое подчинение командору Кранке. Всем четверым было строго запрещено вести любые разговоры на служебные темы с кем либо, за исключением командора.
В 16.00 по Гринвичу погода продолжала ухудшаться и уже через два часа в районе месторождения Эфиск начался сильный шторм: порывы ветра доходили до 35–40 узлов, высота волн до 10–12 метров. «Брунгильда» легла на грунт в двухстах морских саженях или в двух кабельтов (1 кабельтов 1/10 морской мили 185,2 метра) от двух соединённых переходом морских платформ: буровой нефтегазодобывающей платформой ED-24 и плавучим общежитием для нефтяников морской платформой «Алекс». Как позднее стало известно в этой плавучей гостинице находилось более 200 человек. Командор Кранке руководил операцией с момента убытия с борта «Брунгильды» команды подводных пловцов и до их возвращения на борт. Командир корабля лично инструктировал водолазов в своей каюте.
Я,как старший офицер, всё это время находился в командирском отсеке, выполняя приказ командира корабля. Через час все четверо водолазов благополучно вернулись на борт и старший группы направился в каюту командора, чтобы доложить о завершённом задании. Командор принял рапорт странным образом через запертую дверь. Затем по телефону приказал мне вести акустическую прослушку подводной части морских платформ. Ровно через четыре часа акустик доложил, что улавливает характерный скрежет деформирующихся металлических конструкций, удары и резкие хлопки в указанном направлении, что мы по опыту опознали, как звуки ломающихся металлических опор и рвущихся якорных цепей морской платформы. Я связался с командором по телефону и получил от него приказ следовать самым малым ходом к объекту диверсии. На мои опасения, по поводу возможного столкновения с терпящей крушение многотонной конструкцией, он резко потребовал, чтобы я не смел обсуждать его распоряжения.
Для понимания дальнейших событий считаю необходимым напомнить, что подводный корабль «Брунгильда» (в девичестве, то есть по первому названию «Джумана»[7] был построен во французских верфях по заказу правительства Его Светлости, да продлятся его дни. Корабль сооружён по инженерным проектам командора Кранке. Субмарина «Джумана» была подводной резиденцией Его Светлости и предназначалась для морских подводных прогулок в богатых флорой и фауной районах Красного моря. Подлодка «Джумана» — «Брунгильда» это по сути гибрид батискафа и субмарины. Она оснащена специальным обзорным иллюминатором, скрытым в корпусе. Это сверхпрочный иллюминатор диаметром в 1,8 метра и находится он в так называемых «Покоях Господина», который командор ныне переоборудовал под свою каюту.
С 23.00 до 23.45 часов по Гринвичу я безуспешно пытался связаться с командором по телефону. На стук в дверь он так же не реагировал. Я стал беспокоиться о состоянии здоровья командира и приказал вскрыть дверь его каюты. Войдя в вышеназванное помещение я увидел следующую картину: защитный кожух обзорного иллюминатора открыт, освещение в каюте отсутствует, зато включены наружные обзорные прожекторы, освещающие забортную толщу воды в в глубину до пятнадцати-двадцати метров. Подлодка находилась в непосредственной близости от платформ на глубине близкой к перископной максимум в 3–5 метрах от поверхности штормящего моря. Был включен автопилот и корабль удерживался на месте лишь с помощью подруливающего устройства.
На этой глубине из-за сильного волнения на поверхности лодку прилично качало, но в каюте командора не ощущалась бы и более сильная качка, поскольку эти, так называемые «Покои Господина» представляли из себя цельное гироскопическое устройство и удерживали «нулевой горизонт» при любом шторме. Качка могла быть бортовая или килевая, но кренометр в «Покоях Господина» прочно стоял на нуле и лишь при вертикальной качке когда корабль находился в дрейфе ощущалось лёгкое и даже приятное покачивание. Когда я привык к полумраку в каюте меня охватило ощущение, что я нахожусь в зале небольшого стерео-кинотеатра, где роль экрана играл обзорный иллюминатор с наружной подсветкой из мощных прожекторов. Я взглянул на этот импровизированный экран и пришёл в ужас, которого не испытывал никогда прежде. Я понял смысл избитой фразы: «Волосы зашевелились у меня на голове». Именно это я и испытал.
Средний из прожекторов был направлен вверх к поверхности штормящего ночного моря и плавно поворачиваясь, освещал происходящее. На моих глазах разворачивалась страшная трагедия: Среди обломков потерпевшей крушение норвежской морской платформы «Алекс» гибли десятки людей. Одна из спущенных шлюпок перевернулась от удара пятнадцати метровой волны и несчастные, даже не успевшие надеть спасательные жилеты, шли на дно в ореолах тысяч пузырьков воздуха, хаотично барахтаясь в ледяной воде Северного моря. Несколько человек в тщетной попытке помочь друг другу спастись, сцепились руками и медленно погружались, ещё тёплые и живые, в чёрную пучину, дёргаясь словно марионетки в последнем смертельном танце. Через минуту эта страшная группа, опускаясь на дно почти вплотную приблизилась к иллюминатору «Брунгильды» и я увидел то, что не забуду и на смертном одре.
Один из погибающих, крупный рыжебородый мужчина был всё ещё жив и даже находился в сознании. Каким то неимоверным последним усилием он вырвался из судорожно сжатых рук своих товарищей и подплыв к иллюминатору, несколько раз ударил своими мощными кулаками в бронированное, закалённое стекло иллюминатора. Его глаза были широко открыты, казалось он смотрит на меня, моля о спасении. Через мгновение взгляд несчастного стал невидящим, кулаки разжались и он словно заскользил раскрытыми ладонями по стеклу вниз в направлении своей холодной, давящей тяжкими тоннами солёной морской воды, бездонной могилы. Я с ужасом подумал, что принадлежу к группе циничных убийц этого ни в чём не провинившегося перед нами человека. В это мгновение раздались странные звуки, как будто плачет сильно простуженный грудной ребёнок. С трудом подавив желание бросится прочь из этой комнаты ночных кошмаров, я двинулся в направлении жутких всхлипываний.
В глубоком бархатном кресле сидел командор Кранке. Это именно он издавал, этот чуть было не доконавший меня детский плач. О, это не был плач! Кранке смеялся, словно всхлипывал, в своей неповторимой, отвратительной манере. Его лицо искажало идиотическое выражение полного, окончательного счастья, а изо рта сбегала тонкая струйка слюны. Однажды в детстве мне довелось наблюдать мерзкую картину. В соседнем доме жил великовозрастный инвалид-олигофрен и всякий раз, когда из школы для девочек неподалёку возвращалась домой очередная группа учениц, это существо за окном маструбировало. Оно делало это с точно таким же безумно-счастливым выражением человекообразной физиономии.
Я не сделал попытки привести этого человека в чувство, слишком велико было пережитое мной потрясение в проклятых «Покоях Господина». Я молча ретировался, тихо прикрыв за собой дверь страшной каюты. Немного позже я пришёл в себя и объявив, что командор нездоров, включил главные двигатели и направил «Брунгильду» полным ходом прочь. Подальше от места совершённого нами массового убийства.
Глава 30. «Союзники»
Подслушанный рассказ старшего помощника Брунгильды, мягко говоря, не мог оставить нас равнодушными. Если честно, то моё знание английского, как говориться: «оставляло желать…»и мне удалось понять лишь самую суть ужасной трагедии происшедшей в Северном море. Оба моих компаньона, особенно Верманд Вард (в отличии от меня) восприняли рассказ Штинкера более остро, потому-как для них открылись все страшные подробности и нюансы катастрофы, происшедшей с норвежской морской платформой «Алекс».
Что касается Бронислава Устиновича — нашего судового полиглота и эрудита, то его штудирование классиков английской литературы не пропало втуне. Боцман хоть и говорил языком Шекспира и Байрона близким, разве что какому-нибудь профессору Гарвардского университета кафедры английской литературы, но как не странно, понимать стал разговорную английскую речь во всех её тонкостях и красках. Позже мы не раз с ним возвращались к услышанному в «Тайной Комнате Большого Брата» и он открыл мне множество, ускользнувших тогда от меня деталей.
Верманд и Устиныч после невольно возникшей паузы, вызванной впечатлением от услышанного, обменялись короткими репликами по немецки, явно используя германскую ненормативную лексику. Верманд кивнул головой в направлении моих спящих товарищей и сказал: «Им здесь не место, слишком опасно. На вашем траулере, пока вы не отшвартовались от причала будет спокойнее. Я доставлю вас на судно и там мы решим как действовать дальше». Боцман не нашел, что возразить на это его предложение и мы разбудив товарищей, стараясь не производить лишнего шума, двинулись следом за Вардом. Наш путь по тёмному туннелю лежал в направлении выхода на остров.
Меньше чем через час, выйдя на галичный пляж мы пошли в направлении прибрежных скал и там, пройдя по каменистой трапе, вышли к маленькой бухте, защищённой от прибоя естественной каменистой грядой. В этой тихой акватории, рассчитанной на одну персону покачивался на воде маленький рыбацкий баркас с небольшой надстройкой. Таких рыбачков в Норвегии тогда насчитывалось более десяти тысяч и все вместе они образовывали один из самых больших по тоннажу промысловых флотов мира. По словам того же Варда, только в фюльке (провинция по норвежски) Тромс насчитывалось около полутора тысяч подобных малышей. Для хождения и промысла в открытом море на подобном корытце, да ещё с риском быть прихваченным нередким в этих местах северным штормом, нужно было быть поистине прирождённым моряком и рыбаком с хваткой морского волка (частенько и волчицы). Таких отважных моряков суровая красавица Норвегия ещё со времён викингов всегда рожала и растила исправно.
Вард с нашей помощью спустил на воду сохнущую на берегу лодку и мы в два приёма погрузились на баркас, забираясь на борт, просто подтягиваясь на руках. Я несколько переусердствовал, изображая Тарзана и в очередной раз продемонстрировал чудеса «паганельской» ловкости. Лихость с которой мне удалось закинуть на борт ногу стоила мне целостности штанов. Старине Паганелю удалось в который раз повеселить своих друзей. На этот раз треском рвущихся швов и нежной синевой семейных трусов, радостно выглянувших на свет божий.
Завибрировал корпус баркаса, загудел набирая обороты его дизельный движок. Вард поднял якорь с помощью небольшой лебёдки, которая использовалась и для выборки рыболовных сетей и «Эидис» (так назывался баркас), обогнув каменистый пирс, вышел в Норвежское море. Как пояснил Верманд, Эидис это женское имя и по норвежски означает богиня острова. Наша морская дорога проходила вдоль берега, огибая скалистый мыс. Вард, разумеется наизусть, без всякой карты, знал все отмели и подводные препятствия, включая скалы и затонувшие у Медвежьего корабли. Баркас двигался в непривычной для нас близости от огромных, нависающих над нашими головами серых и коричневых скал. Множество гагар и чаек, носились в пасмурном небе тревожно крича и предупреждая друг друга о появлении шумного, источающего гарь пришельца, вторгшегося в их мир.
Через час небольшим мы приблизились к уже знакомым нам отвесным, высоким скалам, покрытым буро-зелёным лишайником. Это они, словно легендарные Сцилла и Харибда сторожили вход в уже несколько освоенный нами тайный фьорд. Для капитана нашей «Эидис» на острове и в окрестностях не было неизученных мест и Вард даже не снижал ход до малого, как это приходилось делать нашему «Жуковску» на пару со сторожевиком «Сенье». Покрутившись по по изгибам шхеры рыбачок вышел прямиком к нашему уже почти родному Медвежьему крылу.
Высыпавший на палубу «Жуковска» экипаж встретил наше явление радостным шумом, словно население острова Итака, своего царя Одиссея и его спутников, после душераздирающих приключений вернувшихся наконец с Троянской войны. Триумф хитроумного Уллиса не задумываясь принял на себя наш славный боцман. Он достойно, со сдержанной улыбкой принимал дружеские похлопывания по плечам и тёплые приветствия. Создавалось впечатление, что герой отсутствовал на родном борту по меньшей мере несколько месяцев и его уже не чаяли увидеть живым. Вперёд вышел капитан Владлен Георгиевич и ухмыляясь в бороду не без сарказма заметил: «Ну что, жив товарищ Сухов и баркас привёл? А это кто — Верещагин? кивнул он в сторону Верманда. Таможня даёт добро? „Владлен, игнорируя предложенную авансцену по мотивам произведений Гомера, явно обыгрывал сюжет всенародно любимого „Белого солнца пустыни“. И то сказать, у старого моряка был верный глаз — Верманд Вард и вправду чем-то походил на замечательного русского актёра Луспекаева в роли таможенника Верещагина. Даже баркас был к месту этой капитанской шутке.
Боцман усмехнулся в ответ, оценив начальственный юмор: „Знакомься, Владлен Георгиевич. Верманд Вард, норвежский рыбак, знаток местных тайных гротов и наш благоприобретённый союзник“.Капитан протянул норвежцу руку и они обменялись рукопожатием“.Союзники всегда желанные гости. Прошу ко мне в каюту» — Владлен взмахнул рукой в сторону судовой надстройки и все трое, словно великие державные мужи чинно проследовали в указанную резиденцию для межгосударственной встречи.
Через два с небольшим часа вся троица спустилась по трапу надстройки на палубу носовой части «Жуковска». Баркас «Эидис» как раз был пришвартован к левому свободному борту нашего малыша — траулера, который по сравнению с соседом казался внушительным, солидным рыбацким судном. Я обратил внимание, что боцман Бронислав Устиныч чем-то изрядно расстроен. Его знаменитые усы, обычно аккуратно подкрученные, обиженно топорщились, словно усы пожилого тигра от которого ушла добыча, а следом и молодая тигрица. Вообщем, судя по всему, переговоры в капитанской каюте, на которые, между прочим, были приглашены так же старший помощник Савелий Кондратьевич и старшина Семён окончились каким то неприятным для боцмана решением.
Как выяснилось позже, Верманд Вард изложил собравшимся свой план о том как, по выражению норвежца: «Вывести на чистую воду чёртов У-бот „Брунгильду“ — „Джуману“. В активе нашей стороны имелись такие важные доказательства как: магнитофонные записи разговоров Люци, Кранке и старпома Штинкера, фотоплёнка с кадрами фрагментов старой и новой (установленной „ремонтниками“, то бишь экипажем „Брунгильды“) инфраструктуры бывшей германской базы кригсмарине. Между прочим в наше отсутствие на „Жуковске“ то же не бездействовали и Семён (благо позволял полярный день) ещё раз исследовал вершину Медвежьего крыла и нашёл там тщательно замаскированную небольшую спутниковую антенну. Небольшой круглый колпак, окрашенный под цвет соседних камней. Эту штуку, явно установленную не в годы второй мировой, что называется то же подшили к делу, сфотографировав с разных сторон вместе со свежей картой погоды, полученной по фототелеграфу нашим радистом. На карте имелась датировка получения, вплоть до часов и минут».
Однако по общему мнению совещавшихся всего этого было недостаточно. Верманд считал необходимым добыть каким то образом хотя бы одну или две «кислотки» (кислотные мины), которые подводные пловцы с «Брунгильды» использовали для массивного повреждения подводных опор норвежской платформы «Алекс», затонувшей в Северном море. Он собирался вернуться в грот, чтобы найти и изъять хотя бы один экземпляр этого подлого оружия. Вард догадывался, что где-то на одном из складов в гроте, у командора Кранке должен быть запас этого незаменимого средства тайных диверсий на морских нефтедобывающих платформах. Для этого опасного мероприятия норвежцу нужен был напарник, разумеется владеющий одним из известных ему языков. Альтернатива была понятна — это мог быть либо боцман либо Генка Эпельбаум (моя кандидатура по малолетству, да и учитывая только что продемонстрированную мною при взятии на абордаж малышки «Эидис» ловкость, естественно в расчёт не принималась) Верманд с самого начала заявил, что предпочёл бы иметь дело с бывалым и сметливым Устинычем, да и боцман был обеими руками согласен, однако капитан Владлен наотрез отказал обоим.
Он так прямо и заявил: «Проси кого угодно дорогой мой союзник, но боцманом я рисковать более не намерен. Он хоть у нас артист изрядный, но без него „Жуковск“ в этой переделке не выживет. Это я тебе ответственно заявляю. Бери вот матроса Эпельбаума. Он парень шустрый, сообразительный, языком опять же владеет, даже слишком порой». и Владлен с напускной строгостью, сощурившись взглянул на Гену. Надо сказать, что рыжий Генрих Оскорович отреагировал со сдержанным энтузиазмом, но к его чести увильнуть не попытался. «Дорогой союзник Верманд» нехотя согласился на предложенного Гешу, благо выбора у него не было. После всего норвежец подозвал боцмана и оба спустившись на борт баркаса скрылись в его небольшой надстройке. Они говорили о чём-то не менее получаса, затем Устиныч вышел из рубки, неся на плече, что-то довольно тяжёлое и длинное замотанное в брезент. Странный предмет был отправлен в каптёрку вместе с каким-то небольшим, но увесистым ящиком, так же прибывшим с борта союзного баркаса.
Непривычно серьёзный Гена солидно попрощался с товарищами, сдержанно пожав всем руки. Он спустился в баркас следом за Вермандом. «Эидис» отшвартовавшись от «Жуковска» отправилась к родному берегу, ставшему вдруг опасным и как будто чужим. Боцман же тяжело вздохнул и задумчиво выдал очередную загадочную тираду: «Вот ведь как бывает, малый. И бывших врагов жизнь порой превращает в союзников…»
Глава 31. «Боцман и полярный бич»
Баркас с красивым женским именем «Эидис» скрылся за скалами и мне вспомнилась шутка нашего капитана, когда он назвал Верманда, Верещагиным из кинофильма «Белое солнце пустыни». Я вспомнил крик Сухова из фильма: «..Верещагин! Уходи с баркаса!..не заводи машину! Взорвешься! Стой!».. и мне стало не по себе. Вдруг навалилась усталость от всего пережитого и услышанного этой бессонной ночью и я едва передвигая ноги и стараясь не светится трусами из порванных штанов поплёлся в кубрик, где еле заполз на свою верхнюю матросскую койку с бортиком и тут же благополучно вырубился.
Мне приснился цветной, широкоэкранный сон. В нём боцман Сухов и Верманд-Верещагин оба в белых тюрбанах и цветных бухарских халатах долго и со вкусом пили зелёный чай, солидно подливая в него французский коньяк, расположившись словно в чайхане на вершине Медвежьего крыла. Я таращился на них, сидя как гагара на краешке соседнего скального уступа и вдруг с ужасом понял, что являюсь ни кем иным, как красноармейцем Петрухой и ко мне снизу карабкается по скалам нечто немыслимое — двухголовый, как сиамские близнецы Чёрный Абдула. Головы Люци и Кранке жутко покачивались на тонких шеях, растущих из одного массивного туловища.
Оно, это нечто, вот-вот доберётся до моего уступа и заколет меня ржавым штыком от старой трёхлинейки. Я пытаюсь позвать на помощь роскошно усатого, как гусар Сухова и богатыря Верещагина в седой норвежской бороде, но как бывает в таких кошмарах — язык словно парализован. Вдруг пришло ещё одно отчётливое понимание, что я вовсе никакой не Петруха, а младшая жена Абдулы — Гюльчатай и красноармейская гимнастёрка на мне потому, что я, аккуратная девочка, постирала своё пёстрое узбекское платьице и оно теперь сохнет на соседней скале. Тут я просто разозлился — хрен редьки не слаще, значит не зарежут, а задушат, да ещё перед смертью этот оголодавший муженёк двуглавый тут же на скале заставит меня, такую нежную, супружеский долг выполнить. Это было уже слишком и я проснулся в ледяном поту от собственного вопля.
«Чего орёшь, впечатления одолели?» — осведомился, стоящий у изголовья койки Борис. — «Тебе между прочим через десять минут на вахту, так что подъём». Я взглянул на наручные «Командирские» со светящимся циферблатом — было без десяти двенадцать. Поскольку тёмный и душный кубрик был заполнен похрапывающими матросами это была полночь, выходило что я проспал без малого двенадцать часов. Со сна меня била дрожь. И то сказать — на палубе, куда я поднялся по трапу из кубрика был хоть и май месяц, но не «баловником» ни «чародеем» он не был и тем более не «веял свежим своим опахалом». Скалы Медвежьего крыла хоть и защищали от от порывов холодного ветра, но пронизывающие сквозняки по палубе «Жуковска» гуляли вовсю.
Я завернул в боцманскую каптёрку, чтобы прихватить положенную палубной вахте телогрейку. В каптёрке горел свет. В дальнем углу на ящиках сидел Бронислав Устиныч, разложивший перед собой какие-то железки и старательно, даже с нежностью, протирал их ветошью, сдувая невидимые пылинки. Я подошёл ближе и увидел на ящике самую большую деталь — длинный массивный ствол с удлинёнными отверстиями. «Ух ты, пулемёт! Настоящий! Откуда?!» — вырвался у меня восхищённый мальчишеский возглас. Вспомнив, с каким грузом боцман покидал борт «Эидис», я не стал уточнять происхождение этого хотя и разобранного, но всё же впечатляюще грозного смертоносного механизма.
Устиныч перехватил мой горящий взгляд и не удержался от лирического комментария: «Любовь к оружию! Любовь к оружию свойственна всем нормальным пацанам и большинству мужчин. Это, Паганюха естественный цивилизационный феномен. Мужчина прежде всего воин — защитник своего племени, а уже потом всё остальное. Так было и так будет, а иначе регресс, вырождение и гибель! Это почти музейный экспонат, вражеское оружие и гордость вермахта МГ-42 или как его называли в войну „Циркулярная пила Гитлера“. Сколько наших ребят полегло в проклятых лобовых атаках от этого железа. У немцев ведь были сотни тысяч таких машин, включая его предшественника МГ-34. Мы изучали оба этих машиненгевер в „Школе юнг“. Работают они коротким ходом, на принципе отдачи ствола и прицельно бьют на километр. Скорострельность отличная, порядка тысячи выстрелов в минуту. Его проблема лишь в том, что уже при 200 выстрелах в минуту нужно менять перегревающийся ствол каждые 30–40 секунд».
Я возбуждённо засопел: «Так мы теперь и с „Брунгильдой“ повоевать сможем?!» — «Ну это вряд ли» — усмехнулся боцман — «У этой „гоп компании“ наверняка посерьёзнее игрушки имеются. Однако, малый, голенькими они нас уже не возьмут, а пулемёт нам нужен для другого — мы им будем фарватер разминировать, когда на выход пойдём. Скоро сам увидишь». За разговором Устиныч успел смазать и собрать одиннадцати килограммовую немецкую машинку, метр двадцать длинной. — «Возьми в углу на ящиках банку-трёхлитровку в капроновой оплётке, набери воды и поставь кипятильник». — распорядился боцман — «Чай и сахар я принесу из каюты. Здесь не храню — крысы шастают. Заодно и печенье прихвачу. Верманд подогнал на прощанье».
Горячий крепкий чай, щедро сдобренный рафинадом, заметно поднял настроение и я с мальчишеской непосредственностью принялся расспрашивать Устиныча о последних событиях происшедших без моего участия. Я непринуждённо интересовался о чём говорилось в каюте капитана, какие решения принимались и особенно любопытную Варвару (то есть меня) интересовала прощальная беседа Бронислава и Верманда на борту «Эидис». На этот град разнообразных расспросов боцман отвечал односложно: «Не части, „Торопыгин“, так или иначе скоро всё закончится. Что-то само прояснится, а что-то нет. Будем живы, здоровы и ладно. Вот тогда и поговорим» Видя мою неудовлетворённую, обиженную физиономию, Устиныч то ли смягчился сердцем, то ли просто решил поменять тему беседы. Хитро прищурив левый глаз он спросил: «Слышь, Паганюха! А я ведь не закончил рассказ о своих славных похождениях в Гренландии. Так-что доставай из под шапки свои свободные уши и хочешь не хочешь, а я по ним ездить буду».
Я продолжал дуться, не проявляя интерес к предложенной смене беседы и тогда боцман с лёгким, возможно наигранным раздражением, заявил: «Впрочем я не неволю — нелюбо не слушай и кстати место вахтенного матроса у сходней на берег, это я как старший по должности напоминаю». В этом месте до меня дошло, что детские игры в обиду выглядят несолидно, да и чем закончились гренландские приключения боцмана Друзя и правда хотелось услышать. Я изобразил неискреннее и неглубокое раскаяние в своём поведении и как предложил Устиныч «достал из под шапки свободные уши»
«Напомни ка, Вальдамир: на чём я остановился в прошлый раз, перед тем, как мы с тобой в туннеле от бешеной дрезины наперегонки драпака давали?» — спросил боцман. Я, хлебнув чай из кружки, с готовностью ответил: «Вы, Бронислав Устиныч сетовали, что не смогли выстрелить в рыжую нерпу. Вас ассоциации подвели — вспомнили, как во время войны по тонущему в Баренцевом море рыжему фрицу-подводнику стрелять отказались». Старый моряк поёжился: «Да уж, такое до смерти не забудешь. Вот ты, малый красивые слова любишь: ассоциации, тенденции… Да я не в укор, у самого та же болезнь, чрезмерная начитанность, без хорошего образования. Родственные мы с тобой души — за то ты мне и симпатичен. Редко с кем на равных побеседовать можно. Иной и постарше тебя, а двух слов связать не может и интересов никаких, кроме плотских. А иной вроде и хитроумен и образован неплохо и язык подвешен, а душа не лежит с ним в откровения пускаться. Это я про Генку Эпельбаума. Язва он по натуре, всё ближнего и дальнего на смех поднять норовит — язва рыжая и есть. Гордыни это знак, гордыни и недалёкости».
Боцман с досады едва не плюнул на палубу, но морское воспитание не позволило и он продолжил: «Твоё, Вальдамир главное достоинство, что ты хоть и молод, но добрый человек по натуре и людей уважаешь, не обидеть стараешься. Одно это признак ума. От того с тобой и общаться приятно и интересно, благо книг много прочёл и незнайкой не кажешься. Миник, мой приятель гренландский такой же был, правда, когда у умного и тонкого человека ещё и хорошее образование за плечами, это знаешь ли сказывается. Честно скажу, порой чувствовал я себя рядом с ним простаком, мещанином во дворянстве, а ничего не поделаешь. Как он тогда сказал, когда я на охоте нерпичьей обмишурился: „Если Великий Нерпа не позволил добыть одну из своих дочерей, значит у него на неё свои планы, может быть она должна стать праматерью большого племени красных нерп, которые в свою очередь спасут племя Калаалит Анори в голодный год от вымирания“.Это, милый мой, высший пилотаж деликатности: природный такт вкупе с мягким доброжелательным остроумием».
Чуть позже Миник намекнул, что охота наша не праздное времяпрепровождение, а способ обеспечить племя пищей на ближайшие несколько недель. Нельзя ходить на охоту когда и куда вздумается. Время и место промысла тщательно выбирается старейшинами и утверждается Большим Джуулутом, который руководствуется множеством естественных и мистических оснований. Так, что наша миссия была настолько серьёзной, что я решительно отбросил лирические мотивы и со второго захода подстрелил целых двух нерп. Когда же мы буксировали добычу, поддерживаемую на плаву с помощью десятка прозрачных кухтылей-шаров (поплавков) то вдали от берега встретили небольшую стаю нарвалов — морских единорогов из семейства китообразных. Знаешь, Паганюха, незабываемое это зрелище, когда такие махины в метре от тебя проплывают. Самцы были просто огромны — пятнистые тела длиной до 4 метров и на глаз весом более тонны. Их левые бивни в среднем двух-трёхметровые воинственно выскакивали из воды, производя, скажу я тебе, весьма устрашающее впечатление. Эта добыча явно была нам не по силам, да и звери были краснокнижными, так что оставалось только любоваться на редких морских гигантов.
Через пару часов с небольшим вернулись мы с добычей в знакомую бухту. Каяк и груз вытащили на берег и Миник поднялся наверх, чтобы позвать брата Нанока для разделки нерпичьих тушь. Я присел на ближайший валун, греясь в не слишком щедрых лучах полярного солнышка. Три добытые нами нерпы лежали неподалёку на подсыхающей гальке. Ты знаешь малой, есть такое выражение — «чувствовать опасность спинным мозгом». Так вот, скажу я тебе, это вполне реальное ощущение. Я как будто ощутил легчайший электрический разряд, прошедший по позвоночнику, пощипывание, как от электрической батарейки. Одновременно стали дыбом все волосы на коже спины. Повинуясь одним инстинктам, не раз спасавшим меня в жизни, я резко ринулся вперёд от валуна на котором сидел и сделав кувырок через голову приземлился на влажную, острую гальку метрах в пяти от прежнего места и лицом к нему.
На меня пялился огромный, грязно-серый монстр. Причём из под свалявшейся, как у гигантской бездомной балонки шерсти, оскалившейся устрашающими жёлтыми кольями зубов жуткой морды, пялился на меня чёрный, лаковый как у драконов на китайских миниатюрах, глаз. Именно глаз, в единственном числе, поскольку на месте второго зияла округлая, бордовая впадина. До меня даже не сразу дошло, что этот монструозный, косматый циклоп не легендарный персонаж неведомо как материализовавшийся из гомеровской Одиссеи, а реальный и довольно обычный для этих краёв, с позволения сказать, белый или полярный медведь. Просто очень большой ростом, не менее трёх метров в холке, очень старый, ужасно тощий и грязный. Натуральный полярный бич или, как я говорят нынче бомж. Картинка, я скажу, достойная кисти Айвазяна — «Боцман и полярный бич».
Из его полуоткрытой, надо полагать от изумления прыткостью двуногой добычи пасти, несло, как из морга с испорченным холодильником. Вонь мощно чувствовалась даже на расстоянии. Похоже желудок этого бедолаги с голодухи принялись переваривать сам себя. Бродяга, понятное дело, был привлечён на мою беду запахом свежей нерпы, обычно не посещавшей эти места. Увидев долговязое, усатое препятствие, облачённое в покровы из всё тех же нерпичьих шкур, оголодавший урсус наверное решил, что это ещё одна нерпа, только со странностями, увлекающаяся прямохождением по суше. Ударом пятипудовой лапы по усатой башке мишка намеревался вернуть это чудо в исходное горизонтальное положение, так сказать восстановить статус кво. Промах привёл зверя в состояние близкое к ступору, чем я незамедлительно и воспользовался.
Кинувшись к лежащему неподалёку каяку, я схватил приставленный к его борту «Зауэр». Зверь, опомнившись, с хриплым, оглушающим рёвом встал на задние лапы, демонстрируя облезающий грязный живот и три с половиной метра костей и обезжиревших, но всё ещё мощных жил и мышц. Всё происходило замедленно, как в кошмарном сне, сам обезумев от ужаса, я вдруг ощутил окатившую меня волну спасительной боевой агрессии, этого дорогого подарка наших безбашенных пещерных предков. Не помню как, но два ствола вертикалки оказались в ревущей, вонючей пасти зверя и я нажал на оба курка. На моё счастье в одном из стволов оставался патрон с крупной картечью. Раздался приглушенный хлопок выстрела и полутонная туша стала заваливаться вперёд, подминая меня словно танк оловянного солдата.
Глава 32. «Боцман и Умингмуксуэ»
Бронислав Устиныч достал ещё один длинный свёрток из мешковины и развернул его. В нём оказались два запасных ствола от уже собранного немецкого пулемёта. Воронёное железо было в идеальном состоянии: без малейших признаков коррозии или грязию. «Ай да Верманд, ай да норвежский старичок-рыбачок!» — отметил я про себя — «Мы мирные люди, но наш бронепоезд ухожен и смазан всегда…» Боцман, однако, не удовлетворился осмотром и принялся заново полировать и протирать запчасти МГ-42. После короткой паузы и моего нетерпеливого напоминания он продолжил свою полярную Одиссею, прерванную в момент его эпохальной баталии с косматым полярным циклопом. «Как волосатая, полутонная туша на меня свалилась, это я ещё помню» — продолжил боцман — «Однако упал я неудачно — затылком о валун приложился и как говорится — дальше тишина, но слава Создателю, не окончательная. Очнулся я от доброй порции не тёплой морской воды с ледяной крошкой, которую Миник плеснул мне в физиономию из ковшика, бывшего при каяке. Как оказалась, за минуту до этого он с помощью большой, выброшенной на берег коряги, использовав её в качестве рычага, свалил с меня мёртвую тушу одноглазого гренландского бродяги-урсуса».
Как я не задохнулся, это одному Большому Джуулуту известно, поскольку Миник, по его словам отсутствовал не менее получаса. Присел я на тот самый валун о который башкой треснулся и чувствую, что мутит меня, как салажонка в первом рейсе, а как взглянул на бича полярного, мною из Зауэра убиенного, которого Миник с меня снимая корягой-рычагом на спину перевернул, то совсем худо мне стало. Глаз его единственный (видать от последствий близкого выстрела в голову) из впадины выскочил и на волосатой грязно-серой щеке на глазном нерве висит — картинка та ещё, скажу я вам…
Ну чую опозорится сейчас усатый боцман Друзь. Ещё немного и «смычку бросит» — стошнит, стало быть, как укачавшаяся в школьном автобусе пятиклассница. Но Миник поспел, как всегда вовремя — не дал случится такому позору. Достал он флягу с водой, напоил меня болезного, а голову тугой повязкой перетянул. Принёс с нарт подстилку из шкур и уложил меня на неё. Лежать велел, не двигаться и не разговаривать, а сам отправился добытую нерпу разделывать. Забылся я, на сколько времени точно не знаю, но когда в себя пришёл чую, что полегчало мне здорово. Я ведь тогда моложе был и здоровьем бог не обидел — после всяких передряг быстро восстанавливался. Миник рядом сидит у костра из той самой коряги-спасительницы разведённого и глядя на огонь, как будто тихо-тихо поёт и покачивается при этом.
Слышу мотив этой песни на одинокие, тоскливые завывания ветра в скалах похож и на вечный шум морского прибоя одновременно — захочешь не напоёшь таковскую музыку. Понял я, что это какой-то древний ритуал Калаалит Анори и не спроста выпускник универа, хотя бы и инуит о нём вспомнил. Не иначе случилось что. Тут меня, как обожгло — Нанока то, брата Миникова почему рядом нет!? Подождал я пока он песню свою закончит, а ждать долго пришлось, сел на своей подстилке и тихо так спрашиваю (сам же ответ услышать опасаюсь): «Миник, а Нанок где?»
Миник посмотрел куда то в пространство поверх моей головы и голосом непохожим на свой обычный, глухо так говорит: «Большой Джуулут всегда знает, что говорит. Он назвал тебя, Рони охотником на злых духов и я только сейчас понял, что он имел в виду. Этот одноглазый большой белый, которого ты убил, был проклятием и злым духом нашего племени последние двадцать лет. Два десятилетия назад молодой и горячий инук из нашего рода по имени Иннек, что значит огонь, не внял предупреждению ангакока не выходить на охоту до прихода новой луны. Вездеход с запасом продуктов, который шёл к становищу провалился в глубокую расщелину совсем рядом с ним и водитель едва спасся, выпрыгнув из падающей вниз машины. У вездехода от удара взорвались баки с топливом и он сгорел вместе с грузом. Племя голодало и оставалось всего три дня до окончания запрета, но у Иннека недавно родилась дочь, её назвали Ивало — бабочка или маленькая волна. У жены Иннека пропало молоко от недоедания. Вездеход вёз и датское молоко для младенцев, но не довёз.
И тогда Иннек нарушил запрет и уехал на промысел нерпы никого не предупредив. Иннек добыл трёх нерп и вёз их в племя на собачьей упряжке. Но дорогу ему преградил молодой медведь — большой белый, голодный и злой. Он хотел отнять добычу, а человека только прогнать. Большие белые обычно, чуя запах людей уходят подальше. Они умны и знают, как опасен бывает человек, но и среди них бывают исключения — это людоеды. Раз попробовав человеческой плоти они находят её настолько сладкой, что начинают специально охотится на людей. Медведь-людоед прячется в засаде и подкарауливает человека, затем ударом лапы убивает и выедает у него живот со всеми внутренностями до костей позвоночника. Этот белый не был людоедом, просто был очень голоден и зол.
Иннек тоже был голоден и зол. Он не отведал ни куска добычи — в иглу ждала слабеющая молодая жена с плачущим без молока младенцем. И эти двое охотников сошлись в смертельной схватке за куски нерпичьего мяса. Оба изголодались и ослабели и не один не смог убить другого. В самом начале схватки медведь выбил из рук охотника винтовку и разбил её вдребезги о скалу, тогда Иннек схватил попавшийся под руку гарпун, которым добыл нерпу и вонзил его сопернику в глаз. Молодой большой белый взревел от боли и кинулся в скалы, чтобы избавиться от гарпуна и в одиночестве оплакать потерю. Тут бы Иннеку поступить так, как учит поступать в таких случаях Большой Джуулут — оставить побеждённому треть туши нерпы, чтобы насытить и унять его ревность и злобу, но Иннек был молод и горяч и просто поспешил к семье. Он накормил жену и прежде, чем насытится самому разделил мясо между всеми родственниками, оставив себе лишь равную долю. Его благородство было запоздалым — главные запреты были нарушены и старейшины сказали: „Быть беде!“
Окривевший и оскорблённый большой белый в тот же год выследил Иннека во время охоты, напал из засады и убил его. Напрасно старейшины просили предков во внешнем мире унять злодея. Они лишь получили ответ, что теперь в одноглазом медведе живёт злой дух мщения и он будет преследовать охотников Калаалит Анори пока жив, к тому же не один из племени не сможет победить его. За прошедшие двадцать лет Кривой убил четверых и ранил шестерых охотников, трое из них остались калеками. „Кривым Белым“ матери стали пугать непослушных детей, а мужчины слагали о нём страшные рассказы и хвастались, как им в очередной раз удалось ускользнуть от ревнивого мстителя. Сегодня» — завершил, горько вздохнув, свою притчу печальный Миник — «Мой род принёс последнюю жертву — злой дух живший в кривом белом медведе убил медведя из моего рода — брата Нанока, ведь имя Нанок означает медведь. Ты, Рони — охотник из другого великого племени покончил не просто со старым злобным зверем, а с двадцатилетним проклятием наших инуков».
Назавтра Миник собрал разбежавшихся после гибели хозяина собак и заметил, что вожак упряжки пропал. После недолгих поисков мы нашли останки коренника, бедняга был разорван на части. Видимо пёс пытался защищать Нанока от нападения «Кривого маньяка», но силы были неравны… Собаки нередко погибают, защищая хозяев. Верность и героизм всегда рядом. Не доезжая до становища полукилометра, мы спешились и пошли рядом с нартами. Тело Нанока было завёрнуто в парусину и лежало в них. Разделанные и упакованные в кожаные мешки туши нерп находились тут же под телом. Ничего не поделаешь — у жизни и смерти пути сплетены. Неожиданно от скал впереди нас отделилась какая то тень и медленно стала перемещаться в нашу сторону. Это был ангакок рода Калаалит Анори Большой Джуулут.
После всего происшедшего его сухонькая фигура больше не вызывала у меня легкомысленной снисходительности, напротив от шамана словно веяло непознаваемой, необоримой потусторонней силой. Ангакок поднял руку и мы остановились. Большой Джуулут заговорил и я с трепетом осознал, что понимаю смысл его речей, не внимая словам. Он обращался к Минику, однако желал и моего внимания к сказанному. Шаман говорил странным способом — не размыкая губ: «Печальна ваша добыча, охотники. Ещё один из моих сыновей оставил нас, став последней искупительной жертвой за нарушенные одним из нашего рода заповеди предков. Но грядут такие времена, когда все заповеди теряют смысл, потому что мир, который знал я перестаёт существовать. Идёт новый мир, а с ним меняется и мир внешний — обиталище добрых и злых духов и душ наших прародителей.
Ты, Миник должен был стать моим преемником, ведь духи всегда были благосклонны к тебе. Ты верил в них, а они верили в тебя и готовы были говорить с тобой, но ты услышал более сильный зов — зов идущего к нам Большого мира, мира белых людей. Они приходят всё чаще и их всё больше. Ты ушёл к ним, чтобы познать их великие, но грубые и земные секреты. В Большом мире умеют делать разные удивительные вещи, но разучились смотреть внутрь себя и говорить с духами внешнего мира, не понимая того, что лишают себя общения с большей и величайшей частью мироздания, предпочтя лишь малую, материальную его часть. Это конечно всего лишь детская болезнь роста и люди Большого мира когда то прозреют мучимые вечным ощущением Великой потери, но на это уйдут тысячи и тысячи новолуний. Я не так глуп, чтобы противостоять неизбежному, я всего лишь печален. Мое время уходит, у меня в запасе лишь две полных луны.
Я прошу тебя, Миник. Тебя и твоего нового брата и нашего будущего кровного родственника. Исполните последние просьбы последнего ангакока рода Калаалит Анори. Я прошу тебя, Миник: не возвращай тело твоего погибшего брата в становище живых, ты верно забыл, что у нас инуитов мёртвых хоронят на месте их гибели или увозят умерших в своих жилищах в скалы, где много камней и можно похоронить покойного в недосягаемости для голодного зверья. Жена умершего — Ивало уже извещена о смерти мужа и оплакивает его. Вся родичи будут скорбеть о нём до первой трети луны, а после никто не произнесёт его имени и не выкажет свою печаль об ушедшем, чтобы не смущать его душу, ещё не освоившуюся в новом мире. Позволь мне самому похоронить погибшего. Это первая просьба.
Я ещё прошу тебя, Миник: не ввози мясо добытой на этой охоте нерпы в тень наших иглу и не дели его между родичами. Ты вез мёртвое тело рядом с добычей и дух смерти коснулся будущей пищи. Это мясо не должно отдавать людям. Оставь его мне. Я возьму мясо двух нерп и позову на пир сородичей убитого твоим новым братом. Пусть придут большие белые к ближним скалам и съедят его. Их тела насладятся пищей и дух смирится и они не будут мстить за своего мёртвого. Мясо от последней нерпы я сожгу над могилой усопшего — пусть его дух насытится перед дальней дорогой. Не беспокойтесь охотники, вы не вернётесь без добычи к голодной родне. В наших краях объявились Умингмуксуэ, мускусные быки, которых раньше могли добывать лишь наши братья- инуиты, живущие далеко на севере Гренландии. Их мясо нежнее и слаще мяса нерпы. Оставьте мне нарты и собак в упряжке, чтобы я мог отправить их следом за покойным хозяином — не идти же ему пешком на встречу к духам предков. Собаки видели смерть своего хозяина, который был их богом. Что им делать в этом мире мёртвого бога?
Возьмите моих собак, нарты и немного сушёной рыбы и поезжайте на юг до синих скал, за которыми видно море. Там в зелёной долине пасется стадо быков — три с лишним десятка голов. Добудьте троих и возвращайтесь домой. К тому времени период скорби по умершему истечёт и мы встретим праздник Жизни. Я вижу, сын мой Миник, что ты готов выполнить мои просьбы. Так не медлите, делайте, что должно, а я отдохну от собственного многословия и сделаю то, что должно сделать мне — старому Джуулуту».
Эта встреча и всё сказанное старым шаманом на миг показались мне нереальным событием, болезненным сном вызванным последствиями травмы головы, происшедшей совсем недавно. Я взглянул на своего спутника — лицо инуита было сумрачно. Миник молча правил упряжкой Джуулута, погружённый в свои пасмурные, как низкие серые облака мысли. Я не решился беспокоить его звуками своего голоса и прикрыв глаза, сам углубился в тени печальных раздумий. Течение времени, как будто перестало ощущаться и пространство то ли сжалось в одну точку, то ли разрослось до бесконечности. Я пребывал в этом странном состоянии до той поры, пока мы не преодолели особенно крутой подъём и на спуске я чуть было не вылетел из нарт. Лёгкий стресс оказался полезен и привел меня в чувство, вернув к реальности. Миник озабоченно взглянул на меня и коснувшись рукой моей головы, осведомился, всё ли в порядке.
Я обрадовался возможности покончить с тяготившим меня молчанием и ответил ему почти весело: «Всё в порядке, брат. Далеко ли до Синих скал?» — «Да вот же они» — Миник кивнул на вырастающие из-за горизонта высокие остроконечные нагромождения. Скалы в самом деле были покрыты серо-голубым мхом. При ближайшем рассмотрении это оказался олений ягель. Миник пояснил, что лет десять назад в окрестностях Синих скал паслось довольно большое стадо оленей, настолько большое, что корм вскоре истощился и стадо ушло далеко на Север по восточному побережью, лишая близ живущих инуитов столь желанной добычи. Зато, продолжил он, взамен оленей появились (Джуулут не мог ошибиться) мускусные или овцебыки — Умингмуксуэ по инуитски. Датчане с канадцами и американцами сравнительно недавно проводили эксперимент по переселению овце-быков с севера Гренландии на её юг и эксперимент видимо завершился удачно.
Мы спешились в небольшой травянистой расщелине между нескольких огромных серо — голубых валунов. Неподалёку журчал ледяной водой между камней горный ручей. Собаки были утомлены долгим переходом и мы распрягли бедолаг, накормив их последней сушёной рыбой, благо пресной воды было в достатке. Сами чувствуя себя не менее вымотанными недавними передрягами и дорогой, мы постелили шкуры из нарт и мгновенно уснули. Часы мои разбились, не вынеся встречи с кривым злодеем и неизвестно сколько времени я проспал.
Проснулся я от моросящего прохладного дождика, освежившего мне лицо и прогнавшего остатки сна. Миника рядом не было и я помахав руками, чтобы разогнать кровь отправился на его поиски. Далеко идти не пришлось и я увидел его лежащим на вершине покрытого редкой травой и замшелыми камнями, высокого холма. Я не раздумывая направился к нему и поднявшись наверх увидел внизу между скал узкую долину, поросшую довольно высокой для этих широт сочной и зелёной травой. На этом приволье паслись десятка два самок мускусного быка с несколькими телятами. Крупнотелые, рогатоголовые самцы, словно беспамятные караульные одетые весной в зимние, линяющие тулупы с залысинами между грязно-бурых длинных прядей свисающей до земли шерсти, солидно жевали жвачку из травы, приправленную обильным мохом с камней, не чувствуя наших жадных взглядов. Мне привиделся сочный, пурпурно-кровавый кусок свежего мяса, насаженный на ружейный шомпол, шипящий в языках пламени костра и желудок свело мучительной судорогой.
Предусмотрительный Миник с момента прибытия к Синим скалам уже не расставался со своей винтовкой. Мне же пришлось спустится вниз, чтобы принести свою вертикалку «Зауэр», не так давно спасшую мне жизнь. В схватке с Кривым двустволка несколько пострадала, но не настолько, чтобы нельзя было вести из неё надежную прицельную стрельбу. Приклад от удара о камни всё таки треснул и пришлось перетянуть его прочным сухожилием всё того же поверженного бродяги-злодея. Миник, разделав нерпу, не обошёл вниманием и его тушу (не пропадать же добру). Снятую шкуру, ещё сырую, он скатал валиком и забрал собой. Отрубленную голову зверя он оставил на месте, выпотрошив и водрузив её на вершине невысокой, но острой скалы, с тем, чтобы ветер и солнце довершили дело. Гарантией того, что голова не пропадёт была репутация её бывшего владельца, точнее запах не внушающий живущему в окрестностях зверью ничего, кроме тихого ужаса. Уже в Синих скалах он растянул шкуру рядом с местом нашей стоянки, чтобы просушить её и заодно избавить нас от визитов сородичей убитого и других более мелких вороватых зверей.
Я присоединился к своему товарищу на вершине холма. Лучшей точки для прицельной стрельбы нельзя было и пожелать. Мы договорились, что он берёт на себя ближнего быка с рыжеватой, густой шерстью над мощными полумесяцами рогов. Мне же достался более молодой и менее крупный овцебык — Умингмуксуэ. Он не имел такой львинообразной гривы, как его старший сородич, да рога его были куда скромнее и темнее цветом, напоминая чем-то нелепо насаженные на лоб, подкрученные усы лихого гусара. Мне на миг стало жаль молодого бычка, но жизнь сурова и не всегда оставляет возможность для сантиментов. Миник шёпотом напомнил, что целиться следует под левую лопатку. Стрелять в покрытую мощной костяной бронёй голову практически бесполезно. Выстрелы наши должны были прозвучать одновременно, чтобы поразить обе цели не вспугнув ни одну из них. Мы дождались пока оба быка не подставятся нам левыми боками и на счёт три одновременно нажали на спуски.
Нашей охоте на мускусных быков сопутствовала удача и обе наших жертвы медленно, даже не поняв, что убиты, согнув в коленях передние короткие, но массивные ноги пали на землю. Молодой бычок на бок, а матёрый улёгся на живот, словно желая передохнуть и только тяжёлая, рогатая голова завалилась в сторону с высунутым сизым языком, выдавая отсутствие духа в мощном мохнатом теле. Другие животные отреагировали на звук дуплетного выстрела тем же образом, как в случае любой внезапной опасности. Молодняк и самки сбились в тесную группу, а сильные быки обступили их, образовав оборонительный круг из мощных тел и рогов. Миник подал мне знак и мы стали спускаться вниз, не обращая внимания на стоящих в защитной позиции овцебыков.
Один из них, самый крупный, отделился от группы и наклонив в нашу сторону впечатляющие рога приготовился отражать возможное нападение, но мы вытащив охотничьи ножи принялись свежевать туши добытых животных. Где то через четверть часа стадо, убедившись в отсутствии с нашей стороны агрессивных поползновений, успокоилось и разбрелось по пастбищу, не вспоминая о двух своих только что пасшихся рядом сородичах. Мы с Миником были погружены в своё кровавое дело и разделывая бычка я только покосился на подошедшую совсем близко молодую корову — самку овцебыка. Она спокойно жевала жвачку, подрагивая толстыми губами и густой запах и вид родной крови похоже её нисколько не (смущали. Когда устав от непривычной, тяжёлой работы я присел возле отделённой Миником от туши огромной, рогатой башки с остекленевшими чёрными глазами, я вдруг пожалел, что не догадался прихватить с собой фотоаппарат. Неплохой мог получиться снимок — «Боцман и Умингмуксуэ».
Глава 33. «Боцман и кит-грёза»
— «Вахта! Где вахтенный у трапа?! Опять у боцмана в каптёрке торчит безвылазно — чаи гоняет!» На крыле капитанского мостика подавал голос вышедший из рулевой рубки вахтенный второй штурман Алексей Иваныч. Я, чувствуя свою вину, несколько суетливо, чем следовало бы, поспешил к трапу, на ходу облачаясь в просторную телогрейку с красной повязкой вахтенного на рукаве и поправляя съезжающую на глаза черную шапку-ушанку, завязанную на макушке позорным бабьим узлом. — «Ты где шляешься, матрос?!» — с явным раздражением вопросил вахтенный штурман. — «У тебя по трапу на борт принцесса поднимается, а ты её не встречаешь. Возьми швабру и гони её на хрен, в пятак тебя распротак!!!»
Услышав эту неожиданно-шокирующую новость из гневных уст Алексей Иваныча, я почувствовал близость обморока и юношеского инфаркта одновременно. В моей голове пронёсся смерч панических мыслей и совершенно безумных предположений. Поскольку в моём подсознании существовал образ только одной-единственной принцессы — моей неповторимой Ленни Норвежской, то услышав о восхождении по нашему трапу некой принцессы, я практически впал в ступор, будто поражённый ударом электрического ската-хвостокола. В моей паганельской голове пронеслась череда странных предположений: «Ленни здесь на Медвежьем?! Как?! Почему?! И уже поднимается по трапу к нам на борт?! А этот наш второй штурман Алексей Иваныч, он что сумасшедший антимонархист особо ненавидящий юных скандинавских принцесс?! До такой степени, что приказывает гнать их с трапа палубной шваброй?! Ужас то какой!!!»
Я с трепетом душевным заставил себя взглянуть за борт на круто задранный трап, едва касающийся каменного причала Медвежьего крыла. На середине трапа прижималось к деревянным перекладинам нечто, напоминающее кошмарное создание из фильмов-ужасов про оборотней. Узрев мою бледную физиономию, существо похожее на небольшого горбатого медведя со злобными чёрными глазками и маленькими ушками, покрытое буро-белёсой длинной шерстью, открыло красную пасть, полную острых бледно-жёлтых зубов и угрожающе на меня зашипело. У меня перехватило дыхание и я издал ответное шипение, смахивающее на хрип удавленника: «Ма — а — ах — ма!!!» Меня грубо отпихнули в сторону. Алексей Иваныч красный и злой, матерясь размахивал лохматой шваброй, пытаясь напугать существо на трапе. Это порождение туманного, промозглого времени суток, когда в более южных широтах должна быть тёмная ночь, ощерилось ещё раз и недовольно рявкнув, спрыгнуло с трапа. Помахивая коротким, но пушистым пучком шерсти (видимо исполняющим обязанности хвоста) оно ретировалось в большую щель дальней скалы.
«Росомаха, сволочь подлая и откуда она здесь?» — запыхавшийся Алексей Иваныч наконец решил прояснить ситуацию — «На всём полярном побережье, да и на востоке Кольского их полно, а на остров то она как допёрла, с материка зимой на льдине приплыла, что ли?» Я наконец пришел в себя. Изумление и растерянность сменились здоровым юношеским любопытством и я попытался узнать подробности о только-что чуть не посетившей наш борт волосатой зверюге. «Алексей Иваныч» — начал я чуть заискивающе — «А почему, вы росомаху принцессой назвали?» Второй штурман взглянул на меня сверху вниз и усмехнувшись объяснил: «Принцесса и есть. Она когда по трапу то карабкалась всё лапы отряхивала при каждом шаге и брезгливо так, будто аристократ на конюшне, в навоз наступивший.
Хотя слово принцесса в этом случае не очень к месту, скорее принц. Это ведь самец был, судя по размерам. Длина почти в метр и весу в нём килограмм пятьдесят не меньше. Он мачту нашу корабельную видать за дерево принял. Она ведь, мачта то наша вся в верёвках, с бегущим такелажем и блоками. Капитан на всякий случай для грузовых работ стрелу велел снарядить. Ну чем для росомахи не дерево. Любимое место для них. Заберутся повыше и сверху в засаде добычу поджидают. Дождутся и камнем на жертву. Когтями длиннющими в холку вцепятся и к горлу, чтобы значит яремную жилу перегрызть. Матерая росомаха и взрослого оленя завалить может и с волком, а то и с медведем за добычу сразиться. Бывает и на человека по ошибке нападает, когда сильно оголодает или если в угол её, как крысу загнали. Всё из засады норовит, исподтишка. Подлый зверь, просто гиена северная. Так она на медведя больше смахивает, но сама родственница куницы, а приглядишься всеми повадками прямо гиена африканская и шипит и рявкает похоже.
Ты вот что, малой. Мы с тобой сейчас трап на борт затащим, а то ведь он упрямец — росомах то этот. Не ровён час и вернутся может, а оно нам надо. По тросам швартовным небось не заберётся — на них щитки от крыс. Иная ловкая крыса и перелезет, а он нет — крупноват, да и водицы морской побаивается». Мы со вторым общими усилиями принялись «вирать» (поднимать) трап на палубу. Моросящий дождь превратился в несильный, но довольно противный ливень и после поднятия трапа на палубу второй милостиво разрешил мне коротать вахту в каптёрке, под боком у боцмана. Этой царской милостью я и не замедлил воспользоваться. Поведав Устинычу только что пережитую и художественно прочувственную «Легенду о Росомахе», я получил от него похвалу за живой и образный язык изложения, после чего с чувством исполненного долга принялся дослушивать прерванную по вине приблудного хищника всё ещё неоконченную «Гренландскую повесть».
Боцман, как профессиональный рассказчик прочистил горло (обошлось без тренировки дикции, типа: «Корабли лавировали, лавировали…»), отхлебнул чай из кружки и пошевелив сивыми усами, не торопясь продолжил: «Мясом мы запаслись изрядно. После того, как мы двоих бычков подстрелили и освежевали, вдруг слышим неподалёку мычание и жалобное такое, как будто телёнок плачет. Пошли мы на звук и неподалёку набрели на несчастного. Бычок-подросток молодой совсем. Он видать на мох позарился, который каменный холмик облепил. Ну и подскользнулся после дождика на скользком, да так неудачно, что ногой в расщелину попал, ну и заработал открытый перелом. Мается бедный, а чем поможешь — конец ему, не жилец. Жизнь порой штука жестокая. Вообщем помогли ему, чтоб не маялся бедолага. Ну а мясо молодое, нежное забрали — не пропадать же добру. Чистого веса центнера три с половиной вышло и это с учётом того, что мы по указанию Миника только лучшие части туш прибрали, а оставшееся и пары часов не залежалось. Сначала собачки наши полакомились, а чуть погодя и местная шушара подоспела — песцы — лисы полярные. Тявкают, чавкают, чуют, что весной их не тронут — мех песцовый только зимой хорош, ну и пируют без оглядки. Мы и сами мясца наелись вдоволь, как и мечталось на костре запечённого».
Отдохнули мы после обильной трапезы перед обратной дорогой, под охраной всё той же шкуры медвежьей и пока я почивал Миник успел раньше встать и из подручных средств волокушу соорудил, чтобы добытое мясо транспортировать. Двинулись потихоньку, чтобы собачек не утомлять. Один на нартах правит, другой пешком рядом, если дорога ровная. Каждый час привал, упряжке отдых. Так мы в пути пробыли сутки не меньше, хотя поди знай сколько точно, когда над головой луна вместе с солнцем на пару зависают. Наконец добрались до места. Гляжу, а нас встречают. Картина достойная кисти Рокуэлла Кента, Гренландию рисовавшего: Стоит толпа — человек тридцать не меньше. Инуиты на белом, твёрдом снежном насте, на фоне белых ледяных иглу. Все одеты в длинные зимние парки, лица серо-смуглые, раскосые, без тени эмоций. Все похожи, как близнецы и словно в вечность смотрят и молчат, как статуи. Не по себе мне стало от такой встречи, как будто к духам, словно шаман-ангакок на «тот свет» в гости заехал.
Миник, спасибо выручил — развеял это белое безмолвие. Прокричал он что-то по инуитски родне своей — людям Калаалит Анори и слава Создателю задвигались статуи. Кричать стали, смеяться, улыбаться, руками размахивать. Лицами ожили — индивидуальности приобрели: у кого рот щербатый, нос плющеный, у кого губа заячья. Вообщем нормальные люди, не без изъянов, а оно всяко лучше, чем гренландских зомби изображать. Окружил нас народ инуитский и как может радуется нашему возвращению. Миника о чём то расспрашивают. Старшие, как водится, посерьёзней, не суетятся, а молодёжь, та не стесняется и обниматься лезет, носами потерется и по плечам его дружески охлопывает. Они и мне рады и улыбаются и по плечу бы готовы похлопать, как Миника, да вот беда — самый рослый из них это Миник и он мне по грудь, а остальные мужчины, не в обиду им будет сказано невысоки, едва ли «в пупок дышат».
Женщины кстати порой покрупнее иного мужика- инуита будут и выглядят всяко уж не слабее. Честно сказать красотой дамы местные не блещут, однако из молодых попадаются особенные экземплярочки. Я то сразу смекнул — это метиски. У них и цвет кожи нежней и приятнее и черты лица почти европейские, а инуитские особинки им только шарм дополнительный придают. Тут все разом как то примолкли, толпа расступилась и идёт к нам с Миником навстречу молодая инуитка, лет двадцать не больше. Если бы я художником был, то написал бы её портрет и назвал бы его «Лик Гренландии». Было в ней какое то величие и в походке и в осанке, но лицо, что твоя Снежная королева, только смуглая, скулы крупные и чёрные глаза с легкой азиатской раскосинкой. Миник меня локтем ткнул, я наклонился, а он и говорит мне на ухо шёпотом: «Это Ивало — вдова Нанока и дочь того самого Иннека, который навлёк на Калаалит Анори „Проклятие одноглазого Большого белого“. Она хочет поблагодарить тебя за то, что ты наказал убийцу её отца и мужа».
Я оробел от неожиданности и думаю про себя: «Однако исключительно хороша эта Бабочка — вдова Медведя и дочь Огня». Подошла она вплотную и смотрит на меня. Я хотел наклонится, чтобы поздороваться, да так неловко вышло, не пойму как, но будто меня что-то толкнуло в спину. Я покачнулся и прямиком на коленки перед ней бухнулся. Стыдно — страсть и вот стою я на коленях перед красавицей Ивало, а она ничуть не смущаясь со всей серьёзностью, без улыбки, своей щекой к моей небритой физиономии прижалась и молчит. Пахнет от неё морем солёным и черникой ягодой. Я как обмер весь и будто счёт времени потерял. Вроде как со стороны смотрю на себя, стоящего на коленях и на Ивало своей щекой к моей прижимающуюся. Знаешь век бы так простоял и не пожалел бы.
Сколько то времени прошло не упомню, но как бы очнулся я, словно на базаре. Все делом заняты — мясо делят и комментируют происходящее в три десятка глоток. Миник на правах добытчика процессом руководит, ангакок — Большой Джуулут в сторонке на нартах сидит и трубку курит задумчиво. Я видимо всё таки устал с дороги. Хозяева это заметили и меня на отдых в ближайшее иглу проводили. Улёгся я на мягкое, лежу и думаю, а ведь больше недели не мылся и ничего, как меня Миник перед охотой на нерпу китовым жиром с ног до головы умастил, с тех пор и живу без бани и душа. Пока по снегу в холодке обретались, то особо о помывке и не скучал. А сейчас, когда потеплело, то вроде бы и вспомнилась прежняя привычка к гигиене. Так с мечтой о горячем душе я и уснул.
Любопытный сон мне приснился: Будто бы нахожусь я в море и сижу в большой лодке полной молчаливых и сосредоточенных промысловиков-инуитов и при этом точно знаю, что лодка эта называется умиак и еще знаю, что она искусно из китового уса связанна. На носу лодки сидит женщина, почему я так думаю, да потому что на женских кухлянках на спине есть большой капюшон для ношения детей. В руках у неё гарпун и к нему прикреплён прочный тросик с пятью большими поплавками. Вдруг прямо перед нами море разверзлось и из воды медленно поднялось в воздух огромное, покрытое серо-белыми ракушками двадцатиметровое тело и тут, как-будто мне подсказывают — это гренландский кит. Женщина с гарпуном издала резкий, клекочущий, какой-то птичий крик и метнула гарпун. Тот врезался в спину кита, пробив лёгкую броню из ракушек, при этом передняя часть его прочно застряла в теле с прикреплённым к ней тросом и поплавками. В тот же миг огромное создание вернулось в воду, создав такую волну, что пришлось задержать дыхание, потому как наш умиак секунд на десять превратился в субмарину. Когда мы, словно водолазы благополучно вынырнули на поверхность, то трос от гарпуна, закреплённый на носу умиака прекратил стремительно разматываться и с силой потянул лодку вниз, задирая её кормовую часть. Женщина, что то резко скомандовала и мы все бывшие в умиаке переместились в корму, не давая ему перевернуться.
Натяжение троса заметно ослабло и на поверхности показались белые поплавки, а затем и сам кит. Мужчины в лодке принялись метать в него, каждый свой гарпун с тремя поплавками на прикреплённом тросе. Кит попытался ещё раз спастись и с усилием, преодолевая тягу наверх множества поплавков нырнул, но попытка не удалась — проклятые белые шары надёжно удерживали его на поверхности. Женщина прыгнула на спину обессилевшего великана и вонзила ближе к хвосту копье с мощными зазубринами на наконечнике. К копью был прикреплён более толстый и прочный буксировочный трос. Охота на чудо-юдо-рыбу была успешно завершена и умиак буксировал добычу к берегу за недавно могучий, а теперь лишь бессильно подрагивающий серо-синий хвост. Вот такой кит-грёза, понимаешь, сонному боцману привиделся.
Глава 34. «Боцман-эстет и душевная маета»
Устиныч в процессе всего повествования не сидел без дела. Во всяком случае его руки были постоянно заняты починкой какой — нибудь такелажной снасти: блоков, штормтрапов, талей. Вот и сейчас, расходив подвижные части и закончив смазывать тавотом несколько талрепов (устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа. Состоит из двух винтов с противоположной резьбой, вкручиваемых в специальное кольцо с двумя резьбовыми отверстиями.) он тщательно вытер руки ветошью и принялся плести из разноцветной пеньки симпатичный корабельный коврик — мат, не забывая прерывать свой рассказ для обучения юнги, то есть меня, приёмам матоплетения (не примите за двусмысленность… из пеньки).
Итак, боцман продолжил: «Проснулся я в некотором недоумении — не часто мне снились такие подробные, научно-популярные фильмы-сны, цветные, да ещё и с эффектом присутствия. Подоспел Миник с чайником горячего черничного чая и я ему естественно пересказал странное сновидение. Он в ответ лишь странно усмехнулся и пояснил: „Это Ивало. Значит понравился ты ей, вот она собой погордится и решила. Она у нас самый лучший и удачливый гарпунёр за последние пару лет. То, что ты видел — в точности прошлогодняя охота на кита, где она снова отличилась“. — В ответ на мой недоуменный взгляд гренландец, снова хитро улыбнулся — „Ивало женщина не простая, с задатками шамана-ангакока: умеет лечить травами, заговорами, иногда потихоньку общается с духами, чтобы старый Джуулут не приревновал. Послать же сновидение по нужному адресу для неё не самое сложное. Одна женщина завидовала ей: называла мужчиной в женском обличье и укоряла, что дед её по материнской линии не гренландец — инуит, а мол чужак — рыжий датчанин. Так вот эту сплетницу замучили такие кошмары, что она стала боятся засыпать и когда не поспав неделю сообразила откуда эта напасть, то пришла к Ивало за прощением и принесла в подарок лучшие песцовые шкурки для праздничной кухлянки. С тех пор она завистью больше не болеет, Ивало её излечила“.
Ну что сказать, честно признаться я уже устал чему либо удивляться в этом новом для себя мире. Подумалось лишь, что если кому из наших стану рассказывать всё как было, так ведь не то, что не поверят — смеяться будут, мол травит усатый почём зря. Обидно, досадно, но ладно…» — боцман не без печали вздохнул и продолжил. — «Лежу я на шкурах, Миника слушаю и замечаю не то, что-то со мной — всё время чесаться тянет. Миник это заметил и говорит: „Это Рони, с тебя смазка из китового и нерпичьего жира почти сошла, а в ней ещё кое что намешано, чтобы появившиеся весной паразиты со шкур, твою хоть и слегка шерстью поросшую (это они как раз одобряют), но нежную, белую кожу не беспокоили. Нас коренных гренландцев они почти не трогают, приелись мы им, а вот гостей жалуют. Пора тебя натереть жиром ещё разок“.
Я вздохнул и пожаловался, что этой мазилке простой горячий душ сто раз предпочёл бы. „Ну душ, не душ,“ — говорит Миник, — „а место такое с горячей водой есть поблизости — Уунарток называется. Самая южная точка Гренландии и отсюда всего сутки добираться, но сначала на собачьей упряжке, а как снежный наст кончится, то по сопкам пешочком полдня, там глядишь и город. Место тёплое, кругом трава зелёная, цветы яркие и всё это с видом на наши снежные горы с ледниками и айсберги в Уунартокском фьорде. Бьют там из земли термальные источники, наподобие тех, которые в Исландии. Магма раскалённая близко, вот она воду и греет. А сейчас вставай, траур по ушедшему сегодня окончен и будет праздник Жизни. Ты будешь принят в семью Калаалит Анори, как избавитель от старого, мстительного злодея. В честь тебя женщины варят в большом казане добытое нами мясо быков, лучшие куски с секретными тундровыми кореньями, делающего сильного мужчину могучим, а женщину красивой и желанной“.
Мы выбрались из иглу наружу по самому ближнему и короткому из ходов. Надо сказать, что если бы не мой друг — инуит, я мог бы заблудится среди лабиринта ходов связывающих полтора десятка ледяных домиков. К тому времени праздник Жизни был в самом разгаре и никто особо не переживал по поводу опоздания на него самого виновника торжества, то есть меня. Десяток мужчин восседал напротив другой мужской группы примерно того же числа. Один из инуитов затянул довольно пронзительным голосом какой то речитатив, перемежающийся клекочущими горловыми звуками, напоминающими крики гагар и чаек. От противоположной группы ему ответил другой солист в более низкой тональности, а товарищи поддержали его басовитым рычанием десятка глоток. Соперничающее собрание не осталось в долгу и выдало басовикам такой совместный душераздирающий фальцет, сопровождающийся нечеловеческими взвизгами, что у слушателей и у меня в том числе, заложило уши. Все, не исключая исполнителей одобрили этот факт посредством аплодисментов и жизнерадостного веселья. Это было состязание хоров и на нём победили визгуны. С десяток разновозрастных, шустрых и вездесущих детей в кухлянках из нарядного меха и разноцветных, высоких сапожках расшитых бисером, изо всех сил мешали взрослым праздновать, но никто не пытался осадить шалунов или сделать им замечание.
Далее последовали спортивные мероприятия: Вдруг на снежном насте появился настоящий, ярко желтый, кожаный футбольный мяч и бывшие хористы стали самозабвенно гонять его. Кто против кого играл, я так и не понял, но мне показалось, что гол забивался в свои ворота с теми же радостными воплями, что и в ворота соперника. Причём вратари были столь активны, что возвращались в свои ворота, только для того, чтобы после каждого забитого мяча напомнить публике о своём существовании. Затем на шестах соорудили, что-то наподобие длинного турника и мужчины, сбросив кухлянки споро передвигались по ним на руках, демонстрируя силу кистей. Я не рискнул последовать их примеру, потому, как сразу увидел, что мне не угнаться даже за самым молодым и слабым из соревнующихся. По окончании спартакиады началось самое главное — в центре круга зрителей появился ангакок — шаман племени Большой Джуулут.
Он был облачен в длинные одежды, покрытые множеством развивающихся при каждом движении цветных лент. На голове его была остроконечная шапка из серебристого песцового меха, украшенная многочисленными колокольчиками и цветными перьями. Лицо закрывала маска изображающая морду белого медведя с оскаленной пастью, полной страшных, смертоносных, как ножи зубов. На маске медведя красовался лишь один, мастерски исполненный глаз, на месте же второго зияла большая дыра, для пущего эффекта, обведённая красной охрой. Морщинистое лицо самого Джуулута, покрытое каким-то белым составом, жутким образом торчало в самом центре разверстой, острозубой медвежьей пасти. Шаман в начале молча кружился в танце под аккомпанемент большого круглого бубна, а затем стал издавать низкий утробный звук при плотно сомкнутых губах.
Звук становился всё ниже и ниже и поверить в то, что его может издавать человек становилось уже невозможным. Ритм танца ускорялся и старик принялся метаться между соплеменниками с прытью, которой мог позавидовать загнанный хищником в скальный тупик заяц. Зрители впали в совершенное оцепенение и молча раскачивались в такт утробным, зловещим завываниям. Вдруг шаман открыл рот и издал вполне человеческий звук, похожий на крик боли. Он уронил на землю бубен, сорвал с себя маску, бросив её на снежный наст и протянув обе руки в мою сторону, указал на меня. Затем как то совсем поник и обессиленный побрёл из круга к приготовленным заранее подстилкам из шкур, на которые свалился почти замертво.
Инуиты по окончании этого танца — камлания стали по очереди подходить ко мне и торжественно-трогательно прижиматься на несколько секунд своей щекой к моей, видимо в знак родственной расположенности. Мне пришлось присесть на ближайшие нарты, поскольку стоять, согнувшись в три погибели, принимая десятки таких тёплых поздравлений от новых родственников, стало просто напросто утомительным. Наконец и эта церемония закончилась. Снова появился Миник и без особых предисловий заявил: „Упряжка готова, Рони. Ивало ждёт. Я отвезу вас ближе к Уунартоку, а дальше вы пойдёте пешком. На все вопросы я отвечу в пути. Если ты откажешься ехать, то завтра я отвезу тебя обратно в Нуук. Ты свободный человек и кроме того теперь наш соплеменник, так-что тебе решать“.Противится особо я не стал, поскольку уже догадывался, что кульминация моей гренландской охоты произойдёт именно в Уунартоке. К тому же предлагаемое путешествие с красавицей-китобоем Ивало (то, что она всего три дня, как вдова Нанока я почем-то не вспомнил, или захотел не вспомнить) влекло меня как самое желанное приключение.
На собачьей упряжке мы втроём направились к Уунартокскому фьорду. Ехали молча, поскольку внезапное ощущение охватившей меня неловкости и неестественности происходящего напрочь отбило желание общаться со спутниками. Миник, почувствовав эту мою душевную маету, будучи человеком умным и воспитанным в большой мере в европейских культурных традициях, понял моё эмоциональное состояние и попытался завязать разговор. Однако я был настолько, как выражаются буддисты: „Обращён внутрь себя“, что мой деликатный соплеменник счёл за благо оставить меня в покое»
В этом месте, я извинившись, что прерываю, задал Брониславу Устиновичу давно занимавший меня вопрос: «Скажите, а вы действительно так долго не догадывались для чего ваши друзья инуиты, под предлогом охоты и с многочисленными ухищрениями, организовали ваше посещение их зимовья и последующее знакомство с одной из молодых женщин их рода?» Старый моряк бросил на меня пронзительный взгляд, от которого мне самому стало неловко и грустно усмехнувшись, ответил: «Знаешь, парень, представь себе не догадывался и довольно долго. Ты ошибаешься, поскольку твоя, как тебе кажется незаурядная проницательность плод иллюзии, которая обычна для читателя книги, зрителя кинофильма или слушателя какой либо занимательной истории, например детектива. Дело в том, что авторы всех вышеперечисленных жанров повествования, в отличии от их зрителей или слушателей обладают разумеется совершенно полным знанием их содержания».
Есть много приёмов увлечь читателя, слушателя или зрителя, например в детективе расставить множество логических ловушек или ходов в лабиринте догадок о том, кто же настоящий злодей, с тем, чтобы окончательно запутав, в конце выдать совершенно неожиданную развязку. Мой жанр это рассказ о том, что я действительно пережил и в отличии от авторов книг и фильмов у меня нет возможности, отбросив эмоции экспериментировать и выстраивать выбранную мной фабулу. Я рассказывая, увлекаюсь, оказываюсь во власти всё тех же эмоций и невольно выдаю более позднее знание, за более раннее, хотя бы на уровне намёков. У тебя, как у слушателя, возникает иллюзия собственной проницательности и недоумение по поводу моей, то есть рассказчика недогадливости. Слушатель, ничтоже сумняшеся, начинает приходить в восторг от самого себя и при этом получает не меньшее удовольствие, чем в первом случае, когда развязка для него неожиданна. Кстати способом наводящих подсказок так же частенько пользуются писатели и режиссёры для пущей завлекательности. Это лишь самые простые психологические приёмы.
Ты хотел спросить, как это я так долго не понимал (если называть вещи своими именами), что мне отведена в конечном итоге роль бычка-производителя для освежения крови одного из малочисленных и потому вырождающихся племён Гренландии. Ну во первых, я напомню тебе, что то были хотя и недавние, но для большинства советских людей более пуританские, наивные в смысле отношения полов времена. Я не был более продвинут или если хочешь более развращён чем вышеупомянутое большинство. Вопреки расхожим штампам, тогдашние советские моряки отводили душу почти исключительно в родных портах, да и то далеко не все. Вольное поведение за кордоном не то что не приветствовалось, но было просто опасным для будущего советского моряка. Впрочем и сейчас мало, что изменилось — за границей все наши не исключая морячков передвигаются по чужбине исключительно в составе троек или пятёрок во главе со старшим группы.
Я же попал в совершенно необычные обстоятельства, если хочешь в атмосферу книжных приключений. Ведь вокруг меня происходило чёрте что: охота на экзотических гренландских зверей, нападение белого медведя-маньяка и даже вполне реальная и жестокая смерть моего нового доброго знакомого Нанока. Мне и в голову не приходило, что возможно устроить подобную катавасию, только ради того, чтобы усатый боцман Друзь сошёлся с соплеменницей Миника и Джуулута. Да собственно никто и не устраивал. Инуиты не персонажи шекспировских трагедий и интригу плести не в состоянии. Они естественны, как сама Гренландия и если не предложили мне напрямую связь с одной из молодых женщин своего рода (кстати иногда их сородичи из других родов так и поступают), то только потому, что обычаи и ритуалы Калаалит Анори требуют более сложного и витиеватого, если угодно романтичного обхождения с чужеземцем избранным для обновления крови родного племени.
Как у многих древних народов, у инуитов кровная принадлежность к роду определяется по материнской линии. Что касается поведения той же Ивало, то европейские понятия нравственности в суровых условиях Гренландии просто не работают, поскольку здесь веками главенствовала одна единственная цель — Выживание. Упрекать молодую вдову-инуитку в стиле шекспировского Гамлета, мол:«…башмаков она еще не износила, в которых шла за гробом мужа как бедная вдова, в слезах»., было бы верхом ханжества и глупостью. Наверное в XIII веке было иначе (тогда на острове появились первые предки нынешних инуитов), климат был гораздо теплее, а земля покрыта зелёными лесами и пастбищами. Старик Маркс был прав, когда изрёк свою, ныне затасканную формулу: «Бытие определяет сознание»
Многое из этого пришло мне на ум во время той памятной поездки к Уунартоку. Какая жалость, что я не смогу распустить перед очаровательной инуиткой сверкающий павлиний хвост своего интеллекта. Не смогу почитать ей с десяток романтичных эстетских стихов, выученных ещё в ранней юности. Я задал тогда себе несколько вопросов. Вопрос первый: «Хочу ли я близости с Ивало?» «Ответ: „Конечно, да!“» Вопрос второй: «Существуют ли какие-либо моральные или нравственные соображения, которые могли бы помешать этому моему желанию? „Ответ: К чертям песцовым мою эстетскую душевную маету! Боцман-эстет и муки душевные! Отож!!! Я хочу её и точка!“»
Глава 35. «Боцман и Маленькая волна в Уунартокских термииях»
Так в молчании добрались мы к цели нашего путешествия — окрестностям Уунартокского фьорда. Бескрайнее, многокилометровое плато, сверкающие под незаходящим солнцем белизной твёрдых пологих волн из плотно слежавшегося снега и льда, разбивалось замерзшим подобием морского прибоя о подножия серых, поросших скудной растительностью бесснежных сопок. Камень этих древних холмов тысячи лет назад выгладил, лишив острых углов многотонный исполинский пресс, двигавшегося на юг и сползшего в море ледника.
Мы попрощались с Миником и я в сопровождении, точнее следом за Ивало последовал к конечной точке своего Гренландского приключения. Ощущения неловкости и странности происходящего навалились на меня с новой силой, болезненно задевая моё самолюбие. Я вновь ощущал себя каким то нелепым, неполноценным существом мужеского пола, ведомым сильной человеческой самкой к «месту запланированного соития, с целью исполнения мероприятия по качественному оплодотворению». Мы спустились в небольшую долину между сопок, покрытою мягким ковром зелёного и серого мха, сплошь усыпанного прошлогодней перезимовавшей под снегом крупной, хотя и чуть увядшей брусникой. Ягоды, багряными рубинами разбросанные на серо-зеленом упругом ворсе, оказались на вкус терпко-сладкими и чуть забродившими. Славное получилось бы вино из этого тундрового винограда.
Солнце пригревало изрядно, давал себя знать микроклимат самой южной точки Гренландии — Уунартока, где летом температура 18 градусов по Цельсию вполне обычна. Мне стало жарко в моём эскимосском одеянии. Ивало по всей видимости тоже почувствовала необходимость избавиться от лишней одежды. Мы несли с собой большие заплечные, кожаные сумки, похожие на рюкзаки. В моём, кроме прочего находилась одежда и обувь в которой я был до начала этих удивительных событий. Ивало, подавая пример, первой принялась сбрасывать с себя многочисленные одежды. Я едва успел раздеться до пояса, в то время как она без малейшего стеснения, уже совершенно обнажённая сидела на корточках у своего рюкзака, выуживая оттуда одежду более подходящую для местного климата.
Почувствовав на себе мой взгляд, она подняла голову, улыбаясь одними уголками рта. Инуитка выпрямилась во весь рост, как бы давая мне лучше рассмотреть себя. И то сказать, одежды северных народов не слишком предназначены для подчёркивания прелестей женского тела. То, что я увидел, скажу прямо, мне столь же понравилось, сколько и потрясло. У Ивало была поджарая стройная фигура прирождённой охотницы. Преследование морских зверей в утлом каяке среди льдин, оттачивание виртуозной сноровки бывалого китобоя, погони за дичью в скалах и сопках, на заснеженных просторах Гренландии, такие гимнастические занятия создали классические формы этой полярной Дианы.
Её коротко стриженные тёмные волосы в солнечных бликах явственно отливали медью, выдавая примесь датской, скандинавской крови — тёплый привет от деда, потомка норманнов-викингов. Довольно прямой для инуитки нос, пухлые губы и искрящиеся смехом чёрные, как полярная ночь глаза, под тонкими стрелами, сросшихся на переносице бровей. Однако самое неожиданное для меня открытие состояло в другом. Всё смуглое с бронзовым оттенком тело девушки: небольшие упругие груди с чёрно-коричневыми сосками, плоский живот с тёмной ямкой пупка, в меру широкие бёдра и даже недлинные, но сильные и ладные ноги, вообщем вся Ивало сплошь была покрыта узорной, замысловатой татуировкой. Я поймал себя на нескромной мысли, что неплохо бы позднее, при случае подробнее рассмотреть это народное творчество. Обозвав себя мысленно «знатным краеведом», я в глупом порыве запоздалого мнимо-целомудренного раскаяния опустил очи долу.
Я не услышал, когда Ивало успела приблизиться ко мне вплотную, скорее почувствовал уже знакомый аромат — смесь запахов солёного моря и тундровой ягоды. В висках требовательно и болезненно застучали молоточки частого пульса и я увидел её глаза, которые вблизи оказались не чёрными, а чёрно-карими с золотистыми прожилками, как у магического агата редкой расцветки. Она положила смуглые руки мне на плечи и слегка коснулась моего кончика носа своим, так, что мне стало щекотно и я едва сдержался, чтобы по дурацки не захихикать. Ивало принялась медленно и как то вкрадчиво исследовать мой почти бержераковский нос своим симпатичным, небольшим носиком. Я впал в уже знакомое мне по первому с ней знакомству оцепенение, когда юная вдова прижалась своей щекой к моей, благодаря за отомщённого мужа.
Сколько продолжалась эта необычная ласка не могу сказать точно, но то что это пожалуй самое яркое и необычное эротическое впечатление в моей жизни, я ручаюсь. Её носик совершал плавные круговые и волнообразные движение, нежно клевал мой кончик носа своим и вообще вёл себя, словно маленький азиатский массажист-кудесник, колдующий над большим белым телом, обалдевшего от его искусства европейского дядьки. Честно говоря есть впечатления, которые можно лишь испытать-пережить, но описать словами… В какой-то момент Ивало покинула мой очарованный орган обоняния и повернувшись ко мне спиной с непринуждённой грацией северной богини охоты, едва касаясь босыми ступнями мшистых кочек, побежала прочь от меня.
Смотреть за динамикой её движений со спины было ещё увлекательнее, чем любоваться ею в статике и фронтально. Неизвестный инуитский татуировщик и тут проявил свой неординарный художественный вкус. Прямая спина с развитыми мышцами была украшена нисходящим стреловидным орнаментом, а аккуратной формы сильные ягодицы украшали небольшие изображения замкнутых спиралей, так что при движении эти рисунки, словно живые, свернувшиеся кольцом тёмно-синие змеи, то сжимались в сплошной тёмный круг, то разжимались, вновь превращаясь в спираль, подобно моделям пульсирующих вселенных. Девушка на миг остановилась и оглянулась в мою сторону. Я радостно принял её приглашение и уже не ведая никаких сомнений и мук уязвлённого самолюбия, без промедления последовал за прелестной охотницей.
Преодолев ближайший, покрытый мягким оленьим ягелем холм, мы увидели с его вершины небольшое сравнительно гладкое и ровное каменное плато совершенно лишённое растительности. Здесь между огромных овальной формы валунов парили и шипели множеством лопающихся воздушных пузырьков несколько небольших бассейнов, наполненных теплой водой из подземных геотермальных источников. Ивало опустилась на колени, заставив движением руки и меня последовать её примеру. Она не размыкая губ, уже знакомым мне способом затянула какое-то ритуальное песнопение в очень низком, необычном для женщины регистре. Девушка не прерывая своей песни, ежеминутно поднимала над головой руки и всем корпусом подавалась вперёд, по направлению к долине источников, к этому настоящему оазису тепла в самой южной точке гигантского, покрытого на 95 процентов ледяным панцирем острова.
Отдав дань уважения могущественным духам этого необычного места, Ивало вновь выпрямилась во весь рост и сжав своей маленькой сильной кистью мою руку повлекла меня вниз к источникам, которые по странной ассоциации напоминали, виденные мной в иллюстрациях к историческим книгам римские термии. Во всяком случае примерно так я себе их и представлял. Ивало первой стала осторожно опускаться в ближайший бассейн в форме бабочки с крыльями разных размеров. Оступившись, она завизжала, как самая обычная девчонка и погрузилась с головой в пенную, шипящую пузырьками газов воду. Я поспешил ей на помощь и не удержавшись, сам совершил памятный нырок в тёплую, забурлившую выбросом очередной порции газов каменную купель. Ивало вынырнула первой и цепко схватив за плечи принялась топить меня в этом сотворённом самой природой джакузи. Грешным делом мелькнула мысль: «Не собирается ли прекрасная инуитка принести меня в жертву своим разлюбезным духам, хозяевам Уунартока?»
К счастью по детски жизнерадостный смех юной вдовы, услышанный мной в подводном плену, развеял мои мрачные опасения. Мне следовало облегчённо вздохнуть, но для этого нужно было ещё вынырнуть на поверхность. Разумеется не смотря на всю силу и сноровку Ивало я был гораздо мощнее и мне ничего не стояло вывернувшись легко выбраться наверх. Однако мною самим овладело игривое настроение и я решил подразнить её, изобразив жертву преступного утопления. Пару раз дёрнувшись в мнимых конвульсиях я расслабился и стал погружаться на дно тёплого колодца, попутно пересчитывая задом все встречающиеся каменные уступы.
Ивало, испугавшись нырнула следом и принялась изо всех сил тянуть меня на верх, но не тут то было. Утопленник не желал всплывать и лишь вдоволь насладившись тщетными попытками бедной испуганной девушки, внезапно и скоропостижно воскрес, схватил свою жертву в охапку и с шумом вынырнул на поверхность. Благо глубина этой скальной ванны была небольшой и когда я стоял вода с пеной и пузырьками едва доходила мне до подбородка. Моей же спутнице, в силу её небольшого роста и веса, объёма воды в колодце казалось вполне достаточным, чтобы самым роковым образом захлебнуться и утонуть.
С чисто женской последовательностью инутика пришла в ярость от моей выходки. Можно подумать, что это не она первой затеяла игру «Утопи дружка». Девушка принялась вырываться из моих крепких объятий, пребольно колотя твёрдыми кулачками в грудь. Выражение её милого лица стало свирепым и она словно небольшой, но опасный хищник оскалила свои крепкие белые зубы. Мне подумалось, что именно их мне следует опасаться куда более, чем кулачных побоев и я счёл за благо отпустить свою законную добычу. Ивало всё ещё пышущая гневом отплыла в противоположную сторону, выбралась из воды и принялась зачем то выковыривать синеватую глину слежавшуюся между камней, скатывая её в шарики.
Как не жаль было покидать тёплый бассейн, но положение обязывало. Вспомнилась французская поговорка: «„Если женщина не права, то перед ней следует извиниться“. Даже если она нагая и татуированная от шеи до пят» — добавил бы я. Выбираться пришлось, нащупывая ступнёй уступы на неровных стенках колодца и наконец с третьей попытки мне это удалось. Нагишом я чувствовал себя неловко, не то что моя свободная от лишних комплексов спутница. Усатый голый дядька в дурацком положении, прямо как поручик Ржевский застигнутый своим полковым командиром в будуаре любимой жены. Необходимость обходиться без словесного общения угнетала и мешала мне более всего. В конце концов, как не пошло это звучит (пошло не всегда значит неверно), но умение «говорить красиво» есть главное оружие настоящего мужчины для завоевания сердца женщины. С другой стороны попробуй поговорить красиво, когда ты стоишь голый в некуртуазном месте и из одежды у тебя одни усы.
В общем куда ни кинь…, а делать что-то надо, типа мирится. К счастью девушка сама прекратила мои танталовы муки. Ивало поднялась с корточек и повернулась ко мне, держа в левой руке горсть шариков синей глины. Как ни в чём не бывало она принялась растирать мой торс этими глиняными катышками. Синеватый состав мылился не хуже шампуня, видимо в нём присутствовала изрядная доля щёлочи. Мне вручили изрядную порцию шариков и жестами велели продолжать помывку самостоятельно. Намылившись мы вновь вернулись в бассейн-бабочку, чтобы смыть с себя вместе с мылом слой впитавшейся в кожу мази из китового и нерпичьего жира. Попробуй мы предпринять эту процедуру в условиях гренландских зимних морозов и не миновать нам смертельного воспаления лёгких. Слой жира, как спасительный скафандр предохранял кожу и всё тело от воздействия низких температур, регулируя теплообмен.
В самом начале своего пребывания в становище я перед выходом из иглу наружу по привычке и не смотря на предостережение Миника слегка сполоснул лицо горстью воды, не забыв утереться куском ткани. Снаружи было всего около 30 градусов по Цельсию несильный, порывистый ветер. Мою умытую кожу лица так стянуло на открытом воздухе, что пришлось срочно намазаться слоем жира. Больше я не предпринимал таких неразумных попыток соблюдать привычную для обычных условий гигиену. Но сейчас я и моя спутница могли, благодаря чудесным геотермальным источникам Уунартока могли позволить себе эту роскошь. Помывшись впервые за полторы недели, я сидя в тёплом пузырящемся джакузи почувствовал истинное наслаждение.
Ивало подплыла ко мне подняв маленькую волну, румянец явственно проступал на её смуглом лице. Молодая охотница видимо привыкла брать на себя инициативу. Она обосновалась на мне, как сборщик кокосовых орехов на пальме, обхватив руками шею, а ногами бёдра. Едва она попыталась начать свои фокусы с эскимосскими поцелуями, как я прервал её с твёрдым намерением научить целоваться по человечески. По моему у меня получилось неплохо…
Глава 36. «Ивало»[8]
Боцман закончил цветной пеньковый коврик — корабельный мат и усмехнувшись заявил, как мне показалось с грустной самоиронией: «Ну вот, и матик сплёл и тебе, малый целую баржу россказней наплёл. Каламбур, понимаешь. Вспомнил дед, как в женихах хаживал». Я горячо возразил: «Бронислав Устиныч, да за вами записывать надо. Вам личный секретарь нужен. Я между прочим одну интересную вещь заметил. Вы когда долго и увлечённо рассказываете, перестаете свою речь упрощать, разговорные словечки вставлять, шутки доступно плоские отпускать, а переходите на вполне литературный язык, как будто приключенческую книгу на память читаете».
Старый взглянул на меня с вниманием и ответил: «Привычка брат. Дело в аудитории. Я ведь всё больше для своих ребят, простых работяг байки травлю, а они литературщину мою за излишнее умствование примут и правильно сделают. А ты, Паганюха, другое дело. Ты парень начитанный, с развитой речью, вот я в тебе равного себе по интеллекту собеседника и чувствую, а это брат дорогого стоит. Ты даже не представляешь, как редко в наше время встречаются просто умные, интеллектуальные, я уже не говорю интеллигентные люди. Пытался я завести знакомства в разных кругах: с театралами, актёрами, художниками общался, но там мне быстро давали понять, что я для них мещанин во дворянстве. И ты знаешь среди них умных и несуетных людей еще меньше, чем среди так называемого простого народа. Вообще найти хорошего, неглупого, готового к состраданию и дружбе человека в людском океане так же сложно, как открыть новый остров в океане настоящем. Большим удачником надо быть».
В словах старого боцмана я услышал какую то горькую выстраданную правду и мне стало грустно оттого, что такой человек обречён на духовное одиночество. С душой художника и незаурядным умом он долгие годы играет в простецкого хохмача и травилу занимательных баек для своих морячков, а самое печальное, что из этого его состояния нет исхода. Человек обязан общаться с равными себе, обязан озвучивать свой внутреннюю духовную работу, своё богоискание, делиться мыслями и сомнениями с теми, кто его понимает. Хотя это уже будет истинное счастье, возможное разве что в другом мире. Душа обязана трудиться, хоть труд её сизифов труд…
Желая сменить печальный настрой я решил поменять тему беседы, тем более, что меня всё ещё живо интересовали недосказанные подробности гренландских приключений боцмана. Я заварил новую порцию чая и поинтересовался: «А, что Устиныч, чем дело то закончилось с Гренландией?» Мой седоусый друг, вздохнув, как мне померещилось нехотя ответил: «Ну, что сказать. Понежились мы с подружкой моей Ивало до вечера в водице этой уунартокской целебной, как Адамчик с Евушкой в райских заведениях. Ева моя расписная полянку накрыла, перекусили мы, чем гренландские духи послали, ну пора и честь знать. Оделись мы в цивильное. Я в то в чём, до охоты был, а Ивало, ты не поверишь, в синие джинсы и зелёную куртку с надписью US ARMY. Я прям обалдел. Во первых вся эта амуниция ей отчаянно шла, к её спортивной фигуре особенно. Во вторых я приревновал. Откуда такое облачение, американцы, что ли одарили? И за какие заслуги? И куда это муж смотрел? Ну тут же одёрнул себя, что это, мол, за глупости. Получается, что приятель мой покойный Нанок честь жены для меня, красавца усатого беречь должен был. Нет уж, среди инуитов поступай как инуит, а свой устав прибереги до возвращения в свой монастырь».
Спустились мы в УУнарток. Небольшой такой посёлок в несколько десятков домов, но по меркам малонаселённой Гренландии считай город. Катер, вроде как рейсовый там был, который по мере надобности ходил на север до Нуука, с заходами в попутные прибрежные поселения. Так что уже через несколько часов мы были в столице острова. И что интересно, я одну вещь не учёл — мы ведь всё это время с Ивало жестами и мимикой объяснялись, как глухонемые. Тут вдруг выясняется, что подружка моя на датском, как на родном шпрехает и как я раньше не догадался? Я ведь норвежский немного понимаю, есть небольшой словарный запас и для какого-никакого общения, а датский, шведский, исландский и норвежский это языки родственные, скандинавские. Слов много похожих, ходовых выражений. К примеру: Да — Йа, Нет — Най, Как дела — Вурьдан горь дэ? — это по норвежски, а хвордан хар дудет — это податски или Я не понимаю — Яай фуштур икке — по норвежски, а Ег форстор икке — по датски. Вообщем стали мы с Ивало с грехом пополам, но всё же как-то объяснятся.
Новые чудеса начались по прибытии в Готхоб-Нуук. Едва катер пришвартовался к стенке, как увидел я, то, что привело меня в крайнее изумление, если не сказать в ступор. На причале твоего покорного слугу встречал любимый экипаж родного траулера, причём чуть ли не в полном составе. В голове пронёсся вихрь предположений, одно нелепее другого. Но как, почему, откуда? Я что объявлен народным героем Дании и Гренландии в связи с беспримерными подвигами, включая мужественное поведение в термиях Уунартока. Теперь боцману Броне установят памятник рядом с основателем Готхоба норвежцем Хансом Эгеде. Меня заметили и чьё-то восклицание: «Братва, гляди наш боцман вернулся, да не один с местной кралей!» — позволило мне облегчённо вздохнуть. Значит эта встреча с народом просто совпадение и никто мою героическую персону чествовать не собирается.
Едва я шагнул навстречу своим товарищам, как разумеется посыпались расспросы: Что, да как? А с эскимосочкой своей познакомишь? Ну и прочий весёлый трёп. Оказалось, что толпу наших морячков везут на экскурсию вдоль южного побережья, аж до самого незабвенного Уунартока. Потом мы отправились домой к Ивало и на этот раз не в иглу. Ты удивишься в нормальный деревянный домик, окрашенный в ярко-лазоревый, небесно-голубой цвет. Этот домик она с Наноком получила в подарок на свадьбу от местных властей. Королевство Дания тратило немалые средства на приобщение инуитов к современной цивилизации. Вначале их хотели поселить в одной из квартир в длинном каменном жилом блоке на сваях, рассчитанном на 500 человек, но Ивало наотрез отказалась жить в месте похожем на инуитское каменное погребение. Вмешался влиятельный родственник — кузен Миник и для строптивой четы сделали исключение, что-же везде нужны связи…
Наверное следует надеяться, что датчане понимают, что делают. Они конечно хотят добра гренландцам и намерения их благие… Бракосочетание Ивало и Нанока, крещёных во младенчестве хернхутскими миссионерами, прошло в деревянном лютеранском соборе Нуука и первую брачную ночь они провели в новом доме. Скромную мебель с домашней утварью они получили по кредиту из банка, счёт в котором пополнялся по мере приёма меха ценного пушного зверя, добытого молодожёнами и принятого местной пушной факторией. Уже на третий день молодая пара, затосковав по родным просторам, встала на лыжи и «сделала ноги»… прочь от волшебных благ цивилизации. Благо повод был — начался сезон охоты на пушного зверя.
Первое, что сделала Ивало, открыв незапертую два года назад дверь и войдя в свой так и не обжитой дом, это то, что она прямо с порога шагнула к небольшому, стоящему у стены посудному шкафу с нарисованным на нём толстощёким поварёнком в неизменном крахмальном колпаке и открыв вынула из него большую жестяную банку для хранения соли. Осторожно, боясь повредить, словно что-то хрупкое она достала с её дна два серебряных крестика-распятия на чёрных шёлковых нитках. Один побольше, а другой поменьше размером. Крестик покрупнее девушка протянула мне, пояснив по датски, специально подбирая слова попроще, чтобы я понял: «Это Нанок. Он там». — Ивало взмахнула рукой, как при прощании с кем то далеким — «Здесь он нет. Не жить. Не слышать. Ты жить. Это ты, тебе» — она показала на крестик и вдруг закрыв глаза прижала его к груди — «Нет, нет! Нанок слышать!» — и через короткую паузу вновь протянула распятие — «Нанок сказать да. Ты друг. Ты хорошо».
Тут поневоле впадёшь в мудрствование. Если самые великие мудрецы в истории считали себя невеждами и глупцами перед лицом непознаваемого мироздания, то почему бы простому русскому боцману не возомнить себя палубным философом и не произвести свою усатую персону в агностики. Правда боцман-философ это как будто дежавю, а вот боцман — агностик, звучит свежо. Воистину всё относительно в этом относительном мире — Волна набегающая она же волна убегающая. Вселенная то ли искривляется, то ли кривляется, посмеиваясь над человечеством, пытаясь словно мудрый шут донести до наивного королька печальную истину: «Первичное начало вещей неизвестно, так как не может быть познано».
На следующий день я вернулся на свой траулер, чтобы заняться обычной боцманской работой. В Нууке на ремонте мы простояли ещё полтора месяца и после каждого рабочего дня я возвращался в лазоревый домик к своей Ивало. Прикипел я к ней, колдунье гренландской. Хотел я забрать её с собой и она была не против, но начальство заявило, что этот вопрос можно решить положительно, но только в Союзе. Я как дисциплинированный советский моряк подчинился. А потом наш траулер вышел в море и в Нуук мы больше не возвращались. В Мурманске я подал нужное заявление в компетентные органы и стал ждать ответа. Через неделю в отделе кадров у меня отобрали паспорт моряка и сообщили, что выход в загранрейсы для меня закрыт на неопределённый срок и сам я переведён на берег на судоремонт сроком на год.
Между прочим тогда по возвращении с этой гренладской охоты оказалось, что со мной произошёл какой-то непонятный казус. Выяснилось, что моё отсутствие продолжалось меньше недели, если точнее дней пять, хотя я был уверен, что прошло вдвое больше времени. Можно было попенять на полярный день и отсутствие смены тёмного и светлого времени суток, но мурманчанина полярным днём или ночью не удивишь и видимо всё дело в обилии впечатлений. Для кого-то время насыщенное событиями бежит быстро, а для кого-то течёт медленно, да и не так часто встречаешься с таким смешением времён, как в Гренландии, когда современность столь реально и фантастично сталкивается и перемешивается с далёким прошлым.
Что — то я расклеился, малый. Старый я стал, сентиментальный. Иной раз закрою глаза и вижу, как стоит на причале Нуука и ждёт меня моя Ивало. Она знает, что я жив и знает, что я не забыл её, ведь как-никак она немножко волшебница.
Глава 37. «Призрак чёрного кригсмаринера»
Не так часто битые жизнью пожилые мужики раскрывают душу перед восемнадцатилетними сопляками. Мне стало неловко от того, что я стал невольным свидетелем момента слабости старого моряка. Какие-либо комментарии к услышанному с моей стороны были бы неуместны и буркнув про то, что схожу ка я на палубу, отдам долг службе, я напялив на голову шапку, ретировался. На палубе было сыро и промозгло, благо дождь уже перестал моросить с серого, затянутого белесой, туманной дымкой неба. Я взглянул на часы, до конца моей вахты, то есть до шести часов утра, оставалось всего лишь двадцать минут.
«Надо бы сменщика разбудить» — шевельнулась в голове сонная мысль. «Какие кошмары вы месье Паганель предпочитаете в часы утреннего послевахтенного отдыха?» — не без лёгкой шизофрении, замаскированной под самоиронию спросил я сам у себя и в подтверждении диагноза сам же ответил: «Не иначе вас, моншер ожидают ужасы с полярной тематикой. К примеру общение с гренландскими загробными духами, впечатлительный вы наш». Мой внутренний почти-что клинический монолог прервал приближающийся знакомый звук. Без сомнения это работал двигатель возвращающегося под Медвежье крыло баркаса «Эидис». Прошло меньше суток. Неужели Верманд с Генкой уже нашли то, что искали — образец кислотной мины или им попались какие то не менее важные вещдоки? — пронеслось в моей голове.
По телефону внутрисудовой связи я позвонил на мостик и сообщил вахтенному помощнику о возвращении наших славных лазутчиков из гнезда диверсантов. После чего отправился на бак пришвартовывать союзника или союзницу, поскольку «Эидис» всё же женское имя. С подоспевшим Устинычем мы спустили штормтрап на борт баркаса, по которому Вард, а за ним и пламенеющий рыжей макушкой Эпельбаум, поднялись на борт «Жуковска». У Верманда за плечами торчал изрядным горбом, притороченный к спине груз, завёрнутый в плотную парусину. На палубу вышел встречать экипаж баркаса опухший со сна капитан Владлен Георгиевич. Он без лишних слов повёл Верманда и Генку к себе в каюту, бросив на ходу в сторону боцмана короткое: «Пошли!» Поскольку меня на важное мероприятие пригласить опять забыли, мне ничего более не оставалось, как разбудить сменщика и отправится почивать согласно корабельной присказке: «Вахты нет, дави на массу».
Проснулся я где-то за полдень и умывшись направился в сторону камбуза, где в салоне экипажа ещё продолжался обед. За угловым столом Бронислав Устиныч и угрюмоватый Верманд Вард не спеша хлебали тресковую уху, изредка обмениваясь короткими фразами по немецки. Получить какую-либо информацию от мужчин с таким суровым выражением лиц не представлялось возможным и наскоро прикончив свою порцию макарон с тушёнкой, я поспешил обратно в кубрик. Мой тайный расчёт оказался верен. В матросском кубрике, не щедро освещённом помаргивающей лампой дневного света, сидела вокруг небольшого, прикрученного к палубе стола компания из четырёх человек. На столе возвышалась трёхлитровая, покрытая изнутри коричневатым налётом, оплетённая капроновой корзинкой стеклянная банка с чаем. Старшина Семён только начал разливать горячий чай по эмалированным кружкам, а Борька с Ромой нетерпеливо и требовательно смотрели на Гешу, который с осознанием собственной возросшей значимости не спеша и солидно, словно купец первой гильдии, хлебал чай вприкуску с кубиками рафинада.
Моё присутствие никому не мешало, поскольку я как-никак участвовал во всех предыдущих событиях. Семён даже подвинул ко мне одну из кружек с чаем. Первым не выдержал Борька: «Рыжий, хорош уже вола тянуть! Давай уже отчитывайся, чего там было! Диверсантов с „Брунгильды“ всех замочили на пару со стариком Вермандом!?» Геша не был бы Гешей если бы удовлетворил чью-либо просьбу без лишних слов. Держа кружку на отлете с изысканно оттопыренным мизинцем, рыжий с трагической интонацией произнёс: «Представьте господа. В Одессе был аналогичный случай — корова зашла в воду по самые яйца…» Борька осторожно вынул из его длани горячую кружку, поставил её на стол и со сноровкой бывалого змеелова ухватил издевателя за всё ещё оттопыренный мизинец железной хваткой матроса-палубника. «Ломать будем медленно и со вкусом» — со сладкой нежностью садиста произнёс он, слегка выворачивая пленённый палец из сустава.
Генрих Оскорович надул багровые щёки, чтобы не заорать от боли и свистящим шёпотом произнёс, почему то обращаясь к собственному несчастному мизинцу: «Ахтунг! Ахтунг! Партизански девка Маруська, ти есть окружён, ставайся! Плен есть карашо, ти пудешь иметь булька с масло унд цвай немецки официрен!» — «Завязываем с цирком!» — командирским голосом прикрикнул Семён и Борька нехотя выпустил на волю гешин пунцовый мизинец. Рома сокрушённо вздохнул: «Клоун он и есть клоун. Без выходов на арену не выживет». Рыжий примирительно поднял руки: «Спокойно, аллес капут, щас всё будет!»
«Когда мы вернулись со стариком в тоннель, то первым делом взялись за поиски оружейного склада этих адских подводников» — начал свой рассказ Гена со всей доступной ему серьёзностью. — «Дед мой норвежский видать капитально изучил тамошние лабиринты, пока база бесхозной стояла. Оказывается многие помещения в гроте связаны между собой длинными, но узкими туннелями с низкими потолками из скальной породы. Верманд с фонарём впереди шёл пригнувшись, а я сзади тем же макаром, аж спина затекла и шею свело. Вышли мы в какое-то помещение, включили свет. Освещение слабое, но лучше чем ничего. Комната со стеллажами, по виду будто склад, но только пустой. Правда кое-где ещё ящики оставались. Старый сказал, что это у кригсмарине вещевое хранилище когда-то было. Ну я момент улучил и в один из ящиков нос свой арийский сунул, а там ненадёванные кителя офицерские, брюки и рядышком новые фуражки с крабами-орлами имперскими. Судя по нашивкам это была когда-то форма морских офицеров-подводников кригсмарине.
Ну вы же меня знаете, чтобы я такой прикол пропустил? Нашёл я под себя китель, фуражечку прикинул. Тепло, практично и элегантно. Там ещё были парадные курточки, куцие такие с аксельбантами и золотым шитьём, но они мне не понравились — безвкусица, прикид для циркового шталмейстера. Норвежец мой в другом углу возился, всё „кислотки“ эти, мины искал и не видел чем я занимаюсь. Зато кое-кто другой увидел. Совсем рядом дверь заскрежетала и входит чудак в тёмно-синем комбезе и куртке аляске, тележку на колёсиках с каким-то грузом толкает и физиономия у чудака этого примерно того же цвета, что и спецовка его. Пригляделся, да это же негр, натурально чернокожий парубок. Он, бедолага, меня узрел в моём новом обмундировании в чёрном кителе и фуражке с нацистскими орлами имперскими и натурально сомлел. Губы мясистые трясутся, а лицо вместо лилового серым стало, видать побледнел не по детски.
А я, вы же знаете сволочь по жизни. Мне это только дай, чтоб напугать кого до расстройства стула, хотя бы и с риском для жизни. Я эдак элегантненько ручку в в чёрной лайковой перчатке (на соседних полках разжился) вскинул в нацистском приветствии, ну и взвыл тихонько загробным баритоном „Лили Марлен“ с роскошным берлинским акцентом. Чёрненький мой стоит слушает, зубами звонко стучит, аккомпанирует значит (музыкальный народ в Африке всё-таки), а на полу под ним отчего-то лужица растекается. Пол песни прослушал, а на словах: „Друг мой прощай, ауфидерзейн!“ не вынес моего таланта и на полусогнутых задом к выходу попятился и в туннель рванул. Слышу бежит и орёт: „Блэк! Блэк! Блэк кригсмаринер! Гёст из сингинг! Самбади хэлп!“»[9]
Тут Верманд подскакивает и пинками под зад, грубо так, некультурно гонит меня, офицера ВМФ третьего рейха обратно в переход, но я сообразил, (я это тоже умею иногда, чтобы не говорили)что надо бы взглянуть, чего там жертва моего вокала на тележке приволок. Уже в переходе говорю старому, давай мол проверим, что за груз. Он меня выматерил, но пошёл проверил, а там как все уже догадались искомые «кислотки», каждая кило по пятнадцать. Вот мы одну и прихватили, а я тайком упаковку перчаток за пазуху сунул, чего добру пропадать, ну и фуражку офицера-подводника на память об этой заварушке. Так старый, когда отдышались, оглядел меня в этой амуниции, усмехнулся, отдал честь и чётко так по военному выдал: «Благодарю за службу и находчивость, матрос!» Я машинально во фрунт вытянулся и даже каблуками щёлкнул (гены наверное) и слышу свой голос: «Служу фатерлянду, герр офицер!» Мистика какая-то, видать военная форма на меня так подействовала. Уже после мы в комнату прослушки направились и Верманд там бобины с магнитофонной записью разговоров в секретной комнате, которые уже после нашего первого ухода произошли, забрал. Семён взглянул на рыжего с недоверием: «А ты брат, не заливаешь по привычке?» Генка с видом оскорблённого благородства вытащил из под одеяла смятую немецкую морскую фуражку с крабом и орлом, а так-же завёрнутые в жёлтую упаковочную бумагу несколько пар новеньких чёрных лайковых перчаток с узором из якорей и всё тех же имперских птиц на белой шёлковой подкладке.
Глава 38. «Ещё не вечер!»
В два часа дня по громкой судовой связи разнёсся по жилым помещениям командирский голос капитана Дураченко: «Внимание личного состава! Через пятнадцать минут в столовой экипажа состоится общесудовое собрание. Явка всех свободных от вахт строго обязательна. Повторяю…»Никому особого приглашения не потребовалось уже через пять минут салон или столовая экипажа была полна народа. Люди были измучены неизвестностью, что особенно тяжело, когда информация поступает мягко говоря неполная. Причём всё это происходит в последовавшей после ареста судна, атмосфере таинственности и неопределённости. Надо было обладать поистине советским менталитетом, чтобы безропотно и покорно ждать своей участи, зависящей от решений начальства. Однако существовал предел терпения и у русского, советского человека и мудрость начальника заключалась в том, чтобы вовремя определить приближение этого предела, найти нужные, точные слова, дабы успокоить людей и сохранить контроль над ситуацией.
Владлен Георгиевич говорил в звенящей тишине переполненного салона: «Прошу извинить, мужики, что сижу перед вами. Просто не хочу толкать речь в позе оратора, так по простому и мне и вам ловчее. Я бы сказал по семейному, тем более, что все мы, без всякого пиетета и вправду одна семья, как там в нашей песне поётся: „Если радость на всех одна, на всех и беда одна“. Попали мы братва, в поганую ситуацию и втравил вас в неё я — ваш хренов капитан Владлен Георгиевич Дураченко. Мне за всё и ответ держать, но позже в родном порту, правда до Мурманска нам надо ещё добраться, однако я всех нас в это говно затащил и мне же и вытаскивать.
Это так сказать преамбула, лирическое отступление, а теперь по существу. Как вы уже знаете мы невольно ввязались в чужие крутые разборки. Я намеренно допускал определённую утечку информации, чтобы не держать вас, парни за идиотов, в полных, как говорят, непонятках. Вы все теперь знаете, что на острове находится старое заброшенное логово немецких подлодок времён войны, так называемая тайная база — „Грот кригсмарине“. Этот самый грот, как оказалось ныне облюбовала группа наёмных головорезов, которые нацелены на совершение тайных диверсий против норвежских нефтяных платформ. Диверсии эти маскируются под морские катастрофы вызванные якобы естественными причинами, к примеру штормами и критическим износом металла подводной части опор.
Эти диверсанты нацелены прежде всего на шельфовые месторождения нефти в Норвежском и Северном морях, которые между прочим не так уж и далеко от постоянных, обжитых мест нашего рыбного промысла, включая воды Баренцева моря. Как нам удалось выяснить их задача, это путём серии диверсий разрушить несколько платформ в районах крупных шельфовых месторождений, что вызовет масштабную экологическую катастрофу из-за разлива сырой нефти. Вы только вдумайтесь, парни! По их планам получается, что большая часть норвежских, а значит и советских рыбных промысловых районов (поскольку нами во многом осуществляется совместный промысел) будет загублена и потеряна для рыбного промысла на долгие годы. Как вы понимаете это вызовет огромный мировой резонанс и автоматическое прекращение добычи шельфовой нефти норвежцами на неопределённый срок. Вот тогда и будет выполнена основная цель этой шайки-лейки с „Брунгильды“. Есть данные, что недавнее крушение морской платформы „Алекс“ с большими человеческими жертвами, это работа этих мерзавцев, так сказать пробный шар.
Что касается непосредственно наших интересов, то все вы знаете какое важное подспорье для нашей страны миллионы килограмм мурманской рыбы, ведь мы её отправляем во все республики Союза и даже за границу. Так вот из-за кучки каких-то наёмных негодяев и их мутных хозяев нашей стране, а значит и нам с вами может быть нанесён огромный ущерб. Я уже не говорю, что за страшная беда может постичь наших соседей, которые хотя и являются ныне форпостом противостоящего нам военного блока НАТО, но если отбросить политику, то как говориться на одном шарике проживаем. Скажу даже пафосно, мужики: сегодня они для нас, как в годы войны союзники против общего врага. Более всего этот наш нынешний общий враг опасается огласки своих грязных дел. Предоставить для общего обозрения фактические доказательства их подлой деятельности, вот в чём наша задача, ребята и такие доказательства уже имеются у нас на борту. На „Брунгильде“ об этом уже известно и они сделают всё, чтобы уничтожить „Жуковск“, чтобы как говорят, „концы в воду“. Сейчас в наших с вами руках, ребята единственный шанс изобличить этих уродов подводных, ну и порушить наполеоновские планы их сволочей- хозяев».
Поднял руку второй механик Иваныч, редковолосый с рыжеватой бородкой мужчина средних лет и с воспалёнными, словно от недосыпа глазами. Он встал с места и глядя в сторону капитана, но словно мимо него, заметно волнуясь стал держать речь: «Я Владлен Георгиевич конечно дико извиняюсь, но хотелось бы напомнить, что лично я механик рыболовного траулера, а не один из двадцати восьми героев панфиловцев и сейчас не война. Я на флот пришёл на жилищный кооператив деньги заработать, простите за прозу жизни и что-то не припомню, чтобы меня на геройские подвиги подряжали. Не один я так думаю, просто другие помалкивают по привычке, а между прочим здесь не пацаны сопливые собрались. Мужики все взрослые, у большинства семьи, дети, а вы нам тут предлагаете морской бой устроить. Это как вы себе, товарищи представляете? Мы обычные мирные работяги или бригада спецназа? Что наше ржавое корыто готово лихо сразится с о специально обученной вооружённой бандой головорезов на сверхсовременной подлодке? Да они разнесут нас в щепки и мясо за пару минут или вам есть, что возразить на это, а Владлен Георгиевич?»
Капитан тяжко вздохнул и развёл руками: «Да прав ты, кругом прав Эдуард Михалыч. Беда в том, что попали мы как кур во щи и выход у нас из этой шхеры только один. Мы прослушали последние разговоры главарей этой банды из грота. Они ведь тоже всё просчитывают, тем более наверняка уже знают о пропаже кислотной мины. Если мы попытаемся связаться по рации УКВ (другой у нас нет) с ближайшими судами, то они нас просто заглушат, да и мой бездоказательный рассказ о наших похождениях на Медвежьем будет выглядеть мягко говоря, мужики странно. Коллеги могут подумать, что у капитана Дураченко в гостях белочка, алкогольный психоз, понимаешь. В случае если мы попробуем для перевозки людей воспользоваться баркасом Верманда, о котором им пока неизвестно они это наверняка заметят и утопят его вместе с людьми, после чего спокойно уничтожат и „Жуковск“, так мы просто облегчим им задачу. Теперь самое главное. Я не съехал ещё с катушек, чтобы вообразить себя адмиралом Ушаковым или Нахимовым и ввязаться, как выразился наш второй механик (Владлен покосился на покрасневшего Эдуарда) „на нашем ржавом корыте“ в открытую стычку с наверняка хорошо вооружённым врагом. Как говорят: „Кто предупреждён, тот вооружён“. Это и есть наш козырь в рукаве.
Нам стало точно известно из последних записанных нашими разведчиками разговоров, что „брунгильдовцы“ уже установили где-то на фарватере фьорда связку из четырёх морских мин времён второй мировой. Их подлый расчёт в том, чтобы гибель „Жуковска“ со всем экипажем, выглядела как случайный подрыв траулера на старых всплывших после недавнего шторма с глубины, минах. Вроде как русский траулер зачем-то влез в неизвестную шхеру и нарвался на смертельный привет из сороковых годов. Они не знали, что мы находились в у Медвежьего крыла под арестом и предполагали, что наоборот случайно зашли в секретный фьорд, когда браконьерствовали в норвежских водах, а увидев на горизонте сторожевик решили спрятаться там от него. Сейчас после вылазки наших разведчиков и пропажи секретной кислотной мины они уверены, что мы группа наёмников, таких же как они, только с противостоящей им стороны, маскирующиеся под советский траулер.
Вот, что предложил наш хороший друг и союзник Верманд Вард. Его баркас, о котором нашим врагам пока ничего не известно, пойдёт впереди нас и пойдёт с тралом за бортом. Судно деревянное и его осадка чуть более двух метров, тогда как мины выставлены в расчёте на нашу примерную осадку, то есть примерно на глубину семь метров. Трал будет придонный и обязательно сорвёт с грунта якоря минной связки. Хуже будет если задеть сами мины, поскольку когда они сдетанируют, баркас может быть разбит ударной волной о скалы. Однако Верманд уверен, что трал пройдёт гораздо ниже самих мин и скорее всего они просто всплывут, оторвавшись якорями от дна. Тогда вступит в дело наш бравый ветеран Бронислав Устиныч». Боцман встал и с церемонной серьёзностью, словно у архиерея на приёме, поклонился уважаемому собранию.
Моряки вдруг разулыбались, обстановка несколько разрядилась, а капитан усмехнувшись, продолжил: «У нашего боцмана против любых мин есть такой железный аргумент, который они не переживут завидев за полмили. Устиныч покажи-ка машинку». Боцман полез куда-то под стол, а с места у выхода раздался панически испуганный голос рыжего Эпельбаума: «Бронислав Устиныч не доставайте вашу машинку, мы же не раз были вместе в бане, присутствовавшие до сих пор под впечатлением. Второй раз это можно не пережить, особенно теперь, когда мы узнали, что от одного её вида взрываются морские мины». По салону прокатилось бурное веселье, народ заметно расслабился. Кто-то из моряков крикнул с места: «Да ладно Устиныч, что мы в войсках или на флоте не служили, чи пулемётов не бачили!? Не возись в салоне с железкой, а то ещё стрельнет не дай боже! Про то, что ты в Отечественную воевал и оружием владеешь справно, то нам ведомо. С такелажом управляться, как ты это умеешь, оно посложнее будет».
Капитан поднял руку, чтобы унять несколько нервозную весёлость экипажа, сменившую прежнее тягостное настроение. «Вот ещё что ребята» — во вновь наступившей тишине продолжил он — «Есть наверняка ещё один важный вопрос, который вы не задали, но наверняка зададите. Так вот, я хочу сработать на опережение. Я сам озвучу этот вопрос и сам же нам него отвечу. Какова роль командира сторожевика „Сенье“ во всей этой истории? Ведь получается, что он использовал нас как наживку, притащив под Медвежье крыло, под самый бок к опасности? На самом деле всё гораздо сложнее и майор Бьернсон не предполагал такого развития событий. Я имел с ним встречу, как говориться тет а тет (о моём присутствии Владлен видимо благополучно забыл, впрочем наиболее важная часть межгосударственных переговоров Бьернсон — Дураченко прошла без моего участия) и он объяснил мне, что по его сведениям эта шхера, куда он нас притащил это бывшая тайная база кригсмарине с подскальным гротом для стоянки подлодок и сейчас её могут использовать некие силы, нацеленные против разработок шельфовой норвежской нефти.
Он кстати намекнул, что эти силы явно имеют союзников среди нескольких влиятельных политиков в Норвегии, Дании и даже в Исландии и те лоббируют отказ от нефтеразработок на норвежском шельфе как раз по соображениям экологии и сохранности рыбных запасов. Майор предложил мне, так называемое устное джентльменское соглашение: Наш траулер в течении двух суток торчит на приколе под Медвежьим крылом с включённым эхолотом — поисковиком, (этот переделанный из немецкого поисковика подлодок поисковик рыбных косяков и натолкнул майора на идею всей операции с нашим участием) который контролирует подводный вход в грот и обязательно зафиксирует проходящую субмарину. Тем самым поднятый нами шухер должен быть расценен обитателями грота, как пристальный к ним интерес со стороны советских спецслужб, которым стало что-то известно. Расчёт Бьернсона в том, чтобы насторожить тех, кто срывается в гроте, напугать их хозяев и заставить свернуть или приостановить операции против норвежских нефтяников. Тем самым он надеялся выиграть время для контригры, которую ведут его влиятельные друзья. Они считают, что шельфовая нефть может помочь Норвегии совершить экономическое чудо, превратив её в одно из самых богатых и процветающих государств Европы.
Затем по плану командира „Сенье“, мы выполнив свою миссию должны покинуть это гостеприимное местечко с помощью карты фарватера, которую начертил мне Бьернсон. Таким образом, согласно нашей договорённости с майором мы можем считать себя свободными, поскольку факт нашего задержания не был задокументирован, а на нет, как говорится и суда нет. Однако по русской традиции мы, вернее я, слишком увлеклись и зашли в этой игре более, чем далеко. Я не предполагал, что в моём экипаже окажутся опытные скалолазы, да ещё при всём альпинистском снаряжении. Дальше события развивались, так, как вам известно. Это мой грех, мой чёртов азарт. „Брунгильдовцы“ по расшифровкам их последних разговоров не поверили в версию с происками КГБ и почему то решили, что мы такие же наёмники, только с противоположной стороны. Так что парни, хоть казните, хоть милуйте, но потом, когда выберемся, а сейчас будьте добры подчинятся».
Моряки с минуту сидели в молчании, осмысливая свалившуюся на них массу непривычной информации. Меня же занимал другой вопрос: Каким образом нашему капитану удалось без переводчика понять Бьернсона, толковавшего с ним по английски о столь сложных вещах, как международные политические интриги? Как я узнал позднее, Владлен долго и упорно изучал английский, но говорить так и не начал, зато понимал и даже читал печатный текст вполне сносно.
Народ негромко переговариваясь расходился из салона и уже через десять минут, принявший палубную вахту Рома спешил к кормовому флагштоку с новым аккуратно свёрнутым государственным знаменем СССР. По громкой внутрисудовой связи вновь прозвучал голос капитана: «Палубной команде приготовится к отшвартовке. Боцману на бак, старшине на корму. Старшему механику просьба спустится в машинное отделение. Удачи нам ребята. Ещё не вечер!»
Глава 39. «Акулий пир»
Попрощавшись со скалистым причалом «Жуковск» медленно, самым малым ходом вышел из под надёжной, каменной опеки несколько дней нависавшего над ним Медвежьего крыла. Баркас «Эидис» под управлением своего хозяина Верманда Варда ещё пару часов назад, отшвартовавшись от нашего борта, в одиночку, что тоже было непросто, поставил (опустил за борт) свой промысловый трал и вышел на фарватер извилистого фьорда. Выполнять обязанности минного тральщика, не потеряв промыслового вооружения в условиях узких проходов с множеством поворотов и подводных препятствий в виде скал на разных глубинах и даже останков нескольких затонувших в разное время небольших судов, было задачей архисложной. Такое было под силу лишь асу морского промыслового дела, виртуозу траления и истинному морскому волку. Всё, что нам оставалось это всей душой надеяться, что наш норвежский союзник бородатый отшельник Верманд именно из таковских.
Верманд со всей возможной тщательностью, словно опытный морской сапёр ощупывал тралом дно фьорда, стараясь не пропустить ни дюьма. Это занимало достаточно много времени, поскольку баркас (когда находился не за скалистым поворотом, а у нас на виду) двигался вперёд плавными зигзагами. Иногда в широких местах фарватера он на возможно медленном ходу (чтобы не закрылся и не лёг на дно трал) совершал полные повороты через свой правый борт. В целях безопасности мы на «Жуковске» к тому же держали возможно большую дистанцию от нашего маленького, но более отважного лидера. Находящимся на мостике вперёдсмотрящим во главе с капитаном оставалось лишь внимательно наблюдать в бинокли за поверхностью моря, высматривая всплывшие мины.
Бронислав Устиныч расположился со своим МГ-42 на баке, пристроив пулемёт с двуногой распоркой подставки и свисающей из затвора лентой на возвышенной круглой люковине вертикального трапа, ведущего в подбаковое помещение. Для удобства прицельной стрельбы на этой самой люковине соорудили дополнительное возвышение из старой траловой сети, накрыв её огнеупорной асбестовой кошмой. Высоту рассчитали так, чтобы нашему боцману-пулемётчику было удобно расстреливать мины из положения стоя. Рогатка же пулемётной подставки надёжно уперлась в мягкое, словно в земляной бруствер окопа.
Боцман напряжённо всматривался вперёд, используя для наблюдения собственный небольшой, но мощный цейсовский бинокль. Я разумеется, как верный оруженосец (на этот раз в буквальном смысле) напросился к Устинычу вторым номером в пулемётный расчёт. Согласие я получил лишь после того, как раз двадцать вставил и вынул ленту и столько же раз, действуя одной рукой поменял ствол, отщёлкивая его из специальных пазов. Возбуждение охватившее всех в начале постепенно спадало и уже через полчаса приходилось себя мысленно подстёгивать, чтобы через чур уж не расхолаживаться. Вдруг боцман не отрываясь от бинокля спросил: «Что малый, рыжий небось уже растрепал о последних разговорах главарей брунгильдовских? Он же их переводил для Владлена с компанией». Слово Он Устиныч произнёс с нажимом в утвердительной интонации, как бы подчёркивая несправедливость капитана при выборе переводчика с немецкого.
Я не без удивления пожал плечами: «Насколько я помню, Устиныч, беседы происходившие между троицей начальников с „Брунгильды“ велись как по немецки, так и по английски. Что касается Эпельбаума, то я впервые слышу о том, чтобы Владлен привлекал его для перевода добытых им и Вермандом записей». Боцман не прерывая наблюдения не без облегчения вздохнул: «Значит говорили по английски, вот Георгич без толмача и обошёлся. Он ведь английский понимает неплохо, не говорит только, стесняется. А ведь Верманд, чёрт старый тоже получается в инглише шарит изрядно. Он ведь мне подробно всю беседу между Люци и Штинкером пересказал». Последнюю фразу боцмана я расценил, как тонкий (в некоторых местах) намёк на желание поделится со мной новой информацией, поэтому не мудрствуя лукаво отметил: «Капитан же вроде всё важное из разговоров брунгильдовцев на собрании пересказал? Или как?»
Мой визави ответил несколько пошловатой грубостью: «Каком кверху! Ты, что думаешь мне дураку усатому больше делать нечего, как тебе салаге всякие тайны мадридского двора пересказывать? Я ведь тебе не просто так почётный псевдоним Паганель присвоил. Надежда у меня на тебя. Ты дневник ведёшь и я его читал. Не Ремарк, но пишешь складно. Помяни моё слово, придёт время, когда ты поймёшь, что ничего особенного в своей жизни не добился и писанина твоя не просто графомания, а то, что может дать тебе утешение и удовлетворение, а если повезёт, то и новую перспективу. Я делюсь с тобой интересной информацией, сырьём для фантазии и если будешь работать с этим, то постепенно войдёшь во вкус и не сможешь обходится и пары дней без строчки. Это, брат Паганель, называется творчество, а оно предает жизни необходимую для всякого думающего человека осмысленность. Так-что мой милый не надо снисходительности, как будто боцман страдает недержанием речи и у него вода в заду не держится».
Я почувствовал, что заливаюсь краской. Совесть прихватила, как внезапно заболевший зуб. Бронислав Устиныч заметил это и примирительным тоном добавил: «Ладно, малой, извини. Чересчур на тебя наехал. Нервы понимаешь, чай не на морской прогулке. Вообщем рассказал мне Верманд интересные моменты из последней беседы Люци и Штинкера. Ты слушай, да на ус мотай, потом диалог этот у себя в дневнике восстановишь».
Я так и сделал и вот, что получилось: «На записи какое то время слышались шаги, звуки передвигаемых стульев, неясное бормотание и стеклянное позвякивание, похоже бутылки о стакан или рюмку. Затем раздался приглушённый скрипучий смех и знакомый дребезжащий, словно простуженный голос что-то запел по немецки, пьяно хихикая.
Этот вальяжный вокал более всего напоминал скрип плохо смазанных дверных петель и в невольных слушателях будил те же эмоции, что и крики диких лесных обезьян, предупреждающих об опасности. Хотелось немедленно укрыться в надёжном и тихом месте, повинуясь инстинкту унаследованному от наших первобытных предков. Вскоре наступила тишина, нарушаемая лишь сиплым дыханием командора Кранке. То, что это был он сомнений не было. Так продолжалось не менее получаса, затем раздался скрежет клинкетной двери и в комнату, судя по голосам вошли двое. Все те же старые знакомые: инспектор Люци и старпом Штинкер. Последний с презрительным смешком констатировал: „Ну где же ещё искать нашего дорогого командора. Старый алкоголик нашёл укромное место с баром и уютным креслом, где немедленно надрался до полного самозабвения. Шваб он и есть шваб“.
— „Не тратьте вашего красноречия мсье Штинкер“. — подал голос Люци — „Если бы это было в моей власти, то я давно бы сместил этого проспиртованного нациста и назначил вас командиром „Брунгильды“. Однако этот альти захель ((идиш) — старьё), как вы его называете, к сожалению ни больше не меньше, как протеже Его высочества, да продлятся его дни. Я решил, что вам можно доверять, Штинкер, поскольку нас связывают общие интересы и потому так откровенен“. — Послышался звон рюмок и голос Штинкера произнёс: „Прозит!“ Люци ответил с коротким смешком:» «Ле Хаим!» — как говорят дважды неверные. Да простит меня всемилостливый, но и правоверному мусульманину иногда нужно расслабится! «Его высочество, да пощадит меня Всевышний, тоже человек и как говорится: „Ничто человеческое…“ Дело в том, что двух таких разных людей объединила одна общая страсть: самозабвенный интерес к страданиям других людей».
«Ох уж эта восточная витиеватость» — перебил собеседника плохо воспитанный Штинкер — «Короче два садиста нашли друг друга». «Вы слишком прямолинейны, Штинкер, а это упрощение действительности, которое искажает последнюю». — ответствовал Люци, явно проигнорировав упрёк собеседника в витиеватости. — «В отношении Кранке вы пожалуй правы. Это психически ущербный извращенец, но что касаемо Его высочества, то в его отношении это определение совершенно не применимо, поскольку он существо более высшего порядка, нежели обычный человек. Мы не можем знать мотивов его побуждений к тем или иным поступкам. Я видел множество проявлений гуманизма и великодушия со стороны моего августейшего кузена. Когда однажды на школьной экскурсии упал с обрыва и разбился автобус с детьми, то Его высочество лично присутствовал на похоронах и плакал там вместе со своими подданными.
Однажды, Штинкер, я сопровождал своего сюзерена во время его подводной морской прогулки на „Джумане“. Наша „Брунгильда“, как вам известно в девичестве носила нежное имя „Жемчужина“. Как глава службы охраны я был обязан по этикету находится при августейшей особе неотлучно. Мы проследовали в те самые Покои Господина, которые вы и сами, Штинкер, по вашим словам однажды так не вовремя посетили. Там нас уже ожидал командор Кранке. Он был изрядно нетрезв и уже одно это являлось невиданной дерзостью, предстать перед своим повелителем в таком виде?! Вообще то ранее я не замечал за командором такого безответственного поведения. Он если и выпивал, то не афишировал своего порока и уж тем более в присутствии Самого!..
Однако Его Высочество не обратил на состояние начальника своей подводной резиденции ни малейшего внимания. Более того, он пожал ему руку и заговорил с ним с тёплой улыбкой, словно с близким приятелем. Тем не менее я испытал шок и потрясение, когда этот наглец Кранке похлопал нашего владетеля по плечу и разразился своим диким скрежещущим смехом. Как не странно наш Господин в ответ тоже искренне рассмеялся. Они оба уселись в глубокие кресла. Я же как и положено остался безмолвно стоять по правую сторону от Господина. Кранке снял трубку телефона внутренней связи, стоящего на столике рядом и произнёс какое-то распоряжение. Тотчас в дверь каюты постучали и охрана ввела троих бородатых измождённых мужчин со скованными за спиной руками. Пленники мелко семенили при ходьбе поскольку их ноги тоже были в браслетах. В довершении всего троицу соединяла тонкая, но прочная цепь, довольно короткая, так что бородачи вынуждены были почти прижиматься друг к другу.
Его Высочество обратился к Кранке, указывая на скованную троицу: „Вот, Людвиг, очередная порция мерзавцев достойных презренной смерти. Это собаки-шииты, смеющие называть себя мусульманами и праведными шахидами. Они приговорены судом к казни через публичное отсечение головы. Их вина совершенна доказана, в доме где их схватили находилась подпольная лаборатория по производству взрывчатки и сборке адских машин. Они успели провести серию терактов: взрыв в торговом центре в нашей столице, причём бомба была оставлена у детского игрового уголка, а также несколько подрывов фанатиков-самоубийц на территориях Эмиратов и других наших союзников. В довершении всего эти шакалы планировали покушение на меня, собираясь установить несколько мощных зарядов на пути следования моего кортежа. К счастью наша служба безопасности оказалась на высоте“».
В голосе Люци вдруг зазвучали пафосные нотки неподдельной гордости: При этих словах, мсье Штинкер, Его Высочество милостиво взглянул в мою сторону и я с благодарностью поклонился своему царственному родственнику. Я, как глава службы охраны, курирую так же и нашу службу безопасности и щедро плачу профессионалам-отставникам из Европы и Америки, но лучшими оказались, ты не поверишь, двое бывших контразведчиков самого экзотического происхождения. Один израильтянин из Шабака, а другой (ха-ха) вообще из России, какая-то странная аббревиатура у его спецслужбы, нет не КГБ, ах да СВР, военная разведка. Он был чуть ли не резидентом где-то в западной Германии, но немцы из МАД (служба военной контрразведки ФРГ) вычислили его и вытащив с помощью химии всё интересное, отпустили с миром. К своим он вернуться уже не мог, а потому легко согласился служить в моей охране. С евреем ещё проще. Он попался собственной полиции в постели с малолетней нимфеткой, информация прошла в прессу и не смотря на прошлые заслуги бедняга был с позором выброшен на улицу… У меня на службе они стали приятелями, израильтянин тоже оказался выходцем из России. Это было так забавно: оба регулярно напивались водкой (я велел им не препятствовать) и зверскими голосами кричали русские песни. Кроме того они вместе часто навещали подпольный бордель, находящийся под контролем моей службы безопасности.
Я серьёзно увлекаюсь психоанализом, (Привет от русского боцмана Устиныча!) а эту парочку держал честно говоря для научной работы с их психотипами и вдруг оказывается, что эти ностальгирующие по белым медведям из Сибири пьяницы ещё и дело знают. Они сами вышли на гнездо террористов. Этот воспитанник Шабака, израильской контразведки, говорит по арабски не хуже меня. Он и сработал, как агент под прикрытием: втёрся в доверие, как это умеют только иудеи и по пословице: «Влез в узкую щель натеревшись оливковым маслом». Разработал же сценарий всей этой операции русский, хотя и грубо нарушив все инструкции. Он и поставил в известность руководство, но только лишь, когда его симит-собутыльник оказался на грани провала.
В любом случае я не мог оказаться неблагодарным, ведь по большому счёту они предотвратили покушение на жизнь нашего дорогого сюзерена, да продлит Всевышний его дни. Я сделал их богатыми людьми, открыв пожизненный безвозвратный кредит, а также послал личный подарок в русском стиле: антикварный серебряный сосуд вмещающий пять литров жидкости, кажется он называется самосвар. Я слышал, что русские обожают пить водку из самосвара, поэтому в нарушение наших законов велел наполнить его их любимым напитком. Я наблюдал за происходящим из соседней комнаты. Мне было необходимо выяснить с какой формулой псхотипического поведения возможно соотнести поведение выходцев из этой северной империи. Эти двое почему-то долго веселились, обнаружив, что вытекает из крана серебряного самосвара. Затем принялись отдавать должное его содержимому. После принятия драматической дозы алкоголя они начали выяснять отношения.
Славянин внезапно сделал интересное заявление: якобы без русских голов сами по себе иудеи мало на что способны. Иудей почему-то повёл себя крайне агрессивно: назвал своего напарника непонятным словом христопродавец и тут же нанес ему негуманный удар кулаком в лицо, повредив нос и разбив очки. Русский не остался в долгу, схватив со стола ведёрко с красной икрой он попытался с его помощью лишить своего визави сознания путём сотрясения головного мозга. Начальник службы безопасности, бывший подле меня, обеспокоенный возможным членовредительством, а то и потерей ценных сотрудников собирался было уже вмешаться, но я запретил ему и оказался прав. Уже через несколько минут эта экзотическая пара рыдала во взаимных объятиях, размазывая по щекам кровь, слёзы и прочую влагу. При этом они лобзались словно старые лесбиянки. Я было заподозрил их в гомосексуальности, но прежнее поведение этого тандема указывало на сугубо натуральную ориентацию. Я со своими коллегами-психоаналитиками просто не смог идентифицировать эти страннейшие психотипы.
Я даже спросил как-то самого Кранке: «Скажите, Людвиг, что вы думаете об этих выходцах из России, ведь вы же воевали с ними?» Тот в своей неповторимой манере проскрипел с полминуты, после чего ответил: «Я, герр Люци воевал с врагами Рейха и фюрера будучи командиром У-бота, подлодки кригсмарине, отправляя на дно всё, что ходило по морю под вражескими флагами. Являясь по натуре большим гуманистом (хе-хе), торпедировав очередную посудину я давал приказ на всплытие и лично с помощью палубного орудия и ручного пулемёта избавлял морские просторы от шлюпок и плотов, гружённых человеческим мусором. Русских мне не повезло узнать ближе, когда я попал в плен в сорок четвёртом. Наш У-бот был потоплен русскими у берегов Норвегии, а мне и ещё двоим из экипажа каким-то чудом удалось выплыть. Нас подобрал русский торпедный катер. Двое моих моряков вскоре умерли от ожогов внутренностей, наглотавшись разлившейся по волнам солярой. Мне же удалось выжить. К счастью я был без кителя и назвался простым мотористом. Я знал, что моё имя уже год фигурирует в списках русских и их союзников. Мои невинные игры с экипажами потопленных судов могли выйти мне боком.
В плену пришлось засунуть подальше мои принципы и убеждения и целовать большевистские задницы, чтобы выжить. В сорок девятом меня, как перевоспитавшегося активиста отправили домой в восточную Германию, а через год я бежал в Западный Берлин. Что касается русских, то по моему глубокому убеждению они мутанты человечества, его генетический шлак, как евреи или цыгане, но если эти лишь паразиты-прилипалы, то русские куда опаснее. Они порождение полуживотных-славян и диких зверских азиатских племён. Не пытайтесь выводить для них ваших психотипических формул. У них нет психотипа. Эти существа опасны своей непредсказуемостью. Их страна ловушка для цивилизованной армии. Единственное, что они заслуживают это тотальное уничтожение». — Кранке от избытка чувств даже зашёлся в припадке нервного кашля.
Однако, прошу прощения, мсье Штинкер. Я слишком отвлёкся от происходившего тогда на борту «Брунгильды». Его высочество лично обратился к стоящим в ожидании своей участи пленникам: «Во имя Аллаха всемилостивого и милосердного мы даём вам, презренным убийцам истинных мусульман возможность умереть не от сабли палача, а подобно воинам, сражаясь в бою. Если вы проявите надлежащую доблесть, то даю слово правителя: ваши останки будут переданы вашим родственникам. Я всё сказал. Увидите преступников, снимите с них оковы их и приготовьте к ритуалу». После того, как увели пленников Его высочество нажал кнопку и открылся уже знакомый вам Штинкер обзорный иллюминатор. Наша субмарина лежала на грунте, белом коралловом песке с кустиками разноцветных актиний. Мы находились в южной части Красного моря на небольшой глубине. Судя по количеству и внушительным размерам самых разнообразных акул, здесь находилось что-то вроде акульей фермы. Подозреваю, что некоторые экземпляры, например тигровые или акулы-молоты были доставлены из Индийского и даже Тихого океанов.
Через четверть часа из шлюзовой камеры «Брунгильды», пардон «Джуманы», озираясь в панике, неумело выплыли трое давешних бородачей. На них было оснащение лёгких аквалангистов с одиночным аквалангом у каждого. Кроме того на поясах висели в ножнах длинные ножи-пики. Двое из них, завидев кишевших вокруг морских монстров, начали метаться в животном ужасе. Однако самый старший, седобородый повелительным жестом остановил их метания и жестами же велел обнажить клинки и держаться как можно ближе друг к другу. Тут я заметил, что у каждого имеются небольшие надрезы на предплечье из которых маленькими облачками в воде вились еле заметные кровавые дорожки. Компания хищных созданий, почуяв желанный запах принялась кружить вокруг обречённых аквалангистов и уже через минуту тупомордая белая акула первой атаковала самого молодого преступника. Его ответный выпад оказался на редкость удачным. Клинок-пика вошёл прямо в глаз морской убийце, повредив какой-то важный нерв. Зубастая тварь, явно потеряв ориентацию в пространстве, принялась хаотично вращаться юлой вокруг собственной оси.
Её подельники тут же оставили людей в покое и принялись терзать свою несчастливую подругу. Вода окрасилась бурым, а бывшие сотоварищи по разбою, отталкивая друг друга, рвали на части тело несчастной ещё живой товарки. Через пару минут от двухсот килограммовой туши не осталось и следа. Ещё через минуту осел густой кровавый туман и банда разноплеменных акул вновь стала проявлять пристальный интерес к людям. Лимит удачи для них видимо подходил к концу. Особенно опасны оказались твари средних размеров. Пока аквалангисты сражались с крупными тигровыми и голубыми хищницами, средние особи как шакалы подкрадывались к незащищенным ногам людей и по волчьи на лету отхватывали изрядные куски человеческой плоти. Кровавый туман густел, ухудшая видимость и тут через какое-то отверстие в субмарине выплеснулась зелёная струйка какой-то жидкости, мгновенно осветлив воду и сделав кровь прозрачной. Люди быстро слабели и вскоре рука одного из них вместе с клинком исчезла в пасти уродливой головы акулы-молота. Вот и второй аквалангист перестал сопротивляться смерти, потеряв сознание и его безвольное тело было мгновенно растерзано алчными трёхрядными зубами.
Старший из приговорённых каким-то чудом ещё держался, но вот и он из последних сил, улучив момент, пока пёстрая свора была занята телами его товарищей повернулся к огромному обзорному иллюминатору. Седобородый, как бы с презрением выплюнул загубник, сдёрнул маску и медленно, словно жестом сулящим смерть зрителям по ту сторону мощного стекла, перерезал себе глотку остриём пики, словно символически завершая этот акулий пир.
Я с трудом заставил себя наконец отвернуться от этого кошмарного, но завораживающего зрелища. Кранке я увидел примерно таким, каким вы его описывали, Штинкер, рассказывая о катастрофе в Северном море. Глаза стеклянные, изо рта слюна. Но мой повелитель, мой августейший кузен оказывается всё это время стоял спиной к зрелищу. Он с интересом рассматривал остановившиеся глаза своего приятеля Людвига. Когда я упомянул о том, что Его Светлость и командора Кранке объединяет «самозабвенный интерес к страданиям других людей», я выразился не совсем точно. Кранке бесспорно тяжело психически болен, а значит страдает. Вот именно эти бессознательные страдания садиста и интересуют моего мудрого Господина и повелителя. Что же касается останков преступников, то и тут мой Господин сдержал своё слово, приказав доставить на борт головы погибших и отправить их ближайшим родственникам для погребения.
Его решение назначить руководить операцией своего подопытного, мне, если честно, до конца до сих пор непонятно. Его Высочество уверен, что вполне здоровых психически людей не существует, а Кранке во всех других отношениях чёткий профессионал и опытный моряк, да и с интеллектом у него всё отлично. Он ведь как-никак превосходный проектировщик, ведь «Брунгильда» построена по его чертежам.
— «Да уж будьте уверены, майне геррен» — раздался из глубокого кресла скрипучий голос Кранке. В это время дверь со скрежетом отворилась и в комнату вошёл вахтенный офицер с «Брунгильды». Он с порога, запыхавшись, начал доклад, обращаясь к вполне пробудившемуся Кранке: «Господин командор этот идиот Уайт орёт, что видел какое то поющее привидение чёрного кригсмаринера на складе. Но это чепуха. Главное этот черномазый был послан на склад с кислотными минами выгруженными с борта, так вот одна из них исчезла!»
В этот момент боцман Внезапно прервал своё повествование. Из-за поворота над скалами вился лисий хвост красно-бурого дыма сигнальной шашки. Это Верманд Вард подавал сигнал о всплывших минах.
Глава 40. «Минно-торпедная»
Мины всплыли. Это мы увидели сразу, пройдя поворот фьорда. Правда букет из четырёх рыжих от ржавчины шаров «рогатой смерти», распался на отдельные бутоны и сейчас три из них покачивались на волнах в радиусе примерно четверть кабельтова то есть сорока — пятидесяти метров. Хуже было, что совсем не наблюдалось их четвёртой, видимо самой застенчивой сестрёнки с рожками. Куда подевалась эта краля было не понятно. Самое неприятное если полтонны тротила всё ещё болтаются на своём якоре на прежней, опасной для нашей осадки глубине. К тому же, многоопытный Устиныч заявил, что расстреливать неполный комплект всплывших мин может быть опасно, как из-за относительно близкого расстояния, (они болтались на волнах сразу за поворотом) так и из-за того, что нам неизвестно какой системы спрятавшаяся морская бомба.
Очень может быть, что бывалый Кранке подстроил подляну и для подстраховки приказал своим пловцам поставить на фарватере ещё какую-нибудь гадость. К примеру неуправляемую, неконтактную донную мину с магнитным датчиком цели, реагирующую на проходящую по поверхности моря массу корабельного металла. Подрыв такой крошки в метрах тридцати под днищем нашей посудины оставил бы от неё нежный воздушный поцелуй, поскольку начинка из тонны литого гексонита, (который в полтора раза мощнее тротила) ни на что другое не намекает. Боцман предложил следующий вариант: Воссоединить со всем возможным тактом и осторожностью трёх разлучённых родственниц, а уже после этого великодушного поступка коварно расстрелять их со скал. Вызванная полутора тоннами тротила взрывная волна просто обязана будет детонировать затаившуюся явно неподалёку четвёртую таинственную незнакомку.
Владлен нехотя санкционировал предложенную акцию, впрочем другого выхода у него не было. На маленькой резиновой лодке боцман в компании с пулемётом отправился к ближайшим скалам. Меня третьим не взяли, оставив на борту траулера. Было обидно и досадно, но, как говорится, ладно… «Жуковск» не без труда развернувшись в узкости ретировался с опасного места обратно в сторону Медвежьего крыла. Отойдя на полмили и положив (не останавливая главного двигателя) траулер в дрейф, капитан, давая знать Устинычу, выстрелил белой ракетой. В оставленный им бинокль я наблюдал, как установив пулемёт на вершине скалы, боцман с закреплённым на поясе мотком бросательного линя спустился вниз. Через минуту, энергично загребая небольшими вёслами он вместе с лодкой исчез за скалами. Прошло не менее получаса прежде чем он появился вновь и причалив к камням, вновь занял боевую позицию на вершине.
Раздалась короткая, видимо пристрельная, приглушённая расстоянием пулемётная очередь, за ней вторая и через секунду из-за скал сверкнула ослепительная бело-огненная вспышка. Ещё через мгновение, вывернув из-за поворота, ослабленная расстоянием пришла, больно заложив уши, плотная ударная волна воздуха и тут-же откуда-то снизу из под воды возникла, мгновенно передавшаяся судну и людям на нём, мощная вибрация и всё нарастающий гул. Стоя на полубаке, между якорной лебёдкой и швартовным кнехтом, я наблюдал в бинокль, как над этой скалой высотой с пятиэтажный дом, поднялся метров на десять и обрушился на неё многотонный водяной столб.
Тучный Владлен, находившийся на капитанском мостике, отреагировал с быстротой юноши, благо главный двигатель судовой машины находился в полной готовности. Уже через несколько секунд траулер набирая скорость, двигался навстречу образовавшемуся в узком фьорде рукотворному цунами. На нас пёрла агрессивная масса морской воды высотой не менее полутора десятков метров. Я едва успел обняться с баковым швартовным кнехтом, как «Жуковск», задрав нос и обнажив давно нечищеный форштевень устремился куда-то в небеса. Старый «рыбачок» пожелавший забыть о том, что рождённый для вод в небеса не вхож, решительно вообразил себя летательным аппаратом. Ваш покорный слуга не был смыт за борт только лишь благодаря уже полученному опыту и сноровке при работе на промысловой палубе в «свежую погоду». Траулер, поднявшись на вершину волны, вдруг передумал взлетать в поднебесье и махнув на это дело обнажившимися лопастями гребного винта, едва не совершив оверкиль, резко пошёл вниз в родную стихию.
Если при подъёме на волну мне пришлось какое-то время почти вертикально висеть на ставшим родным баковом кнехте, то при падении вместе с судном в пучину вод, я вцепился в железные столбики мёртвой хваткой, вызванной мощным импульсом самосохранения. Момент погружения в морскую купель, как правило (из личного опыта) запоминается плохо. Помню мириады воздушных пузырьков и выпученные, (наверное от неожиданности моего явления) круглые глаза какой-то рыбёхи, которая с перепугу мазнула меня по физиономии неприятно шершавым хвостом. Когда «Жуковск» с божьей помощью вернулся на ровный киль, мне оставалось только обтекать и понемногу приходить в себя. Для того, чтобы разжать руки и расстаться с любимым кнехтом, пришлось произвести над собой значительное волевое усилие. Зубы мои ещё долго выбивали нервную барабанную дробь и только лишь троекратно чихнув, я понемногу пришёл в себя.
Это боевое происшествие не прошло даром для судна и экипажа. Было множество ушибов, вывихов и кажется даже парочка переломов. Ходовая рубка, каким то образом лишилась почти всех передних иллюминаторов и траулер теперь напоминал человека, который разнимая драку на чужой свадьбе, сам изрядно схлопотал по фасаду. Я спустился в кубрик переодеться и поднявшись обратно на палубу увидел, что мы подошли к той самой роковой скале. Уменьшив ход судна до самого малого, капитан приказал опустить с левого борта штормтрап и принять на борт, по его выражению: «Нашу героическую усатую персону». Мокрый до нитки боцман без лишней помпы поднялся на борт с зачехлённым пулемётом за спиной. «Жуковск», тем временем, уже почти ничего не опасаясь устремился на выход из злополучной шхеры. Всё видимое пространство воды серебрилось тушками всплывшей кверху брюхом, глушёной взрывами рыбой. Баркас «Эидис» под командованием другой «героической персоны» Верманда Варда дрейфовал на горизонте, поджидая нас.
Я был вызван на продуваемый всеми морскими сквозняками мостик, в качестве рулевого и приступил к штурвалу с ощущением того, что все опасности позади и наконец можно вздохнуть с облегчением. «Ан нет, врёшь!» — выдохнула холодным порывом воздуха через голый проём иллюминатора наша лихая судьба. Знакомые пронзительные велосипедные звонки, резко ударив по нервам, наполнили ходовую рубку. Капитан с вахтенным вторым помощником подскочили к включённому эхолоту-поисковику. Агрегат изначально сконструированный и предназначенный для обнаружения субмарин исправно исполнял свои обязанности. «Бронислав Устиныч, поднимись пожалуйста с инструментом на мостик» — как то устало и по домашнему неофициально попросил Владлен Георгиевич по громкой связи. Через пару минут в рубку поднялся боцман, неся словно младенца на руках, завёрнутый в парусину пулемёт.
«„Брунгильда“ нарисовалась». — констатировал он без всякой вопросительной интонации. Владлен без слов утвердительно мотнул седой бородой. «Малой» — как то буднично обратился боцман ко мне — «спустись под полубак, в каптёрку и притащи пару цинков с лентами. Они в деревянном рундуке, сразу за бидоном с суриком». «Я ожидал чего-то подобного» — услышал я голос капитана, спускаясь по трапу из рубки — «Этот командор Кранке лис старый, травленный. Видать решил проверить самолично, что из наших никто не выжил». Вскоре мы, отойдя на милю от входа во фьорд, подошли почти вплотную к дрейфующему баркасу Верманда. Погода не слишком баловала. Несмотря на конец мая день выдался серый и промозглый. Солнце скрывалось за низкими серыми облаками, холодный северо восточный ветер гнал по морю волны с уже появляющимися белыми барашками пены.
Внезапно ветер стих, как будто к чему-то прислушиваясь. Из-за северной оконечности острова выплыла и стала быстро смещаться на юг в нашу сторону полоса белого клубящегося тумана. Видимость стала стремительно ухудшаться. Я где-то слышал, что мощные взрывы на море могут вызвать резкое локальное изменение погоды. «Эидис» покачивался на волнах совсем рядом и было слышно, как работает на холостом ходу его дизель. Вермонд повернулся лицом к северу и принялся что-то пристально высматривать в притихшем, поглощаемым туманом море. «Шайзе!» — вдруг рявкнул с сердцем старый норвежец. Владлен смотревший с мостика в ту же сторону через окуляры бинокля, сквозь зубы согласился с союзником: «Да уж, дерьмо дело!» Боцман молча протянул мне свой бинокль. В разрывах тумана в миле севернее я с трудом высмотрел серый штырь перископа. Заметить его мне удалось лишь по небольшому буруну, следу на воде, который он оставлял за собой.
Дизель «Эидис» заработал вдруг громче и мы увидели, что Верманд находится уже в рулевой рубке и его баркас стремительно отдаляется от нас курсом на север. На нашем мостике тоже началось движение. «Курс Норд!» — скомандовал мне капитан, постепенно выжимая ручку машинного телеграфа до упора. Я вдруг вспомнил занятия по военной подготовке, а именно. «Действия в случае угрозы торпедной атаки (ТА): При обнаружении перископа неизвестной подводной лодки (ПЛ) следует немедленно объявить общесудовую тревогу, а судну приступить к выполнению противолодочного зигзага (ПЗ), (смотри схему) и покинуть опасный район. Одновременно необходимо выйти на связь на известных капитану судна радиочастотах и сообщить об угрозе ТА. При обнаружении пуска торпеды следует, продолжая ПЗ, немедленно сообщить на открытых радиочастотах о происшедшем. Экипажу быть готовым к оставлению судна в аварийной обстановке».
Помнится, пожилой преподаватель вздохнув пояснил, что в наше время обычному невоенному судну уйти от подлодки практически невозможно. Это во время второй мировой войны субмарины в подводном положении двигались крайне медленно, что давало приличные шансы спасения при выполнении судном или конвоем ПЗ. Если же современная самонаводящаяся торпеда пущена, то… Есть правда шанс: до пуска торпеды максимально приблизится к обнаруженному перископу, создав опасность столкновения с ПЛ, тем самым заставить её уйти с перископной глубины. К тому же существует мёртвая зона для ПЛ, когда ТА невозможна из-за чрезмерной близости с атакуемым объектом. Видимо последним способом наш капитан и решил воспользоваться.
Но не успел. «Ах ублюдки! Суки!» — выдохнул не отрывавшийся от бинокля старпом. Возникший на почти штилевой, с небольшими волнами воде, стремительно бегущий в нашу сторону бурун можно было уже увидеть невооружённым глазом. Несколькими секундами позднее, находящийся в полутора кабельтовых от нас баркас Верманда Варда резко изменил курс вправо и его «Эидис» бросился наперерез несущейся на нас самонаводящейся, сигарообразной смерти. Взрыв исполинской силы взметнул вверх огромную массу морской воды. Ударная волна воздуха с водяными брызгами шарахнула в левый борт «Жуковска», резко накренив его в правую сторону. Я не удержав равновесия улетел к переборке, пребольно ударившись локтем. Мои уши ещё не совсем оправившиеся от встречи во фьорде с первой ударной волной, на этот раз запечатало капитально. Мир звуков попросту перестал для меня существовать и не только для меня. Все находившиеся на незащищённом стеклом иллюминаторов мостике, как сговорившись трясли головами и мизинцами пытались прочистить уши от воображаемых пробок. То, что иллюминаторы были высажены в предыдущей передряге было наверно к лучшему. Мы по крайней мере были избавлены от риска серьёзных ранений осколками толстого калёного стекла.
В ватной тишине ко мне подошёл бледный Бронислав Устиныч и принялся гримасничать. Он надувал щёки, пучил глаза и зажимал нос. Я было собирался всерьёз озаботиться состоянием его рассудка, но тут до меня дошло, что он показывает мне способ ослабления последствий контузии. Я тоже набрал полные щёки воздуха, зажал нос и напрягшись произвёл некое подобие продувки носоглотки. В ушах что-то щёлкнуло, барабанные перепонки пришли вновь в более или менее нормальное состояние и главное вернулись звуки, правда в сопровождении нутряного монотонного гудения и головной боли. Ту же процедуру проделали все окружающие и нормальное общение вновь стало возможным. Видимость всё ухудшалась и составляла уже не более кабельтова (185 метров)
Наша радиостанция УКВ издавала лишь хрипы и бурчания и все попытки капитана связаться с ближайшими судами ник чему не приводила. Можно было подать международный сигнал бедствия, произнося голосом три раза подряд: «Mayday,Mayday,Mayday», но Владлен по каким-то соображениям пока с этим не торопился. Радиолокатор показывал, что поредевшая группа рыбацких судов рассредоточилась вдоль противоположной, восточной стороны Медвежьего, а именно в Баренцевом море. В то время, как мы находились в западной части, то есть в Норвежском. В момент взрыва что-то произошло с винто-рулевой группой нашего траулера, так что мы (дай бог временно) кроме всего прочего потеряли управление и вынуждены были лечь в дрейф, пока машинная команда и старпом разбирались с железом. Сквозь гул в ушах я вдруг услышал странный, какой то плачущий голос капитана: «Да, что же ты никак не уймёшься, шалава заморская?!» На самой границе подступающего тумана, метрах в ста пятидесяти от нашего борта слегка покачивалась на воде, мокрая, пузатая туша всплывшей «Брунгильды».
Глава 41. «Слава адмирала Нельсона»
Когда капитан обзывал внезапно всплывшую на траверзе (курсовой угол 90 градусов)нашего левого борта, толстую, влажную «Брунгильду» многоопытной падшей женщиной, ваш покорный слуга всё ещё находился на капитанском мостике, то есть в центре событий. Поскольку рулевое устройство, заклинившее после близкого взрыва торпеды, ещё не было исправлено, мои обязанности рулевого автоматически перешли в обязанности вперёдсмотрящего. Но смотрел я в бинокль не вперёд на всё сгущающийся туман, а на маячащий слева тёмный опасный силуэт пиратской подлодки. Впрочем не я один. На мостике кроме меня было ещё трое: капитан, второй помощник и боцман, все разумеется смотрели в одном направлении. Уверен, что большая часть экипажа прильнула в эти минуты к иллюминаторам левого борта в горячечной тревоге и с ужасом смешанным с неистребимым болезненным любопытством.
Да и как не засмотреться на пришедшего за твоей жизнью и уже дважды промахнувшегося убийцу. Вот она незадачливая киллерша, нарисовалась во всей красе. Не скрывается, а значит твёрдо намерена на этот раз наконец покончить со своей жертвой. Невысокое, похожее на горб верблюда возвышение рубки субмарины, как тогда при первой встрече в «Гроте кригсмарине» стало, увеличиваясь словно расти из палубы. В тот же момент в её носовой части в течении нескольких секунд подобным же образом выросло новое сооружение, весьма напоминающее водяную пушку или водомёт, которые устанавливают на пожарных или полицейских машинах. Последний я видел в действии в кинохронике, когда злобные капиталистические полицейские с его помощью разгоняли мирные демонстрации трудящихся, мощным напором воды сбивая несчастных с ног. Однако мое «сверхъестественное чутьё» подсказывала мне, что с нами собираются обойтись несколько суровее. «Водомёт», был прикрыт прозрачным полукруглым щитом, похожим на половинку разрезанной вдоль яичной скорлупы, так, что наружу торчало лишь тупое короткое дуло.
На палубу всплывшей подлодки из открывшегося в рубке тёмного проёма, заметно сутулясь и прихрамывая, вышел худой, невысокий человек. «Сам командор на сцену пожаловал, сволочь!» — сквозь зубы процедил стоявший рядом Бронислав Устиныч — «Я тебе гад, Верманда не прощу!» Кранке всё так же демонстративно, без спешки захромал к своей странной пушке. От неё его отделяло не более двух десятков шагов. «Пособи ка мне, Вальдамир» — Устиныч изготовил свой уже проверенный в деле МГ- 42, расположив его ствол на планшире (горизонтальный стальной профиль) фальшборта, палубного ограждения левого крыла штурманской рубки. Я не заставил себя долго ждать и подскочив к боцману, (в душе восхищаясь собой) быстро поднял планку пулемётного затвора и вставил в него новую ленту с патронами из приготовленного заранее цинка.
Кранке уже почти доковылял до своего уродливого «водомёта», но в двух шагах от него остановился и повернув голову в нашу сторону замер. Как говорится: «Предчувствия его не обманули!» Гордость Вермахта, «Циркулярная пила Гитлера», немецкий пулемёт МГ-42, больно ударив по нашим измученным перепонкам, изрыгнул огнём короткую, смачную очередь. Но командор «Брунгильды», не дожил бы до своего почтенного возраста, не будь он так чувствителен к опасностям. За какую-то долю секунды до того, как боцман нажал на гашетку он с ловкостью юноши метнулся под прозрачный щит, ограждавший палубное орудие. Скорее всего на подлодке решили, что пулемёт находился на борту взорванного баркаса и именно погибший Вард орудовал им, расчищая от мин проход для нашего «Жуковска». Этим и объяснялась вальяжная неторопливость старого садиста, который видимо собирался тряхнуть стариной, самолично расправившись с беззащитным траулером и его экипажем.
О случайных свидетелях он мог не волноваться, поскольку на этой стороне острова в радиусе 12 миль не наблюдалось ни одного судна. Хромец встал во весь рост за прозрачным щитом и чёрное, короткое дуло качнулось вправо и чуть вверх, нацелившись точно в середину нашего капитанского мостика. Я, как говорят: «почувствовал звон тишины», так наверное слышит за секунды до залпа свою приближающуюся смерть, стоящий с завязанными глазами у расстрельной стены. Но наш бравый, усатый пулемётчик ударил первым. Длинная очередь полоснула по пуленепробиваемому стеклу, не оставляя следов и не причиняя ему вреда, но видимо рука Кранке, наводившего орудие всё-таки дрогнула. Воронёное дуло дёрнулось чуть вверх и с несолидным звуком, напомнившим выстрел пробки из бутылки с Шампанским, плюнуло огнём в нашу сторону. Устиныч зычно рявкнул: «Ложись!» — и первым бросился выполнять свою команду, увлекая за собой и меня.
В этот момент я стоял столбом, пребывая в полном оцепенении и падая так здорово приложился лбом о какой-то выступ, что на миг увидел бенгальские огни, кои вполне подходили к предыдущему звуку хлопнувшей шампанской пробки. В тот же миг что-то прошелестело над нашими головами. На палубе пеленгаторной площадки, служившей крышей-падволоком штурманской рубке, что-то с диким звоном ухнуло. Как-будто выскользнул из строп, неумело стянутыми похмельными грузчиками и грохнулся на асфальт с высоты верхнего этажа районного Дома культуры концертный рояль, почти уже втянутый в гостеприимно распахнутые окна актового зала. От третьей подряд контузии и пожизненной глухоты меня спас болевой шок, вызванный капитальным расквашиванием лба и последовавшим за ним небольшим сотрясением.
Пошатываясь от накатившей слабости, я поднялся на ноги. Над нами, что-то потрескивало и шипело, порыв ветра донёс чёрный, выедающий глаза дым и едкий запах гари. Располагавшиеся прежде на пеленгаторном мостике репитеры магнитного и гирокомпаса, а так же антенну судовой РЛС, да и саму верхнюю мачту превратил в пар и мелкую оплавленную труху один, судя по калибру небольшой снаряд, выпущенный из палубной пушки «Брунгильды», которую я так неуважительно сравнил с водомётом. Мне с тупым равнодушием подумалось, что следующий «плевок водомёта» будет более точным. Я плюхнулся на живот и уткнулся в воняющую ржавым железом и солью палубу саднящим разбитым лбом и прикрыл слипающиеся от крови веки. Так прошла минута, выстрела всё не было. Подняв голову и приоткрыв, не без труда, слезящиеся глаза, я увидел, что Устиныч вновь стоит у борта ограждения, вглядываясь через окуляры бинокля во вражью сторону. Оторвавшись от наблюдения, он повернул ко мне своё закопчённое гарью лицо с грязно-серыми, допрежь седыми усами и с какой-то кривой улыбкой произнёс: «Сцепились пауки на наше счастье!»
Я, цепляясь за всё, что можно с великим трудом привёл себя в вертикальное положение. В разрывах полос тумана темнела чёртова субмарина. На пиратской палубе и вправду происходила какая-то суета. Я поднял выпавший во время падения бинокль. Из-за противоположной от нас стороны рубки, опасливо поглядывая в нашу сторону, выглядывала голова смуглого, черноволосого человека. Смуглый что-то горячо говорил или скорее кричал в сторону укрывшегося за прозрачным щитом Кранке, как-будто пытаясь его в чём-то убедить. При этом всё время указывал рукой в сторону северной оконечности острова, укрытую плотными облаками тумана. Зато с нашей стороны подлодки происходило кое-что более интересное. Из тёмного проёма рубки показался плотный рыжеволосый и рыжебородый мужчина. Он был в тёмном кителе на голое тело. Китель на мгновение распахнулся и на животе человека показалась широкая, белая полоса бинта с расплывшимся на правом боку тёмным пятном. «Это Штинкер. Скорее всего с командором пообщался» — уверенно подумалось мне
В левой руке рыжеволосый сжимал большой матово-серебристый пистолет. Он прильнув спиной к рубке, стараясь быть незамеченным Кранке, крался в его сторону. В нашу сторону он даже не глядел, совершенно, видимо, поглощённый решением внутренней проблемы. Укрытие самого командора располагалось таким образом, что будучи защищённым пуленепробиваемым стеклом или пластиком от нас, он не был закрыт от внутренних опасностей. Кранке что-то злобно отвечал Люци, (кому же ещё?) отмахиваясь от него рукой, как от надоедливой мухи. В этот момент Штинкер, не целясь трижды выстрелил в его сторону. Один из выстрелов достиг цели и старик беззвучно вскрикнув, схватился за левое плечо. В то же время правой рукой он выхватил откуда-то сбоку что-то маленькое и круглое и на секунду поднеся ко рту, наклонившись запустил его катится, как мячик по палубе в сторону стрелявшего. Прикрывающий его прозрачный щит тут же развернулся в сторону рубки субмарины, делая уязвимым с нашей стороны.
Бронислав среагировал почти мгновенно, прицелившись и нажав на гашетку пулемёта, но выстрелов не последовало. Видимо при взрыве снаряда, что-то повредилось в механике. В то же время мы услышали хлопок и белое облачко на палубе «Брунгильды». Ни Штинкера, ни Люци больше видно не было. Зато взревел пронзительный гудок и из полосы плотного тумана, словно из облаков стремительно вырвался знакомый серый силуэт военного корабля. — «„Сенье“, спаситель, праматерь твою в клюз поперёк брашпиля! Явился не запылился! Припёрся стяжать славу адмирала Нельсона! Союзничек, в пятак тебя распратак!» — без особого восторга в голосе прошипел сквозь зубы перемазанный сажей боцман
Глава 42. «Спасение на море»
Явление норвежского сторожевика и вправду было каким-то чересчур театральным. К тому же было совершенно непонятно откуда собственно он взялся. Хотя при более трезвом размышлении с момента последнего обзора окрестностей Медвежьего с помощью судовой РЛС прошло не менее получаса, потом уже было не до наблюдений. Если учесть, что на обзорном экране локатора была выставлена 12-ти мильная шкала дальности, то можно предположить, что «Сенье» в тот момент находился на большей дистанции. Преодолеть же за полчаса 12–15 миль для военного корабля, чья крейсерская скорость составляет не менее 25 узлов задача вполне выполнимая.
Все эти мысли пришли позже, когда улеглись страсти по нашей эпохальной «Брунгильдо-Жуковской битве» при Медвежьем крыле. Впрочем на момент живописного выхода на сцену стремительного красавца военного (я бы назвал эту сцену: «Те же и рыцарь».) события всё ещё продолжали развиваться. Командор «Брунгильды» тоже заметил новое лицо нашей пьесы и отреагировал на него несколько оригинально. Похоже старый нацист спятил окончательно. Он выскочил из-за своего прозрачного укрытия и попытался замахать кулаками в сторону приближающегося сторожевика, забыв видимо о простреленном собственным старпомом плече. От резкой боли он перекосился и зажал правой рукой кровоточащую рану. Ярости его это однако не уняло и Кранке принялся страстно плеваться, будто собирался доплюнуть через кабельтовы морского пространства до ненавистного борта.
Исчерпав по видимому весь запас слюны, он вдруг опомнился, что в его распоряжении имеется аргумент повесомее и вновь кинулся к забытому в нервном припадке, палубному орудию. Впрочем белая горячка не очень хороший помощник для морских, да и впрочем и сухопутных артиллеристов. Командор принялся лихорадочно садить из своей короткой пушки по приближающемуся сторожевику, но корабль с момента обнаружения неизвестной субмарины, начал резко менять галсы, выполняя противолодочный зигзаг. Кранке раза четыре выстрелил в его сторону, но все снаряды ушли в молоко, а точнее в туманные дали Норвежского моря. Чёртов безумец, раздосадованный неудачей, вспомнил было о нашем рыбачке, который в своей беззащитной неподвижности представлял собой куда-как более удобную мишень.
Однако удача, порой сопутствующая сумасшедшим, отвернулась от него уже навсегда. Лодка вдруг пришла в движение, проход в рубку закрылся и сама надстройка стала быстро уходить под палубу. Носовая часть, ускоряющей ход субмарины, под тяжестью носовых цистерн, наполняемых забортной водой, стремительно на ходу погружалась. Однако хромого командора это не занимало. Он садил из своей пушки в белый свет. Покидая его, он как-бы оставлял за собой последнее слово, с грохотом припечатывая все точки над i. На норвежце тоже началось какое-то движение. По палубам и трапам забегали моряки, видимо была объявлена боевая тревога. Командир корабля майор Бьернсон после обстрела неизвестной подлодкой наконец решил действовать. Не желая дать агрессивной, полнотелой даме окончательно погрузиться, (бог знает какие сюрпризы она преподнесёт из под воды) «Сенье» открыл беглый огонь из носовой орудийной башни.
Кранке наконец прекратил свою бесполезную пальбу и как-будто успокоившись, устало ткнулся лицом в прозрачный щит. Он стоял уже по колено в пребывающей бурлящей воде. Его правая рука скользнула в карман синей куртки. Старик вытащил из кармана небольшой чёрный пистолет и вставил его в полуоткрытый рот. Голова его резко дёрнулась назад и безвольное тело скрылось в пребывающей воде. Через секунду Вокруг «Брунгильды» заплясали пышные водяные фонтаны снарядных разрывов. Вот первый поразил, уже почти скрывшуюся под водой горбатую рубку. Вспышка огня и на месте надстройки образовалась большая зияющая пробоина, в которой на миг сверкнуло ярко-жёлтым и погасло, словно захлебнувшись в хлынувшей ледяной воде внутреннее освещение командирского отсека. Вот ещё один снаряд ударил в неглубоко погружённую кормовую часть подлодки, проламывая палубу и борт, словно кузнечный молот деревянный ящик. Смертельно раненная «Брунгильда» (в девичестве нежная «Джумана» — Жемчужина) продолжила своё последнее свободное, неконтролируемое людьми погружение, в неласковые воды холодного полярного моря.
От созерцания этих драматических событий меня отвлекла знакомая вибрация корпуса траулера. Это ожил, заработал главный двигатель. Значит починили и рулевое. Сквозь непрекращающийся звон в голове и ватную полуглухоту, я услышал требовательный окрик Владлена: «Рулевой, к штурвалу!» Походкой начинающего канатоходца я преодолел десяток метров до середины штурманской рубки. Взглянул на капитана и обомлел. Вместо привычной, седой, слегка дремучей хемингуэевской бороды на его, покрытой угольным налётом (как у поднявшегося из забоя шахтёра) физиономии, красовалась какая-то африканская, в мелкий завиток, смоляная растительность. «А кэп то у нас красавчик» — мелькнула в моей пострадавшей голове фривольная мысль — «Ну просто мавр Отелло в исполнении Бондарчука, только серьги в ухе не хватает. У него наверное ещё и не задушенная пока Дездемона где-то в каюте обретается». Заметив мою несколько отвисшую челюсть, мастер, словно оправдываясь пробурчал: «Опалился малость, пока пожар на пеленгаторной тушили». Я чуть было не ляпнул: «Ничего, Владлен Георгиевич. Вам даже идёт!» Но слава богу, вовремя прикусил язык.
Через несколько минут капитан подошёл ко мне и повертев мою голову своими толстыми пальцами, передал меня на медицинское попечение боцмана. На мостик был вызван другой рулевой с целым лбом и без признаков контузии. Устиныч, промыв рану, перевязал мне голову даже слишком профессионально. На голове у меня, как у раненого на передовой бойца, теперь красовалась шапочка из белоснежного бинта с подвязкой под подбородком. Мой лекарь отправился на полубак, поскольку сторожевик «Сенье» и наш «Жуковск» прочёсывали водную поверхность в поисках выживших, выполняя святую обязанность спасения людей на море. Мне же было велено спуститься в кубрик и улечься в койку, дабы не тревожить сотрясённые мозги. Но куда там. Разлёживаться не было мочи и я тихонько прокрался по трапу на полубак, игнорируя возмущённое ворчание немедленно обнаружившего меня боцмана. Кроме меня с Устинычем на полубаке было ещё несколько наблюдателей из числа матросов. Все внимательно вглядывались в неясное морское пространство, выискивая на воде живых или мёртвых.
Туман, до последнего времени постоянно сгущавшийся, в наступившей после шумного, но скоротечного боя тишине, начал быстро рассеиваться. Задул несильный ветер с норд веста, разгоняя на воде белесую дымку. Всё видимое глазом пространство моря было усеяно, качающимся на волнах мелким, средним и редко крупным мусором. Мазута и соляры на воде было совсем немного, возможно покойная «Брунгильда» была оснащена каким-то альтернативным, необычным двигателем, не потреблявшим дизельное топливо. «Так значит выглядит море после морского сражения». — мелькнула странная мысль — «Это всего два корабля погибло. Подлодка и совсем маленький баркас. Что же творилось на месте торпедированных кригсмаринерами во время войны в этих краях, союзных транспортах». Вдруг совсем недалеко от нашего борта, справа по курсу, словно чёрт из табакерки, из под воды, подпрыгнув над поверхностью вынырнула какая-то ярко оранжевая бочка. Раздался глухой хлопок и бочка стала с шипением надуваться-разворачиваться, превращаясь в обычный спасательный плотик. «Последний привет от утопшей» — услышал я за спиной голос поднявшегося на полубак старпома. Тут же неподалёку всплыла ещё пара таких же средств спасения, правда спасать было уже некого.
Однако увы мне, я ошибался. «Человек за бортом!» — проревел трубным гласом, стоявший у самого форштевня боцман. Слева по курсу на волнах покачивалась какая-то рухлядь, похожая на чёрное кожаное кресло. Высокая спинка с подголовьем была сломана почти до основания и на прицепе из лоскута чёрной кожи, плыла рядом с покачивающимся на волнах сиденьем. В это самое сиденье, обняв его мёртвой хваткой, лёжа лицом вниз, вцепился рыжеволосый человек в чёрном кителе. Быстро спустили шлюпку и подняли мужчину на борт. Он был жив, но без сознания. Живот под мокрым кителем перетягивала сбившаяся повязка, на боку кровоточила сквозная огнестрельная рана. Лицо и шея были в нескольких местах сильно порезаны, как будто осколками стекла. Под руководством немедленно превратившегося в эскулапа Устиныча, из спасённого откачали лишнюю морскую воду, а затем (как и меня, выловленного из-за борта в первом рейсе. (см. Глава 1)) отнесли в салон экипажа и водрузили на длинный стол для дальнейших медицинских мероприятий.
Нетрудно было догадаться, что спасённым был не кто иной, как Штинкер, старпом с «Брунгильды». Устиныч с помощниками раздел его и крепко растёр тело спиртом. После укола камфоры пациент застонал, приоткрыл мутные голубые глаза и что-то пробормотал по французски. Расспросы решили отложить до лучших времён, тем более, что чужие тайны нас больше не касались. Как сказал капитан Владлен: «Этим везучим французом теперь пусть занимаются норвежцы». Наш мастер, войдя в салон, произвёл сильное впечатление на моряков. Кэпу пришлось побриться, чтобы не пугать людей остатками оплавленной растительности на лице. Теперь это был моложавый пухлощёкий мужчина, без прежнего налёта романтичной дремучести. Через пару часов к поискам выживших присоединилась вся группа рыбаков, подошедших с восточной стороны Медвежьего.
Наша радиостанция УКВ на мостике, ещё с момента гибели «Брунгильды» чудесным образом ожила, видимо проблемы со связью у нас на борту были её пакостями. Связавшийся с Владленом майор Бьернсон ненавязчиво предложил ему следовать за ним в порт Трамсё. Я,вызванный на мостик, гордо переводил на английский командиру «Сенье», слова нашего капитана. Бьернсон совершенно сменил тон и уверял, что не о каком аресте нашего траулера, не бывшем не тем более нынешнем более нет и речи. Норвежское начальство де преисполнено горячей благодарностью к мирным советским морякам и желает лишь уточнить обстоятельства происходившего на Медвежьем и в окрестностях. Полный ремонт «Жуковска», а так же снабжение топливом и провиантом, мол, будет произведён за счёт принимающей стороны. Разумеется капитан Дураченкофф свяжется с советским консулом в Трамсё сразу по прибытии в порт или как только пожелает.
Уже на пути в Трамсё, разговаривая с Устинычем, я с сожалением вспомнил о гибели нашего союзника норвежца Верманда Варда, который повёл себя как герой, прикрыв собой почти незнакомых ему русских моряков. Боцман долго молчал, потом вздохнул тяжело и сказал: «Не норвежец он был. Немец. Бывший подводник кригсмарине, командир U-Boot, подлодки фрицевской. Он, как знал, что не увидимся больше. Целых четыре тетради дневников оставил и конверт с надписью: „Завещание Верманда Варда. Вскрыть после моей смерти“».
Об авторе
Владимир Гораль
Родился в городе Ангарске, Иркутской области в 1962-ом году. В 1972-ом переехал в Мурманск. С 1979-го по 1995-й ходил в море юнгой, матросом, а затем и штурманом на российских и иностранных рыболовецких траулерах. Пришлось побывать и под арестом и в плену у пиратов. В общем, рассказать есть о чем. Ведь двадцать лет морских скитаний что-то да значат.
Примечания
1
Мой профессор листает.
(обратно)2
Кригсмарине (нем. Kriegsmarine, военно-морской флот) — официальное название германских военно-морских сил в эпоху Третьего рейха.
(обратно)3
Киммек — собака (гренл.).
(обратно)4
У-бот — U-Boot — Unterseeboot — подводная лодка (нем.)
(обратно)5
Кранке — больной (нем.).
(обратно)6
Персонажи из германо-скандинавской мифологии пророчество о «Рагнарёк» — гибель богов.
(обратно)7
Жемчужина (араб.).
(обратно)8
Ivalo (инуитский) имя собст. бабочка, маленькая волна, младшая сестра.
(обратно)9
Чёрный! Чёрный! Чёрный кригсмаринер! Поющее привидение! Кто нибудь помогите!
(обратно)




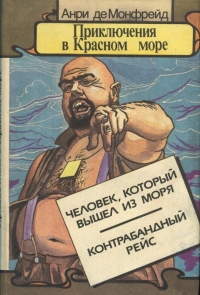

Комментарии к книге «Боцман и Паганель, или Тайна полярного острова», Владимир Владимирович Гораль
Всего 0 комментариев