Мичман Хорнблауэр
Равные шансы
Над Ла-Маншем бушевал январский штормовой ветер. Порывами налетал дождь, крупные капли громко стучали о брезентовые куртки дежуривших на палубе офицеров и матросов. Ветер дул так сильно и так долго, что даже в замкнутых водах Спитхеда военный корабль неуклюже кренился, слегка качаясь в неспокойном море, и с резкими толчками стопорился натянутыми якорными канатами. К кораблю приближалась лодка – гребли две дюжие женщины. Лодка бешено плясала на крутых волнах, то и дело зарываясь в них носом, и оставляя за кормой густую пелену брызг. Женщина, сидевшая на носу, хорошо знала свое дело. Бросая быстрые взгляды через плечо, она не только вела лодку по курсу, но и направляла ее носом в самые большие волны, чтобы та не опрокинулась. Лодка медленно двигалась вдоль правого борта «Юстиниана». Когда она подошла к грот-русленю[1], ее окликнул вахтенный мичман.
– Так точно! – во весь голос крикнула загребная. По старинной и странной флотской традиции такой ответ означал, что в лодке находится офицер. Вероятно, это относилось к съежившейся на корме фигуре, более походившей на прикрытую плащом груду тряпья.
Все это наблюдал мистер Мастерс, вахтенный лейтенант; он укрывался с подветренной стороны кнехтов бизань-мачты. По команде вахтенного мичмана лодка подошла к грот-русленю и надолго скрылась из глаз – видимо, офицер никак не мог подняться на борт. Наконец, лодка вновь появилась в поле зрения Мастерса: женщины отвалили от корабля и ставили крошечный люггерный парус, под которым лодка, уже без пассажира, устремилась к Портсмуту, прыгая на волнах, как лошадь через препятствия. Когда она отошла, Мастерс заметил, что по шканцам приближаются двое. Новоприбывшего сопровождал вахтенный мичман; он указал на Мастерса и вернулся к грот-русленю. Мистер Мастерс прослужил на флоте до седых волос, имел счастье получить лейтенантский чин и давно понял, что капитаном не сделается никогда. Не сильно огорчаясь этим, он обратил свой ум на изучение окружающих.
Посему он внимательно разглядывал человека, который шел сейчас к нему. Это был худощавый юноша, почти мальчик, ростом чуть выше среднего; голенастые ноги в больших коротких сапогах, неуклюже выпирающие локти. На нем была плохо подогнанная форма, насквозь мокрая от брызг; из высокого воротника торчала тощая шея, лицо было бледное, скуластое. Белое лицо – редкость на корабле, чьи обитатели быстро загорают до черноты, но у новичка оно было не просто белым; на впалых щеках отчетливо проступал зеленоватый оттенок. Юношу явно укачало в лодке. Черные глаза на бледном лице казались по контрасту дырами в листе бумаги – Мастерс с легким интересом отметил, что, несмотря на морскую болезнь, обладатель их пристально оглядывается вокруг, изучая новую обстановку. В глазах светилось непобедимое любопытство, которое не смогли заглушить ни робость, ни морская болезнь. Мистер Мастерс проницательно заключил, что юноше свойственны осторожность и дальновидность; он изучает новое окружение с тем, чтобы приготовиться к новым испытаниям. Так, наверное, смотрел на львов библейский Даниил.
Темные глаза юноши встретились с глазами Мастерса, он остановился, смущенно поднял руку к полям промокшей шляпы. Потом открыл рот и хотел что-то произнести, но так и застыл в приступе робости, не произнеся ни слова. Наконец он собрался с духом и выдавил из себя заранее заготовленную фразу:
– Прибыл на борт, сэр.
– Ваше имя? – спросил Мастерс, напрасно прождав, что юноша представится сам.
– Г-Горацио Хорнблауэр, сэр. Мичман, – выговорил тот.
– Очень хорошо, мистер Хорнблауэр, – также официально ответил Мастерс. – Дэннаж ваш с вами?
Слова такого Хорнблауэр никогда не слышал, но у него хватило сообразительности догадаться, что оно значит.
– Мой рундук, сэр. Он… он у входного порта, – выговорил Хорнблауэр с легким колебанием – он знал, что поднялся на корабль через входной порт и что сундучок надо называть рундуком, но требовалось некоторое усилие, чтобы самому произнести эти слова.
– Я велю отнести его вниз, – сказал Мастерс, – и вам лучше отправиться туда же. Капитан на берегу, а первый лейтенант велел ни при каких обстоятельствах не беспокоить его до восьми склянок, так что я советую вам, мистер Хорнблауэр, как можно скорее снять мокрую одежду.
– Да, сэр, – ответил Хорнблауэр и в тот же момент по лицу Мастерса понял, что употребил неправильное слово. Прежде, чем Мастерс успел сделать ему замечание, он исправился, с трудом веря, что люди произносят такие слова не только на сцене.
– Есть, сэр, – и после секундного раздумья снова поднес руку к полям шляпы.
Мастерс отсалютовал в ответ и обернулся к одному из посыльных, дрожавших под слабым укрытием фальшборта.
– Юнга! Проводите мистера Хорнблауэра вниз в мичманскую каюту.
– Есть, сэр.
Хорнблауэр последовал за мальчиком вперед к грота-люку. Он и так едва держался на ногах от морской болезни, да еще по дороге несколько раз терял равновесие, когда резкий ветер заставлял «Юстиниана» толчком натягивать якорный канат. Подойдя к люку, юнга скользнул вниз по трапу. Хорнблауэру пришлось уцепиться за поручни и с опаской спускаться сначала в полумрак нижней пушечной палубы, затем в сумрак твиндека. В ноздри ему ударили разнообразные и необычные запахи, в уши хлынули странные незнакомые звуки. У подножия каждого трапа юнга терпеливо ждал, в лице его читалось плохо скрываемое презрение. За последним спуском несколько шагов – Хорнблауэр окончательно потерял всякое представление о направлении и не знал, идут ли они к корме или к носу – и они очутились в темной нише. Сальная свеча, воткнутая в медную пластину на круглом столе, лишь сгущала тени. За столом сидели человек шесть без сюртуков. Юнга исчез, оставив Хорнблауэра стоять, и прошло несколько секунд, прежде чем на него обратил внимание усатый мужчина, сидевший во главе стола.
– Говори, ужасное виденье, – произнес тот. Хорнблауэра затошнило. Сказывалось путешествие в лодке, духота и вонь твиндека. Говорить было трудно, и он не знал, как выразиться.
– Меня зовут Хорнблауэр, – пробормотал он, наконец.
– Здорово же тебе не повезло, – без тени сочувствия произнес другой мужчина.
Тут в ревущем мире за бортом корабля ветер резко сменил направление, слегка накренив «Юстиниана», повернул его и снова резко натянул якорные канаты. Хорнблауэру показалось, что мир перевернулся. Юноша закачался и покрылся потом, хотя весь дрожал от холода.
– Я полагаю, вы явились, – продолжал усатый, – чтобы пробиться в общество наиболее достойных людей. Еще один тупоголовый невежда явился осложнять жизнь тем, кому придется его учить. Посмотрите на него, – говорящий жестом призвал внимание компании, – только посмотрите. Последнее дурное приобретение нашего короля. Сколько вам лет?
– С-семнадцать, – выговорил Хорнблауэр.
– Семнадцать, – с подчеркнутым отвращением повторил усатый, – чтобы стать моряком, вам надо было начать в двенадцать. Знаете разницу между топом и фалом?
Это вызвало у компании смех, характер которого был совершенно ясен смятенному уму Хорнблауэра. Он понял, что его осмеют независимо от того, скажет он «нет» или «да». Он выбрал нейтральный ответ.
– Это первое, что я посмотрю в «Судовождении» Нори, – сказал он.
Тут судно снова накренилось, и Хорнблауэр полетел на стол.
– Джентльмены, – начал он жалобно, думая как же ему выразиться.
– Господи! – воскликнул кто-то за столом. – Да его укачало!
– Укачало в Спитхеде! – с отвращением и злорадством произнес другой.
Но Хорнблауэру было все равно – некоторое время он не сознавал, что происходит. Нервное возбуждение последних дней, возможно, подействовало на него сильнее, чем путешествие в лодке и качка на «Юстиниане». Тем не менее, это означало, что к нему прочно прилипло прозвище «мичмана, которого укачало в Спитхеде». Понятно, прозвище это не скрасило одиночество и тоску первых дней в Ла-Маншском флоте, который стоял тогда на якорях с подветренной стороны острова Уайт, добирая недостающую команду. Пролежав полчаса в гамаке, куда уложил его вестовой, Хорнблауэр пришел в себя и даже смог доложиться первому лейтенанту.
Через несколько дней он уже ориентировался на корабле и не путался под палубами, не разбирая, где нос, а где корма (как это было в первые дни). Он научился различать лица других офицеров и не без труда освоил, где должен находиться по боевому расписанию, во время вахты, когда убирают и когда ставят паруса. Он достаточно разобрался в своей новой жизни, чтобы понять – она могла быть много хуже, скажем, попади он на борт корабля, немедленно выходящего в открытое море. Это его не утешало; ему было тоскливо и одиноко.
Будучи от природы робок, он трудно сходился с людьми, а вдобавок обитатели мичманской каюты оказались намного старше его; пожилые помощники штурмана с торговых судов, мичманы, из-за отсутствия покровительства или по неспособности сдать экзамены, к двадцати-тридцати годам так и не ставшие лейтенантами. Поразвлекавшись вначале на его счет, они вскоре перестали его замечать. Хорнблауэра это устраивало – он замкнулся в своей скорлупе и постарался привлекать как можно меньше внимания.
Ибо невесело было на «Юстиниане» в те мрачные январские дни. Капитан Кин (когда тот поднялся на борт, Хорнблауэр впервые увидел, какой торжественностью окружен капитан линейного корабля) был болен и склонен к меланхолии. У него не было ни славы, позволявшей иным капитанам набрать в команду добровольцев, ни ярких личных качеств, чтобы воодушевить тех угрюмых людей, которых время от времени приводили вербовщики.
Офицеры видели его редко и предпочли бы видеть еще реже. На Хорнблауэра, когда того пригласили в капитанскую каюту для первого разговора, он не произвел впечатления – пожилой человек, больной, с впалыми желтыми щеками, за столом, покрытом бумагами.
– Мистер Хорнблауэр, – произнес он официально. – Я рад случаю приветствовать вас на борту моего судна.
– Да, сэр, – сказал Хорнблауэр. Это больше подходило к ситуации, чем «Есть, сэр», а ничего другого, по-видимому, от младшего мичмана не ожидалось.
– Вам… дайте поглядеть… семнадцать? – капитан Кин поднял листок, на котором излагалась короткая карьера Хорнблауэра.
– Да, сэр.
– 4-е июля, 1776 г., – задумчиво проговорил Кин, читая дату рождения Хорнблауэра. – Пять лет до моего назначения капитаном. К тому времени, как вы родились, я шесть лет плавал лейтенантом.
– Да, сэр, – согласился Хорнблауэр. Добавлять что-нибудь было явно излишне.
– Сын доктора… Надо было выбрать в отцы лорда, если вы хотите делать карьеру.
– Да, сэр.
– Какое вы получили образование?
– Я дошел до греческого класса.
– Так что вы разбираетесь не только в Цицероне, но и в Ксенофонте?
– Да, сэр. Но не очень хорошо, сэр.
– Лучше бы вы разбирались в синусах и косинусах. Лучше бы вы умели угадать порыв ветра, чтобы вовремя убрать брамсели. Абсолютные причастные обороты нам во флоте не нужны.
– Да, сэр, – сказал Хорнблауэр.
Он совсем недавно узнал, что такое брамсель, однако мог бы сообщить капитану о неплохом знании математики. Тем не менее, он промолчал – инстинкт и недавний опыт подсказывали ему не лезть с непрошеной информацией.
– Что ж, выполняйте приказы, изучайте свое дело, и ничего плохого с вами не случится. Вот так.
– Спасибо, сэр, – сказал Хорнблауэр, ретируясь. Но капитанские слова тут же начали сбываться прямо противоположным образом. Плохое начало случаться с этого самого дня, хотя Хорнблауэр исполнял приказы и усердно изучал свое дело. Все началось с того, что в мичманской каюте появился старший уорент-офицер Джон Симеон. Хорнблауэр, сидевший вместе со всеми за столом, увидел дюжего красавца лет тридцати, который остановился у входа, совсем как сам Хорнблауэр несколько дней назад, и глядел на собравшихся.
– Привет, – сказал кто-то не слишком сердечно.
– Клевеланд, друг мой смелый, – сказал новоприбывший, – убирайся-ка с этого места. Я собираюсь занять свое законное положение во главе стола.
– Но…
– Убирайся, кому сказано, – рявкнул Симеон. Клевеланд недовольно подвинулся. Симеон сел на его место и обвел пристальным взглядом мичманов, с любопытством уставившихся на него.
– Да, любезные собратья-офицеры, – сказал он. – Я вернулся в лоно семьи. Меня не удивляет, что все загрустили. Могу добавить: вы еще не так загрустите, когда я вами займусь.
– Но ваше назначение?.. – осмелился кто-то спросить.
– Мое назначение? – Симеон наклонился вперед и забарабанил пальцами по столу, вглядываясь в вопрошающие глаза сидевших напротив. – Сейчас я отвечу на этот вопрос, но тот, кто рискнет задать его снова, пожалеет, что родился на свет. Эти тупоголовые капитаны из комиссии отказали мне в назначении. Они сочли, видите ли, что мои математические познания недостаточно глубоки для навигатора. Так что и.о. лейтенанта Симеон снова мичман Симеон, к вашим услугам. Да будет с вами милость Божья.
В последующие дни могли возникнуть серьезные сомнения в Божьей милости, ибо с появлением Симеона в мичманской каюте тихая тоска сменилась подлинными страданиями. Симеон и прежде был изощренным тираном, а теперь, озлобленный и униженный провалом на экзаменах, стал тиранить подчиненных еще изощреннее. Будучи слаб в математике, он был дьявольски силен в искусстве отравлять людям жизнь. Как старший в каюте, он был облечен достаточной властью; злой язык и злая воля обеспечили бы ему эту власть даже при бдительном и твердом первом лейтенанте, а первый лейтенант «Юстиниана» мистер Клэй таким не был. Дважды мичманы бунтовали против произвола Симеона, но тот оба раза подавлял мятеж своими могучими кулаками: Симеон с успехом мог бы выступать на ринге. Каждый раз на Симеоне не оставалось ни ссадины; каждый раз его противник получал нагоняй и лишний наряд на салинг от первого лейтенанта за синяк под глазом или разбитую губу. Мичманы задыхались от бессильного гнева. Даже подлизы и прихлебатели – а они, естественно, нашлись – ненавидели деспота.
Характерно, что больше всего возмущало не вымогательство – не ревизия чужих сундуков с конфискацией в свою пользу чистых рубашек, не присвоение лучших кусков мяса, даже не изъятие вожделенной порции спиртного. Это было понятно и извинительно, дай им власть, они и сами бы так делали. Но Симеон проявлял чудовищный деспотизм, напомнивший Хорнблауэру, с его классическим образованием, о римских императорах-выродках. Симеон заставил Клевеланда сбрить усы, которыми тот неимоверно гордился; он возложил на Хетера обязанность каждые полчаса, днем и ночью, будить Маккензи, так что не высыпались оба. И если Хетер пропускал хоть раз, доносчики тут же сообщали Симеону.
Слабые места Хорнблауэра, как и всех остальных, он обнаружил очень скоро. Симеон понял, что Хорнблауэр робок, и заставлял его декламировать всей мичманской каюте «Элегию на сельском кладбище» Грея. Симеон со значительным видом клал на стол ножны от кортика, а прихлебатели толпой окружали Хорнблауэра. Тот знал, что стоит промедлить, как его разложат на столе и пустят в ход ножны от кортика. Удар плашмя был болезнен, удар острой стороной – мучителен, но страшнее боли было унижение. Вскоре Симеон придумал более изощренную пытку, которую назвал «Процедура допроса». Хорнблауэра медленно и методически расспрашивали о детстве и родительском доме. Отвечать надо было на все вопросы, под угрозой ножен. Хорнблауэр мог вилять и уклоняться от прямого ответа, но рано или поздно настойчивый допрос исторгал из него какое-нибудь простое признанье, повергавшее слушателей в бурное веселье. Знает Бог, в одиноком детстве Хорнблауэра ничего стыдного не было, но юноши, тем более, скрытные, как Хорнблауэр, – странные создания и часто стесняются того, на что другой бы не обратил бы внимания.
Испытание оставляло Хорнблауэра разбитым и больным; человек менее серьезный смог бы выпутаться из ситуации, разыгрывая шута, и даже приобрел бы некоторую популярность. Хорнблауэр в свои семнадцать лет был слишком серьезен, чтобы паясничать. Он принужден был сносить пытку, испытывая отчаяние, ведомое лишь семнадцатилетним. Он никогда не плакал на людях, но по ночам нередко проливал горькие мальчишеские слезы.
Он часто помышлял о смерти; еще чаще о побеге. Потом рассудил, что дезертировать, может быть, страшнее, чем умереть, и снова стал думать о смерти. Он – без друзей, одинокий, как может быть одинок лишь способный мальчик среди взрослых мужчин – начал мечтать о самоубийстве. Чаще и чаще обдумывал он, как бы проще покончить счеты с жизнью.
Будь они в море, всем бы хватило дела и некогда было маяться дурью; даже на рейде энергичный капитан или первый лейтенант нашли бы чем занять команду от греха подальше. Однако на беду Хорнблауэра «Юстиниан» весь январь 1794 года стоял на якоре под командованием больного капитана и бездеятельного первого лейтенанта. Даже редкие периоды активности не шли на пользу Хорнблауэру.
Однажды мистер Боулз, штурман, проводил занятия по навигации для своих помощников и мичманов. На беду капитан проходил мимо и заглянул в решения задачи, предложенной каждому отдельно. Болезнь сделала Кина язвительным, к тому же он не любил Симеона. Бросив быстрый взгляд в записки старшего мичмана, Кин саркастически хмыкнул.
– Возрадуемся же, – сказал он. – Истоки Нила, наконец, обнаружены.
– Простите, сэр, – переспросил Симеон.
– Ваш корабль, – произнес Кин, – насколько можно судить по вашим неграмотным каракулям, мистер Симеон, находится в Центральной Африке. Посмотрим, каких еще terrae incognitae наоткрывали другие отважные первопроходцы.
Все было как в театре – в жизни таких совпадений не бывает. Хорнблауэр точно знал, что будет. Кин брал расчет за расчетом, дошел и до него. Результат Хорнблауэра оказался единственно верным, все остальные прибавили поправку на рефракцию вместо того, чтобы вычесть, или неверно умножили, или, как Симеон, вообще все перепутали.
– Поздравляю, мистер Хорнблауэр, – сказал Кин. – Вы можете гордиться, что единственный преуспели в этой толпе интеллектуальных гигантов. Вы, насколько мне известно, в два раза моложе Симеона. Если вы удвоите ваши достижения к его возрасту, то оставите нас всех далеко позади. Мистер Боулз, я попрошу проследить, чтобы мистер Симеон уделял больше времени занятиям математикой.
Капитан пошел по твиндеку неуверенной походкой смертельно больного человека, а Хорнблауэр сел, опустив глаза, не в силах встретить направленные на него взгляды, и понимая, что они означают. В тот момент он мечтал о смерти – даже молился о ней в эту ночь.
Через два дня Хорнблауэр оказался на берегу, к тому же под началом Симеона. Обоим мичманам поручили сопровождать наземный десант, направленный вместе с такими же группами с других судов для вербовки. Вскоре ожидался Вест-Индский конвой. Большинство матросов будут завербованы немедленно, остальные же, те, что поведут корабли до стоянки, постараются улизнуть и всеми правдами и неправдами укрыться от вербовщиков. В задачи десанта входило перерезать пути отступления, поставить оцепление вдоль всего берега, и всех выловить. Но конвой еще не подавал сигналов, а необходимые приготовления были закончены.
– Жизнь прекрасна, – объявил Симеон. Высказывание для него необычное, но необычной была и сама обстановка. Он сидел в задней комнате таверны «Ягненок», удобно устроившись в одном кресле и положив ноги на другое, у ярко пылающего огня. Рядом стояла кружка пива с джином.
– За Вест-Индский конвой, – сказал Симеон, прикладываясь к пиву, – чтобы ему задержаться подольше.
Симеон был сама сердечность: пиво и тепло камина привели его в хорошее расположение духа; однако он выпил еще не столько, чтобы начать задираться. Хорнблауэр сидел по другую сторону камина, потягивал пиво без джина, разглядывал Симеона и с удивлением отмечал, что впервые с прибытия на «Юстиниан» мучительное страдание отпустило его, сменившись глухой тоской, похожей на стихающую боль от выдернутого зуба.
– Скажи тост, парень, – обратился к нему Симеон.
– За поражение Робеспьера, – робко произнес Хорнблауэр.
Тут дверь отворилась и вошли еще два офицера, один – мичман, другой с лейтенантским эполетом. Это был Чок с «Голиафа», начальник всех береговых вербовочных отрядов. Даже Симеон подвинулся, освобождая старшему по званию место у огня.
– Конвоя все нет, – объявил Чок, потом внимательно поглядел на Хорнблауэра. – Кажется, я не имел удовольствия познакомиться с вами.
– Мистер Хорнблауэр – лейтенант Чок, – представил Симеон. – Мистер Хорнблауэр знаменит как мичман, которого укачало в Спитхеде.
Хорнблауэра чуть не передернуло, когда Симеон налепил на него этот ярлык. Чок из вежливости переменил разговор.
– Эй, слуга! Джентльмены выпьют со мной по стаканчику? Боюсь, ждать нам придется долго. Все ваши люди на местах, мистер Симеон?
– Да, сэр.
Чок не умел сидеть сложа руки. Он прошелся по комнате, посмотрел в окно на дождь, когда принесли выпивку, представил своего мичмана – Колдуэлла. Вынужденное безделье заметно его тяготило.
– Сыграем в карты, чтобы убить время? – предложил он. – Отлично! Эй, слуга! Карты, стол и еще свечей.
Стол подвинули к огню, расставили стулья, принесли карты.
– Во что будем играть? – спросил Чок, обводя мичманов глазами.
Он был единственным лейтенантом среди них, и любое его предложение обладало немалым весом – остальные трое, естественно, молчали, ожидая, пока он выскажет свое мнение.
– Двадцать одно? Игра для идиотов. Лу? Игра для богатых идиотов. Тогда вист? Вот случай продемонстрировать наши скромные способности. Колдуэлл, насколько мне известно, знаком с азами игры. Мистер Симеон?
Симеон, при полном отсутствии математических способностей, очевидно, не мог хорошо играть в вист, но столь же очевидно, не догадывался, что играет плохо.
– Как хотите, сэр, – сказал Симеон. Он любил азарт, а во что играть, ему было безразлично.
– Мистер Хорнблауэр?
– С удовольствием, сэр.
Это была не простая вежливость. Хорнблауэр прошел хорошую школу виста; после смерти матери он играл четвертым со своим отцом, пастором и женой пастора. Игра была его страстью. Он наслаждался точным подсчетом шансов, необходимостью одновременно проявлять смелость и осторожность. Радость, прозвучавшая в его голосе, заставила Чока вновь взглянуть на него. Чок, сам хороший игрок, тут же почувствовал в нем товарища.
– Отлично! – сказал он. – Мы можем сразу снять колоду и определить места партнеров. Какие будут ставки, джентльмены? Шиллинг взятка и гинея роббер, или это многовато? Нет? Договорились.
Некоторое время играли спокойно. Хорнблауэру достался в партнеры Симеон, потом Колдуэлл. Почти сразу же стало ясно, что Симеон игрок никудышный, из тех, кто непременно идет с туза, а при четырех козырях – с бланковой карты. Однако им с Хорнблауэром пришли очень сильные карты, и первый роббер они выиграли. Потом Симеон проиграл в паре с Чоком, им снова выпало играть вместе, и они опять проиграли. Симеон торжествующе смотрел на хорошие карты, вздыхал, получив плохие.
Очевидно, он принадлежал к тем невеждам, которые считают вист светской обязанностью или даже грубым способом перераспределения денег, вроде бросания костей. Никогда он не считал игру ни священным ритуалом, ни интеллектуальным упражнением. По мере того, как он проигрывал все больше и больше, а слуга приносил и приносил джин, лицо его пылало все сильнее и сильнее. Он не умел ни пить, ни проигрывать, так что даже подчеркнуто вежливый Чок не выдержал и выказал некоторое облегчение, когда в следующий раз оказался в паре с Хорнблауэром. Они легко выиграли следующий роббер; еще гинея с несколькими шиллингами перекочевала в тощий кошелек Хорнблауэра. Он один был в выигрыше, а Симеон проиграл больше всех. Хорнблауэр совершенно забылся и воспринимал приглушенную брань Симеона лишь как досадную помеху игре. Внезапно он осознал, что может заплатить за сегодняшний успех будущими мучениями.
Еще раз сняли колоду, Хорнблауэру снова выпало играть с Чоком. Первые две сдачи они выиграли. Затем дважды Колдуэлл и Симеон сыграли почти как следует, к нескрываемому торжеству последнего. В следующую сдачу Хорнблауэр смело прорезал[2] – Симеон с довольной ухмылкой положил своего валета на десятку Хорнблауэра и тут обнаружил, что они с Колдуэллом взяли всего шесть взяток; он с раздражением пересчиталих снова. Хорнблауэр добился чего хотел, а Симеон зашел – как обычно с туза. Хорнблауэр убедился, что сможет перехватить ход. У него были хорошие козыри и длинная трефа. Симеон, что-то бормоча, разглядывал свои карты: невероятно, но он так и не усвоил, что, зайдя с туза, неизбежно вынужден будешь заходить снова и опять-таки думать. Наконец он решился и пошел. Хорнблауэр взял королем и тут же пошел с козырного валета. К его радости валет взял взятку, он пошел снова, и взятку взяла дама Чока. Чок пошел с козырного туза и Симеон с проклятием выложил короля. Чок пошел в трефу. У Хорнблауэра было пять треф, начиная с короля и дамы – разыгрывать должен был Чок, поскольку остальные козыри были у Хорнблауэра. Хорнблауэр взял дамой: туз у Колдуэлла, если не у Чока. Хорнблауэр пошел с мелкой карты, Чок положил валета, а Колдуэлл туза. Вышло восемь треф, а у Хорнблауэра их оставалось еще три, начиная с короля и валета – три верных взятки с козырями для перехвата хода. Колдуэлл пошел с бубновой королевы, Хорнблауэр положил бланковую бубну, Чок взял тузом.
– Остальные мои, – сказал Хорнблауэр, кладя карты.
– Как это? – спросил Симеон, державший короля бубен.
– Пять взяток, – резко ответил Чок. – Мы выиграли.
– А я разве больше не возьму? – не унимался Симеон.
– Я перебиваю козырем бубны или черви и еще беру на три трефы, – объяснил Хорнблауэр. Ему было ясно как дважды два, обычное окончание игры; он не понимал, что плохому игроку, вроде Симеона, трудно запомнить колоду в пятьдесят два листа. Симеон бросил карты.
– Что-то вы слишком много знаете, – сказалон,– Вы знаете карты с рубашки.
Хорнблауэр сглотнул. Он понял, что наступает решительный момент. Еще секунду назад он просто с удовольствием играл в карты. Теперь перед ним вопрос о жизни и смерти. Вихрь мыслей промчался в мозгу Хорнблауэра. Несмотря на теперешний уют, он явственно вообразил отчаянную тоску предстоящей жизни на «Юстиниане». Возникла возможность, так или иначе, покончить с этой тоской. Он вспомнил, что замышлял покончить с собой, и в сознании его забрезжил план действий. Решение выкристаллизовалось.
– Это оскорбление, мистер Симеон, – сказал он и обвел глазами Чока и Колдуэлла, вдруг ставших серьезными. Симеон по-прежнему ничего не понимал. – Я должен потребовать сатисфакции.
– Сатисфакции? – поспешно произнес Чок. – Ну, ну. Мистер Симеон просто погорячился. Я уверен, он объяснится.
– Меня обвинили в шулерстве, – сказал Хорнблауэр. – Тут так легко не объяснишься. Он старался вести себя, как взрослей, более того, как человек, сгорающий от возмущения. На самом деле возмущения он не испытывал, прекрасно понимая в каком смятении рассудка Симеон произнес свои слова. Но возможность представилась, и Хорнблауэр не собирался ее упускать. Теперь оставалось разыгрывать роль человека, которому нанесли смертельное оскорбление.
– Мало ли что можно сказать спьяну. – Чок твердо решил сохранить мир. – Мистер Симеон, конечно, пошутил. Давайте потребуем еще бутылку и выпьем за дружбу.
– С удовольствием, – отвечал Хорнблауэр, подыскивая слова, которые сделали бы дело необратимым, – если мистер Симеон немедленно, в вашем присутствии, джентльмены, попросит у меня извинений и признает, что говорил без оснований и в манере, недостойной джентльмена.
Говоря, он обернулся и с вызовом посмотрел Симеону в глаза, метафорически размахивая красной тряпкой перед быком, чем и вызвал желаемый гнев.
– Извиниться перед тобой, молокосос! – взорвался Симеон. В нем заговорили одновременно уязвленная гордость и опьянение. – Никогда, черт меня подери!
– Вы слышали, джентльмены? – произнес Хорнблауэр. – Мистер Симеон отказывается извиняться и продолжает меня оскорблять. Мне остается одно – требовать сатисфакции.
Два последующих дня, до прибытия Вест-Индского конвоя, Хорнблауэр и Симеон под началом Чока вели странную жизнь двух дуэлянтов, вынужденных общаться перед поединком. Хорнблауэр тщательно (как делал бы в любом случае) исполнял любые приказы Симеона; тот отдавал их, явно смущаясь. За эти два дня Хорнблауэр отшлифовал свою первоначальную идею. У него было время подумать, пока он обходил доки в сопровождении морского патруля. Он спокойно все взвесил – а отчаявшийся семнадцатилетний мальчик иногда может быть вполне объективен. Это было не сложнее, чем просчитывать шансы при игре в вист. Ничто не может быть хуже жизни на «Юстиниане», даже (это он решил давно) смерть. Здесь ему предоставляется возможность умереть легко, с дополнительным плюсом в виде шанса убить Симеона. Тут мысли Хорнблауэра приняли другой оборот – идея, блеснувшая в мозгу, заставила его остановиться, так что патруль, не успев затормозить, налетел на него сзади.
– Простите, сэр – сказал старшина.
– Ничего, ничего, – отвечал Хорнблауэр, глубоко погруженный в свои мысли. Впервые он высказал свое предложение в беседе с Престоном и Данверсом, помощниками штурмана, которых сразу по возвращении на «Юстиниан» пригласил в секунданты.
– Мы, конечно, согласны, – сказал Престон, с сомнением глядя на зеленого юнца. – Как вы собираетесь драться? Вы оскорбленная сторона и можете выбирать оружие.
– Я думал об этом с тех пор, как он меня оскорбил, – произнес Хорнблауэр, оттягивая время. Не так-то просто выложить подобную идею.
– Вы шпагой владеете? – спросил Данверс.
– Нет, – ответил Хорнблауэр. По правде сказать, он ни разу не держал ее в руках.
– Тогда пистолеты, – сказал Престон.
– Симеон, наверное, хороший стрелок, – предположил Данверс, – Я бы сам перед ним не встал.
– Полегче, – поспешил Престон, – не пугай его.
– Я не боюсь, – ответил Хорнблауэр. – Я сам об этом думал.
– Вы об этом так спокойно говорите? – удивился Данверс.
Хорнблауэр пожал плечами.
– Может быть. Мне все равно. Но я думаю, шансы можно сблизить.
– Как?
– Их можно совсем уравнять, – начал Хорнблауэр, беря быка за рога. – Нам дают два пистолета, один заряжен, другой – нет. Мы с Симеоном выбираем, не зная, какой заряжен. Встаем в ярде друг от друга и по команде стреляем.
– Господи! – воскликнул Данверс.
– По-моему так нельзя, – сказал Престон. – Это значит, что одного точно убьют.
– Для того и дуэль, – возразил Хорнблауэр. – Если условия честные, возражений быть не должно.
– А вы не струсите? – засомневался Данверс.
– Мистер Данверс, – начал Хорнблауэр, но Престон вмешался.
– Хватит нам одной дуэли в нашей команде. Данверс просто хотел сказать, что сам бы на это не решился. Мы обсудим с Клевеландом и Хетером, посмотрим, что они скажут.
Через час предложенные условия дуэли стали известны всему кораблю. На беду Симеона у него не было на судне настоящих друзей. Секунданты Хетер и Клевеланд не собирались отстаивать его интересы и, немного поломавшись для вида, приняли условия. Тиран мичманской каюты расплачивался за свою жестокость. В глазах некоторых офицеров читалось циничное удовольствие; часть офицеров и матросов смотрели на Хорнблауэра и Симеона с тем любопытством, которое у некоторых вызывает смерть – как если бы оба противника были приговорены к повешению. В полдень лейтенант Мастерс послал за Хорнблауэром.
– Капитан поручил мне провести расследование по поводу дуэли, мистер Хорнблауэр, – сказал он. – Мне поручено принять возможные меры к ее предотвращению.
– Да, сэр.
– Зачем настаивать на сатисфакции, мистер Хорнблауэр? Насколько я понимаю, дело в нескольких резких словах, произнесенных за вином и картами.
– Мистер Симеон в присутствии двух офицеров с другого судна обвинил меня в шулерстве.
Это было существенно. Свидетели – не члены корабельной команды. Если бы Хорнблауэр согласился счесть слова Симеона руганью пьяного задиры, на них можно было бы не обращать внимания. Но при той позиции, которую Хорнблауэр занял, дело нельзя было замолчать, и Хорнблауэр это знал.
– Даже в этом случае сатисфакция возможна без дуэли.
– Если мистер Симеон принесет мне извинения в присутствии тех же двух джентльменов, я буду удовлетворен.
Хорнблауэр знал, что Симеон не трус. Он скорее умрет, чем принесет формальные извинения.
– Ясно. Насколько я понимаю, вы настаиваете на довольно необычных условиях дуэли?
– Такие прецеденты были, сэр. Как оскорбленная сторона я имею право выбирать любые честные условия.
– Вы говорите, как сутяжник, мистер Хорнблауэр. – Этого намека было достаточно. Хорнблауэр понял, что слишком много болтает и решил впредь попридержать язык. Он стоял молча и ждал, чтобы Мастерс закончил разговор.
– Итак, вы твердо решили, мистер Хорнблауэр, продолжать это смертоубийственное дело?
– Да, сэр.
– В таком случае капитан велел мне лично присутствовать при дуэли, ввиду необычных условий, на которых вы настаиваете. Должен поставить вас в известность, что попрошу секундантов это устроить.
– Да,сэр.
– Очень хорошо, мистер Хорнблауэр.
Мастерс разглядывал уходящего Хорнблауэра еще внимательнее, чем в первый раз. Он искал следов слабости или колебаний, вообще следов хоть каких-нибудь человеческих чувств – и не находил их. Хорнблауэр принял решение, взвесил все за и против и логически рассудил, что хладнокровно избрав путь действий, глупо поддаваться эмоциям. Условия дуэли, на которых он настаивал, были математически наиболее благоприятны. Если он когда-то мечтал умереть, лишь бы избавиться от тирании Симеона, предпочтительней равный шанс избежать ее, оставшись в живых. Далее, если Симеон лучше него стреляет и владеет шпагой (а так оно, наверняка, и есть), равные шансы опять-таки математически наиболее благоприятны. Нечего жалеть о выбранном пути.
Все хорошо: математические выкладки были безупречны, но Хорнблауэр с удивлением обнаружил, что математика это еще не все. В тот жуткий вечер он несколько раз цепенел, вспоминая, что завтра утром придется поставить жизнь на кон. Один шанс из двух, что его убьют, сознание его прервется, тело остынет, а мир, как ни трудно в это поверить, будет существовать уже без него. Мысль эта повергала Хорнблауэра в дрожь. Времени для размышлений у него было достаточно, ибо дуэльный кодекс, предписывавший противникам избегать друг друга до поединка, принуждал его к уединению, насколько возможно уединиться на переполненной палубе «Юстиниана». Этой ночью он вешал гамак в подавленном состоянии духа, чувствуя необычайную усталость; когда он раздевался в промозглом твиндеке, его знобило. Он завернулся в одеяло, мечтая расслабиться в тепле, и не смог. Задремывая, он тут же просыпался в тревоге, вертелся с бока на бок, слушая, как корабельный колокол отбивает каждые полчаса, и все сильнее стыдился своей трусости. В конце концов, он даже порадовался, что завтра его жизнь зависит от чистой случайности. Будь он вынужден положиться на твердость руки или глаза после такой ночи, можно было бы считать себя мертвецом.
Это рассуждение позволило ему уснуть. Последние два-три часа он проспал и проснулся неожиданно – его тряс Данверс.
– Пять склянок, – сказал тот. – Через час рассвет. Пора, проснись.
Хорнблауэр выскользнул из гамака и стоял в рубашке. В темноте под палубой он с трудом различал собеседника.
– Первый позволил нам взять тендер, – сказал Данверс. – Мастерс, Симеон и вся компания ушли на баркасе. Вот и Престон.
Еще одна фигура замаячила в темноте.
– Адский холод, – сказал Престон. – В такое гадкое утро выходить не хочется. Нельсон, чай где?
Слуга появился с чаем, когда Хорнблауэр натягивал брюки. Хорнблауэра трясло от холода – чашка, которую он взял, застучала о блюдце. Это его взбесило. Но чай был кстати, и он жадно выпил.
– Еще чашку, – сказал он, гордясь, что может думать о чае в такой момент.
Было еще темно, когда они спустились в тендер.
– Отваливай! – крикнул рулевой, и шлюпка отошла от борта корабля. Пронизывающий ветер наполнил повисший люггерный парус; тендер направился к двум огням, горевшим на причале.
– Я заказал в «Георге» наемный экипаж, – сказал Данверс. – Будем надеяться, это он.
Экипаж ждал их. Возница был относительно трезв и, несмотря на ночные возлияния, более-менее управлялся со своей лошадью. Когда они устроились и зарыли ноги в солому, Данверс вытащил фляжку.
– Хлебните, Хорнблауэр, – предложил он. – Сегодня вам твердая рука не понадобится.
– Нет, спасибо, – ответил Хорнблауэр. Его пустой желудок решительно не желал спиртного.
– Они приедут раньше нас, – заметил Престон. – Когда мы подошли к причалу, я видел, что баркас шел назад.
По дуэльному этикету противники должны прибывать на место поединка раздельно; для возвращения понадобится только одна шлюпка.
– И костоправ с ними, – сказал Данверс. – Бог весть, зачем он там сегодня нужен.
Он хохотнул и с запоздалой вежливостью подавил смешок.
– Как вы, Хорнблауэр? – спросил Престон.
– Нормально, – ответил Хорнблауэр, с трудом удержавшись, чтобы не добавить: «нормально, когда не ведутся такие разговоры».
Экипаж поднялся на холм и остановился у лужайки. Другой экипаж стоял в ожидании, его фонарь казался желтым на фоне разгорающейся зари.
– Вот и остальные, – сказал Престон. В неярком свете можно было различить несколько человек – они стояли на промерзшей земле у кустов можжевельника.
Когда они подходили, перед Хорнблауэром мелькнуло лицо стоящего поодаль Симеона. Лицо было бледно, и Хорнблауэр заметил, что Симеон, как и он сам, нервно сглатывает. Мастерс подошел к ним, как обычно с любопытством разглядывая Хорнблауэра.
– Пришло время, – сказал он, – покончить с этой ссорой. Наша страна воюет. Надеюсь, мистер Хорнблауэр, вы согласитесь сохранить жизнь для королевской службы и не настаивать больше на дуэли.
Хорнблауэр взглянул на Симеона. Данверс ответил за него:
– Готов ли мистер Симеон загладить обиду?
– Мистер Симеон готов выразить сожаление о случившемся.
– Это неудовлетворительный ответ, – сказал Данверс. – Он не содержит необходимых извинений, сэр.
– Что скажет ваш принципал? – настаивал Мастерс.
– Принципал не должен говорить в таких обстоятельствах, – сказал Данверс, оглядываясь на Хорнблауэра. Тот кивнул. Все это было неизбежно, как поездка в повозке палача, и столь же мучительно. Возврата быть не может – Хорнблауэр ни минуты не думал, что Симеон извинится, а без этого дело надо было доводить до кровавого конца. Один шанс из двух, что через пять минут его не будет в живых.
– Итак, вы настаиваете, джентльмены, – сказал Мастерс. – Я вынужден буду сообщить об этом в своем рапорте.
– Мы настаиваем, – сказал Престон.
– Тогда остается лишь перейти к этому прискорбному делу. Я поручил пистолеты доктору Хепплвиту.
Он повернулся и повел их к другой группе – Симеону, Хетеру, Клевеланду и доктору Хепплвиту. Доктор держал пистолеты за дуло, по одному в каждой руке. Он был толстый, с красным лицом запойного пьяницы. Даже сейчас он улыбался пьяной улыбкой и слегка покачивался.
– Молодые дуралеи не передумали? – спросил он. Все должным образом проигнорировали столь неуместное здесь и сейчас замечание.
– Итак, – сказал Мастерс, – вот пистолеты. Оба, как видите, затравлены порохом, но один заряжен, другой не заряжен, в соответствии с условиями. Вот у меня гинея, которую я предлагаю бросить для определения порядка выбора оружия. Теперь, джентльмены, определит ли монета непосредственно, кому из ваших принципалов достанется какой пистолет? Скажем, если выпадет решка, мистеру Симеону вот этот? Или кто угадает монету, будет выбирать оружие? Я хочу исключить всякую возможность подтасовки.
Хетер, Клевеланд, Данверс и Престон обменялись неуверенными взглядами.
– Пусть кто угадает, выберет, – сказал, наконец, Престон.
– Хорошо, джентльмены. Говорите, мистер Хорнблауэр.
– Решка, – сказал Хорнблауэр, когда монета блеснула в воздухе.
Мастерс поймал ее и прижал ладонью.
– Решка, – сказал он, поднимая ладонь и предъявляя монету сгрудившимся секундантам. – Выбирайте, пожалуйста.
Хепплвит протянул Хорнблауэру два пистолета, в одном жизнь, в другом смерть. Какой выбрать? Лишь чистая случайность могла ему помочь. Хорнблауэр с усилием протянул руку.
– Я возьму этот, – сказал он. На ощупь оружие было совсем холодное.
– Я выполнил все, что от меня требовалось, – произнес Мастерс. – Теперь приступайте вы, джентльмены.
– Возьмите этот, Симеон, – сказал Хепплвит. – А вы осторожней со своим, мистер Хорнблауэр. Вы опасны для общества.
Он все еще улыбался, явно радуясь, что кто-то другой подвергается смертельной опасности, а он сам ничуть. Симеон взял протянутый пистолет и встретился с Хорнблауэром глазами. В них не было никакого выражения.
– Дистанцию отмерять не надо, – говорил Данверс. – Место тоже безразлично. Здесь достаточно ровно.
– Очень хорошо, – сказал Хетер. – Станьте здесь, мистер Симеон.
Престон подозвал Хорнблауэра – тот только что отошел в сторону: трудно было притворяться бодрым и спокойным. Престон взял его за плечо и поставил перед Симеоном, почти вплотную – достаточно близко, чтоб почувствовать запах спиртного.
– Последний раз, джентльмены, – сказал Мастерс громко, – призываю вас помириться.
Никто не ответил, и в мертвой тишине Хорнблауэру казалось, что всем слышен бешеный стук его сердца. Тишину прервало восклицание Хетера:
– Мы не договорились, кто подаст команду! Кто это сделает?
– Давайте попросим мистера Мастерса, – сказал Данверс.
Хорнблауэр не смотрел вокруг. Он глядел прямо на серое небо над правым ухом Симеона – смотреть тому в лицо он не мог, и не знал, куда глядит Симеон. Конец знакомого ему мира близился – возможно, скоро он получит пулю в сердце.
– Я скомандую, если вы не против, джентльмены, – услышал он голос Мастерса.
Серое небо ничего не выражало – он глядит на мир в последний раз, а кажется, что глаза у него завязаны. Мастерс снова заговорил.
– Я скажу раз, два, три, – объявил он, – с такими вот промежутками. С последним словом вы можете стрелять, джентльмены. Готовы?
– Да, – раздался голос Симеона у самого уха Хорнблауэра.
– Да, – произнес Хорнблауэр. Он слышал свой собственный голос как бы со стороны.
– Раз, – сказал Мастерс. Хорнблауэр почувствовал у ребер дуло и поднял свой пистолет.
В эту секунду он решил не убивать Симеона и продолжал поднимать пистолет, стараясь направить его Симеону в плечо. Хватит и легкой раны.
– Два, – сказал Мастерс. – Три. Стреляйте! Хорнблауэр нажал курок. Послышался щелчок, и из затвора пистолета поднялось облачко дыма. Порох взорвался и все – пистолет был не заряжен. Он знал, что сейчас умрет. Через долю секунды раздался щелчок, и облачко дыма поднялось из пистолета Симеона на уровне его сердца. Они стояли, оцепенев, не понимая, что произошло.
– Осечка, клянусь Богом! – сказал Данверс. Секунданты столпились вокруг них.
– Дайте мне пистолеты, – сказал Мастерс, вынимая оружие из ослабевших рук. – Заряженный еще может выстрелить.
– Который был заряжен? – спросил Хетер, сгорая от любопытства.
– Вот этого лучше не знать, – ответил Мастерс, быстро перекладывая пистолеты из руки в руку.
– Как насчет второго выстрела? – спросил Данверс. Мастерс поглядел на него прямо и непреклонно.
– Второго выстрела не будет, – сказал он. – Честь удовлетворена. Оба джентльмена прекрасно выдержали испытание. Никто теперь не осудит мистера Симеона, если тот выразит сожаление о случившемся, и никто не осудит мистера Хорнблауэра, если он примет это заявление.
Хепплвит расхохотался.
– Видели бы вы свои лица! – гремел он, хлопая себя по ляжке. – Важные, как коровьи морды!
– Мистер Хепплвит, – сказал Мастерс, – вы ведете себя недостойно. Джентльмены, экипажа ждут нас, тендер у причала. Я думаю, к завтраку мы все, включая мистера Хепплвита, будем в лучшей форме.
На этом все могло бы закончиться. Бурное обсуждение необычной дуэли в эскадре со временем стихло, однако имя Хорнблауэра знали теперь все, и не как «мичмана, которого укачало в Спитхеде», но как человека, хладнокровно выбравшего равные шансы. Но на «Юстиниане» говорили другое.
– Мистер Хорнблауэр просит разрешения поговорить с вами, – сказал первый лейтенант мистер Клэй, рапортуя как-то утром капитану.
– Пришлите его, как уйдете, – сказал Кин и вздохнул. Через десять минут стук в дверь возвестил о приходе крайне рассерженного молодого человека.
– Сэр! – начал Хорнблауэр.
– Я догадываюсь, что вы хотите сказать, – промолвил Кин.
– Когда я дрался с Симеоном, пистолеты были не заряжены!
– Верно, Хепплвит проболтался, – сказал Кин.
– Насколько я понимаю, сэр, это было по вашему приказу.
– Вы совершенно правы. Я отдал такой приказ мистеру Мастерсу.
– Вы допустили непростительную бесцеремонность, сэр! – сказал Хорнблауэр, то есть хотел сказать, но по-детски запнулся на длинных словах.
– Может быть и так, – спокойно отозвался Кин, по обыкновению перекладывая на столе бумаги.
Спокойствие ответа ошарашило Хорнблауэра. Он пролопотал несколько бессвязных слов.
– Я спас жизнь для королевской службы, – продолжал Кин, подождав, пока он смолкнет, – молодую жизнь. Никто не пострадал. С другой стороны, вы с Симеоном доказали свою смелость. Вы теперь знаете, что можете стоять под огнем, знают об этом и другие.
– Вы затронули мою честь, сэр, – начал Хорнблауэр приготовленную заранее речь. – Есть лишь одно средство смыть оскорбление.
– Успокойтесь, пожалуйста, мистер Хорнблауэр. – Кин с гримасой боли откинулся в кресле, приготовившись говорить. – Я должен напомнить вам об одном полезном флотском правиле: младший офицер не может вызвать на дуэль старшего. Причины понятны – иначе слишком легко было бы продвигаться по службе. Вызов младшего старшему – преступление, подлежащее трибуналу.
– Ox, – слабо сказал Хорнблауэр.
– Теперь один полезный совет, – продолжал Кин. – Вы дрались на дуэли и с честью выдержали испытание. Это хорошо. Никогда не деритесь снова – это еще лучше. Некоторые дуэлянты, как ни странно, входят во вкус, словно попробовавшие крови тигры. Они никогда не бывают хорошими офицерами и никогда не пользуются любовью команды.
Вот когда Хорнблауэр понял, что большая часть того возбуждения, с которым он вошел в капитанскую каюту, относилась к предвкушению вызова. Это могла быть отчаянная жажда опасности – и всеобщего внимания. Кин ждал ответа, но отвечать было нечего.
– Я понял, сэр, – сказал Хорнблауэр.
Кин снова пошевелился в кресле.
– Я хотел поговорить с вами еще об одном деле, мистер Хорнблауэр. У капитана Пелью на «Неустанном» есть мичманская вакансия. Капитан Пелью любит играть в вист, а хорошего четвертого партнера на судне нет. Мы с ним согласились положительно рассмотреть вашу просьбу о переводе, если вы такую просьбу подадите. Я не сомневаюсь, что честолюбивый молодой офицер ухватится за возможность служить на фрегате.
– На фрегате! – воскликнул Хорнблауэр. Все знали о славе и удачливости Пелью. Продвижение по службе, известность, призовые деньги – на все это мог рассчитывать офицер под командованием Пелью. Конкурс на «Неустанный» должен быть огромный, такая возможность представляется раз в жизни. Хорнблауэр готов был радостно согласиться, но его остановили другие соображения.
– Вы очень добры, сэр, – сказал он. – Не знаю, как вас благодарить. Но вы приняли меня мичманом, и я, конечно, должен остаться с вами.
Истощенное лицо обреченного человека осветилось улыбкой.
– Не многие сказали бы так, – произнес Кин, – Но я буду настаивать, чтобы вы приняли предложение. Я не проживу столько, чтобы по достоинству оценить вашу верность. Это судно не место для вас – это судно с бесполезным капитаном – не перебивайте меня – измотанным первым лейтенантом, старыми мичманами. Вам надо быть там, где есть возможность продвигаться вперед. Я забочусь о благе службы, мистер Хорнблауэр, советуя вам принять приглашение капитана Пелью, а мне так будет спокойнее.
– Есть, сэр, – ответил Хорнблауэр.
Груз риса
Волк проник в овечье стадо. Неспокойные серые воды Бискайского залива, сколько хватало глаз, были усеяны белыми пятнышками кораблей. Несмотря на сильный бриз, все суда несли до опасного много парусов. Все они, кроме одного, пытались уйти от погони, исключением был Его Величества фрегат «Неустанный» под командованием сэра Эдварда Пелью. В Атлантике, за сотни миль отсюда, разыгрывалась великая битва[3]. Линейные корабли решали спор: Англии или Франции владычествовать морями. Здесь, в заливе, французский конвой подвергся нападению хищника. Судно, которое тот настигал, становилось его жертвой.
Он неожиданно появился с подветренной стороны, сразу перерезав пути к отступлению. Теперь неповоротливые торговые суда вынуждены были лавировать против ветра. Все они везли провизию, столь необходимую революционной Франции, чью экономику совершенно разрушили политические катаклизмы; никому не хотелось попасть в английскую тюрьму. Фрегат настигал корабль за кораблем – один-два выстрела, и новенький трехцветный флаг, трепеща на ветру, слетал с гафеля. Поспешно спускалась шлюпка с призовой командой, чтобы отвести захваченное судно в английский порт, а фрегат бросался за новой жертвой.
На шканцах «Неустанного» капитан Пелью кипел злостью из-за каждой вынужденной задержки. Корабли конвоя, подняв все паруса, разбегались в разные стороны, и часть их, если упустить время, могла скрыться. Пелью не ждал обратно свои шлюпки: после сдачи судна он просто посылал офицера с вооруженным отрядом, а как только призовая команда отваливала, снова расправлял грот-марсель и бросался за следующей жертвой.
Бриг, который они сейчас преследовали, не торопился сдаваться. Не раз гремела длинная девятифунтовая носовая пушка[4] «Неустанного»: в неспокойном море трудно точно прицелиться в спешащий, надеясь на чудо, бриг.
– Отлично,– сказал Пелью. – Он сам напрашивается. Ну так получай.
Наводчики погонных орудий сменили цель и стреляли теперь по самому кораблю, а не по его курсу.
– Да не в корпус же, черт побери, – заорал Пелью. (Один снаряд поразил бриг в опасной близости от ватерлинии) – По мачтам!
Следующий выстрел случайно или благодаря хорошему расчету был куда удачнее. Борги фор-марса-рея разлетелись, зарифленный парус полетел вниз, рей накренился, корабль привелся к ветру. «Неустанный» лег в дрейф рядом с ним, готовый дать бортовой залп. При этой угрозе флаг пополз вниз.
– Что за бриг? – крикнул Пелью в рупор.
– «Мари Галант» из Бордо, – переводил офицер рядом с Пелью ответ французского капитана. – Двадцать четыре дня как из Нового Орлеана с грузом риса.
– Рис! – сказал Пелью. – Вернемся домой, я его продам за кругленькую сумму. Водоизмещение тонн двести. Команда не больше двенадцати. Понадобится четыре человека призовой команды и мичман.
Он огляделся, как бы ища вдохновения перед следующим приказом.
– Мистер Хорнблауэр!
– Здесь, сэр!
– Возьмите четверых из команды тендера и высаживайтесь на бриг. Мистер Сомс даст вам наши координаты. Отведите судно в любой английский порт, какой сможете, там доложите о себе и ждите указаний.
– Есть, сэр.
Хорнблауэр находился на боевом посту у правой шканцевой карронады – потому, наверное, и привлек внимание Пелью. На боку у него был кортик, за поясом – пистолет. Думать надо было быстро, так как Пелью заметно нервничал. Корабль подготовлен к бою, значит его рундук служит частью операционного стола, оттуда ничего не достать – придется отправляться как есть. Тендер лавировал возле кормы «Неустанного». Хорнблауэр подбежал к борту и окликнул его, стараясь чтобы голос звучал как можно взрослее. По команде лейтенанта тендер повернулся носом к фрегату.
– Вот ваши широта и долгота, мистер Хорнблауэр, – сказал штурман мистер Соме, протягивая листок бумаги.
– Спасибо. – Хорнблауэр сунул листок в карман. Он неуклюже перелез на бизань-руслень и поглядел вниз на тендер. Сильно качало, оба корабля одновременно почти зарывались носом в море. Просвет между ними был ужасающе велик. Бородатый матрос на носу тендера с трудом зацепился за бизань-руслень длинным багром. Хорнблауэр секунду колебался – он хорошо знал свою неловкость. Вся книжная премудрость бесполезна, когда надо прыгать с корабля в шлюпку. Но прыгать было надо: сзади кипел от нетерпения Пелью, команда шлюпки, да и всего корабля смотрела на Хорнблауэра. Лучше прыгнуть и убиться, лучше прыгнуть и сделать из себя посмешище, но нельзя задерживать судно. Ждать – хуже всего, прыгнуть – какая-то надежда. Быть может по команде Пелью рулевой «Неустанного» дал носу корабля немного приподняться над водой. Диагональная волна прошла под кормой «Неустанного», так что нос тендера поднялся как раз в тот момент, когда корма корабля немного опустилась. Хорнблауэр собрался с духом и прыгнул. Ноги его коснулись планширя. Он на секунду задержался, качаясь, но тут бородатый матрос ухватил его за сюртук, так что вместо того, чтобы полететь назад, он упал вперед. Даже крепкая матросская рука не смогла его удержать. Он полетел вверх ногами на гребцов второй банки, врезался в них, чуть не потерял сознание от удара о мощные плечи и с трудом встал.
– Извините, – пробормотал он матросам, смягчившим его падение.
– Ничего, сэр, – сказал ближайший – настоящий морской волк, татуированный и с косичкой. – Вы совсем легонький.
Командующий тендером лейтенант смотрел на него с кормы.
– Я попрошу вас направиться к бригу, сэр, – сказал Хорнблауэр. Лейтенант скомандовал тендеру развернуться. Хорнблауэр тем временем пробирался на корму.
К приятному изумлению он не встретил ухмылок или плохо скрываемой насмешки. Высаживаться на маленькую шлюпку с большого фрегата непросто даже в спокойном море – возможно, каждый из команды хоть раз да летал головой вперед, а не в традициях флота (как понимали эти традиции на «Неустанном») смеяться над теми, кто старается по мере сил.
– Вы принимаете бриг? – спросил лейтенант.
– Да, сэр. Капитан велел мне взять четырех ваших матросов.
– Тогда вам лучше взять марсовых, – произнес лейтенант, оглядывая такелаж брига. Фор-марса-рей опасно накренился, а кливер-фал ослаб настолько, что парус громко хлопал на ветру. – Вы знаете, кого взять, или мне для вас выбрать?
– Буду премного обязан, сэр.
Лейтенант выкрикнул четыре имени, четыре человека откликнулись.
– Не давайте им спиртного, и все будет в порядке, – сказал лейтенант. – Следите за французской командой. Если провороните, не успеете глазом моргнуть, как они захватят судно, и вы окажетесь во французской тюрьме.
– Есть, сэр, – сказал Хорнблауэр.
Тендер качался рядом с бригом, вода пенилась между двумя судами. Татуированный моряк быстро поторговался с соседом по банке и сунул в карман пачку табаку – подобно Хорнблауэру, матросы оставляли свои пожитки на корабле. Он прыгнул на грот-руслень, за ним другой. Они остановились и поджидали, пока Хорнблауэр проберется по качающейся шлюпке. Он задержался на передней банке, осторожно балансируя. Грот-руслень брига был куда ниже бизань-русленя «Неустанного», но в этот раз надо было прыгать вверх. Один из матросов поддержал Хорнблауэра под руку.
– Подождите, сэр, – сказал он. – Приготовьтесь. Теперь прыгайте, сэр.
Хорнблауэр, подобравшись как лягушка, бросил свое тело на грот-руслень, ухватился руками за ванты, но ноги скользнули, бриг накренился, и он очутился по пояс в воде, выпуская из рук ванты. Тут поджидавшие его матросы ухватили его под мышки и втащили на борт. Два другие матроса последовали за ним. Хорнблауэр повел свою команду по палубе.
Первый же человек, которого он увидел, сидел на крышке люка, запрокинув голову и припав губами к бутылке, чье донышко указывало вертикально вверх. Вокруг люка сгрудилось еще несколько человек, бутылок тоже было несколько: одна переходила из рук в руки. Когда Хорнблауэр подходил, корабль накренился, и пустая бутылка прокатилась мимо его ног в шпигат. Еще один француз, с развевающимися белесыми волосами, встал для приветствия, постоял немного, собираясь с духом, словно тщился сообщить что-то чрезвычайно важное и никак не находил нужных слов.
– Годдэм инглиш, – выдавал он наконец и, удовольствовавшись сказанным, плюхнулся на крышку люка, потом повалился плашмя и пристроился спать, уронив голову на руки.
– Они неплохо провели время, сэр, клянусь Богом, – произнес матрос рядом с Хорнблауэром.
– Нам бы так, – сказал другой.
Рядом с крышкой люка стоял ящик, на четверть заполненный тщательно запечатанными бутылками. Матрос вынул одну и принялся с любопытством разглядывать. Хорнблауэру не надо было вспоминать предупреждение лейтенанта – за короткое пребывание в вербовочном отряде он сам имел возможность наблюдать склонность британских моряков к пьянству. Если позволить, через час его отряд будет пьянее французов. Хорнблауэру представилась жуткая картина: он с покалеченным судном и пьяной командой дрейфует в Бискайском заливе.
– Ну-ка поставь, – сказал он. От волнения его семнадцатилетний голос дал петуха, как у четырнадцатилетнего, и матрос заколебался, держа бутылку в руках.
– Поставь ее, слышал? – произнес Хорнблауэр в отчаянии. Это его первое независимое командование: необычные условия и возбуждение подстегнули его живой темперамент, в то же время рассудок подсказывал, что если не послушаются сейчас, не будут слушаться и дальше. Пистолет был у него за поясом, и он положил руку на рукоять. Сомнительно, чтобы он его вытащил и выстрелил (даже если бы порох не намок, как горько подумал он, вспоминая об этом позже), но матрос, с сожалением взглянув на бутылку, поставил ее на место. Инцидент исчерпан, надо действовать дальше.
– Отведите их на бак, – приказал он, – и заприте в носовой каюте.
– Есть, сэр.
Почти все французы могли идти, их погнали перед собой, но четырех пришлось тащить за шиворот.
– Вставать, мусыо, – сказал один из матросов. – Сюда ходить.
Он, очевидно, полагал, что так иностранцам будет понятнее. Приветствовавший их француз проснулся, и, поняв, что его тащат на бак, вырвался и повернулся к Хорнблауэру.
– Я есть офицер, – он указал на себя. – Я с ними не ходить.
– Уберите его! – сказал Хорнблауэр. Не хватало ему только спорить о пустяках.
Он подтащил ящик к борту корабля и выбросил бутылки в море. Видимо, это было какое-то особое вино, и французы решили его выпить, чтоб не досталось англичанам. Хорнблауэру это было безразлично: британский моряк может напиться как казенным ромом, так и марочным кларетом. Он закончил раньше, чем последний француз скрылся в носовой каюте; осталось еще время оглядеться. Он осматривал разрушения, причиненные выстрелом, но свист ветра и непрерывное хлопанье кливера мешали думать спокойно. Все паруса повисли, бриг подпрыгивал, наклоняясь кормой, пока оставленный без присмотра руль не разворачивал его, тогда он терял ветер и резко останавливался, как заартачившаяся лошадь. Математический ум Хорнблауэра приобрел уже немалый опыт по балансу косых парусов на хорошо управляемом судне. Здесь равновесие было нарушено, и Хорнблауэр принялся за задачу о приложении сил к плоской поверхности.
Тут вернулись его матросы. Одно, по крайней мере, было ясно: опасно нависший фор-марса-рей может в любой момент оторваться и натворить бед. Корабль надо правильно положить в дрейф, и Хорнблауэр уже догадывался, как это сделать. Он сформулировал команду как раз вовремя, чтобы никто не заметил его колебаний.
– Брасопить задние реи к левому борту,– скомандовал он. – К брасам, ребята.
Матросы послушались, Хорнблауэр бросился к рулю. Он несколько раз стоял у руля, осваивая морскую науку под руководством Пелью, но уверенности в себе так и не приобрел. Рукояти показались рукам совсем чужими – он на пробу робко повернул штурвал. Но все оказалось просто. С развернутыми задними реями бриг сразу пошел лучше, рукояти штурвала подсказывали чутким пальцам, корабль вновь стал логичной конструкцией. Мозг Хорнблауэра завершил решение задачи о действии руля одновременно с чувствами, решившими ее эмпирически. В этих условиях руль можно спокойно принайтовить. Он опустил стропку на рукоять и отошел от руля. «Мари Галант» шла гладко.
Итак, моряки не усомнились в его компетентности, но, разглядывая перепутанный клубок на стеньге, Хорнблауэр не имел ни малейшего представления, что с ним делать. Однако его подчиненные – опытные моряки, возможно, они десятки раз исправляли подобные повреждения. Первое (и единственное), что надо сделать, это довериться их опыту.
– Кто из вас самый бывалый моряк? – он старался говорить короче, чтобы не дрожал голос.
– Мэтьюз, сэр, – сказал кто-то наконец, указывая большим пальцем на татуированного матроса с косичкой, того самого, на которого Хорнблауэр свалился в тендере.
– Очень хорошо. Я назначаю вас старшиной, Мэтьюз. Приступайте сейчас же и уберите это безобразие на носу.
Момент был для Хорнблауэра критический, но Мэтьюз спокойно козырнул.
– Есть, сэр, – сказал он, как будто, так и надо.
– Сначала займитесь кливером, пока он совсем не измочалился, – сказал Хорнблауэр, заметно осмелев.
– Есть, сэр.
– Ну давайте.
Матросы отправились на нос, а Хорнблауэр на корму. Он вынул подзорную трубу из стропки на полуюте и оглядел горизонт. Видны были несколько кораблей. Ближайшие, которые он мог разглядеть, были призами. Они под всеми парусами, какие могли нести, спешили в Англию. Дальше по ветру видны были марсели «Неустанного», преследующего остатки конвоя. Медленных и неповоротливых он уже настиг, и каждая следующая добыча отнимала все больше времени. Скоро бриг останется один в открытом море, в трех сотнях миль от Англии. Три сотни миль – два дня пути при попутном ветре. Но что если ветер переменится?
Он положил трубу. Матросы трудились на корме, а он спустился вниз и осмотрел офицерские каюты: две одноместные (видимо, для капитана и помощника), двухместная для боцмана и кока (или плотника). Он нашел кладовую над ахтерпиком, опознав ее по разнообразным припасам; дверь моталась из стороны в сторону, связка ключей торчала в замке. Теряя все, французский капитан вынес ящик вина и не потрудился даже закрыть дверь. Хорнблауэр запер замок и опустил ключи в карман. На него внезапно нахлынуло одиночество – неизбежное одиночество командира. Он поднялся на палубу. При виде его Мэтьюз заспешил на корму и козырнул.
– Простите, сэр, но нам понадобятся гардели, чтобы снова подвесить этот рей.
– Очень хорошо.
– У нас рук не хватает, сэр. Можно мне нескольких мусью взять?
– Если вы с ними управитесь. И если кто-нибудь из них достаточно трезв.
– Небось управлюсь, сэр. Что с трезвыми, что с пьяными.
– Очень хорошо. Приступайте.
В этот-то момент Хорнблауэр с горьким отвращением к себе вспомнил, что порох в его пистолете наверняка отсырел. Какой позор хвататься за пистолет, не перезаряженный после кульбита в маленькой лодке! Пока Мэтьюз шел на нос, Хорнблауэр опрометью бросился вниз. В капитанской каюте он видел ящик с пистолетами, фляжку с порохом и мешочек пуль. Он зарядил оба пистолета, а в свой заново насыпал пороху на полку, как раз к тому времени, когда из носовой каюты, подталкивая французов, появились матросы. Хорнблауэр расположился на полуюте, широко расставил ноги, сложил руки за спиной и попытался принять уверенный и независимый вид. После часа тяжелой работы гардели приняли вес рея и паруса. Рей был подвешен, парус поставлен.
Когда работа приближалась к концу, Хорнблауэр очнулся и вспомнил, что сейчас надо будет указывать курс. Он снова бросился вниз, достал карты, измерители и параллельные линейки. Из кармана он извлек мятый клочок бумаги с координатами, который так небрежно сунул в карман в преддверии более неотложной задачи – перебраться с «Неустанного» в тендер. Хорнблауэр с огорчением подумал, как непочтительно обошелся тогда с этим клочком бумаги. Он начал осознавать, что хотя флотская жизнь и представляется переходом из крайности в крайность, на самом деле она – одна сплошная крайность, так что, даже разбираясь с одной чрезвычайной ситуацией, нужно продумывать, как поступить в следующей. Он склонился над картой, рассчитывая местоположение и прокладывая курс. Ему стало неуютно при мысли о том, что это не упражнение под ободряющим руководством мистера Сомса, а вопрос его жизни и репутации. Он проверил выкладки, выбрал курс и записал его на бумажке, чтобы не забыть.
Так что когда фор-марса-рей подвесили на место, пленных загнали в носовую каюту и Мэтьюз вопросительно посмотрел на Хорнблауэра, ожидая дальнейших приказаний, тот был готов их отдать.
– Мы пойдем на фордевинд, – сказал он. – Мэтьюз, поставьте кого-нибудь к рулю.
Сам он стал к брасам. Ветер был умеренный, и Хорнблауэр чувствовал, что под этими парусами его люди смогут вести корабль.
– Какой курс, сэр? – спросил рулевой, и Хорнблауэр полез в карман за листком бумаги.
– Норд-ост-тень-норд, – прочел он.
– Есть норд-ост-тень-норд, сэр, – отвечал рулевой, и «Мари Галант» устремилась к Англии.
Спускалась ночь, и по всему горизонту не было видно ни одного корабля. Хорнблауэр знал, что они сразу за горизонтом, но мысль эта не скрашивала его одиночества. Столько надо делать, столько помнить, и вся ответственность ложиться на его неокрепшие плечи. Пленных надо задраить в носовой каюте, поставить вахту, даже простая задача найти кремень и огниво, чтобы зажечь нактоузный фонарь, требовала внимания. Поставить на носу впередсмотрящего – пусть заодно присматривает за пленными; другой матрос у руля. Двое пусть поспят, сколько смогут – ставить и убирать любой парус придется авралом. Скудный ужин – вода из бачка и сухари из кладовой. Постоянно следить за погодой. Хорнблауэр в темноте мерил шагами палубу.
– А вы почему не спите, сэр? – спросил рулевой.
– Я лягу позже, Хантер, – отвечал Хорнблауэр, стараясь не подать виду, что это просто не пришло ему в голову.
Он понимал, что совет разумный и попытался ему последовать. Спустившись вниз, он бросился на капитанскую койку, но заснуть, конечно, не смог. Когда он услышал, как впередсмотрящий орет в люк, чтобы двое других матросов (они спали в соседней каюте) сменили первых на вахте, то не удержался, встал и вышел на палубу посмотреть, все ли в порядке. Убедившись, что на Мэтьюза можно положиться, Хорнблауэр заставил себя спуститься вниз, но не успел лечь, как новая мысль бросила его в дрожь. Он вскочил на ноги, все его самодовольство улетучилось, сменившись крайней озабоченностью. Он бросился на палубу и направился к Мэтьюзу, сидевшему на корточках у недгедсов.
– Ничего не сделано, чтобы проверить, не набирает ли корабль воды, – он быстро подбирал слова, чтобы не обвинить Мэтьюза, и, одновременно, в целях поддержания дисциплины, не брать вину на себя.
– Верно, сэр, – отвечал Мэтьюз.
– Один из выстрелов «Неустанного» попал в бриг, продолжал Хорнблауэр. – Насколько он повредил судно?
– Точно не знаю, сэр, – отвечал Мэтьюз. – Я был тогда на тендере.
– Надо будет посмотреть, как только рассветет, – сказал Хорнблауэр. – А сейчас хорошо бы замерить уровень воды в льяле.
Сказано было смело. В течение краткого обучения на «Неустанном» Хорнблауэр узнал обо всем понемногу, поработав по очереди с начальником каждого подразделения. Однажды он вместе с плотником замерял высоту воды в льяле – вопрос, сможет ли он найти его на чужом корабле и прозондировать.
– Есть, сэр, – без колебаний отвечал Мэтьюз и зашагал к кормовой помпе. – Вам понадобится свет, сэр. Я сейчас принесу.
Он принес фонарь и осветил лотлинь, висевший возле помпы, так что Хорнблауэр сразу его признал. Сняв лотлинь, Хорнблауэр вставил тяжелый трехфутовый стержень в отверстие льяла и вовремя вспомнил вынуть его и убедиться, что он сухой. Потом он спустил линь, вытравливая понемногу, пока стержень ни стукнул глухо о днище корабля. Он вытащил линь, Мэтьюз приподнял фонарь. Хорнблауэр с замиранием сердца поднес к свету стержень.
– Ни капли, сэр, – сказал Мэтьюз, – сухой, как вчерашняя кружка.
Хорнблауэр был приятно удивлен. Всякий корабль немного да течет – даже на «Неустанном» помпы работали ежедневно. Он не знал, следует ли считать эту сухость явлением удивительным или из ряда вон выходящим. Ему хотелось выглядеть многозначительным и непроницаемым.
– Гм, – само пришло нужное слово. – Очень хорошо, Мэтьюз. Сверните линь обратно.
Мысль, что «Мари Галант» не набирает воды, помогла бы ему заснуть, если бы ветер резко не переменился и не усилился сразу же по его возвращении в каюту. Неприятные новости принес Мэтьюз, спустившийся вниз и забарабанивший в дверь.
– Мы не сможем держать этот курс, сэр, – заключил он свой рассказ. – И ветер становится порывистым.
– Очень хорошо, сейчас поднимусь. Зовите всех наверх, – сказал Хорнблауэр с резкостью, которую можно было бы объяснить внезапным пробуждением, если бы она не была попыткой скрыть внутреннее волнение.
С такой маленькой командой Хорнблауэр не решался и в малой мере позволить погоде застать себя врасплох. Он вскоре убедился, что все надо делать загодя. Ему пришлось встать к рулю, пока четыре матроса взяли марсели в рифы и все надежно принайтовили. Это заняло полночи, и к концу работы стало окончательно ясно, что ветер дует с севера и «Мари Галант» не может больше идти на норд-норд-ост. Хорнблауэр оставил руль и спустился к картам. Те лишь подтвердили его пессимистические расчеты: этим галсом они не пройдут Уэссан на ветре. При такой нехватке матросов он не мог идти вперед в надежде, что ветер переменится: все, что он читал и слышал, предупреждало об опасности подветренного берега. Оставалось поворачивать. С тяжелым сердцем он вернулся на палубу.
– Поворот через фордевинд! – Он старался подражать голосу мистера Болтона, третьего лейтенанта на «Неустанном».
Они благополучно повернули бриг и пошли правым галсом, держась круто к ветру. Теперь они без сомнения удалялись от опасных берегов Франции, но при этом уходили и от родных берегов. Никакой надежды за два дня добраться до Англии. Никакой надежды Хорнблауэру поспать этой ночью.
За год до поступления на флот Хорнблауэр брал уроки у нищего французского эмигранта: французский язык, музыка, танцы.
Вскоре несчастный эмигрант обнаружил у своего питомца полное отсутствие слуха и полную неспособность к танцам. Чтобы оправдать свою плату, он решил сосредоточиться на языке. Большая часть пройденного накрепко осела в цепкой памяти Хорнблауэра. Он никогда не думал, что это ему когда-нибудь пригодится, однако, оказалось совсем наоборот. На заре французский капитан потребовал разговора. Он немного говорил по-английски, но Хорнблауэр (стоило ему преодолеть робость и выдавить несколько неуверенных слов) к приятному изумлению обнаружил, что по-французски они могут объясняться лучше.
Капитан жадно попил из бачка. Он был, естественно, не брит и после двенадцати часов в задраенной носовой каюте, куда его втолкнули мертвецки пьяным, выглядел плачевно.
– Мои люди голодны, – сказал капитан.
– Мои тоже, – отвечал Хорнблауэр. – Я тоже.
Говоря по-французски, трудно не жестикулировать. Он указал рукой на своих матросов, потом постучал себя в грудь.
– У меня есть кок, – сказал капитан.
Потребовалось время, чтобы обговорить условия перемирия. Французам разрешается выйти на палубу, кок на всех приготовит обед, на то время, что эти послабления допущены, французы обязуются не принимать попыток к захвату корабля.
– Хорошо, – сказал, наконец, капитан, и как только Хорнблауэр отдал необходимые приказания и французов выпустили, оживленно принялся обсуждать с коком предстоящий обед. Вскоре над камбузом поднялся веселый дымок.
Лишь тогда капитан взглянул на серое небо, на зарифленные марсели, посмотрел на нактоуз и компас.
– Встречный ветер для курса на Англию, – заметил он.
– Да, – кратко отвечал Хорнблауэр. Он не хотел, чтобы француз догадался об его отчаянии и трепете.
Капитан внимательно прислушался к движениям судна у них под ногами.
– Что-то она тяжело идет, вам не кажется? – спросил он.
– Возможно, – отвечал Хорнблауэр. «Мари Галант» была ему незнакома, как, впрочем, и любой другой корабль, поэтому он не имел своего мнения, но и невежества обнаруживать не хотел.
– Она не течет? – спросил капитан.
– Воды нет, – отвечал Хорнблауэр.
– А! – сказал капитан. – Но в льяле воды и не будет. Мы же рис везем, вы должны помнить.
– Да, – сказал Хорнблауэр.
В тот момент, когда до него дошел смысл сказанного, он с трудом мог сохранить невозмутимый вид. Рис впитывает каждую каплю воды, проникшую в корабль, так что обнаружить течь, замеряя уровень воды в льяле, невозможно – но каждая капля уменьшает плавучесть корабля.
– Один выстрел с вашего проклятого фрегата попал нам в корпус, – сказал капитан. – Вы, конечно, осмотрели повреждение?
– Конечно, – смело соврал Хорнблауэр. Однако, как только ему удалось поговорить с Мэтьюзом, тот сразу нахмурился.
– Куда попало ядро, сэр? – спросил он.
– Куда-то с левой стороны, ближе к носу. – Они с Мэтьюзом свесили головы через борт.
– Ничего не видать, сэр, – сказал Мэтьюз, – спустите меня за борт на булине, может, я что увижу, сэр.
Хорнблауэр готов был уже согласиться, но передумал.
– Я сам спущусь за борт, – сказал он.
Ему некогда было разбираться, что его к этому побудило. Отчасти он хотел видеть собственными глазами, отчасти – твердо усвоил, что нельзя отдавать приказ, который не готов выполнить сам; но главное, он хотел наказать себя за преступное упущение. Мэтьюз и Карсон обвязали его булинем и спустили за борт. Хорнблауэр повис рядом с бортом над пенящимся морем. Корабль накренился, и море поднялось навстречу – он в момент промок до нитки. Когда корабль наклонялся, Хорнблауэр отшатывался от борта и тут же с размаху врезался в него. Матросы, державшие линь, медленно двигались к корме, давая ему возможность внимательно осмотреть весь борт над ватерлинией. Пробоины нигде не было. Об этом Хорнблауэр и сообщил Мэтьюзу, втащившему его на палубу.
– Видать она под ватерлинией, сэр. – Мэтьюз сказал вслух то, о чем Хорнблауэр думал. – Вы уверены, что ядро попало, сэр?
– Да, уверен, – резко отвечал Хорнблауэр. Волнение, недостаток сна и чувство вины до предела напрягли его нервы: он мог или говорить резко, или разрыдаться. Но он уже знал, что делать дальше – он решился еще тогда, когда они втаскивали его на борт.
– Мы положим ее в дрейф на другой галс и попробуем снова, – сказал он.
На другом галсе судно накренится на другую сторону и пробоина, если она есть, будет не так глубоко под водой. Хорнблауэр стоял, ожидая, пока корабль развернется; с него ручьями текла вода. Ветер был холодный и резкий, но он дрожал не от холода, а от волнения. Крен корабля помог ему крепче уцепиться за борт. Матросы вытравливали веревку, пока ноги его не заскребли о наросшие на борт ракушки. Так они пошли к корме, волоча его вдоль борта. Сразу за фок-мачтой он обнаружил, что искал.
– Стой! – закричал он, пытаясь не выдать охватившее его отчаяние. – Ниже! Еще два фута.
Теперь он был по плечи в воде, и при наклоне корабля волны на секунду сомкнулись над его головой, как мгновенная смерть. Здесь, на два фута ниже ватерлинии (даже при этом галсе) она и была – рваная уродливая дыра, почти квадратная, шириной в фут. Хорнблауэру послышалось даже, что бушующее море с бульканьем втягивается в нее, но это могла быть и фантазия.
Он закричал, чтобы поднимали. Мэтьюз с нетерпением ждал, что он расскажет.
– Два фута под ватерлинией? – переспросил Мэтьюз.
– Она шла круто к ветру и накренилась вправо, когда мы в нее попали. Все равно она, видать, как раз тогда и задрала нос. Вдобавок теперь она осела еще глубже.
Это было главное. Чтобы они ни делали, как бы ни накреняли судно, пробоина останется под водой. А на другом галсе она будет еще глубже, давление воды – еще больше, на теперешнем же галсе они идут к Франции. А чем больше они наберут воды, тем глубже осядет бриг, тем сильнее будет давление воды. Надо как-то заделать течь. Как это делается, Хорнблауэру подсказало изучение книг по мореходству.
– Нужно подвести под пробоину пластырь, – объявил он. – Зовите французов.
Чтобы сделать пластырь, из паруса, пропуская через него огромное количество полураспущенных веревок, изготовляют что-то вроде очень толстого ворсистого ковра. После этого парус опускают под днище корабля и подводят к пробоине. Ворсистая масса плотно втягивается в дыру, задерживая воду.
Французы не очень торопились помогать. Корабль был теперь не их, плыли они в английскую тюрьму, и даже смертельная опасность не могла их расшевелить. Потребовалось время, чтобы достать запасной брамсель (Хорнблауэр чувствовал: чем плотнее парусина, тем лучше) и заставить французов нарезать, расплести и размочалить веревки. Французский капитан стоя наблюдал, как они трудятся, сидяна корточках.
– Пять лет я провел на плавучей тюрьме в Портсмуте,– сказал он. – Это было во время прошлой войны.
Хорнблауэр мог бы и посочувствовать, но был озабочен другим, да к тому же промерз до костей. Он не только намеревался вновь препроводить капитана в английскую тюрьму – но, в этот самый момент, замышлял спуститься в капитанскую каюту и присвоить кое-что из его теплой одежды.
Внизу Хорнблауэру показалось, что звуки – скрипы и стоны – стали громче. Судно шло легко, почти дрейфовало, однако переборки трещали и скрипели, как в шторм. Он отбросил эту мысль, сочтя ее плодом перевозбужденного воображения, однако к тому времени как он вытерся, немного согрелся и облачился в лучший капитанский костюм, сомнений уже быть не могло: корабль стонал, как тяжелобольной.
Он поднялся на палубу посмотреть, как идет работа. Не прошло и нескольких секунд, как один из французов, потянувшись за новой веревкой, остановился и уставился на палубу. Он прикоснулся к палубному пазу, посмотрел вверх, поймал взгляд Хорнблауэра и подозвал его. Хорнблауэр не притворялся, будто понимает слова – жест был достаточно красноречив. Паз немного разошелся, и из него выпирала смола. Хорнблауэр наблюдал странное явление, нечего не понимая – паз разошелся на протяжении не более двух футов, остальная палуба казалось достаточно прочной. Нет! Теперь, когда его внимание обратили, он увидел, что еще кое-где смола черными полосками выпирает между досок. Ни его маленький опыт, ни его обширное чтение объяснить этого не могли. Но французский капитан тоже во все глаза смотрел на палубу.
– Господи! – сказал он. – Рис! Рис! Французского слова «рис» Хорнблауэр не знал, но капитан топнул ногой по палубе и указал вниз.
– Груз! – объяснил он. – Груз увеличивается в объеме. Мэтьюз стоял рядом с ними, и, не зная ни слова по-французски, сразу все понял.
– Я верно расслышал, что бриг полон риса, сэр? – спросил он.
– Да.
– Тогда это он. В него попала вода, вот он и пухнет.
Так оно и было. Рис, впитывая воду, способен увеличить объем в два и даже в три раза. Груз разбухал и раздвигал корабельные швы. Хорнблауэр вспомнил неестественные скрипы и стоны. Это было ужасно – он оглянулся на зловещее море в поисках вдохновения и поддержки, и не нашел ни того ни другого. Несколько секунд прошло прежде, чем он смог говорить, сохраняя достоинство, приличествующее флотскому офицеру в минуту опасности,
– Чем скорее мы подведем парус под пробоину, тем лучше, – сказал Хорнблауэр. Трудно было ждать, что голос его прозвучит вполне естественно, – Поторопите этих французов.
Он повернулся и зашагал по палубе, чтобы успокоиться и дать мыслям придти в порядок, но француз следовал за ним по пятам, говорливый, как советчики Иова.
– Я говорил, мне кажется, что судно идет тяжело, – произнес он. – Оно глубже осело.
– Идите к черту, – сказал Хорнблауэр по-английски, он не смог придумать французского эквивалента.
Тут же он почувствовал под ногами сильный толчок, словно по палубе снизу ударили молотом. Корабль разваливался на куски.
– Поторопитесь с парусом, – заорал он на работающих, и тут же рассердился на себя – его тон явно выдавал недостойное волнение.
Наконец было прошито пять квадратных футов паруса. Через кренгельсы пропустили веревки и парус потащили на нос, чтобы опустить под бриг и подвести к пробоине. Хорнблауэр снял одежду, не из заботы о чужой собственности, а чтобы сохранить ее сухой.
– Я спущусь и посмотрю на месте, – сказал он. – Мэтьюз, приготовьте булинь.
Голому и мокрому Хорнблауэру казалось, будто ветер пронизывает его насквозь, борт корабля, о который он ударялся при качке, сдирал с него кожу, волны, проходящие под кораблем, били его с неистовым безразличием. Но он проследил, чтобы прошитый парус подошел куда нужно, и с глубоким удовлетворением наблюдал, как ворсистая масса стала на место, засосалась в пробоину и глубоко втянулась. Он мог не сомневаться, что течь запечатана крепко. Он крикнул. Матросы вытащили его наверх и теперь ждали дальнейших приказов. Он стоял голый, одурев от холода, усталости и недосыпа, и заставлял себя принять следующее решение.
– Положите ее на правый галс, – сказал он, наконец. Если бриг затонет, неважно, произойдет это в ста или в двухстах милях от Франции; если нет, он хотел находиться подальше от подветренного берега и неприятеля. Правда, при этом пробоина будет глубже под водой, а значит и давление выше, но все равно это лучше. Французский капитан, видя приготовления к повороту судна, шумно запротестовал. При таком ветре другим галсом они легко доберутся до Бордо. Хорнблауэр, дескать, рискует их жизнями. В затуманенном мозгу Хорнблауэра, помимо его воли, созревал перевод чего-то, что он хотел сказать раньше. Теперь он смог это высказать.
– Allez au diable, – произнес он, натягивая плотную шерстяную рубашку француза.
Когда он просунул голову в воротник, капитан продолжал возмущаться, да так громко, что у Хорнблауэра возникли новые опасения. Он отправил Мэтьюза к пленным французам, проверить, нет ли у них оружия. При обыске не обнаружилось ничего, кроме матросских ножей, но Хорнблауэр из предосторожности велел конфисковать и их. Одевшись, он занялся своими тремя пистолетами, перезарядил их и заново заправил порохом. С тремя пистолетами за поясом вид у него был пиратский, словно он еще не вышел из возраста подобных игр. Однако Хорнблауэр чувствовал, что может придти время, когда французы попытаются восстать, а три пистолета – не так уж много против двенадцати отчаявшихся людей, у которых под руками куча тяжелых предметов, вроде кофель-нагелей и тому подобного.
Мэтьюз ждал его с озабоченным видом.
– Сэр, – сказал он, – прошу прощения, но она мне не нравится. Она оседает и открывается, я точно уверен. Вы уж простите, сэр, что я так говорю.
Внизу Хорнблауэр слышал, что доски корабля все так же трещат и жалуются – швы на палубе расходились все шире. Напрашивалось простое объяснение: рис, разбухая, раздвинул корабельные швы под водой, так что пластырь устранил лишь малую течь. Вода продолжает поступать, груз пухнет, корабль раскрывается, как облетающий цветок. Корабли строятся, чтобы выдерживать удары извне, ничто в их конструкции не рассчитано на сопротивление внутреннему давлению. Швы будут расходится все шире и шире, а вода проникать все дальше и дальше в груз.
– Смотрите сюда, сэр, – неожиданно сказал Мэтьюз. В ярком дневном свете маленькая серая тень заскользила вдоль шпигата, потом еще и еще. Крысы! Что-то страшное творилось внизу, раз они вылезли средь бела дня, бросив уютные гнезда в обильной пище – грузе. Давление, наверное, огромное. Хорнблауэр почувствовал новый толчок под ногами – еще что-то разошлось. У него оставалась еще одна карта, последнее, что он мог придумать.
– Я выброшу за борт груз, – сказал Хорнблауэр. Никогда в жизни не произносил он таких слов, только читал. – Приведите пленных и приступайте.
Задраенный люк заметно выгнулся наружу, клинья вышибло, одна планка с треском отлетела и стала торчком.
Когда французы подняли крышку,из люка полезло что-то коричневое: это внутреннее давление выдавало мешок с рисом.
– Цепляйте тали и тащите наверх, – сказал Хорнблауэр.
Мешок за мешком поднимался из трюма, иные рвались, обрушивая на палубу водопад риса, но это было неважно. Другие матросы тащили мешки к левому борту и сбрасывали в вечно голодное море. После трех первых мешков стало труднее: груз спрессовался так крепко, что. каждый мешок требовал неимоверных усилий. Двоим пришлось спуститься, чтобы освобождать мешки с помощью рычага и поправлять канаты. Два француза, на которых указал Хорнблауэр, было заколебались – мешки могли быть не все плотно прижаты друг к другу, а трюм качающегося корабля, в котором груз может обрушиться и похоронить заживо, место весьма опасное – но Хорнблауэру было сейчас не до чьих-то страхов. Он только нахмурил брови, и они поспешно спустились в люк. Час за часом шла титаническая работа, матросы за талями обливались потом и изнемогали от усталости, тем не менее, они должны были время от времени сменять тех, кто внизу. Мешки спрессовались слоями, вжались в днище и в палубу сверху, так что, разобрав мешки непосредственно под люком, пришлось растаскивать каждый слой в отдельности. Когда под люком расчистили небольшое пространство и забрались глубже в трюм, то сделали неизбежное открытие: нижние ярусы мешков намокли, их содержимое разбухло, и мешки лопнули. Нижняя половина трюма была забита мокрым рисом, извлечь который можно было лишь совковыми лопатами и подъемниками. Пока еще целые мешки верхних ярусов дальше от люка были плотно прижаты к палубе: для того чтобы выворотить их и подтащить к люку требовались неимоверный усилия.
Хорнблауэр глубоко погрузился в эту проблему, но его отвлек, тронув за локоть, Мэтьюз.
– Не пойдет так, сэр, – сказал Мэтьюз, – она глубже в воде и быстро оседает.
Хорнблауэр подошел к борту корабля и поглядел вниз. Сомнений быть не могло. Он сам спускался за борт и прекрасно помнил расстояние до ватерлинии, еще более точную отметку давал подведенный под корабельное днище прошитый парус. Бриг осел на целых шесть дюймов – это после того, как они выбросили за борт не менее пятидесяти тонн риса. Бриг течет, как корзина: вода, проникая в разошедшиеся швы, жадно впитывается рисом.
Хорнблауэр почувствовал боль в левой руке и, посмотрев вниз, обнаружил, что сам того не замечая, до боли сжал перила. Он отпустил руку и поглядел вокруг, на садящееся солнце и мерно вздымающееся море. Он не хотел сдаваться, не хотел признавать поражение. Французский капитан подошел к нему.
– Это сумасшествие, – сказал он. – Безумие. Мои люди падают от усталости.
Хорнблауэр видел, как над люком Хантер линьком понукает французов – линек так и мелькал. Эти французы много не наработают. Тут «Мари Галант» тяжело поднялась на волне и перевалилась на другой бок. Даже Хорнблауэр при всей своей неопытности видел неповоротливость и зловещую медлительность ее движений. Бригу не долго оставаться на плаву, а сделать надо так много.
– Я начну приготовления к тому, чтобы покинуть судно. Говоря это, он выставил вперед подбородок: пусть ни французы, ни матросы не догадываются о его отчаянии.
– Есть, сэр, – сказал Мэтьюз.
Шлюпка на «Мари Галант» была закреплена на ростр-блоках позади грот-мачты. По команде Мэтьюза матросы бросили поднимать груз и поспешно принялись укладывать в лодку пищу и воду.
– Прошу прощения, сэр, – произнес Хантер рядом с Хорнблауэром, – но вам надо найти себе теплую одежду, сэр. Я как-то провел десять дней в открытой лодке, сэр.
– Спасибо, Хантер, – сказал Хорнблауэр.
Позаботиться надо было о многом. Навигационные приборы, карты, компас – а сможет ли он пользоваться секстантом в качающейся шлюпке?
Элементарная предусмотрительность требовала, чтобы они взяли столько пищи и воды, сколько выдержит шлюпка, но – Хорнблауэр с опаской озирал несчастное суденышко – семнадцать человек все равно перегрузят ее. Тут придется положиться на капитана и на Мэтьюза.
Моряки стали к талям, сняли шлюпку с ростр-блоков и спустили на воду с подветренного борта. «Мари Галант» зарылась носом в волну, не желая на нее взбираться: зеленая волна накатилась на нос и побежала по палубе к корме, пока корабль не наклонился лениво, и она не стекла в шпигаты. На счету была каждая минута – душераздирающий треск снизу говорил, что груз по-прежнему разбухает и давит на переборки. Среди французов началась паника, они с громкими криками бросились в шлюпку. Французский капитан взглянул на Хорнблауэра и последовал за ними; два британских моряка уже были внизу, удерживая лодку.
– Вперед, – сказал Хорнблауэр ожидавшим его Мэтьюзу и Карсону. Он – капитан, его долг – последним оставлять корабль.
Бриг погрузился уже так глубоко, что не составило никакого труда шагнуть в лодку с палубы; британские моряки сидели на корме и подвинулись, освобождая Хорнблауэру место.
– Берите руль, Мэтьюз, – сказал Хорнблауэр. Он сомневался, что сможет управлять перегруженной лодкой. – Отваливай!
Лодка и бриг разошлись; «Мари Галант» с принайтовленным рулем встала носом по ветру и на секунду замерла. Потом резко накренилась, едва не черпнув воду шпигатом правого борта. Следующая волна прокатилась по палубе, заливая открытый люк. Потом судно выпрямилось – палуба почти вровень с морем – и ровно-ровно погрузилось под воду. Волны сомкнулись над ним, медленно исчезли мачты. Еще несколько мгновений паруса виднелись сквозь зеленую воду.
– Затонула, – сказал Мэтьюз.
Хорнблауэр смотрел, как тонет его первое судно. Ему доверили «Мари Галант», поручили отвести ее в порт, а он не справился, не справился со своим первым самостоятельным заданием. Он пристально смотрел на заходящее солнце, надеясь, что никто не заметит его слез.
Расплата за ошибку
Встающее над неспокойными водами Бискайского залива солнце осветило маленькую шлюпку на его бескрайних просторах. Шлюпка была набита битком: на носу сгрудилась команда затонувшего брига «Мари Галант», в середине сидели капитан и его помощник, на корме – мичман Горацио Хорнблауэр и четверо английских моряков, составлявшие некогда призовую команду брига. Хорнблауэр мучился морской болезнью – его нежный желудок кое-как привык к движениям «Неустанного», но не вынес фокусов маленькой, резво плясавшей на волнах шлюпки. Кроме того, он замерз и бесконечно устал после второй бессонной ночи – его рвало до самого утра – и в подавленном состоянии, вызванном морской болезнью, он снова и снова возвращался к гибели «Мари Галант». Если б только он раньше догадался заделать пробоину! Любые оправдания он отметал с порога. Да, матросов было так мало, а дел так много: стеречь французскую команду, устранять повреждение такелажа, прокладывать курс. Да, то что «Мари Галант» везла рис, способный впитывать влагу, сбило его с толку, когда он вспомнил-таки замерить высоту воды в льяле. Да, все так, но факт остается фактом: он потерял судно, свое первое судно. В собственных глазах он оправдаться не мог.
Французы проснулись на заре и теперь болтали, как стая сорок, Мэтьюз и Карсон рядом с Хорнблауэром зашевелились, разминая затекшие ноги.
– Завтрак, сэр? – спросил Мэтьюз.
Все это напоминало игры, в которые одинокий мальчик Горацио Хорнблауэр играл в детстве. Он садился в пустое свиное корыто и воображал себя потерпевшим кораблекрушение. Тогда он делил раздобытый на кухне кусок хлеба или какую-нибудь другую еду на двенадцать частей и тщательно их пересчитывал. Каждой порции должно было хватить на день. Но из-за здорового мальчишеского аппетита эти дни получались очень короткими, минут по пять каждый – достаточно было постоять в корыте, посмотреть из-под руки, не идет ли помощь, потом, не обнаружив ее, сесть обратно, посетовать на тяжелую жизнь потерпевшего кораблекрушение, и решить, что прошла еще одна ночь и пора съесть кусочек быстро тающего запаса. Так и сейчас под наблюдением Хорнблауэра французский капитан и его помощник раздали всем по жесткому сухарю, потом каждому по очереди налили кружку воды из небольшого бочонка под банкой. Но, сидя в свином корыте, маленький Хорнблауэр, несмотря на живое воображение, даже не подозревал ни о мучительной морской болезни, ни о холоде, ни о тесноте. Не знал он, как больно без движения сидеть тощим задом на жестких досках кормовой банки; никогда в своей детской самоуверенности не думал, как тяжело лежит бремя ответственности на плечах старшего морского офицера в возрасте семнадцати лет.
Хорнблауэр стряхнул с себя воспоминания недавнего детства, чтобы заняться более насущными проблемами. Серое небо, насколько мог судить его неопытный глаз, не предвещало перемены погоды. Он послюнявил палец и поднял его, глядя на компас, чтобы определить направление ветра.
– Ветер отходит чуток позападнее, сэр, – сказал Мэтьюз, повторявший его движения.
– Именно, – согласился Хорнблауэр, поспешно вспоминая недавние уроки обращения с компасом. Курс, чтобы пройти Уэссан на ветре был норд-ост-тень-норд, это он помнил. Как бы круто они ни положили шлюпку, круче чем восемь румбов к ветру она не пойдет. Всю ночь они дрейфовали на плавучем якоре, потому что слишком северный ветер не позволял ему взять курс на Англию. Восемь румбов от норд-ост-тень-норд будет норд-вест-тень-вест, а сейчас ветер был даже чуть западнее. В крутой бейдевинд они пройдут Уэссан на ветре, даже с некоторым запасом на случай непредвиденных обстоятельств, держась подальше от подветренного берега, как и подсказывали Хорнблауэру книги по навигации и собственный здравый смысл.
– Мы поставим парус, Мэтьюз, – сказал Хорнблауэр. Рука его по-прежнему сжимала сухарь, который отказывался принимать непокорный желудок.
– Есть, сэр.
Хорнблауэр окликнул французов, сгрудившихся на носу. Им и без его ломанного французского было ясно, что надо поднимать плавучий якорь. Но это оказалось не так просто сделать в перегруженной шлюпке, где не было и фута свободного места. Мачта была уже установлена и люггерный парус готов к подъему. Два француза, осторожно балансируя, выбрали фал, и парус поднялся на мачту.
– Хантер, берите шкот, – скомандовал Хорнблауэр. – Мэтьюз, берите руль. Положите ее в крутой бейдевинд на левый галс.
– Есть в крутой бейдевинд на левый галс, сэр.
Французский капитан со своего места на середине судна внимательно наблюдал за происходящим. Он не понял последнего, решающего приказа, но смысл его дошел до него достаточно быстро, когда шлюпка развернулась и установилась на левом галсе, направляясь в сторону Англии. Он вскочил, громко протестуя.
– Ветер дует в сторону Бордо, – произнес он, размахивая руками. – Мы добрались бы туда завтра же. Почему мы идем на север?
– Мы идем в Англию, – сказал Хорнблауэр.
– Но… но это займет неделю! Неделю, если ветер останется попутным. Шлюпка… она слишком перегружена. Мы не выдержим шторма. Это безумие.
Хорнблауэр знал, что капитан скажет, уже когда тот вскочил, и потому не трудился вникать в его доводы. Он слишком устал и слишком страдал от морской болезни, чтобы вступать в споры на чужом языке. Он попросту не обращал на капитана внимания. Ни за что на свете он не повернет шлюпку к Франции. Его морская карьера только началась, и пускай она подпорчена уже гибелью «Мари Галант», Хорнблауэр не собирался долгие Годы гнить во французской тюрьме.
– Сэр! – сказал капитан. Сидевший рядом помощник присоединился к его протестам, потом они обернулись к команде и объяснили, что происходит. Матросы сердито зашевелились.
– Сэр! – начал капитан снова. – Я настаиваю, чтобы вы взяли курс на Бордо.
Он двинулся было в сторону Хорнблауэра, кто-то из французов начал вытаскивать отпорный крюк – оружие достаточно опасное. Хорнблауэр вынул из-за пояса пистолет и направил на капитана. Тот, увидев дуло в четырех футах от своей груди, отпрянул назад. Хорнблауэр левой рукой вытащил второй пистолет.
– Возьмите, Мэтьюз, – сказал он.
– Есть, сэр, – послушно отвечал Мэтьюз, затем, выдержав почтительную паузу, добавил: – Прошу прощения, сэр, может быть вам стоит взвести курок?
– Да, – отвечал Хорнблауэр в отчаянии от своей забывчивости. Он со щелчком взвел курок. Угрожающий звук заставил капитана еще острее ощутить опасность: в качающейся шлюпке взведенный и заряженный пистолет смотрел ему в живот. Он в отчаянии замахал руками.
– Пожалуйста, – взмолился он, – направьте пистолет в другую сторону.
– Эй, ты, отставить, – громко закричал Мэтьюз: французский моряк пытался незаметно отдать фал.
– Стреляйте в каждого, кто покажется вам опасным, Мэтьюз, – сказал Хорнблауэр.
Он так стремился принудить их к повиновению, так отчаянно хотел сохранить свободу, что лицо его исказил звериный оскал. Никто, глядя на него, не усомнился бы в его решимости. Он не остановится ни перед чем. Третий пистолет оставался у Хорнблауэра за поясом, и французы понимали, что при попытке мятежа не меньше четверти их погибнет прежде, чем удастся одолеть англичан, и капитан знал, что погибнет первым. Выразительно размахивая руками – он не мог отвести глаз от пистолета – капитан велел своим людям прекратить сопротивление. Ропот стих, и француз стал молить.
– Пять лет я провел в английской тюрьме во время прошлой войны, – говорил он. – Давайте договоримся. Поплывем во Францию. Когда мы доберемся до берега – где вы захотите, сэр – мы высадимся, а вы сможете продолжать путь. Или высадимся все вместе, а я употреблю все мое влияние, чтобы вас и ваших людей отправили в Англию по картелю, без обмена или выкупа. Я клянусь в этом.
– Нет, – сказал Хорнблауэр.
До Англии проще добраться отсюда, чем от Бискайского побережья Франции, что же до остального, Хорнблауэр достаточно слышал о новом французском правительстве, вынесенном революцией на вершину власти, чтобы не сомневаться: они не отпустят пленных по ходатайству капитана торгового судна. А опытных моряков во Франции мало, его задача – не дать этим двенадцати вернуться.
– Нет, – сказал он снова, в ответ на очередные уговоры капитана.
– Может, двинуть ему в челюсть, сэр? – спросил Хантер.
– Нет, – снова сказал Хорнблауэр, но французский капитан видел жест и догадался о его смысле. Он смолк и угрюмо опустил голову, но тут же поднял ее при виде взведенного пистолета, по-прежнему лежавшего у Хорнблауэра на колене и нацеленного капитану в живот. Во сне палец может нажать на спуск.
– Сэр, – сказал он, – умоляю вас, уберите пистолет. Это опасно.
Взгляд Хорнблауэра был холоден и безучастен.
– Уберите, прошу вас. Я не буду мешать вам командовать шлюпкой. Я обещаю.
– Вы клянетесь?
– Да, клянусь.
– А они?
Капитан с жаркими объяснениями повернулся к своей команде. Те нехотя согласились.
– Они тоже клянутся.
– Очень хорошо.
Хорнблауэр начал убирать пистолет за пояс и едва вспомнил поставить его на предохранитель, как раз во время, чтобы не прострелить себе живот. Все погрузились в апатию. Шлюпка ритмично вздымалась и опускалась, это было куда приятнее, чем резкие толчки на плавучем якоре. Желудок Хорнблауэра постепенно успокоился. Юноша две ночи не спал. Голова его клонилась на грудь, потом он постепенно привалился к Хантеру и мирно уснул, а шлюпка, подгоняемая свежим ветром, держала прямой курс на Англию.
Проснулся он в конце дня, когда одеревеневший от усталости Мэтьюз вынужден был уступить руль Карсону. После этого они по очереди несли вахту, один со шкотом, другой у руля, в то время как двое других пытались немного отдохнуть. Хорнблауэр нес свою вахту у шкота, руль он не брал, особенно, ночью – он знал, что у него не хватит сноровки управлять шлюпкой, руководствуясь лишь ощущением ветра на щеке и руля в руках.
Только после завтрака на следующий день – уже почти полдень – они заметили парус. Первым увидел его один из французов, его возбужденный крик поднял всех остальных. Три прямых паруса возникли на горизонте с наветренной стороны и начали быстро приближаться, так что каждый раз когда шлюпка поднималась на волне, было видно все больше парусов.
Что о нем думаете, Мэтьюз? – спросил Хорнблауэр. Вся лодка гудела от оживленного французского говора.
– Точно не скажу, сэр, но чтой-то оно мне не нравится, – с сомнением произнес Мэтьюз. – При таком бризе у него должны бы стоять брамсели, да и нижние прямые паруса тоже, а их нет. Да и форма его кливера мне не нравится, сэр. Как бы он не оказался французом, сэр.
Мирное судно, конечно, должно нести все возможные паруса. Это судно их не несло. Значит, оно преследует какие-то воинственные цели. Однако и в этом случае больше шансов, что оно английское, чем французское, даже здесь, в Бискайском заливе. Хорнблауэр пристально вглядывался в него: небольшое суденышко, хотя и с полным парусным вооружением, с гладкой верхней палубой, на вид быстроходное. Теперь временами был виден и корпус с одним рядом пушечных портов.
– Как пить дать, француз, сэр, – сказал Хантер. – Капер, наверное.
– Приготовиться к повороту через фордевинд, – сказал Хорнблауэр.
Они развернулись и взяли курс прямо от корабля. Но на войне, как в джунглях, бежать – значит спровоцировать погоню и нападение. На корабле поставили нижние прямые паруса и брамсели, судно устремилось за шлюпкой, обошло ее на полкабельтова и легло в дрейф, отрезав им путь к отступлению. Возле леера столпились любопытные – большая команда для такого маленького судна.
Шлюпку окрикнули, и слова были французскими. Английские моряки разразились проклятиями, французский капитан радостно вскочил и отвечал, а французская команда подвела шлюпку к судну.
Красивый молодой человек в лиловом сюртуке с галуном приветствовал Хорнблауэра, когда тот ступил на борт.
– Добро пожаловать, сударь, на борт «Пики», – сказал он по-французски. – Я – Нэвиль, капитан этого капера. А вы?
– Его Британского Величества фрегата «Неустанный» мичман Хорнблауэр, – был ответ.
– Мне кажется, вы не в духе, – сказал Нэвиль. – Умоляю вас, не принимайте так близко к сердцу превратности войны. Вы можете располагаться на этом судне, до прибытия в порт, со всеми возможными удобствами. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Вот, к слову, эти пистолеты за поясом. Они, наверное, вам изрядно мешают. Позвольте мне избавить вас от лишней тяжести.
С этими словами он аккуратно извлек пистолеты у Хорнблауэра из-за пояса, еще раз пристально оглядел его и продолжал:
– Вот этот кортик, сударь. Будьте так любезны, одолжите его мне. Уверяю вас, при расставании я его верну. И пока вы здесь, на борту, боюсь, как бы обладание оружием, которое осторожность советует счесть смертельным, не толкнуло вас в юношеской горячности на какое-нибудь безрассудство. Тысяча благодарностей. Теперь, если позволите, я покажу приготовленное для вас помещение.
Отвесив церемонный поклон, он повел Хорнблауэра вниз. Под двумя палубами, вероятно, фута на два ниже ватерлинии, располагался большой пустой твиндек, полутемный и едва проветриваемый люками.
– Наша невольничья палуба,– небрежно пояснил Нэвиль.
– Невольничья? – переспросил Хорнблауэр.
– Да. Здесь во время плаванья находились рабы.
Хорнблауэру все сразу стало ясно. Невольничье судно можно легко и быстро превратить в каперское. Оно несет достаточно пушек, чтобы отразить любую атаку во время рейдов по африканским рекам, оно быстроходнее обычного торгового судна, и потому, что не нуждается в большом трюме, и потому, что скорость крайне желательна при перевозке такого скоропортящегося груза, как рабы. Оно построено так, чтобы вмещать большую команду, а также много провизии и воды, необходимых для долгого плавания в поисках призов.
– Из-за последних событий, о которых вы, сударь, вероятно, наслышаны, наш рынок в Сан-Доминго для нас закрыт,[5] – продолжал Нэвиль, – и для того, чтобы «Пика» продолжала оправдывать вложенные в нее средства, мне пришлось сделать из нее капер. Более того, ввиду деятельности Комитета Общественного Спасения, Париж сейчас куда более нездоровое место, чем даже западное побережье Африки и я решил сам возглавить свое судно. Не говоря уже о том, что для того, чтобы вложенные в каперское дело средства приносили доход, требуются некоторые решительность и твердость.
Лицо Нэвиля на мгновенье приобрело выражение мрачной решимости, но тут же смягчилось, изобразив все ту же ничего не значащую любезность.
– Дверь в той переборке, – сказал Нэвиль, – ведет в помещение, отведенное мной для пленных офицеров. Здесь, как видите, ваша койка. Прошу вас располагаться как дома. Если корабль вступит в бой – надеюсь, это будет случаться часто – эти люки наверху будут задраены. В остальное время можете перемещаться на судне по своему усмотрению. Все же считаю нужным добавить, что любая безрассудная попытка со стороны пленных помешать работе или благосостоянию этого судна вызовет глубокое неудовольствие команды. Они, понимаете ли, служат за долю в прибыли, рискуя при этом жизнью и свободой. Поэтому не удивлюсь, если всякого, кто неосторожно подвергнет опасности их свободу и дивиденды, попросту выкинут за борт.
Хорнблауэр заставил себя ответить – нельзя было показать, что от расчетливой жестокости последних слов он едва не потерял дар речи.
– Я понял, – произнес он.
– Замечательно. Могу ли я еще чем-нибудь быть полезен?
Хорнблауэр обвел взглядом пустое помещение, освещенное тусклым светом качающейся масляной лампы – здесь ему предстояло томиться в одиночном заключении.
– Могу я попросить что-нибудь почитать? – спросил он. Нэвиль на минуту задумался.
– Боюсь, тут есть только специальная литература, – сказал он. – Я могу дать вам «Принципы навигации» Гранжана, «Руководство по мореплаванию» Лебрена и еще что-нибудь в том же роде, если вы полагаете, что сможете разобрать тот французский, на котором они написаны.
– Я попытаюсь, – сказал Хорнблауэр.
Наверное, было к лучшему, что он получил такую трудную пищу для ума. Усилие, требовавшееся для того, чтобы одновременно читать по-французски и осваивать морское дело, занимало его мысли в те кошмарные дни, когда «Пика» рыскала по морю в поисках добычи. Большую часть времени французы попросту не замечали Хорнблауэра – ему пришлось добиваться встречи с Нэвилем, чтобы заявить протест по поводу использования четырех британских моряков на тяжелой работе у помпы. Из спора, если это вообще можно было назвать спором, он вышел проигравшим: Нэвиль, холодно отказался говорить с ним на эту тему. Хорнблауэр вернулся к себе с горящими щеками и красными ушами; как всегда после моральной встряски, сознание своей вины вернулось к нему с новой силой.
Если бы он раньше заделал эту пробоину! Более сообразительный офицер, говорил он себе, так бы и поступил. Он потерял корабль, драгоценный приз «Неустанного», и оправдания ему нет. Иногда Хорнблауэр заставлял себя взгляну на дело спокойно. Профессионально он, возможно – да почти наверняка – не будет наказан за свое упущение. Мичмана с призовой командой из четырех матросов на борту двухсоттонного брига, подвергшегося артиллерийскому обстрелу фрегата, не будут серьезно винить за то, что этот бриг с ним затонул. Но в то же время Хорнблауэр знал, что виноват, пусть даже отчасти. Если это невежество – нет оправданий невежеству. Если он за другими многочисленными заботами не вспомнил о пробоине, это некомпетентность, и нет оправданья некомпетентности. Он все думал и думал об этом, погружаясь в пучину отчаяния и презрения к себе, и некому было его утешить. Хуже всего был день его рождения, день, когда ему исполнилось целых восемнадцать лет. Восемнадцать лет, и он бесславный пленник в руках французского капера! Его самоуважение упало до самой низкой отметки.
«Пика» разыскивала добычу у входа в Ла-Манш, и трудно найти более яркое свидетельство необъятности морских просторов, чем то, что даже здесь, на пересечении самых оживленных морских путей, они день за днем не встречали ни единого паруса. «Пика» двигалась по сторонам треугольника, сначала на северо-запад, потом на юг, потом под малыми парусами на северо-восток. На каждом салинге стояло по впередсмотрящему, но они не видели ничего, кроме колышущегося водного простора. Так продолжалось до того утра, когда пронзительный крик с фор-брам-стеньги-салинга привлек внимание всех находившихся на палубе, в том числе и Хорнблауэра, одиноко стоявшего на шкафуте. Нэвиль у штурвала крикнул впередсмотрящему, и Хорнблауэр, благодаря своим недавним штудиям, смог перевести ответ. С наветренной стороны появился парус; через минуту впередсмотрящий сообщил, что судно изменило курс и движется к ним.
Это кое-что означало. В военное время купеческое судно предпочитает держаться подальше от незнакомцев, особенно, если оно находится с наветренной стороны, то есть в большей безопасности. Капитан, решивший оставить столь выгодную позицию, либо готов драться, либо страдает поистине смертельным любопытством. Отчаянная надежда овладела Хорнблауэром: военное судно – благодаря морскому господству Англии – гораздо скорее окажется английским, чем французским. А как раз в этих местах курсирует «Неустанный», его корабль, специально, чтобы, с одной стороны, выслеживать французских каперов, а с другой – не пропускать французские суда, пытающиеся прорвать блокаду. В сотнях миль отсюда Хорнблауэра с призовой командой высадили на борт «Мари Галант». Тысяча против одного, отчаянно убеждал себя Хорнблауэр, что увиденный корабль – не «Неустанный». Однако – не сдавалась надежда – то, что судно изменило курс, уменьшает это соотношение до десяти к одному. Меньше чем до десяти к одному.
Он поглядел на Нэвиля, пытаясь проникнуть в его мысли. «Пика» быстроходна и маневренна, путь к отступлению по ветру свободен. То, что судно повернуло к ним, подозрительно, однако известны случаи, когда суда Вест-Индской компании – самые богатые призы – пользуясь своим сходством с линейными кораблями, проявляли смелость и отпугивали опасного врага. Для человека, мечтающего заполучить приз, искушение было большое. По приказу Нэвиля подняли все паруса, готовясь к бегству или нападению, и «Пика» в крутой бейдевинд двинулась к незнакомому судну. Прошло совсем немного времени и, когда «Пика» поднялась на волне, Хорнблауэр с палубы различил далеко на горизонте маленькое белое пятнышко, не больше рисового зерна. К нему подбежал Мэтьюз, покрасневший и разгоряченный.
– Это старина «Неустанный», сэр, – сказал он. – Ей-богу! – Он вскочил на леер, уцепившись за ванты и стал пристально вглядываться из-под руки.
– Да! Он самый, сэр! Они ставят бом-брамсели. Мы будем на борту к вечернему грогу!
Тут же подбежал французский старшина и за штаны стащил Мэтьюза с его наблюдательного пункта, потом пинками и ударами отправил обратно на бак. Через минуту Нэвиль уже командовал повернуть корабль через фордевинд и брать курс прямо от «Неустанного». Потом он подозвал к себе Хорнблауэра.
– Ваш бывший корабль, если я не ошибаюсь?
– Да.
– Какова его максимальная скорость? – Хорнблауэр поглядел Нэвилю в глаза.
– Не разыгрывайте благородство, – произнес Нэвиль, улыбаясь тонкими губами. – Несомненно, я могу вынудить вас сообщить мне все, что пожелаю. Я знаю способы. Но, к счастью для вас, мне это не понадобится. Ни один корабль на свете – а тем более неуклюжий фрегат Его Британского Величества – не догонит «Пику», идущую с попутным ветром. Вы в этом скоро убедитесь.
Он зашагал к гакаборту, встал и принялся внимательно глядеть в подзорную трубу. Так же внимательно всматривался Хорнблауэр невооруженным глазом.
– Видите? – спросил Нэвиль, протягивая трубу. Хорнблауэр взял ее, не столько чтобы подтвердить свои наблюдения, сколько желая поближе взглянуть на родной корабль. Он тосковал по дому, отчаянно тосковал по «Неустанному». Нельзя было отрицать, однако, что тот быстро отставал. Его брамсели уже исчезли из виду, оставались только бом-брамсели.
– Через два часа мы оторвемся окончательно, – сказал Нэвиль, отбирая трубу и с резким стуком ее складывая.
Он оставил Хорнблауэра, в тоске стоявшего у гакаборта и гневно обрушился на рулевого – тот вел корабль недостаточно ровно. Хорнблауэр услышал ругательства, не вслушиваясь в них, ветер дул ему в лицо, раздувая волосы, внизу пенился след корабля. Так Адам мог смотреть на райские врата. Хорнблауэр вспомнил темную духоту мичманской каюты, запахи и потрескивание, холодные ночи, пробуждение по команде «Свистать всех наверх», хлеб с жучками и деревянную говядину; он жаждал их с безнадежной тоской неосуществимого желания. Свобода исчезала за горизонтом. Однако не эти личные чувства побудили его действовать. Быть может, они обострили его ум, но подвигло его чувство долга.
Невольничья палуба была пуста, как обычно, все матросы находились на местах. За переборкой стояла его койка, на ней – книги, сверху раскачивалась масляная лампа. Ничто не вдохновляло его. В следующей переборке располагалась еще одна запертая дверь. Она вела во что-то вроде боцманской кладовой, дважды Хорнблауэр видел ее открытой, когда из нее выносили краску и что-то еще в том же роде. Краска! Это навело его на мысль: он перевел взгляд с запертой двери на масляную лампу, потом обратно, шагнул вперед, вынимая из кармана складной нож, но тут же отступил назад, ругая себя. Дверь не была обшита, но состояла из двух прочных древесных плит и двух толстых поперечных брусьев. Замочная скважина тоже ничего не давала. Уйдет много часов, пока он одолеет эту дверь перочинным ножом, а на счету каждая минута.
Сердце его лихорадочно билось, но еще лихорадочней работал мозг. Хорнблауэр снова огляделся. Дотянулся до лампы и качнул ее – почти полная. Какую-то секунду он медлил, собираясь с духом, потом быстро принялся за дело. Безжалостной рукой он вырвал страницы из «Principes de navigation» Гранжана, скомкал их, получившиеся комочки сложил у двери. Сбросив сюртук, стянул через голову синюю шерстяную фуфайку, длинными сильными пальцами разорвал ее вдоль и стал выдергивать нитки, пытаясь распустить. Вытащив несколько ниток, он решил не терять больше времени, бросил фуфайку на бумагу и снова огляделся вокруг. Матрац на койке! Господи, он же набит соломой! Разрезав ножом материю, Хорнблауэр принялся охапками вытаскивать содержимое. Солома слежалась в плотный ком, но он растряс ее так, что получилась куча почти по грудь. Это даст такой огонь, какой ему надо. Хорнблауэр остановился, заставляя себя мыслить ясно и логично – именно горячность и непродуманность погубили «Мари Галант», а теперь он тратил время на эту фуфайку. Хорнблауэр продумал всю последовательность действий. Из страницы «Manuel de Matelotage» он сделал длинный бумажный жгут и зажег от лампы. Потом вылил жир – лампа была горячая и жир совсем расплавился – на комки бумаги, на палубу, на основание двери. Прикосновение жгута воспламенило бумажный комок, огонь быстро побежал дальше. Дело было сделано бесповоротно. Он бросил солому на пламя, потом в неожиданном приступе безумной силы вырвал койку из креплений, сломав ее при этом, и швырнул обломки на солому. Огонь уже бежал по ней. Хорнблауэр кинул лампу на кучу, схватил сюртук и выскочил из каюты. Он хотел было, закрыть дверь, но передумал – чем больше воздуха, тем лучше. Нырнув в сюртук, он взбежал по трапу.
На палубе Хорнблауэр сунул дрожащие руки в карманы и заставил себя с безразличным видом прислониться к лееру. От возбуждения он почувствовал слабость. Время шло, возбуждение не спадало. Важна каждая минута до того, как пламя обнаружат. Французский офицер с торжествующим смехом что-то говорил, указывая за гакаборт – очевидно, о том, что «Неустанный» остался позади. Хорнблауэр печально улыбнулся в ответ, потом подумал, что улыбка тут неуместна, и попытался изобразить мрачную гримасу. Дул свежий ветер, так что «Пика» едва могла нести все паруса незарифлеными. Хорнблауэр ощущал его дыхание на своих горящих щеках. Все на палубе оказались необычайно заняты: Нэвиль наблюдал за рулевым, время от времени поглядывая наверх, убедиться, все ли паруса работают в полную силу; матросы стояли у пушек, двое вместе со старшиной бросали лаг. Господи, долго ли еще он протянет?
Вот оно! Комингс кормового люка как-то исказился, заколебался в дрожащем воздухе. Через него идет горячая струя. А это не намек ли на дым? Точно! В этот момент поднялась тревога. Громкий крик, топот ног, резкий свист, барабанный бой, пронзительный крик: «Au feu! Au feu!»
Четыре аристотелевы стихии, – проносилось в смятенном рассудке Хорнблауэра, – земля, воздух, вода и огонь – извечные враги моряка. Но ни подветренный берег, ни шторм, ни волна не так опасны, как пожар на деревянном судне. Старое дерево, покрытое толстым слоем краски, загорается легко и горит быстро. Паруса и просмоленный такелаж вспыхивают, как фейерверк. А в трюме многие тонны пороха ждут первой возможности разорвать моряков в куски. Хорнблауэр смотрел, как пожарные отряды один за другим включаются в работу, помпы втащили на палубу, подсоединили шланги. Кто-то пробежал на корму с сообщением для Нэвиля, очевидно, доложить о месте возникновения пожара. Нэвиль выслушал сообщение, и, прежде чем выкрикнуть приказания посыльному, бросил быстрый взгляд на прислонившегося к лееру Хорнблауэра. Из люка уже валил густой дым: по приказу Нэвиля кормовые матросы бросились в отверстие сквозь дымовую завесу. Дыма становилось все больше и больше, подхваченный ветром, он клубами плыл в сторону носа – видимо, дым валил и из корабельных бортов по ватерлинии.
Нэвиль зашагал к Хорнблауэру с искаженным от злобы лицом, но крик рулевого остановил его. Рулевой, не выпуская из рук штурвала, ногой указывал на световой люк каюты. Под ним мелькали языки пламени. Пока они смотрели, стекло вывалилось, и в отверстие полыхнуло пламя. Склад краски, – вычислял Хорнблауэр (он был теперь спокоен и позже, вспоминая, сам удивлялся этому спокойствию) должно быть прямо под каютой и полыхает изо всех сил. Нэвиль посмотрел вокруг, на море и небо, и в бешенстве ухватился за голову. Первый раз в жизни Хорнблауэр видел, как человек буквально рвет на себе волосы. Но Нэвиль овладел собой. По его приказу принесли еще одну переносную помпу четверо матросов стали к рукояткам, и – кланк-кланк кланк-кланк – стук помпы слился с ревом огня. Тонка струя воды полилась в световой люк. Другие матросы выстроились в цепочку и принялись черпать воду из моря и передавать ведрами – толку от этого было еще меньше, чем от помпы. Снизу раздался глухой рокот взрыва. У Хорнблауэра перехватило дыхание – он ждал, что корабль разорвет на куски. Но больше взрывов не последовало: то ли треснула пушка, то ли рванул бочонок с водой. Тут цепочка матросов, передававших воду, неожиданно разорвалась: под ногами одного из них палубный паз разверзся широкой алой ухмылкой из которой тут же вырвалось пламя. Кто-то из офицеров схватил Нэвиля за руку и горячо с ним спорил. Хорнблауэр видел, как Нэвиль в отчаянии сдался. Матросы засуетились, убирая фор-марсель и фок, другие бросились к грота-брасам. Штурвал повернулся, и «Пика» стала против ветра.
Перемена была разительная, хотя поначалу больше кажущаяся, чем подлинная: поскольку ветер дул теперь в другую сторону, рев огня был не так слышен на баке. Тем не менее выигрыш был заметный: огонь, вспыхнувший у кормы, теперь относился ветром не вперед, а, напротив, на уже полусгоревшую древесину. Несмотря на это, вся кормовая часть пылала; рулевой вынужден был бросить штурвал, пламя охватило косую бизань и полностью уничтожило ее – только что тут был парус, а в следующую секунду лишь обгорелые клочья свисали с гафеля. Но теперь, против ветра, остальные паруса были вне опасности, а торопливо поставленный бизань-трисель удерживал судно в положении кормой вперед. Вот тут Хорнблауэр, глядя вперед, снова увидел «Неустанный». Он мчался к ним на всех парусах; когда «Пика» поднималась, Хорнблауэр видел белый бурун под его бушпритом. Капитуляция была неизбежна – «Пика», при ее размерах, не устояла бы под натиском такой батареи пушек, не будь она даже повреждена огнем. В кабельтове с наветренной стороны «Неустанный» лег в дрейф, шлюпки с него спустили еще до окончания маневра. Пелью видел дым, понял, из-за чего «Пика» легла в дрейф, и успел подготовиться. Оба баркаса несли на носу, там, где иногда устанавливались карронады, по помпе. Они зашли «Пике» в корму и без лишних разговоров принялись поливать ее струями воды. Команды двух гичек сразу бросились на корму и включились в схватку с огнем, но Болтон, третий лейтенант, остановился на секунду, заметив Хорнблауэра.
– Господи! – воскликнул он. – Вы-то как тут очутились?
Ответа он дожидаться не стал. Осмотревшись в поисках капитана, он зашагал к Нэвилю, чтобы принять капитуляцию, глянул наверх, убедился, что там все в порядке, и принялся за тушение пожара. Пламя удалось одолеть, главным образом потому, что сгорело почти все, что могло гореть.
«Пика» выгорела на несколько футов от гакаборта до самой воды, так что с палубы «Неустанного» являла собой странное зрелище. Однако сейчас она вне опасности, при благоприятных условиях ее можно будет с некоторым трудом довести до Англии, починить и снова спустить на воду.
Главное, однако, не то, что ее можно спасти, главное, что она больше не причинит вреда британской торговле. Об этом говорил Хорнблауэру сэр Эдвард Пелью, когда мичман поднялся на борт «Неустанного» и доложился капитану. Пелью велел, чтобы Хорнблауэр начал с того момента, когда высадился с призовой командой на борт «Мари Галант». Как Хорнблауэр и предполагал – возможно, этого-то он и боялся – Пелью спокойно отнесся к потере брига. Перед сдачей бриг был поврежден артиллерийским обстрелом, и никто теперь не узнает, каков был размер ущерба. Пелью не стал на этом задерживаться. Хорнблауэр пытался спасти судно, но из-за малочисленности команды не преуспел – в тот момент никак нельзя было выделить ему большей команды. Пелью не счел Хорнблауэра виновным. Опять-таки, главное – Франция не получила груз «Мари Галант»; то, что Англия могла бы им воспользоваться – дело десятое. Точно то же самое, что в случае с «Пикой».
– Как вовремя она загорелась, – заметил Пелью, глядя на лежащую в дрейфе «Пику» – вокруг нее суетились шлюпки, но над кормой поднимались лишь тонкие струйки дыма. – Она уходила от нас, мы бы через час потеряли ее из виду. У вас есть какие-нибудь предположения, как это могло случиться, мистер Хорнблауэр?
Хорнблауэр, естественно, ждал этого вопроса и был к нему готов. Сейчас надо было отвечать честно и скромно получить заслуженную похвалу, упоминание в «Вестнике», может быть даже – назначение исполняющим обязанности лейтенанта. Но Пелью не знал всех подробностей гибели брига, а если бы и знал, мог неправильно их оценить.
– Нет, сэр, – сказал Хорнблауэр. – Я думаю, это было случайное самовозгорание в рундуке с краской. Других объяснений я не нахожу.
Он один знал о своей преступной халатности, один мог определить меру наказания, и выбрал эту. Только так мог он восстановиться в собственных глазах. Произнесенные слова принесли ему огромное облегчение и ни капли сожаления.
– Все равно это была большая удача, – задумчиво произнес Пелью.
Человек, которому было плохо
На этот раз волк рыскал вокруг овчарни. Его Величества фрегат «Неустанный» загнал французский корвет «Папийон» в устье Жиронды, и теперь искал возможность напасть на него. «Папийон» стоял на якоре под прикрытием береговых батарей. Капитан Пелью смело повел фрегат в мелкие воды, и подошел настолько близко, что батареи открыли предупредительный огонь. Пелью долго и внимательно разглядывал корвет в подзорную трубу. Потом он сложил трубу, повернулся на каблуках и приказал отвести «Неустанный» от опасного подветренного берега – за пределы видимости. Этим маневром он надеялся усыпить бдительность французов. Ибо не собирался оставлять их в покое. Если удастся захватить или потопить корвет, французы не просто лишатся судна, способного причинить вред британской торговле: им придется усилить береговую охрану в этом месте, ослабив ее в другом. Война состоит из яростных ударов и контрударов, и даже сорокапушечный фрегат, если направить его умелой рукой, может нанести чувствительный удар.
Мичман Хорнблауэр прохаживался по подветренной стороне шканцев (это скромное место он занимал в качестве младшего вахтенного офицера), когда к нему приблизился мичман Кеннеди. Кеннеди широким жестом снял шляпу и склонился в церемонном поклоне, которому некогда обучил его учитель танцев – левая нога вперед, шляпа касается правого колена. Хорнблауэр включился в игру, прижал шляпу к животу и трижды быстро согнулся пополам. Благодаря врожденной неловкости, он мог без особых усилий пародировать торжественную важность.
– Досточтимейший и достохвальнейший сеньор, – начал Кеннеди, – я несу вам приветствия капитана сэра Эдварда Пелью и нижайшую просьбу вышеупомянутого капитана к Вашему Степенству присутствовать у него за обедом в восемь склянок послеполуденной вахты.
– Мое почтение сэру Эдварду, – при упоминании этого имени Хорнблауэр глубоко поклонился, – и передайте ему, что я снизойду до краткого визита.
– Я уверен, что капитан будет бесконечно польщен, – сказал Кеннеди, – и передам ему свои поздравления вместе с вашим великодушным согласием.
Обе шляпы еще более изысканно качнулись в воздухе, но тут молодые люди заметили, что с наветренной стороны на них смотрит вахтенный офицер мистер Болтон. Поспешно нахлобучив шляпы; они приняли вид, более приличествующий офицерам, получившим патент от короля Георга.
– Что капитан задумал? – спросил Хорнблауэр. Кеннеди приложил палец к носу.
– Если б я знал, я заслуживал бы пары эполетов, сказал он. – Что-то затевается. Я полагаю, мы скоро узнаем что. До тех пор нам, мелким пташкам, надлежит резвиться, не подозревая о своей участи. Ну что ж, смотри, чтоб корабль не опрокинулся.
Однако за обедом в большой каюте «Неустанного» не было заметно никаких признаков того, что что-то замышляется. Пелью во главе стола изображал любезного хозяина. Старшие офицеры – два лейтенанта, Эклз и Чадд, и штурман Соме, свободно беседовали на различные темы. Хорнблауэр и другой младший офицер, Мэлори, мичман с двухлетним стажем, молчали, как и полагается мичманам. Это, кстати, позволяло им не отвлекаться от еды, значительно превосходившей все, что подавалось в мичманской каюте.
– Ваше здоровье, мистер Хорнблауэр, – сказал Пелью, поднимая бокал.
Хорнблауэр попытался изящно поклониться. Он осторожно отхлебнул вино: пьянел он легко, а пьяным быть не любил.
Стол освободили, и офицеры некоторое время ждали, что же сделает Пелью.
– Ну, мистер Соме, – сказал капитан, – давайте посмотрим карту.
Это была карта устья Жиронды с отметками глубин; кто-то карандашом нанес на нее положение береговых батарей.
– «Папилон», – сэр Эдвард не затруднял себя французским произношением, – находится здесь. Мистер Сомс отметил его положение.
Пелью указал на карандашный крестик глубоко в устье реки.
– Вы, джентльмены, отправитесь на шлюпках и вытащите его оттуда.
Так вот оно что! Операция по захвату вражеского судна.
– Командовать будет мистер Эклз. Я попрошу его изложить свой план.
Седой первый лейтенант с удивительно юными голубыми глазами оглядел собравшихся за столом.
– Я возьму баркас, – сказал он. – Мистер Сомс – тендер. Мистер Чадд и мистер Мэлори будут командовать первой и второй гичками, мистер Хорнблауэр – яликом. На всех шлюпках, кроме той, которой командует мистер Хорнблауэр, будет по второму младшему офицеру. Для ялика с командой в семь человек это и не нужно. На баркасе и на тендере будет от тридцати до сорока человек на каждом, на гичках по двадцать: набиралось довольно много народу – почти половина команды.
– Это военный корабль, – объяснил Эклз, угадав их мысли. – Не торговый. По десять пушек с каждого борта, и большая команда.
Ближе к двум сотням, чем к сотне – серьезный противник для ста двадцати британских моряков.
– Но мы нападем на них ночью и захватим врасплох, – сказал Эклз, снова читая их мысли.
– Внезапность, – вставил Пелью, – более чем половина успеха, как вы знаете, джентльмены. Извините, что перебил вас, мистер Эклз.
– Сейчас, – продолжал Эклз, – мы вне пределов видимости. Мы снова подойдем к берегу. Поскольку мы ни разу не появлялись в этой части берега, лягушатники думают, что мы ушли совсем. Завтра после захода мы подойдем возможно ближе к берегу. Самый высокий прилив завтра в 4.50, рассвет в 5.30. Атака начнется в 4.30, так что подвахтенные успеют поспать. Баркас подойдет с правой раковины, тендер – с левой, гичка мистера Мэлори – с левой скулы, гичка мистера Чадда – с правой. Мистер Чадд должен будет перерубить якорный канат, как только завладеет баком, а команды других шлюпок по крайней мере достигнут юта.
Эклз оглядел командиров трех больших шлюпок. Все трое кивнули, Эклз продолжал.
– Мистер Хорнблауэр в ялике подождет, пока атакующие закрепятся на палубе. Тогда он высадится на грот-руслень, с правого или с левого борта, как сочтет нужным, и тут же поднимется по грот-вантам, не обращая внимания на то, что происходит на палубе. Он должен отдать грот-марсель и быть готовым по команде выбрать шкоты. Я сам, или мистер Сомс в случае моей гибели либо смертельного ранения, пошлем двух матросов к рулю. Течение вынесет нас из устья, а «Неустанный» будет поджидать сразу за пределами досягаемости береговых батарей.
– Есть замечания, джентльмены? – спросил Пелью. Тут-то Хорнблауэру и следовало заговорить – не раньше и не позже. Слушая Эклза, он ощутил липкий тоскливый страх. Марсовый из него был никудышный, и он это знал. Он боялся высоты и очень не любил лазать по реям. Он знал, что не обладает ни обезьяньей ловкостью, ни сноровкой опытного моряка. Хорнблауэр не чувствовал себя уверенно в темноте даже на реях «Неустанного», и мысль о необходимости взбираться на мачту совершенно незнакомого судна повергала его в ужас. Он чувствовал себя абсолютно непригодным к исполнению возложенной на него задачи, и должен был немедленно сообщить о своей непригодности. Но он упустил момент – слишком уж спокойно остальные офицеры приняли план. Хорнблауэр взглянул на их уверенные лица. Никто не обращал внимания, и ему страшно не захотелось выделяться. Он сглотнул, он даже открыл рот, но никто по-прежнему на него не смотрел, и возражения замерли у него на губах.
– Очень хорошо, джентльмены, – сказал Пелью. – Я думаю, мистер Эклз, вам лучше перейти к подробностям.
Теперь было поздно. Эклз, разложив карту, показывал курс среди мелей и илистых отмелей Жиронды, пространно разъяснял положение береговых батарей и зависимость между Кордуанским маяком и расстоянием, на которое «Неустанный» сможет подойти при свете дня. Хорнблауэр слушал, пытаясь сосредоточиться вопреки своим страхам. Эклз закончил, и Пелью отпустил офицеров, сказав напоследок:
– Теперь, джентльмены, вы знаете свои обязанности и можете приступать к подготовке. Солнце садится, а дел у вас много. Назначить команду шлюпок, проследить, чтоб все были вооружены, чтоб шлюпки были снабжены всем необходимым на случай непредвиденных обстоятельств. Каждому объяснить, что от него потребуется.
Хорнблауэру пришлось к тому же попрактиковаться в подъеме на грот-ванты и продвижении вдоль грот-марса-рея. Он проделал это дважды, заставляя себя совершить трудный подъем по путенс-вантам, которые отходят от грот-мачты вверх, так что несколько футов приходится взбираться спиной вниз, цепляясь руками и ногами за выбленки. Все это давалось ему с большим трудом, двигался он медленно и неуклюже. Встав на ножной перт, Хорнблауэр двинулся к ноку рея. Перт крепился к нокам рея и висел в четырех футах ниже него. Чтобы отдать удерживающие парус сезни, надо было, держась за рей, поставить ноги на перт и переступать по нему, сжимая рей под мышками. Хорнблауэр проделал этот путь дважды, перебарывая тошноту, которая то и дело накатывала при мысли о стофутовой пропасти под ногами. Наконец, нервно сглатывая, он перехватил руки на брас и заставил себя соскользнуть на палубу – это будет самый удобный путь, когда придет время выбирать шкоты на марселе. Спуск был долгий и опасный.
Хорнблауэр вспомнил, как, впервые увидев матросов на мачте, подумал, что подобный трюк в цирке вызвал бы у публики восторженные ахи и охи. Он спустился вниз, совершенно не удовлетворенный собой. Его преследовала навязчивая картина: когда приходит время повторить этот трюк на «Папийоне» он не удерживается, срывается и вниз головой падает на палубу – несколько кошмарных секунд в воздухе и, наконец, громкий удар. А ведь успех всей операции зависит от него (как, впрочем, и от всех остальных): если вовремя не отдать марсель, корвет не наберет скорости, необходимой для управления рулем, сядет на одну из бесчисленных мелей в устье реки и будет с позором захвачен французами, половина команды «Неустанного» попадет в плен или будет перебита.
На шкафуте выстроилась для осмотра команда ялика. Хорнблауэр проверил, чтоб все весла были как следует обмотаны, у каждого матроса был с собой пистолет и абордажная сабля, убедился, что все пистолеты на предохранителе и преждевременный выстрел не выдаст нападающих. Он распределил, кому из матросов что делать при отдаче марселя и подчеркнул, что гибель кого-то из них может внести в намеченный план непредвиденные изменения.
– Я первый поднимусь по вантам, – сказал Хорнблауэр.
Без этого было никак нельзя. Он должен идти первым – этого от него ждали. Более того, скажи он по-другому, это вызвало бы разговоры – и осуждение.
– Джексон, – продолжал Хорнблауэр, обращаясь к рулевому, – вы покинете лодку последним и примите командование в случае моей гибели.
– Есть, сэр.
Поэтическое слово «гибель» обычно употреблялось вместо прозаического «смерть», и, только произнеся его, Хорнблауэр осознал его ужасный смысл.
– Все ясно? – отрывисто спросил он. От напряжения голос его прозвучал резко.
Все кивнули, за исключением одного матроса.
– Прошу прощения, сэр, – сказал Хэйлс, молодой человек, сидевший загребным. – Я что-то плоховато себя чувствую.
Хэйлс был смуглый, хрупко сложенный юноша. Говоря, он выразительно приложил руку ко лбу.
– Не тебе одному плохо, – припечатал Хорнблауэр. Остальные хохотнули. Мысль о высадке на незнакомый корвет в самом логове врага, да еще под дулами береговых батарей вполне может вызвать отвращение у человека робкого. Наверняка большая часть назначенных в вылазку матросов испытывала что-то в этом роде.
– Я не то хотел сказать, сэр, – обиженно сказал Хэйлс. – Совсем не то.
Но Хорнблауэр и все остальные уже не обращали на него внимания.
– Придержи язык, ты, – рявкнул Джексон.
Человек, который, узнав об опасном поручении, объявляет себя больным, не заслуживает ничего, кроме нареканий. Хорнблауэр почувствовал жалость, смешанную с презрением. Сам он был слишком труслив даже для того, чтоб отговориться – слишком боялся, что о нем скажут другие.
– Вольно, – сказал Хорнблауэр. – Когда вы понадобитесь, я за вами пошлю.
Оставалось ждать несколько часов, пока «Неустанный» проберется поближе к берегу. Лот кидали постоянно, и Пелью лично руководил продвижением судна. Хорнблауэр, несмотря на волнение и страх, восхищался, с каким удивительным умением Пелью темной ночью вел большой корабль через эти коварные воды. Процесс этот так приковал внимание Хорнблауэра, что прекратилась даже мучившая его мелкая дрожь: Хорнблауэр был из тех, кто не перестанет наблюдать и учиться даже на смертном одре. К тому времени, как «Неустанный» достиг той точки в устье реки, где предстояло спускать шлюпки, Хорнблауэр немало узнал о практическом применении принципов прибрежной навигации и не меньше об организации операции по захвату судна; кроме того, путем самоанализа он узнал очень много о психологии людей, готовящихся к вылазке.
Когда пришла пора спускать шлюпку на чернильно-черную воду, Хорнблауэр уже полностью овладел собой. Он сохранял невозмутимый вид, и голос, которым он приказал отваливать, прозвучал тихо и твердо. Хорнблауэр взялся за румпель. Ощущение твердого деревянного бруса в руках успокаивало: он давно привык сидеть на кормовой банке, положив руку на румпель. Матросы медленно взмахнули. веслами.
Ялик неспешно двинулся за темными силуэтами четырех больших шлюпок: времени в запасе было достаточно. Прилив вынесет их в устье. Хорошо, что не надо торопиться, ведь с одной стороны от них батареи Сен-Ди, с другой – крепость Блайэ; сорок больших пушек полностью простреливают устье, и ни одна из пяти шлюпок, а уж тем более ялик, не выдержат и одного выстрела.
Хорнблауэр внимательно следил за идущим впереди тендером. Вся ответственность за то, чтоб провести шлюпки по коварному речному руслу, лежала на Сомсе; Хорнблауэру оставалось лишь следовать за ним – до тех пор, пока не придет время отдавать грот-марсель. Хорнблауэр снова задрожал.
Хэйлс, тот матрос, который плохо себя чувствовал, сидел загребным. Хорнблауэр видел, как впереди ритмично движется его силуэт. Не обращая внимания на Хэйлса, он пристально вглядывался в идущий впереди тендер, как вдруг неожиданная заминка вернула его внимание в шлюпку. Загребной пропустил гребок и сбил с ритма всех шестерых гребцов. Послышался тихий стук падающего предмета.
– Думай, что делаешь, Хэйлс, черт тебя побери, – прошептал Джексон, рулевой.
Вместо ответа Хэйлс издал крик, к счастью, негромкий, и упал на ноги Джексону и Хорнблауэру, брыкаясь и дергаясь.
– Вот сволочь, – сказал Джексон.– У него припадок.
Судороги продолжались. Из темноты послышался укоризненный шепот:
– Мистер Хорнблауэр, – Эклз пытался вложить в шепот все свое раздражение. – Вы что, не можете заставить своих людей помолчать?
Чтобы сказать это, Эклз подвел баркас к самому борту ялика. Крайняя необходимость соблюдать тишину особенно подчеркивалась отсутствием обычных ругательств. Хорнблауэр мог вообразить язвительный выговор, ожидающий его завтра прилюдно на шканцах. Он открыл было рот, чтобы объясниться, но вовремя сообразил, что участники ночной вылазки не оправдываются под пушками крепости Блайэ.
– Есть, сэр, – прошептал он, и баркас вернулся в хвост флотилии, ведомой тендером.
– Возьмите его весло, Джексон, – зашептал он рулевому. Встав, он своими руками оттащил брыкающееся тело с прохода, освобождая Джексону путь.
– Полейте его водичкой, сэр, – хрипло посоветовал Джексон. – Вот и черпак рядом.
Морская вода – универсальное лекарство моряка, его панацея. Учитывая, как часто матросы не только ходят в мокрых бушлатах, но и спят в мокрых постелях, они должны бы вообще никогда не болеть. Но Хорнблауэр не стал трогать эпилептика. Тот уже почти не дергался, и Хорнблауэр решил не греметь черпаком. Жизнь более чем сотни людей зависит сейчас от тишины. Они вошли уже в устье и были ни расстоянии пушечного выстрела от береговых батарей – а первый же выстрел поднимет на ноги команду «Папийона», и та будет готова встать к фальшборту и отбить атаку, готова расстрелять шлюпки пушечными ядрами, засыпать их градом картечи.
Шлюпки тихо скользили по воде. Сомс на тендере задавал медленный темп: лишь изредка требовалось несколько гребков, чтоб поддержать скорость, необходимую для управления шлюпками. Сомс мастерски знал свое дело: он выбрал темный проток между глинистыми отмелями, непроходимый для больших судов. Для измерения глубины у него был двадцатифутовый шест – измерять им быстрее, чем лотом, и гораздо тише. Минуты бежали быстро, но ночь была еще совсем темна. Напрягая глаза, Хорнблауэр так и не мог уверенно различить плоские берега реки. Нужно было обладать исключительным зрением, чтоб различить с берега маленькие шлюпки, несомые приливом.
Хэйлс у ног Хорнблауэра зашевелился. Шаря в темноте руками, он наткнулся на лодыжку Хорнблауэра и теперь с интересом ее ощупывал. Потом он что-то задумчиво произнес, слова перешли в стон.
– Молчать! – прошептал Хорнблауэр, пытаясь, подобно древнему святому, превратить свое тело в язык, дабы не издав ни одного громкого звука, внушить Хэйлсу необходимость соблюдать тишину. Хэйлс положил локоть Хорнблауэру на колено и с трудом сел, затем так же с трудом встал, покачиваясь на полусогнутых ногах и опираясь на Хорнблауэра.
– Сядь, черт возьми! – прошептал Хорнблауэр, трясясь от гнева и отчаяния.
– Где Мэри? – спросил Хэйлс, как ни в чем не бывало.
– Молчать!
– Мэри! – сказал Хэйлс, навалившись на Хорнблауэра. – Мэри!
Каждое следующее слово было громче предыдущего. Хорнблауэр нутром чуял, что скоро Хэйлс начнет говорить в полный голос или даже закричит. Он вспомнил, как когда-то давно его отец-доктор говорил ему, что пациент после эпилептического припадка не отвечает за себя и нередко бывает опасен для окружающих.
– Мэри! – снова позвал Хэйлс.
Успех операции и жизнь сотни людей висели на волоске. Надо было утихомирить Хэйлса, причем немедленно. Хорнблауэр подумал, не стукнуть ли его рукояткой пистолета,нопод рукой было более подходящее оружие. Он снял трехфутовый дубовый брус румпеля и размахнулся им со всей вызванной отчаянием злостью.
Румпель обрушился Хэйлсу на голову, и тот, не закончив, начатое слово, рухнул на дно шлюпки. Команда шлюпки молчала, только Джексон тихо вздохнул – одобряюще или осуждающе Хорнблауэр так и не узнал, да его это и не волновало. Он исполнил свой долг, в этом он был уверен. Он прибил беспомощного идиота, скорее всего убил его, но не поставил под угрозу внезапность, от которой зависел успех операции. Он надел румпель на место и молча вернулся к своему делу – держаться в кильватере тендера.
Далеко впереди – в темноте было невозможно оценить расстояние – над поверхностью воды виднелся как бы сгусток черноты. Это мог быть корвет. Еще раз десять тихо взмахнули весла, и Хорнблауэр уже не сомневался. Сомс проявил чудеса лоцманского искусства, выведя шлюпки точно к намеченной цели. Тендер и баркас отошли в сторону от двух гичек: шлюпки расходились, готовясь одновременно начать атаку.
– Суши весла! – прошептал Хорнблауэр, и команда ялика перестала грести.
Теперь Хорнблауэр должен был дожидаться, пока атакующие закрепятся на палубе. Его руки судорожно сжимали румпель: возбуждение от расправы с Хэйлсом на время вышибло из его головы все мысли о необходимости взбираться в темноте по незнакомому такелажу. Теперь эти мысли вернулись с новой силой. Хорнблауэр боялся.
Корвет он видел, но шлюпки исчезли из поля зрения. Корвет покачивался на якорях, его мачты слабо виднелись на фоне ночного неба – и сюда ему придется лезть! Казалось, они вздымаются на неимоверную высоту. Хорнблауэр увидел, как вблизи корвета плеснула вода – шлюпки подходили быстро и кто-то неосторожно взмахнул веслом. В тот же момент с палубы послышался окрик, потом другой, в ответ со шлюпок раздался многоголосый рев, пронзительный и долгий. Кричали не просто так: оглушительный рев ошеломит спящего врага, а команда каждой шлюпки будет знать, где находятся остальные. Британские моряки орали, как сумасшедшие. На палубе корвета сверкнула вспышка, и послышался грохот – первый выстрел; вскоре по всей палубе уже палили пистолеты и гремели ружья.
– Вперед! – сказал Хорнблауэр. Приказ дался ему так тяжело, словно его вырвали на дыбе.
Ялик двинулся вперед. Хорнблауэр пытался одновременно овладеть своими чувствами и понять, что происходит на палубе. Причин выбирать тот или иной борт не было, левый борт был ближе, так что он подвел шлюпку к грот-русленю левого борта. Ему было так любопытно, что же происходит на палубе, что он едва не забыл приказать, чтоб убрали весла. Он положил румпель к ветру, шлюпка развернулась, и баковый матрос зацепился за корвет багром. С палубы наверху слышался звук, в точности такой же, как если бы лудильщик чинил кастрюлю – Хорнблауэр услышал этот странный звук, еще стоя на корме. Он проверил, на месте ли сабля и пистолет, и прыгнул на руслень. Отчаянным прыжком он допрыгнул до него и подтянулся. Руки его ухватились за ванты, ноги нащупали выбленки: он начал подниматься. В тот момент, когда его голова оказалась над фальшбортом, пистолетная вспышка на мгновение осветила сцену, и идущая на палубе борьба предстала в виде застывшей картины. Впереди и внизу британский матрос рубился с французом на абордажных саблях, и Хорнблауэр с изумлением понял, что звук, напомнивший ему о починке чайника, был звуком ударов сабли о саблю, тем самым, воспетым поэтами, бряцанием стали о сталь. Так романтично.
Пока он все это думал, он успел высоко взобраться по вантам. Почувствовав локтем путенс-ванты, он перебрался на них и повис спиной вниз, смертельной хваткой цепляясь за выбленки. Это продолжалось лишь две-три отчаянных секунды, потом он подтянулся и начал последний этап подъема. Вот и марса-рей. Хорнблауэр повис на нем, ища ногами перт. Боже милостивый! Ножного перта не было – его ноги болтались в воздухе, не находя опоры. Хорнблауэр висел в сотне футов над палубой и дергал ногами, словно младенец, которого отец держит на вытянутых руках. Ножного перта нет – возможно, французы убрали его именно на такой случай. Ножного перта нет, значит, до фока рея ему не добраться. И все-таки сезни надо отдать и парус распустить – от этого зависит успех операции. Хорнблауэр несколько раз видел, как отчаянные матросы бегают по рею, подобно канатоходцам. Это – единственный способ добраться до нока.
На мгновение у него перехватило дыхание – слабая плоть воспротивилась мысли о том, чтоб идти по рею над черной бездной. Это – страх, страх, лишающий мужчину мужества, обращающий внутренности его в воду, делающий бумажными ноги. Но деятельный мозг Хорнблауэра продолжал лихорадочно работать. Ему хватило решимости разделаться с бедным Хэйлсом. Ему хватило смелости, когда дело не касалось его самого: он недрогнувшей рукой прибил несчастного эпилептика. Вот, значит, на какую смелость он способен! Простым, вульгарным, физическим мужеством он не обладает. Это трусость, об этом люди шепчутся между собой. Мысль эту он вынести не мог – она была ужасней даже мысли о ночном падении на палубу. Набрав в грудь воздуха, он закинул колено на рей, подтянулся и встал. Под ногами он почувствовал круглое, обтянутое парусиной дерево и шестым чувством понял, что задерживаться здесь нельзя
– За мной, ребята! – закричал он и побежал по рею.
До нока было футов двадцать, и он покрыл их в несколько отчаянных прыжков. Совершенно не чувствуя страха, он присел, ухватился руками за рей и повис на нем всем телом, ощупью ища сезни. Рей подрагивал – значит Олдройд, которому назначено было идти за ним, пробежал следом – ему надо было пройти на шесть футов меньше. Можно не сомневаться, что остальная команда ялика тоже на рее, и что Клу повел свою половину матросов на правый нок. Это было ясно по тому, как быстро упал парус. Брас был сразу за Хорнблауэром. Опьяненный успехом, не думая больше об опасности, он ухватился за брас обеими руками и спрыгнул с рея. Обхватив ногами трос, он заскользил вниз.
Дурак! Неужели он никогда не научиться думать? Неужели он никогда не запомнит, что нельзя ни на секунду терять бдительность? Он заскользил так быстро, что тут же стер тросом ладони. Попытавшись крепче сжать руки, чтоб замедлить скорость, Хорнблауэр испытал такую боль, что вынужден был вновь ослабить хватку и скользить вниз, оставляя на тросе кожу. Ноги его коснулись палубы. Оглянувшись кругом, он моментально забыл про боль.
Брезжила серая заря. Звуки битвы стихли. Все было хорошо продумано: сто человек внезапно врываются на борт корвета, сметают якорную вахту и, пока не успели выскочить подвахтенные, одним махом захватывают корабль. С бака послышался громогласный крик Чадда:
– Канат перерублен, сэр! – С кормы закричал Эклз:
– Мистер Хорнблауэр!
– Сэр! – крикнул Хорнблауэр.
– Фалы разобрать!
Матросы бросились на подмогу – не только команда ялика, но и все предприимчивые и смелые моряки. Фалы, шкоты, брасы: парус, поставленный наивыгоднейшим образом, набрал в себя легкий южный ветер, «Папийон» развернулся, готовый плыть с начинающимся отливом. Заря быстро разгоралась, над головой висел легкий туман.
Над правой раковиной пронесся ужасающий рев, затем мглистый воздух разорвали дикие, неестественно громкие крики. Мимо Хорнблауэра пронеслось пушечное ядро – первое в его жизни.
– Мистер Чадд! Поставить передние паруса! Отдать фор-марсель! Поднимитесь кто-нибудь наверх, поставьте крюйсель!
С левого борта послышался новый залп. На берегу поняли, что произошло, и теперь Блайэ палила по ним с одного борта, Сен-Ди – с другого. Но корвет, подхваченный ветром и отливом, двигался быстро, и попасть в него при слабом утреннем освещении было не просто. Все было сделано минута в минуту: малейшее промедление оказалось бы роковым. Лишь одно ядро из следующего залпа пронеслось над ними. Когда оно пролетело, сверху раздался громкий хлопок.
– Мистер Мэлори, прикажите сплеснить фокштаг!
– Есть, сэр!
Было уже достаточно светло и можно было разглядеть, что творится на палубе: Хорнблауэр видел, как Эклз возле полуюта направляет движение корвета, а Сомс у штурвала ведет его вдоль русла. Морские пехотинцы в красных мундирах, с примкнутыми штыками, охраняли люки. Четверо или, пятеро матросов лежали на палубе, безразличные ко всему. Убитые: Хорнблауэр посмотрел на них с юношеской беспечностью. Здесь же сидел раненый: он стонал, согнувшись над раздробленным бедром. На него Хорнблауэр безразлично глядеть не мог. Он обрадовался, хотя бы ради себя, когда в этот самый момент один из матросов попросил и тут же получил у Мэлори разрешение отойти от своего поста и заняться товарищем.
– Приготовиться к повороту оверштаг, – крикнул Эклз с полуюта; корвет достиг выступа мели посреди входа в фарватер и собирался повернуть, чтоб выйти в открытое море.
Матросы бросились к брасам, и Хорнблауэр поспешил к ним. Но первое же прикосновение к жесткому тросу вызвало у него такую боль, что он чуть не вскрикнул. Руки его походили на два куска свежеразделанного сырого мяса, из них лилась кровь. Теперь, когда он вспомнил о них, они невыносимо саднили. Шкоты передних парусов были выбраны, и корвет послушно развернулся.
– «Неустанный», старина! – крикнул кто-то. «Неустанный» был отчетливо виден, он лежал в дрейфе вне досягаемости береговых батарей, поджидая свой приз. Кто-то крикнул «ура!», остальные подхватили; ядро последнего залпа Сен-Ди на излете плюхнулось в воду рядом с корветом. Хорнблауэр судорожно вытаскивал из кармана носовой платок, чтоб перевязать руки.
– Разрешите вам помочь, сэр, – попросил Джексон. Осмотрев голое мясо, он покачал головой.
– Очень уж вы, сэр, неосторожны. Надо было спускаться, перехватывая руки, – сказал он, когда Хорнблауэр объяснил, как заработал травму. – Очень, очень это было неосторожно, сэр, уж не серчайте, что я так говорю. Все вы, молодые джентльмены, такие. Все летите куда-то, сломя голову.
Хорнблауэр поднял глаза, посмотрел на фор-марса-рей и вспомнил, как бежал в темноте по этой тонкой жердочке к ноку. Вспомнив об этом, он вздрогнул, хотя под ногами у него была прочная палуба.
– Простите, сэр. Не хотел сделать вам больно, – сказал Джексон, завязывая узел. – Вот, сэр, что мог, я сделал.
– Спасибо, Джексон, – отвечал Хорнблауэр.
– Мы должны будем доложить о пропаже ялика, – сказал Джексон.
– О пропаже ялика?
– Он должен бы буксироваться у борта, а его там нет. Понимаете, сэр, мы в нем никого не оставили. Уэлс, он должен был остаться, вы помните, сэр. Но я послал его на ванты вперед себя, сэр, Хэйлс то идти не мог, а народу было маловато. Верно ялик и оторвался, когда судно разворачивалось.
– Так что с Хэйлсом?
– Он был в шлюпке, сэр.
Хорнблауэр оглянулся на устье Жиронды. Где-то там плывет по течению ялик, а в нем лежит Хэйлс, может мертвый, может живой. В любом случае, французы его, скорее всего, найдут. При мысли о Хэйлсе холодная волна сожаления притушила в душе Хорнблауэра горячее чувство триумфа. Если бы не Хэйлс, он бы никогда не заставил себя пробежать по рею (по крайней мере, так он думал). К этому времени он был бы конченым человеком, а не лучился от сознания хорошо выполненного долга. Джексон увидел его вытянувшееся лицо.
– Не принимайте так близко к сердцу, сэр, – сказал он. – Они не будут ругать вас за потерю ялика, наш капитан и мистер Эклз, они не такие.
– Я не про ялик думал, – ответил Хорнблауэр. – Я про Хэйлса.
– А, про него? – сказал Джексон. – Что о нем горевать, сэр. Никогда бы ему не стать хорошим моряком, ни в жисть.
Человек, который видел бога
В Бискайский залив пришла зима. После осеннего равноденствия штормовые ветры стали усиливаться, многократно увеличив трудности и опасности для британского флота, сторожившего берега Франции. Потрепанные штормами суда вынуждены были сносить западные ветра и холода, когда брызги замерзают на такелаже и трюмы текут, как корзины; штормовые западные ветра, когда суда должны лавировать от подветренного берега, и, постоянно рискуя, держаться на безопасном расстоянии от него, сохраняя при этом такую позицию, с которой можно будет атаковать любое французское судно, посмевшее высунуть нос из гавани. Мы сказали, потрепанные штормами суда. Но этими судами управляли потрепанные штормами люди, вынужденные неделю за неделей и месяц за месяцем сносить постоянный холод и постоянную сырость, соленую пищу, бесконечный изматывающий труд, скуку блокадного флота. Даже на фрегатах, этих когтях и зубах эскадры, скука была невыносимая: люки задраены, из палубных пазов вода капает на подвахтенных, ночи долгие, а дни короткие, никогда не удается выспаться, а дел все-таки недостаточно. Даже на «Неустанном» в воздухе висело беспокойство, и даже простой мичман Хорнблауэр не мог не чувствовать его, оглядывая свое подразделение перед еженедельным капитанским смотром.
– Что с вашим лицом, Стилс? – спросил, он.
– Чирьи, сэр. Совсем замучили. На щеках и губах Стилса были приклеены несколько кусков пластыря.
– Вы что-нибудь с ними делаете?
– Помощник лекаря, сэр, он мне пластырь дал, говорит скоро пройдет, сэр.
– Очень хорошо.
Ему кажется, или у матросов, соседей Стилса, лица какие-то напряженные? Такие, словно они смеются про себя? Словно прячут улыбки? Хорнблауэр не желал, чтобы над ним смеялись – это плохо для дисциплины, еще хуже, если у матросов между собой какой-то секрет, неизвестный офицерам. Он еще раз внимательно оглядел выстроенных в ряд матросов. Стилс стоял, как деревянный, его смуглое лицо ничего не выражало; черные кудри тщательно зачесаны за уши, все безукоризненно. Но Хорнблауэр чувствовал, что их разговор чем-то развеселил дивизион, и это ему не нравилось. После смотра он отловил в кают-компании врача, мистера Лоу.
– Чирьи? – переспросил Лоу. – Ясное дело, у матросов чирьи. Солонина с горохом девять месяцев подряд – и вы хотите, чтоб чирьев не было? Чирьи… нарывы… фурункулы – все язвы египетские.
– И на лице?
– И на лице тоже. Где еще они бывают, скоро узнаете сами.
– Ими занимается ваш помощник? – настаивал Хорнблауэр.
– Конечно.
– Что это за человек?
– Мугридж?
– Это его фамилия?
– Хороший лекарский помощник. Попросите его приготовить вам слабительное и сами убедитесь. Именно это я бы вам и прописал, а то вы что-то сильно не в духе, молодой человек.
Мистер Лоу прикончил стакан рому и забарабанил по столу, требуя вестового. Хорнблауэр понял, что ему еще повезло застать Лоу относительно трезвым, а то он и этого бы из него не вытянул. Хорнблауэр повернулся и отправился на бизань-марс, чтобы в тишине обдумать свои проблемы. Это был его новый боевой пост: если люди не расставлены по местам, здесь можно было ненадолго обрести благословенное одиночество, которое так трудно найти на людном судне. Завернувшись в бушлат, Хорнблауэр сел на доски бизань-марса; над его головой крюйс-стеньга описывала в сером небе беспорядочные круги, рядом с ним стень-ванты пели под порывистым ветром свою протяжную песнь, внизу текла корабельная жизнь. «Неустанный», кренясь с боку на бок, шел на север под зарифленными парусами. В восемь склянок он повернет на юг, неся свой бесперебойный дозор. До этого времени Хорнблауэр свободен: он может поразмышлять о чирьях на лице Стилса и о скрытых усмешках прочих матросов дивизиона.
На деревянном ограждении марса появились две руки, за ними голова. Хорнблауэр с раздражением посмотрел на человека, нарушившего ход его мыслей. То был Финч, матрос из его дивизиона, щуплый мужичок с редкими волосами, водянистыми голубыми глазами и идиотской улыбкой. Именно такая улыбка осветила его лицо, когда, после первого разочарования – он не ожидал, что марс окажется занят – он узнал Хорнблауэра.
– Простите, сэр, – сказал Финч, – я не знал, чтовы здесь.
Финч висел в неудобной позе, спиной вниз, не решаясь перелезть с путенс-вант и рискуя упасть при очередном крене корабля.
– Залезайте, если хотите, – сказал Хорнблауэр, проклиная свое мягкосердечие. Строгий офицер велел бы Финчу убираться, откуда пришел, и не мозолить глаза.
– Спасибо, сэр. Большое спасибо, – сказал Финч, перекидывая ногу через ограждение. Он подождал, пока корабль накренится, и перевалился на марс.
Здесь Финч присел, чтоб из-под крюйселя взглянуть на грота-марс, потом обернулся к Хорнблауэру и обезоруживающе улыбнулся, словно пойманный на шалости ребенок. Хорнблауэр знал, что Финч немного не в себе (поголовная вербовка выгребла во флот всех кого попало, в том числе и слабоумных), хотя моряком он был опытным, мог убирать паруса, брать рифы и стоять у штурвала. Улыбка его выдавала.
– Здесь лучше, чем внизу, сэр, – извиняющимся тоном сказал Финч.
– Вы правы, – ответил Хорнблауэр с полным безразличием, желая отбить охоту продолжать разговор.
Он отвернулся, чтобы не обращать на Финча внимания, устроился поудобнее и попытался под мерное качание марса-погрузиться в то полусонное состояние, в котором может неожиданно созреть решение. Но это было непросто. Финч метался, как белка в колесе, глядя то с одного, то с другого места, и постоянно прерывая ход мыслей Хорнблауэра, тратя зазря его бесценные полчаса свободы.
– Какого дьявола, Финч?! – рявкнул наконец Хорнблауэр, окончательно потеряв терпение.
– Дьявол, сэр? – переспросил Финч. – Это не дьявол, дьявол не тут, сэр, прошу прощения.
Он снова таинственно улыбнулся, словно нашкодивший ребенок. Какие тайны скрыты в глубине этих странных голубых глаз? Финч снова взглянул под крюйсель: сейчас он был похож на младенца, играющего в «ку-ку».
– Вот он! – сказал Финч. – Я его видел. Бог опять на грота-марсе, сэр.
– Бог?
– Да, да, сэр. Иногда Он на грота-марсе. Чаще всего там. Я Его сейчас видел, борода Его развевается по ветру. Его только отсюда и видно, сэр.
Что можно сказать человеку, у котороготакие галлюцинации? Хорнблауэр тщетно ломал голову над ответом. Финч, казалось, забыл об его присутствии и снова играл в «ку-ку» у края крюйселя.
– Вот Он! – сказал Финч себе, – Вот Он снова! Бог на грота-марсе, а дьявол в канатном ящике.
– Весьма подходяще, – цинично подумал Хорнблауэр, но вслух этого не сказал. Он и не думал высмеивать фантазии – Финча.
– Дьявол в канатном ящике во время собачьих вахт, – сказал Финч, ни к кому не обращаясь, – Бог же вечно пребывает на грота-марсе.
– Странное расписание, – заметил про себя Хорнблауэр..
Внизу на палубе начали бить восемь склянок, в тот же момент боцманы засвистели в дудки и послышался голос боцмана Уолдрона:
– Подвахтенным на выход! Все наверх разворачивать судно! Все наверх! Все наверх! Эй, старшина корабельной полиции, запишите, кто последний появится из люка! Все наверх!
И без того краткий отдых, нарушенный навязчивым присутствием Финча, окончился. Хорнблауэр перелез через ограждение и уцепился за путенс-ванты: не мог же он спускаться через удобную собачью дыру, тем более на глазах у первого лейтенанта, который мог бы пристыдить за столь недостойного моряка поведение. Финч подождал, пока Хорнблауэр слезет с марса, но, даже начав позже, легко перегнал его по дороге на палубу. Опытный моряк, Финч бегал по вантам, как обезьяна. Тут все мысли о странных фантазиях Финча вылетели у Хорнблауэра из головы – надо было разворачивать судно.
Однако позднее Хорнблауэр несколько раз мысленно возвращался к странным словам Финча. Нет сомнений, что Финч твердо верил в то, что говорил. Об этом свидетельствовали и его слова, и выражение его лица. Он говорил о бороде Бога – какая жалость, что он не потрудился подробнее описать дьявола в канатном ящике. Рога, вилы и раздвоенные копыта? И почему только во время собачьей вахты? Странно, что он придерживается строгого расписания. Хорнблауэр затаил дыхание: его внезапно осенило, что у всего этого может быть вполне рациональная подоплека. Быть может, дьявол в канатном ящике во время собачьих вахт – образное выражение, означающее, что там творятся дьявольские дела. Хорнблауэру предстояло решить, что требует от него долг, и что – практические соображения. Можно доложить о своих подозрениях Эклзу, первому лейтенанту; но, поведя на флоте год, Хорнблауэр легко мог вообразить, что ожидает младшего мичмана, рискнувшего побеспокоить первого лейтенанта своими необоснованными подозрениями. Лучше сначала посмотреть самому. Неизвестно, однако, что найдет – если найдет; и как с этим разбираться – опять-таки, если будет с чем разбираться. Хуже того, он не был уверен, что сумеет с этим разобраться, как подобает офицеру. Он может выставить себя дураком. Он может повести себя неправильно, навлечь на себя позор, поставить под угрозу дисциплину на судне, ослабить ту тонкую ниточку, которая связывает офицеров и матросов, дисциплину, которая заставляет три сотни людей по слову своего капитана безропотно сносить неописуемые тяготы и, не задумываясь, рисковать жизнью. Когда восемь склянок сообщили об окончании послеполуденной и начале первой собачьей вахты, Хорнблауэр с трепетом спустился вниз, зажег от фонаря свечу и направился к канатному ящике.
Внизу было темно, душно и плохо пахло, корабль качался на волнах, и Хорнблауэр то и дело спотыкался о разные неожиданные препятствия. Впереди виднелся слабый огонек и слышались голоса. Хорнблауэр задохнулся от страха: быть может, готовится бунт. Он загородил рукой окошко фонаря и тихо двинулся вперед. Два фонаря висели на низких палубных бимсах, под ними сгрудились человек десять, даже больше – до Хорнблауэра доносился шум их голосов, но слов было не разобрать. Тут шум перешел в рев, кто-то в центре круга встал почти в полный рост, насколько позволял ему палубный бимс. Он без всякой видимой причины мотал головой из стороны в сторону. Лицо его было скрыто от Хорнблауэра. Тут Хорнблауэр вздрогнул, увидев, что руки человека связаны за спиной. Сидевшие снова взревели, словно болельщики на скачках; человек со связанными руками повернулся и оказался к Хорнблауэру лицом. Это был Стилс, тот самый, который страдал от чирьев, Хорнблауэр сразу его узнал. Но не это сильнее всего поразило Хорнблауэра. На лице Стилса висело что-то жуткое. Его-то Стилс и пытался стряхнуть, мотая головой. Это была крыса. Желудок Хорнблауэра перевернулся от ужаса и отвращения.
Сильно рванув головой, Стилс сбросил с лица крысу, затем неожиданно плюхнулся на колени, и, с завязанными руками, попытался схватить крысу зубами.
– Время! – крикнул кто-то голосом боцмана Патриджа.
Этот голос так часто будил Хорнблауэра, что он не мог его не узнать.
– Пять дохлых, – сказал другойголос. – Кто угадал, платите.
Хорнблауэр шагнул вперед. Часть каната была сложена в бухту, образуя крысиный загон, в нем на коленях стоял Стилс, вокруг него были живые и мертвые крысы. Возле загона, лицом к нему, сидел Патридж с песочными часами, которыми замеряют время при бросании лота.
– Шесть дохлых, – запротестовал кто-то. – Эта дохлая.
– Нет, не дохлая.
– У нее спина сломана. Она дохлая.
– Она не дохлая, – сказал Патридж. В этот момент споривший поглядел вверх и увидел Хорнблауэра. Слова замерли у него на губах. Все остальные последовали за его взглядом и тоже замерли; Хорнблауэр выступил вперед. Он по-прежнему не знал, что ему делать; он не мог побороть тошноту, вызванную кошмарным зрелищем. Превозмогая страх, он в то же время быстро соображал, что делать, и решил нажать на дисциплину.
– Кто тут старший? – спросил Хорнблауэр. Он оглядел собравшихся: унтер-офицеры, уорент-офицеры второго разряда, боцманы, помощники плотника. Мугридж, помощник лекаря – это многое объясняет. Но и его положение было не простым. Авторитет мичмана с небольшим стажем зависит главным образом от его личных качеств. Он и сам всего лишь уорент-офицер; в конце-концов какой-то мичман не так уж важен в корабельном хозяйстве, и его легко заменить – не то что, скажем, сидевшего здесь Уолберна, купора, знавшего все об изготовлении и хранении бочек с водой.
– Кто тут старший? – повторил Хорнблауэр и вновь не получил прямого ответа.
– Мы не на вахте, – сказал кто-то из сидевших сзади. Хорнблауэр уже овладел собой; возмущение еще кипело в нем, но внешне он казался спокойным.
– Да, вы не на вахте, – холодно сказалон. – Вы играете в азартные игры.
Мугридж бросился защищаться.
– Какие азартные игры, мистер Хорнблауэр? – сказал он. Это очень серьезное обвинение. У нас просто джентльменское состязание. Вы не можете вменя… вменить нам в вину азартные игры.
Мугридж – пьяница, это ясно: скорее всего, он следует примеру своего начальника. В лазарете всегда полно бренди. Хорнблауэр задрожал от ярости; он с трудом сдерживался. Однако гнев помог ему обрести вдохновение.
– Мистер Мугридж, – произнес он ледяным голосом, – советую вам говорить поменьше. Против вас можно выдвинуть и другие обвинения, мистер Мугридж. Служащий порученных сил Его Величества может быть обвинен по статье о приведении себя в негодность для службы, мистер Мугридж. Есть также статьи о пособничестве и подстрекательстве, которые могут коснуться вас. На вашем месте я заглянул бы в Свод Законов Военного Времени, мистер Мугридж. За это преступление положено пороть кошками на всех кораблях эскадры подряд.
Чтоб придать силы своим словам, Хорнблауэр указал на Стилса. По его искусанному лицу текла кровь. Хорнблауэр отмел аргументы своих противников, выбрав ту же линию, что и они; они пытались защищаться в рамках закона, и он в рамках закона разбил их на голову. Взяв верх, он мог теперь дать волю своему возмущению.
– Я мог бы обвинить каждого из вас, – заревел он, – Вы пошли бы под трибунал… лишились чинов… отведали бы кошек… Все до единого… Клянусь богом, Патридж, еще один такой взгляд, и я это сделаю. Поговори я с мистером Эклзом, вы через пять минут оказались бы в кандалах. Я больше не потерплю этих гнусных игр. Выпустите крыс, вы, Олдройд, и вы, Льюис. Стилс, залепите себе лицо пластырем. Вы, Патридж, прикажите людям смотать канат в бухту, как положено, прежде чем мистер Уолдрон его увидит. Я буду впредь за вами присматривать. Если услышу хоть слово о вашем дурном поведении, вы тут же окажитесь на решетчатом люке[6]. Я так сказал, и, клянусь Богом, я это исполню!
Хорнблауэр сам дивился и своему красноречию, и своей выдержке. Он не знал, что окажется на такой высоте. Он мысленно формулировал заключительный залп, но подходящая фраза пришла ему в голову, когда он уже направлялся к выходу. Он повернулся назад и выпалил:
– После этого я желаю, чтобы во время собачьих вахт вы забавлялись на палубе, а не жались в канатном ящике, словно какие-нибудь французишки.
Такая речь пристала бы важному старому капитану, а не младшему мичману, но она позволила ему удалиться достойно. Позади возбужденно гудели голоса. Хорнблауэр поднялся на палубу, в безрадостную серость преждевременной ночи, и, чтобы согреться, решил пройтись по палубе. «Неустанный» упрямо боролся с ревущим западным ветром, из-под носа его фонтаном летели брызги, швы текли, переборки стонали. Кончался день, похожий на предыдущий. Сколько таких еще впереди?
Однако прошло несколько дней, и однообразие корабельной жизни было нарушено. Сумеречным утром хриплый крик впередсмотрящего заставил всех обратить взоры к наветренной стороне. На горизонте виднелось едва заметное пятнышко – корабль. Вахтенные бросились к брасам, и «Неустанный» лег в самый крутой бейдевинд. Капитан Пелью появился на палубе в бушлате поверх ночной рубашки и направил подзорную трубу на незнакомый корабль, десять подзорных труб уже смотрели туда же. Хорнблауэр, глядя в трубу, предназначенную для младшего вахтенного офицера, увидел, как серый прямоугольник разделился на три, а эти три стали суживаться, затем вновь увеличились и слились в один.
– Повернулся оверштаг, – сказал Пелью. – Команде класть судно на другой галс!
«Неустанный» лег на другой галс. Вахтенные матросы побежали по вантам отдавать рифы на марселях, а офицеры на палубе внимательно разглядывали натянутые паруса, просчитывая вероятность того, что бушующий штормовой ветер порвет полотно или сломает мачту. «Неустанный» накренился так, что на качающейся палубе стало трудно устоять; все, кому в данный момент нечего было делать, уцепились за леер с наветренной стороны и принялись глазеть на незнакомый корабль.
– Фок– и грот-мачты почти одинаковой высоты, – сказал Хорнблауэру лейтенант Болтон, не отнимая от глаза подзорную трубу. – Марсели белые, как пальчики у миледи. Ясное дело, мусью.
Паруса британских судов потемнели от долгой службы в любую погоду; когда французский корабль высовывал нос из гавани, пытаясь прорвать блокаду, его безупречно белые паруса выдавали его лучше всяких особенностей постройки.
– Мы его нагоняем, – сказал Хорнблауэр. Его глаза болели от долгого глядения в подзорную трубу, еще сильнее ныла державшая трубу рука, но, взволнованный погоней, он не давал им отдыха.
– Не так быстро, как хотелось бы, – вздохнул Болтон.
– К грота-брасам! – закричал в этот момент Пелью. Это было чрезвычайно важно: развернуть паруса так, чтобы держать как можно круче к ветру; сотня ярдов, выигранных у ветра, стоят мили в расстоянии между судами. Пелью посмотрел вверх на паруса, назад, на быстро исчезающую кильватерную струю, вбок на французское судно, прикинул силу ветра, оценил давление на паруса, используя свой богатый жизненный опыт, чтоб уменьшить расстояние между судами. Следующий приказ Пелью был выдвинуть пушки с наветренной стороны: это несколько уравновесило крен.
– Теперь мы его нагоняем, – сказал Болтон со сдерживаемым оптимизмом.
– Свистать всех по местам! – крикнул Пелью. Корабль ждал этой команды. Оркестр морской пехоты ударил в барабаны, по всему кораблю прокатился грохот, тут же засвистели дудки – это боцманматы подхватили приказ. Матросы дисциплинированно побежали к боевым постам. Хорнблауэр, спешивший к бизань-вантам наветренной стороны, на бегу увидел несколько ухмыляющихся лиц; скорая битва и даже смертельная опасность были лучше, чем бесконечная тоска блокады.
На бизань-марсе он оглядел своих матросов. Они расчехлили замки своих ружей и проверяли затравку; убедившись в их готовности, Хорнблауэр занялся фальконетом. Сняв с казенной части брезентовый чехол и вынув из дула пробку, он снял удерживающие фальконет найтовы и убедился, что вертлюг свободно движется в пазу, а цапфы – в вилке. Щелчок вытяжного шнура убедил его в том, что замок хорошо дает искру и нет необходимости менять кремень. Финч забрался на марс, неся перекинутый через плечо брезентовый пояс с зарядами. Мешочки с ружейными пулями гирляндами висели на ограждении. Финч забил патрон в короткое дуло, Хорнблауэр держал наготове мешочек с пулями, чтобы забить следом. Потом он взял фитиль и аккуратно начал вводить его в запальное отверстие, пока острый конец фитиля не проткнул саржевую оболочку патрона. Фитиль и кремневый замок на марсе незаменимы: здесь нельзя использовать огнепроводный шнур, слишком уж велика опасность, что загорятся паруса и такелаж. Однако и Фальконет, и кремневые ружья на марсе очень важны из тактических соображений. Когда корабли сойдутся рей к рею, люди Хорнблауэра смогут огнем очистить шканцы врага, его мозг.
– Финч, прекратите немедленно! – раздраженно крикнул Хорнблауэр: обернувшись, он увидел, что тот уставился на грота-марс. В этот напряженный момент фантазии Финча его разозлили.
– Прошу прощения, сэр, – произнес Финч, возвращать к своим обязанностям.
Через несколько секунд Хорнблауэр услышал, как Финч шепотом разговаривает сам с собой:
– Там мистер Брэйсгедл, – шептал Финч, – и Олдрс там, и все остальные. Но и Он тоже там.
– К повороту! – донеслось с палубы. Добрый старый «Неустанный» развернулся, застонали поворачиваемые брасами реи. Французы смело попытались обстрелять идущего на него врага продольным огнем, быстрый маневр Пелью их упредил. Теперь суда параллельными курсами шли в бакштаг на расстоянии пушечного выстрела.
– Гляньте-ка на него, – крикнул Дуглас, один из марсовых стрелков. – По двадцать пушек с каждого борта. Неплохо выглядит, а?
Стоявший рядом с Дугласом Хорнблауэр смотрел на палубу французского судна: пушки выдвинуты, возле них суетится орудийная прислуга, офицеры в белых бриджах, синих сюртуках, прохаживаются туда-сюда, брызги летят из-под носа идущего по ветру судна.
– Еще лучше будет выглядеть, когда мы приведем его в Плимут, – отозвался матрос по другую сторону от Хорнблауэра.
«Неустанный» был немного быстроходней – он подходил все ближе к врагу, не давая французу уйти вперед. Хорнблауэра потрясла тишина на обоих судах: он уже привык, что французы обычно начинают стрелять издалека, попусту тратя первый, особенно тщательно подготовленный залп.
– Когда он стрелять начнет? – спросил Дуглас, как бы подхватывая мысль Хорнблауэра.
– В свое время, – пискнул Финч.
Полоска пенной воды между судами все уменьшалась. Хорнблауэр развернул фальконет и посмотрел в прицел. Он мог хорошо прицелиться во вражеские шканцы, но для ружейных пуль расстояние еще велико. В любом случае он не решался стрелять без приказа Пелью.
– Вот нам по кому стрелять! – сказал Дуглас, указывая на бизань-марс французов.
Похоже, что там стояли солдаты, судя по синим мундирам и портупеям: французы часто разбавляли свои малочисленные команды солдатами, в британском же флоте морские пехотинцы никогда не лазали по вантам. Увидев жест Дугласа, французские солдаты принялись грозить кулаками, а молодой офицер вытащил шпагу и запальчиво взмахнул ею над головой. Если суда так и будут идти параллельно, Хорнблауэр сможет стрелять по бизань-марсу французов, если предпочтет прекратить огонь оттуда, а не прочесывать шканцы. Хорнблауэр с интересом вглядывался в людей, которых должен будет убивать. Он так увлекся, что грохот канонады застал его врасплох; прежде чем он взглянул вниз, французские ядра успели просвистеть мимо, и через мгновение «Неустанный» содрогнулся, все пушки выстрелили одновременно. Ветер отнес дым вперед, так что до бизань-марса он не поднялся. Хорнблауэр увидел, что на палубе «Неустанного» лежат убитые; убитые падали на палубе француза. Однако он видел – для ружей расстояние все еще велико.
– Они по нам стреляют, – сказал Херберт.
– Пусть их, – ответил Хорнблауэр.
С качающегося марса на таком расстоянии, да еще из ружья, невозможно попасть в цель. Это было настолько ясно, что Хорнблауэр видел это, несмотря на возбуждение, и в голосе его твердо прозвучала уверенность. Удивительно, как два тихих слова сразу успокоили людей. Внизу беспрестанно гремели пушки, корабли быстро сближались.
– Огонь! – крикнул Хорнблауэр. – Финч!
Он посмотрел вдоль короткого фальконета. В узкую щель, прорезанную на дуле, видны были штурвал французского судна, двое рулевых за штурвалом и двое офицеров позади них. Хорнблауэр дернул вытяжной шнур. Через десятую долю секунды фальконет громыхнул. Прежде, чем его окутало дымом, Хорнблауэр почувствовал, как над головой пролетел выброшенный из запального отверстия фитиль. Финч уже прочищал фальконет.
У ружейных пуль слишком большой разлет: лишь один из рулевых упал, а кто-то другой уже бежал сменить его. В этот момент весь марс бешено закачался; Хорнблауэр почувствовал это, но ничего не понял. Все произошло одновременно. Доски под его ногами затряслись, видимо, ядро угодило в бизань-мачту. Финч загонял в орудие патрон. Что-то угодило в казенную часть фальконета – это была пуля с французского бизань-марса. Хорнблауэр старался не терять голову. Он взял еще один заостренный фитиль. Втыкать его надо было настойчиво, но мягко: если фитиль сломается в запальном отверстии, с ним будет много возни. Когда Хорнблауэр направлял фальконет вниз, пуля ударила в ограждение рядом с ним, но он не обратил внимания. Кажется, марс раскачивается сильнее, чем обычно? Неважно. Хорнблауэр тщательно прицелился во вражеские шканцы и дернул вытяжной шнур. Он увидел, как люди падают замертво. Он даже видел, как закрутились рукоятки брошенного штурвала. Тут оба корабля с треском столкнулись бортами и мир обратился в хаос, по сравнению с которым все происходившее ранее могло оказаться детской игрой.
Мачта падала. Марс описал в воздухе головокружительную дугу, так что лишь счастливо уцепившись за фальконет Хорнблауэр не полетел, как пущенный из пращи камень. Все завертелось. Ванты с одной стороны были порваны, и два ядра угодили в шпор мачты, она зашаталась и накренилась. Натяжение бизань-штагов отклонило ее вперед, оставшиеся ванты – к правому борту; когда порвался стень-фордун ветер завладел крюйселем. Мачта с треском наклонилась вперед: стеньга зацепилась за грота-рей и все повисло, готовое в любую минуту разлететься на составные части. Пятка мачты задержалась на палубе, мачта и стеньга еще держались вместе, скрепленные стень-эзельгофтом и салингом, хотя совершенно не понятно, как стеньга не вывернула стень-эзельгофт. Пока нижний конец мачты оставался на палубе, а стеньга цеплялась за грота-рей, у Хорнблауэра и Финча оставались шансы выжить, но движение судна, новый выстрел французов или разрыв слишком туго натянутых тросов могут лишить их и этого шанса. Мачта может скатиться с рея, стеньга может сломаться, пятка мачты может соскользнуть с палубы – спасаться надо немедленно, пока ничего этого не произошло. Грот-стеньга и все, что на ней, было поломано и раскачивалось одним спутанным клубком: паруса, рангоут и тросы. Крюйсель оторвался. Хорнблауэр посмотрел на Финча: Финч держался за фальконет. Больше никого на круто наклоненном марсе не было. Правые ванты крюйс-стеньги еще держались, они, как и сама стеньга, лежали на грота-рее, тугие, как струны, и грота-рей натягивал их, как перемычка у скрипки. Но эти ванты – единственный путь к спасению, опасный путь от гибельного марса к относительной безопасности грота-рея. Мачта заскользила к ноку рея. Даже если грота-рей выдержит, бизань-мачта все равно скоро скатиться в море. Кругом стоял невыразимый грохот: мачты ломались, тросы лопались, пушки не смолкали, снизу доносились вопли и стоны. Марс снова содрогнулся. Две вантины лопнули от натяжения, и хлопок, с которым они разорвались, был отчетливо слышен несмотря на грохот. Мачта дернулась, раскачивая марс, фальконет и двух несчастных, вцепившихся в него. Застывшие голубые глаза Финча двигались вместе с мачтой. Позднее Хорнблауэр понял, что мачта падала не больше нескольких секунд, но тогда ему казалось, что у него есть несколько долгих минут на размышления. Как и Финч, он шарил глазами, ища спасения.
– Грота-рей! – крикнул он. Лицо Финча осветилось идиотской улыбкой. Он инстинктивно цеплялся за фальконет, но не боялся, и не стремился спастись на грота-рее.
– Финч, дурак! – заорал Хорнблауэр.
Он самым невероятным образом зацепился коленом за фальконет, чтоб высвободить руку и показать, куда прыгать, но Финч и не думал двигаться.
– Прыгай, черт тебя возьми! – орал Хорнблауэр. – На ванты… на рей… Прыгай! финч только улыбался.
– Прыгай и добирайся до грота-марса! О, Господи!.. – В этот самый момент его осенило. – На грота-марс! Там Бог, Финч! Прыгай к Богу, быстро!
Эти слова проникли в затуманенный мозг Финча. Он кивнул с совершенно отрешенным видом отпустил фальконет и прыгнул, как лягушка. Упав на ванты крюйс-стеньги, он начал карабкаться по ним. Мачта сдвинулась еще, так что когда Хорнблауэр прыгнул, лететь надо было еще дальше. Он уцепился руками за крайнюю вантину, подтянулся, раскачиваясь, едва не выпустил рук, но тут встречное движение мачты пришло ему на помощь. Обезумев от паники, он полез по вантам. Вот наконец и спасительный грота-рей. Хорнблауэр был в безопасности на грота-рее как раз тогда, когда крен корабля столкнул, наконец, с рея балансирующую на нем крюйс-стеньгу. Она оторвалась от бизань-мачты, и все вместе полетело за борт. Хорнблауэр прополз по рею вслед за Финчем, и на грота-марсе был восторженно встречен мичманом Брэйсгедлом. Брэйсгедл не был богом, но Хорнблауэр, перелезая через поручни марса, подумал, что не скажи он про Бога на грота-марсе, Финч ни за что бы не прыгнул.
– Мы думали, ты погиб, – сказал Брэйсгедл, помогая ему залезть и похлопывая его по спине. – Мичман Хорнблауэр, наш летающий ангел.
Финч тоже был на марсе и улыбался своей идиотской улыбкой в окружении марсовой команды. Все были лихорадочно веселы. Хорнблауэр неожиданно вспомнил, что только что был самый разгар битвы; сейчас же пушки смолкли, даже криков почти не было слышно. Он проковылял к краю марса – удивительно, как трудно было идти – и осмотрелся. К нему подошел Брэйсгедл. С высоты Хорнблауэр различил на палубе француза множество фигурок. Эти в клетчатых рубашках – наверняка британские моряки. А это Эклз, первый лейтенант «Неустанного», стоит с рупором на шканцах.
– Что произошло? – изумленно спросил Хорнблауэр Брэйсгедла.
– Что произошло?! – Брэйсгедл несколько секунд таращился на него, пока понял. – Мы взяли его на абордаж. Эклз и его команда перепрыгнули на палубу француза как только мы свалились бортами. Ты что, не видел?
– Нет, не видел, – сказал Хорнблауэр и заставил себя пошутить. – Другие дела потребовали в этот момент моего внимания.
Он вспомнил, как раскачивался бизань-марс, и ему стало худо. Но он не хотел, чтоб Брэйсгедл это заметил.
– Я должен спуститься на палубу и доложиться, – сказал он.
Хорнблауэр медленно и мучительно спускался по грот-вантам, руки и ноги его не слушались. Даже на палубе он так и не почувствовал себя в безопасности. Болтон на шканцах руководил разборкой обломков бизань-мачты. При виде Хорнблауэра он вздрогнул от изумления.
– Я-то думал, вы у Дэви Джонса[7] за бортом, – сказал он и глянул наверх. – Вы успели добраться до грота-рея?
– Да, сэр.
– Замечательно. Думаю, Хорнблауэр, вам суждено быть повешенным. – Болтон обернулся к матросам. – Стоп! Клайнс, спускайся! Легче, легче, не то упустите!
Он некоторое время наблюдал за работой матросов, прежде чем снова обратился к Хорнблауэру.
– Месяца два с матросами не будет никаких хлопот. – сказал он. – С этой починкой они так уработаются, с ног будут падать. Часть придется отправить в призовую команду, я не говорю уж, сколько погибло. Не скоро им захочется чего-то новенького. Полагаю, что и вам, Хорнблауэр.
– Да, сэр, – отвечал Хорнблауэр.
Раки и лягушатники
– Идут, – сказал мичман Кеннеди.
Немузыкальное ухо Хорнблауэра уловило звуки военного оркестра. Вскоре, сияя багрянцем, золотом и белизной, из-за угла выступила голова колонны. Яркие лучи солнца играли на медных трубах; дальше плескалось на древке полковое знамя, гордо несомое знаменосцем в сопровождении караула. За знаменем ехали двое верховых офицеров, за ними длинной красной змеей извивался полубатальон, примкнутые штыки вспыхивали на солнце. Сзади бежали все плимутские ребятишки, до сих пор не наскучившие воинскими церемониями. Стоявшие на набережной моряки разглядывали солдат с любопытством, к которому примешивалась жалость и что-то вроде презрения. Постоянная муштра, тяжелое обмундирование железная дисциплина – весь солдатский быт составлял поразительный контраст с более разнообразными условиями жизни моряка. Моряки наблюдали, как смолкли звуки фанфар и один из офицеров пришпорил лошадь, чтобы переместиться в голову колонны. По его приказы солдаты повернулись к причалу, пять сотен каблуков стукнули, как один. Грузный старший сержант с блестящей лентой на груди и тростью, чья посеребренная рукоятка отливала на солнце, прошелся, равняя и без того безупречный строй. По третьему приказу все приклады уперлись в землю.
– Штыки – отомкнуть! – рявкнул верховой офицер. Это были первые слова, которые Хорнблауэр понял.
Он буквально с вытаращенными глазами наблюдал последовавшие за этим церемонии. Флигельманы вышли на три шага вперед, точно марионетки на одной веревочке, обернулись к шеренге и начали задавать ритм: отсоединить штыки, зачехлить их, вернуть ружья на место. Флигельманы вернулись в шеренгу, насколько мог видеть Хорнблауэр, секунда в секунду, но старший сержант остался недоволен. По его приказу флигельманы снова вышли вперед и вернулись в строй.
– Хотел бы я видеть, как они полезли бы на ванты в штормовую ночь, – задумчиво произнес Кеннеди. – Как вы думаете, они могут завязать ноковый бензель на грот-марселе?
– Одно слово раки! – сказал мичман Брэйсгедл. Все пять рот стояли в шеренгу, разделенные сержантами с алебардами; от алебарды до алебарды солдаты располагались точно по росту, самые высокие с флангов, самые низкие – в центре каждой роты. Ни один палец, ни одна бровь не шевелились. У каждого солдата на затылке – тугая пудренная косичка.
Верховой офицер рысью проехал вдоль шеренги, туда, где ждали флотские офицеры. Лейтенант Болтон, назначенный руководить ими, выступил вперед, держа руку под козырек.
– Мои люди готовы к погрузке, – сказал армейский офицер. – Багаж последует незамедлительно.
– Есть, майор, – сказал Болтон. Армейское обращение странно прозвучало в его устах.
– Предпочтительно, чтоб вы обращались ко мне «милорд», – сказал майор.
– Есть, сэр… милорд, – отвечал выбитый из колеи Болтон.
Его сиятельство граф Эдрингтонский, командующий 43-м пехотным полубатальоном, был крепко скроенный молодой человек чуть старше двадцати лет. Он был одет в безукоризненно подогнанный мундир, обладал великолепной выправкой и восседал на превосходном скакуне, однако для своего ответственного поста казался несколько юн. Практика покупки офицерских патентов позволяла, совсем молодым людям занимать высокие посты, и армию эта система, видимо устраивала.
– Французские вспомогательные части получили приказ явиться сюда же, – продолжал лорд Эдрингтон. – Надеюсь, вы распорядились подготовить все к их погрузке?
– Да, милорд.
– Насколько я понял, ни один из этих бродяг не говорит по-английски. У вас есть офицер, который мог бы переводить?
– Да, милорд. Мистер Хорнблауэр!
– Сэр!
– Вы будете присутствовать при погрузке французских частей.
– Есть, сэр.
Опять послышались звуки военного оркестра. Немузыкальное ухо Хорнблауэра различило, что он играет чуть повыше, чем оркестр британской пехоты. Под эту музыку на боковой дороге появились французы, и Хорнблауэр поспешил им навстречу. Вот она, Королевская, Христианская и Католическая армия – по крайней мере, ее часть – батальон, собранный французскими дворянами-эмигрантами для борьбы с революцией. Во главе колонны плыл белый стяг с золотыми лилиями, за ним ехали несколько верховых офицеров. Хорнблауэр отдал честь. Один из офицеров вернул приветствие.
– Маркиз де Пюзож, бригадный генерал на службе Его Христианейшего величества Людовика XVII, – представился он по-французски. На нем была белоснежная форма и голубая лента через плечо. Спотыкаясь на французских словах, Хорнблауэр представился гардемарином Его Британского Величества Военно-Морского Флота, прикомандированным для погрузки французских войск.
– Очень хорошо, – сказал де Пюзож. – Мы готовы. Хорнблауэр оглядел ряды французов. Те стояли, кому как вздумается, и глазели по сторонам. Одеты они были хорошо, в синие мундиры, выданные, как решил он про себя, британским правительством, но портупеи уже запачкались, пуговицы облезли, оружие потускнело. Однако сражаться они, без сомнения, будут.
– Вот транспортные суда, предназначенные для ваших людей, сэр, – показал Хорнблауэр. – «София» возьмет триста, а «Дамбертон» – вот он – двести пятьдесят. Лихтеры, чтоб перевести людей, у причала.
– Приказывайте, господин де Монкутан, – обратился де Пюзож к одному из офицеров.
Поскрипывая, выползли вперед наемные повозки, груженые ранцами, и колонна рассыпалась: все бросились разбирать свои пожитки. Потребовалось некоторое время, чтоб построить людей заново, уже с ранцами, и тут же возникла новая проблема: нужно было выделить несколько человек для погрузки полкового, багажа. Те, кому выпала эта задача, с явной неохотой отдали ранцы товарищам, видимо, не надеясь получить обратно их содержимое. Хорнблауэр продолжал давать разъяснения.
– Лошадей следует отправить на «Софию», – говорил он, – Там подготовлено шесть стойл. Полковой багаж…
Он замер на полуслове, заметив на одной из повозок некий странный механизм.
– Скажите, пожалуйста, что это такое? – спросил он, не сумев побороть любопытство.
– Это, сударь, – сказал де Пюзож, – гильотина.
– Гильотина? – Хорнблауэр был немало наслышан об этом инструменте. Революционеры поставили его в Париже, и не давали ему простаивать. На гильотине был казнен сам французский король, Людовик XVI. Хорнблауэр не ожидал увидеть ее в обозе контрреволюционной армии.
– Да, – сказал де Пюзож, – мы везем ее во Францию. Я отплачу бунтовщикам их же монетой.
К счастью, Хорнблауэру не пришлось отвечать, поскольку громовой голос Болтона прервал их беседу.
– Какого черта вы там возитесь, мистер Хорнблауэр? Вы что, хотите, чтоб мы пропустили отлив? Весьма типично для военной службы, что за плохую организацию французов влетело Хорнблауэру – он уже к этому привык, и знал, что лучше не лезть с объяснениями и молча выслушать нарекания. Он вновь занялся погрузкой французов. Наконец бесконечно усталый мичман, держа в руках исписанные ведомости, доложил Болтону о том, что французы,их лошади и багаж благополучно погружены, и, вместо благодарности, получил приказ собирать пожитки и перебираться с ними на «Софию», где по-прежнему требовались услуги переводчика. Конвой быстро вышел из Плимутского залива, обошел Чляйстон и двинулся дальше: Его Величества судно «Неустанный» под брейд-вымпелом, два канонерских брига и четыре транспортных судна. Не Бог весть какая сила, чтоб опрокинуть французскую республику. Всего-навсего одиннадцать сотен пехотинцев; 43-й полу батальон и небольшой батальон французов (если можно их так назвать, учитывая, что половина из них авантюристы всех национальностей). Хотя Хорнблауэр и не решался судить о французах, лежавших рядами в темном и вонючем твиндеке и страдавших от морской болезни, он дивился, как можно ожидать чего-нибудь серьезного от столь малочисленной армии. Из своего богатого исторического чтения он знал, сколько небольших набегов совершалось на берега Франции, и в скольких войнах, и, хотя один оппозиционный государственный деятель сказал, что это «все равно, что разбивать окно гинеями», склонен был в принципе их одобрять, как один из способов ослабить силы врага – до той поры, пока сам не оказался участником такой вылазки. Так что он испытал облегчение, узнав от де Пюзожа, что это лишь часть их армии, причем меньшая часть. Де Пюзож, бледноватый от морской болезни, которую, впрочем, мужественно превозмогал, разложил в каюте на столе карты и объяснил план.
– Христианская армия, – говорил де Пюзож, – высадится здесь, у Киброна. Они отплыли из Портсмута (как же трудно произносить эти английские названия) за день до того, как мы отплыли из Плимута. Их пять тысяч под командованием барона де Шаретта. Они пойдут на Ван и на Рен.
– А что должен делать ваш полк? – спросил Хорнблауэр. Де Пюзож снова ткнул пальцем в карту.
– Вот город Мюзийак, – сказал он. – Двадцать лиг от Киброна. Здесь небольшая дорога с юга пересекает реку Марэ. Речка эта маленькая, но оберега у нее болотистые и дорога идет не только по мосту, но и по длинной дамбе. Бунтовщики стоят южнее, и, чтобы двинуться на север, должны пройти через Мюзийак. Здесь будем мы. Взорвем мост и будем охранять переправу. Мы задержим бунтовщиков, а за это время де Шаретт поднимет всю Бретань. Вскоре у него будет двадцать тысяч солдат, бунтовщики перейдут на нашу сторону, мы войдем в Париж и восстановим на троне Его Христианнейшее Величество.
Вот значит, какой план. Энтузиазм француза передался Хорнблауэру. Конечно, здесь, где дорога проходит в десяти милях от берега, и здесь, в широком устье Видены, нетрудно будет высадить небольшой десант и захватить Мюзийак. Такую дамбу, которую описал де Пюзож, нетрудно будет охранять день-два даже от превосходящих сил противника. Это обеспечит де Шаретту все необходимые условия.
– Мой друг господин де Монкутан, – продолжал де Пюзож, – сеньор Мюзийака. Население встретит его с радостью.
– В большинстве своем, – глаза де Монкутана сузились. – Кое-кто и огорчится. Я же с радостью жду этой встречи.
В западной Франции, в Вандее и Бретани, долго были беспорядки. Народ, руководимый дворянством, не раз с оружием в руках восставал против парижского правительства. Но каждый раз мятеж подавляли; роялисты, которых они сейчас везли во Францию, составляли остатки мятежных сил: последний бросок костей, бросок ва-банк. В таком свете план не казался таким уж надежным.
Было серое утро, серыми были и небо и скалы, когда конвой обогнул Бель-Иль и подошел устью Видены. Далеко к северу, в Кибронском заливе, виднелись белые марсели корабля. Хорнблауэр, стоявший на палубе «Софии», видел, как он обменивается сигналами с «Неустанным», докладывая о своем прибытии. То, что, используя особенности береговой линии, они могли нанести удар одновременно с двух точек, разделенных сорока милями суши, но хорошо одновременно видимых с моря, свидетельствовало о гибкости и подвижности военного флота. Хорнблауэр прочесал подзорной трубой вражеский берег, перечел приказ для капитана «Софии» и вновь принялся глядеть на берег. Он различал узкое устье Марэ и глинистую полоску, на которую предстояло высаживаться войскам. Непрерывно бросая лот, «София» пробиралась к назначенной стоянке, неуютно переваливаясь с боку на бок: эти воды хоть и защищены от ветра, представляют собой такой сумасшедший клубок противоположных течений, что в сравнении с ним самое бурное море покажется спокойным. Наконец якорный канат загромыхал через клюз, и «София» закачалась под действием течения. Ее команда уже спускала шлюпки.
– Франция, милая, прекрасная Франция! – сказал рядом с Хорнблауэром де Пюзож. С «Неустанного» донесся крик:
– Мистер Хорнблауэр!
– Сэр! – отозвался Хорнблауэр в капитанский рупор.
– Вы отправляетесь на берег с французами и остаетесь там до дальнейших распоряжений.
– Есть, сэр.
Вот, значит, как ему предстоит впервые в жизни вступить на чужую землю. Люди де Пюзожа выбирались на палубу; спустить их в ожидающие у борта шлюпки оказалось делом долгим и утомительным. Хорнблауэр размышлял про себя, что творится сейчас на берегу – без сомнения, гонцы скачут на север и на юг с вестями о высадке десанта. Вскоре революционные генералы построят своих солдат и спешно поведут их к этому месту – хорошо, что важный стратегический пункт, который им предстоит захватить, расположен менее чем в десяти милях от берега. Он вернулся к своим делам: как только солдаты окажутся на берегу, надо будет проследить за перевозкой багажа и боеприпасов, а также несчастных лошадей, стоявших в импровизированных стойлах перед грот-мачтой. Первые шлюпки отвалили от судна; Хорнблауэр видел, как солдаты, увязая в мокрой глине, выбираются на берег, французы слева, британские пехотинцы в красных мундирах – справа. На берегу виднелось несколько рыбачьих лачуг; передовые отряды двинулись к ним. По крайней мере, высадка прошла без единого выстрела. Хорнблауэр отправился на берег вместе с боеприпасами, и нашел там Болтона.
– Отнесите ящики с боеприпасами выше верхних приливных отметок, – сказал Болтон, – Мы не сможем отправить их вперед, пока раки не раздобудут несколько повозок. Для пушек тоже понадобятся лошади.
В это время отряд Болтона вручную стаскивал на берег две шестифунтовые пушки на походных лафетах. К ним приставят моряков и повезут на лошадях – лошадей раздобудет десант. По старой традиции британских моряков бросают на берег, когда того требует военная необходимость. Де Пюзож и его офицеры с нетерпением ждали своих скакунов и, как только лошадей свели со шлюпок на берег, тут же вскочили в седла.
Де Монкутан и остальные поскакали вперед, чтобы возглавить пехоту, а де Пюзож задержался, чтоб обменяться несколькими словами с лордом Эдрингтоном. Британская пехота уже построилась в развернутый строй; дальше на берегу виднелись отдельные красные пятнышки – британские пикеты. Хорнблауэр не слышал разговора, но видел как Болтон включился в него. Наконец Болтон подозвал и его самого.
– Вы отправитесь с лягушатниками, Хорнблауэр, – сказал Болтон.
– Я дам вам лошадь, – добавил Эдрингтон. – Берите вот эту – чалую. Я хочу, чтобы с ними был кто-то, на кого я могу положиться. Держите ухо востро и, как только они соберутся выкинуть какой-нибудь фортель, сразу сообщайте мне. Кто их знает, что им в голову взбредет.
– Вот и последний багаж выгрузили, – сказал Болтон. – Я пошлю его вам, как только получу повозки. А это что за черт?
– Это передвижная гильотина, сэр, – объяснил Хорнблауэр. – Часть французского багажа.
Все трое повернулись и посмотрели на де Пюзожа, который, не понимая ни слова, нетерпеливо слушал разговор. Однако сейчас он догадался, о чем они говорят.
– Ее надо отправить в Мюзийак в первую очередь, – сказал он Хорнблауэру. – Будьте так добры, скажите этим джентльменам.
Хорнблауэр перевел.
– Сначала я отправлю пушки и боеприпасы, – сказал Болтон. – Но я прослежу, что бы он скоро ее получил. Ну, отправляйтесь.
Хорнблауэр с опаской приблизился к чалой лошади. Последний раз он ездил на лошади в детстве, в деревне. Он вставил ногу в стремя, взобрался в седло и, когда лошадь тронулась, нервно уцепился за поводья. С лошади земля казалась так же далеко, как с грот-марса. Де Пюзож пришпорил скакуна и помчался вперед, чалая последовала за ним, унося на спине отчаянно цепляющегося Хорнблауэра, забрызганного грязью из-под копыт лошади де Пюзожа.
От рыбачьей деревушки вела проселочная дорога, поросшая по обочине травой, и де Пюзож быстро поскакал по ней, за ним, болтаясь в седле, Хорнблауэр. Через три или четыре мили они догнали арьергард французской пехоты, быстро марширующей по грязи. Де Пюзож перешел на шаг. Когда колонна поднялась на холм, они увидели далеко впереди белое знамя. Сбоку от дороги расстилались каменистые поля, слева виднелся серый каменный домик. Солдат в синем мундире вел запряженную в телегу лошадь, двое или трое других удерживали разъяренную крестьянку. Так участники вылазки раздобывали необходимый транспорт. На другом поле солдат штыком подгонял корову – зачем, Хорнблауэр себе вообразить не мог. Дважды он слышал ружейные выстрелы, на которые никто не обращал внимания. Дальше они встретили солдат, ведущих к берегу двух тощих лошадей, проходящие мимо товарищи широко ухмылялись и осыпали их шутками. Но чуть подальше Хорнблауэр увидел брошенный на поле плуг и серую кучку тряпья возле него. Это был убитый.
Справа от них тянулась заболоченная речная долина, и Хорнблауэр скоро увидел далеко впереди мост и дамбу, те самые, которые им надо было захватить. Дорога, по которой они шли, спускалась вниз. Пройдя между нескольких серых домишек, они вышли на большую дорогу, вдоль которой раскинулся город. Здесь стояла серая каменная церковь, гостиница и почтовая станция, уже окруженная солдатами. Дорога расширялась и была обсажена деревьями. Хорнблауэр решил, что это городская площадь. Из окон изредка кто-то выглядывал, но на улицах горожан не было, только две женщины поспешно запирали свои лавки. Де Пюзож остановил лошадь и принялся отдавать распоряжения. Из почтовой станции уже вывели лошадей, и гонцы сновали туда-сюда с какими-то неотложными поручениями. Повинуясь приказу де Пюзожа, один из офицеров собрал своих солдат (ему пришлось долго увещевать их, размахивая руками) и повел к мосту. Другой отряд двинулся по дороге в противоположном направлении, охранять город на случай непредвиденной атаки с той стороны. Толпа солдат расселась на корточках прямо на площади и жадно набросилась на хлеб, который вынесли из лавки, взломав предварительно дверь. Двух или трех горожан приволокли к де Пюзожу и по его приказу поспешно потащили в городскую тюрьму. Город Мюзийак был взят.
Де Пюзож, видимо, в этом не сомневался. Взглянув на Хорнблауэра, он развернул лошадь и рысью поскакал к дамбе. Город кончился, дальше начиналось болото, на пустыре между ними передовой отряд уже разложил костер. Солдаты сидели вокруг огня и жарили на штыках куски говядины, рядом лежал коровий остов с остатками мяса. Дальше, там, где дамба переходила в мост, грелся на солнышке часовой. Ружье он прислонил к парапету у себя за спиной. Все казалось тихим и мирным. Де Пюзож въехал на мост, Хорнблауэр за ним. Они посмотрели на другой берег, врага нигде не было видно. Когда они вернулись, их ждал военный в красном мундире – лорд Эдрингтон.
– Я решил посмотреть лично, – сказал он. – Позиция выглядит достаточно сильной. Как только вы поставите здесь пушки, вы сможете удерживать мост, пока не взорвете его. Но здесь есть брод, переходимый в низкую воду, в полумиле по течению. Там встану я сам. Если мы не удержим брод, они смогут обойти нас с тыла и отрезать от берега. Переведите этому джентльмену – как его там – что я сказал.
Хорнблауэр как мог перевел и продолжал переводить, пока два командира, указывая пальцами в разные стороны, решали, что кому делать.
– Договорились, – сказал, наконец, Эдрингтон. – Не забудьте, мистер Хорнблауэр, что я должен быть в курсе всех изменений.
Он кивнул им, повернул лошадь и поскакал прочь. Со стороны Мюзийака появилась повозка, за ней с грохотом катились две шестифунтовые пушки. Каждую с трудом тащили по две лошади, ведомые под уздцы моряками. На передке повозки сидел мичман Брэйсгедл. Он широкой улыбкой приветствовал Хорнблауэра.
– От шканцев до ассенизационной повозки один шаг, – сказал он, – как от мичмана до артиллерийского капитана. Он внимательно посмотрел на дамбу.
– Поставьте пушки здесь, тогда они будут простреливать всю дамбу, – предложил Хорнблауэр.
– Точно, – сказал Брэйсгедл.
По его приказу пушки скатили с дороги и поставили вдоль дамбы, выгрузили из ассенизационной повозки боеприпасы, расстелили на земле брезент, на него положили картузы с порохом и накрыли другим брезентом. Ядра и мешки с картечью сложили рядом с пушками. Возбужденные новой обстановкой, матросы работали в охотку.
– С кем не поведешься от бедности, – сказал Брэйсгедл, – чем не займешься на войне? Вы когда-нибудь взрывали мосты?
– Никогда, – ответил Хорнблауэр.
– Вот и я. Что ж, давайте попробуем. Позвольте предложить вам место в моем экипаже.
Хорнблауэр забрался в повозку рядом с Брэйсгедлом, и два моряка повели лошадей по дамбе к мосту. Здесь оба мичмана слезли и посмотрели на мутную воду – был отлив, и река текла очень быстро. Свесив головы через парапет, они осмотрели крепкое каменное основание моста.
– Нужно взорвать замковый камень свода, – сказал Брэйсгедл. Это – азбука взрывного дела, но Хорнблауэр с Брэйсгедлом, раз за разом осматривая мост, не нашли, чтоб это было очень легко сделать. Взрывная волна идет вверх, кроме того, порох должен взрываться в закрытом пространстве, а как им запихнуть порох под мост?
– Может, попробуем возле быка? – неуверенно предложил Хорнблауэр.
– Надо посмотреть, – сказал Брэйсгедл и повернулся к одномуиз матросов. – Ханнай, Дайтугрос.
Мичманы привязали трос к парапету и, осторожно упираясь ногами в скользкие камни, спустились к основанию быка. Река плескалась у самых их ног.
– Наверное, это подойдет, – сказал Брэйсгедл, сгибаясь вдвое, чтоб заглянуть под арку.
Время бежало быстро. Пришлось снять часть солдат с охраны моста, найти кирки, ломы, или что-нибудь взамен, и вывернуть несколько каменных блоков в основании арки. Сверху осторожно спустили два бочонка с порохом и запихнули в образовавшиеся пустоты, в каждую опустили огнепроводный шнур, а затем заложили бочонки камнями и землей. Когда они закончили работу, под аркой было почти темно. Солдаты с трудом взобрались вверх по веревке, а Хорнблауэр с Брэйсгедлом снова поглядели друг на друга.
– Я подожгу запал, – сказал Брэйсгедл. – Отправляйтесь наверх, сэр.
Спорить было не о чем: взорвать мост поручено Брэйсгедлу. Хорнблауэр полез вверх по веревке, Брэйсгедл вынул из кармана огниво. Поднявшись на мост, Хорнблауэр отослал повозку и стал ждать. Прошло две или три минуты, и появился Брэйсгедл. Он быстро-быстро вскарабкался по веревке и перевалился через парапет.
– Бежим! – только и сказал он.
Они помчались по мосту и, задыхаясь, спрятались за береговым устоем дамбы. Послышался глухой взрыв, земля под ногами вздрогнула, поднялось облако дыма.
– Пойдем посмотрим, – сказал Брэйсгедл. Они вернулись к мосту, который был весь окутан дымом и пылью.
– Только частично… – начал Брэйсгедл, когда они подошли к мосту и дым рассеялся.
В этот момент второй взрыв заставил их пошатнуться. Громадный валун ударил о парапет рядом с ними, взорвался, как бомба, и осыпал их градом осколков. Арка с грохотом рухнула в воду.
– Видимо, взорвался второй бочонок, – сказал Брэйсгедл, вытирая лицо. – Надо было помнить, что все запалы разной длины. Подойди мы чуть ближе, две многообещающие карьеры могли бы преждевременно оборваться.
– В любом случае, мост взорван, – сказал Хорнблауэр.
– Хорошо, что хорошо кончается, – заключил Брэйсгедл.
Семьдесят фунтов пороха сделали свое дело. Мост был разрезан надвое, посредине зияла рваная дыра шириной в несколько футов, за ней, свидетельствуя о крепости кладки, нависал кусок пролета от другого быка. Посмотрев вниз, они увидели, что река почти запружена камнями.
– Сегодня ночью якорная вахта не понадобится, – сказал Брэйсгедл.
Хорнблауэр посмотрел туда, где была привязана чалая. Он чувствовал искушение вернуться в Мюзийак пешком, ведя лошадь в поводу, но удержал стыд. Он с усилием взобрался в седло и поехал по дороге; небо окрасилось багрянцем, близился закат.
Хорнблауэр въехал на главную улицу города. Обогнув угол, он оказался на площади. То, что он здесь увидел, заставило его неосознанно натянуть поводья и остановить лошадь. На площади толпились солдаты и горожане. В центре площади вздымалась в небо прямоугольная рама с блестящим лезвием. Лезвие с грохотом упало и несколько человек, стоявших у основание прямоугольника, оттащили что-то в сторону и бросили в кучу. Передвижная гильотина работала.
Хорнблауэра затошнило – это похуже кошек. Он собирался проехать вперед, когда его внимание привлек странный звук. Кто-то пел, громко и чисто. Из-за дома вышла небольшая процессия. Впереди шагал высокий курчавый мужчина в белой рубашке и темных брюках. По обе стороны шли солдаты. Он и пел; мелодия ничего не говорила Хорнблауэру, но слова он слышал отчетливо – это была французская революционная песня, чьи отголоски дошли даже до другого берега Ла-Манша.
– Священна к родине любовь[8], – пел человек в белой рубашке, и, когда горожане услышали, что он поет, они зашумели, попадали на колени, склонили головы и сложили руки на груди.
Палачи вновь поднимали лезвие, и человек в белой рубашке следил за ним взглядом, не переставая петь. Голос его не дрожал. Лезвие поднялось на самый верх и пение наконец оборвалось: палачи набросились на человека в белой рубашке и потащили его к гильотине. С лязгом упало лезвие. По площади прокатилось эхо.
По-видимому, это была последняя казнь, потому что солдаты начали разгонять горожан по домам, и Хорнблауэр направил лошадь в быстро редеющую толпу. Он едва не вылетел из седла, когда лошадь, фыркая, шарахнулась в сторону – она учуяла ужасную кучу, лежавшую рядом с гильотиной. На площадь выходил дом с балконом, и на нем Хорнблауэр увидел де Пюзожа в белом мундире, в сопровождении других офицеров. У дверей стояли часовые. Одному из них, входя, Хорнблауэр оставил лошадь. Де Пюзож только что спустился вниз.
– Добрый вечер, сударь, – де Пюзож был безукоризненно вежлив. – Я рад, что вы добрались до нашей ставки. Надеюсь, затруднений не было. Мы собираемся поужинать и были бы рады, если бы вы составили нам компанию. Вы ведь на лошади? Господин да Виллэ распорядится, чтоб о ней позаботились.
Это было просто невероятно. Не верилось, что этот лощеный господин только что приказал устроить кровавую бойню. Не верилось, что эти элегантные юноши, с которыми он сидит за одним столом, рискуют своими жизнями, чтоб свергнуть жестокую, но крепкую молодую республику. Еще меньше верилось, что он сам, мичман Горацио Хорнблауэр, забирающийся на ночь в четырехспальную кровать, подвергается смертельной опасности.
На улице рыдали женщины, оплакивая увозимые солдатами обезглавленные тела, и Хорнблауэр думал, что не сможет заснуть. Однако молодость и усталость взяли свое, и он проспал почти всю ночь, хотя и проснулся с ощущением, что его мучили кошмары. В темноте все казалось ему незнакомым, и прошло несколько секунд, пока он понял, где находится. Он лежал в кровати, а не в подвесной койке, в которой провел последние триста ночей; кровать стояла непоколебимо, как скала, вместо того, чтоб раскачиваться из стороны в сторону. Под балдахином было душно, но то не была знакомая духота мичманской каюты, в которой застоявшийся запах человеческого тела мешался с запахом застоялой воды. Хорнблауэр был на берегу, в доме, в кровати, все кругом было тихо, неестественно тихо для человека, привыкшего к скрипу идущего по морю корабля.
Конечно, он в доме, в городе Мюзийак, в Бретани. Он спит в ставке бригадного генерала маркиза де Пюзожа, командующего французскими частями, входящими в экспедиционный корпус, который вторгся в революционную Францию, чтоб сразиться за своего короля с многократно превосходящими силами противника. Хорнблауэр почувствовал, как убыстрился его пульс, как липкий, противный страх накатывает на него, и снова вспомнил, что он во Франции, в десяти милях от «Неустанного», и лишь кучка французов – половина из них наемники всех мастей – охраняет его от плена и смерти. Он пожалел, что знает французский, – если б не это, его бы сейчас здесь не было, а при удачном стечении обстоятельств он стоял бы с британским 43-м полубатальоном в полумиле отсюда.
Мысль о британских частях заставила Хорнблауэра подняться с постели. Он должен поддерживать с ними связь, а пока он спал, ситуация могла измениться. Он отодвинул балдахин и с трудом встал; после вчерашней верховой езды все мускулы невыносимо болели. В темноте он проковылял к окну, нащупал щеколду и отворил ставни. Над пустыми улицами светил месяц. Свесившись вниз, Хорнблауэр увидел треуголку часового и сверкающий в лунном свете штык. Отойдя от окна, он нашел мундир и башмаки, оделся, нацепил абордажную саблю и как можно тише, спустился вниз. В холле на столе горела свеча, рядом с ней, положив голову на руки, дремал французский сержант. Спал он чутко, и когда Хорнблауэр остановился в дверях, сразу поднял голову. На полу громко храпели остальные караульные. Они лежали вповалку, словно свиньи в хлеву, прислонив ружья к стене.
Хорнблауэр кивнул сержанту, открыл входную дверь и вышел на улицу. Легкие его благодарно расширились, вбирая свежий ночной, вернее уже утренний воздух. Небо на востоке чуть-чуть посветлело. Часовой заметил британского офицера и нехотя подтянулся. На площади по-прежнему высилась в лунном свете мрачная рама гильотины, возле нее чернели пятна крови. Интересно, кто были жертвы вчерашней казни, те кого роялисты так спешно схватили и убили? Наверное, какие-нибудь мелкие республиканские чиновники: мэр, начальник таможни и так далее, если не просто те, на кого роялисты затаили злобу еще с революционных времен. Мир этот жесток и беспощаден, Хорнблауэр был в нем несчастен, подавлен и одинок.
Его размышления прервал караульный сержант и несколько солдат; они сменили часового у дверей и пошли вокруг дома, чтоб сменить остальных. Потом из-за дома на противоположной стороне улицы вышли четыре барабанщика и сержант. Они построились в ряд, подняли палочки до уровня глаз, затем, по команде сержанта, враз обрушили их на барабаны и двинулись по улице, выбивая бодрый ритм. На углу они остановились, барабаны загремели протяжно и зловеще, потом барабанщики двинулись дальше, выбивая прежний ритм. Они звали по местам расквартированных на постой солдат. Хорнблауэр, лишенный музыкального слуха, но тонко чувствующий ритм, подумал, что это хорошая музыка, настоящая музыка. Он вернулся в ставку взбодрившимся. Вошел караульный сержант и часовые, которых тот сменил с постов, на улице начали появляться первые солдаты, к штабу со стуком подскакал верховой гонец. День начался.
Бледный молодой человек прочитал записку, которую привез гонец, и вежливо протянул ее Хорнблауэру. Тому пришлось поломать над ней голову – он не привык читать по-французски написанное от руки – но, наконец, смысл ее дошел до него. Из записки следовало, что события приняли новый оборот. Экспедиционный корпус, высадившийся вчера в Киброне, двинулся этим утром на Ван и на Рен, а вспомогательному корпусу, к которому был прикомандирован Хорнблауэр, надлежало оставаться в Мюзийаке, охраняя фланг. Появился маркиз де Пюзож в безукоризненно белом мундире с голубой лентой, ни слова не говоря, прочитал записку, обернулся к Хорнблауэру и вежливо пригласил его позавтракать.
Они вошли в большую кухню, где по стенам висели начищенные медные кастрюли. Молчаливая женщина принесла им кофе и хлеб. Вполне вероятно, что она была патриоткой и ярой контрреволюционеркой, но по ней этого было не заметно. Возможно, на ее чувства повлияло то обстоятельство, что вся эта орда захватила ее дом, ела ее хлеб и спала в ее постелях, не платя ни копейки. Возможно, кой-какие реквизированные лошади и повозки тоже принадлежали ей; возможно, кто-то из погибших вчера на гильотине был ее другом. Но она принесла кофе, и собравшиеся на кухне офицеры, гремя шпорами, принялись завтракать. Хорнблауэр взял чашку и кусок хлеба – четыре месяца он не видел другого хлеба, кроме корабельных сухарей – и отхлебнул глоток. Он не понял, понравился ли ему напиток; прежде ему всего два или три раза приходилось пробовать кофе. Он снова поднял чашку к губам, но отхлебнуть не успел: раздавшийся вдали пушечный выстрел заставил его опустить чашку и замереть. Снова пушечный выстрел, потом еще и еще: палили шестифунтовки мичмана Брэйсгедла у дамбы.
В кухне поднялись шум и суматоха. Кто-то опрокинул свой кофе и по столу побежал черный ручеек. Кто-то ухитрился зацепиться шпорой о шпору и упал на соседа. Все говорили одновременно. Хорнблауэр был возбужден не меньше других, ему хотелось немедленно бежать на улицу, посмотреть, что происходит, но он вспомнил дисциплинированную тишину на идущем в бой «Неустанном». Он не такой, как эти французы. Чтоб доказать это, он поднес чашку к губам и спокойно отхлебнул. Большинство офицеров уже выскочили из кухни, требуя своих лошадей. Понадобится время, чтобы их заседлать. Хорнблауэр посмотрел на де Пюзожа, выходящего из комнаты, и допил кофе; кофе был немножко слишком горячий, но он чувствовал, что это хороший жест. Оставался еще хлеб, и он без малейшего желания заставил себя откусить и прожевать. Впереди тяжелый день, неизвестно, когда следующий раз удастся поесть. Хорнблауэр сунул хлеб в карман.
Во двор привели оседланных лошадей; заразившись общим волнением, они рвались вперед под громкие проклятия офицеров. Де Пюзож вскочил в седло и поскакал вперед, остальные за ним. Во дворе остался один солдат, державший под уздцы чалую лошадь Хорнблауэра. Это было к лучшему: Хорнблауэр знал, что не удержится в седле и минуты, если его лошади придет в голову рвануться вперед или встать на дыбы. Он медленно подошел к чалой, которую грум к этому времени немного успокоил, и медленно-медленно забрался в седло. Сдерживая поводьями взволнованное животное, он неторопливо поехал по улице к мосту, следуя вслед за ускакавшими офицерами. Лучше ехать потише и доехать наверняка, чем пустить лошадь в галоп и вылететь из седла. Пушки по-прежнему гремели: видны были клубы дыма над шестифунтовками мичмана Брэйсгедла. Слева в ясном небе вставало солнце.
Ситуация у моста казалась достаточно ясной. Там, где арка была взорвана, с обеих сторон перестреливались кучки солдат, а в дальнем конце дамбы, с той стороны Марэ, поднималось облако дыма, там располагалась вражеская батарея. Она била редко и с большого расстояния. Сам Брэйсгедл с абордажной саблей стоял между пушек, вокруг которых суетились его моряки. Заметив Хорнблауэра, он беспечно помахал ему рукой.
Английские пушки громыхнули. Чалая встрепенулась, отвлекая внимание Хорнблауэра. Когда он смог взглянуть, колонны уже не было. Вдруг парапет дамбы рядом с ним разлетелся в куски; что-то с силой ударило в мостовую у самых конских копыт и пролетело мимо. Никогда еще ядро не проносилось так близко от Хорнблауэра. Пытаясь совладать с лошадью, он потерял стремя и, как только немного с ней справился, счел разумным спешиться и отвести ее к пушкам. Брэйсгедл приветствовал его широкой ухмылкой.
– Здесь они не пройдут, – сказал он. – По крайней мере, если лягушатники не подведут, а они вроде настроены серьезно. Дыра простреливается картечью, так что противнику не удастся перекинуть через нее мост. Не понимаю, зачем они тратят порох.
–Я думаю, они проверяют наши силы, – произнес Хорнблауэр с видом крупного знатока.
Позволь он себе на минуту расслабиться, его бы тут же затрясло от возбуждения. Он подумал, не выглядит ли он неестественно чопорно, но это лучше, чем обнаружить волнение. Было какое то странное удовольствие в том, чтобы стоять под ревущими пушечными ядрами, изображая закаленного в боях ветерана. Брэйсгедл, казалось, полностью владел собой, он был весел и улыбался. Хорнблауэр внимательно посмотрел на него, гадая, не наигранное ли это, как у него самого, но так и не понял.
– Вот они опять, – сказал Брэйсгедл. – Опять небольшая вылазка.
Несколько человек врассыпную бежали по дамбе к мосту. На расстоянии ружейного выстрела они упали на землю и открыли огонь; среди них уже были убитые, и стрелки укрывались за мертвыми телами. По эту сторону дыры солдаты отстреливались.
– У них нет никаких шансов, – сказал Брэйсгедл. – Посмотрите сюда.
По дороге шла главная колонна роялистов, вызванная из города. В этот момент пущенное с другого берега ядро ударило в голову колонны – Хорнблауэр увидел, как падают убитые. Колонна дрогнула. Подскакал де Пузож и принялся выкрикивать команды – колонна оставила на дороге убитых и раненых, свернула и укрылась на болотистом поле за дамбой.
Теперь, когда собрались все силы роялистов, у революционеров не осталось почти никаких шансов захватить мост.
– Мне стоит доложить об этом ракам,– сказал Хорнблауэр.
– На заре в той стороне стреляли, – заметил Брэйсгедл. Узенькая дорожка, окруженная сочной зеленью, вилась среди заболоченной долины в направлении брода, у которого стоял 43-й полубатальон. Прежде чем взобраться в седло, Хорнблауэр под уздцы вывел лошадь на эту дорожку – он решил, что это самый простой способ объяснить ей, куда надо ехать. Вскоре он увидел впереди на берегу красные пятнышки – вдоль реки были расставлены пикеты, на тот маловероятный случай, что это противник попытается перейти через болотистое русло и атаковать британцев с фланга. Потом Хорнблауэр увидел домик у брода; все поле перед ним было красным от солдатских мундиров. Здесь располагалась основная часть полубатальона. В одном месте болото суживалось я небольшой пригорок подходил к воде; здесь стояла кучка солдат в красных мундирах, рядом с ними – лорд Эдрингтон на коне. Хорнблауэр подъехал и доложил обстановку, вздрагивая каждый раз, как лошадь под ним перебирала копытами.
– Ни одной серьезной атаки, так вы сказали? – спросил Эдрингтон.
– При мне не было ни одной, сэр.
– Вот как? – Эдрингтон посмотрел на другой берег реки. – И здесь тоже самое. Ни одной серьезной попытки захватить брод. Почему они показываются время от времени но не нападают?
– Я думал, они напрасно жгут порох, сэр, – сказал Хорнблауэр.
– Они не дураки, – фыркнул Эдрингтон, вновь внимательно всматриваясь в противоположный берег. – По крайней мере, не будет вреда, если мы примем, что они не дураки.
Он повернул лошадь и легким галопом поскакал к основной части своего отряда. Здесь Эдрингтон отдал приказ капитану, который при его появлении вскочил на ноги и вытянулся. Капитан в свою очередь прокричал приказ, его солдаты встали и построились в ровную неподвижную шеренгу. Еще два приказа, и они повернули направо и зашагали в ногу, держа ружья в точности под одним углом. Эдрингтон наблюдал за ними.
– Прикрытие с фланга не помешает, – сказал он. С этого берега послышалась канонада, и они обернулись к реке: по дальней стороне вдоль болота быстро шла пехотная колонна.
–Та же колонна возвращается, сэр, – сказал ротный командир. – Или другая точно такая же.
– Маршируют взад-вперед и изредка палят, – сказал Эдрингтон. – Мистер Хорнблауэр, поставили эмигранты дозор со стороны Киброна?
– Со стороны Киброна? – Хорнблауэр был захвачен врасплох.
– Черт, вы что, слов не понимаете? Есть там дозор или нет?
– Не знаю, – вынужден был сознаться Хорнблауэр. В Киброне стояло шеститысячное эмигрантское войско, и держать с этой стороны дозор казалось совершенно излишним.
– Тогда передайте мои приветствия генералу французских эмигрантов и скажите, что я советую ему поставить на дороге сильный отряд, если он до сих пор этого не сделал.
– Есть, сэр.
Хорнблауэр повернул лошадь на дорогу, идущую к мосту. Солнце палило над опустевшими лугами. Изредка гремела канонада, но в синем небе над головой пел жаворонок. Въезжая на последний склон, за которым дорога спускалась к мосту, Хорнблауэр услышал пальбу; ему почудились крики и стоны. То, что он увидел, въехав на гребень, заставило его натянуть поводья и остановить лошадь. Все поле было полно беглецами в белых мундирах с синими портупеями – они в панике бежали в его сторону. Среди беглецов мелькали скачущие галопом всадники, их обнаженные сабли вспыхивали на солнце. Дальше слева скакала целая кавалерийская колонна, а еще дальше, со стороны ведущей к морю дороги, сверкал строй штыков. Он быстро приближался.
В эти несколько кошмарных секунд Хорнблауэр осознал истину: революционеры прорвались между Киброном и Музийяком и, отвлекая эмигрантов маневрами с той стороны реки, захватили их врасплох неожиданной атакой с фланга. Одному небу известно, что произошло в Киброне, сейчас некогда было об этом гадать. Хорнблауэр с трудом заставил лошадь повернуться и ударил ее в бок каблуками, торопя в сторону британцев. Его мотало и бросало в седле, и он отчаянно цеплялся, страшась, что вылетит из седла и попадет в плен.
Он подскакал, британцы обернулись на стук подков. Эдрингтон держал свою лошадь под уздцы.
– Французы! – хрипло выкрикнул Хорнблауэр, указывая назад. – Они идут!
– Ничего другого я и не ожидал, – сказал Эдрингтон. Прежде чем сунуть ногу в стремя, он выкрикнул приказ. К тому времени, когда он был в седле, весь 43-й батальон построился в шеренгу. Адъютант Эдрингтона скакал к берегу, чтобы отозвать стоявших там солдат.
– Французы, я полагаю, наступают крупными силами: конница, пехота, пушки? – спросил Эдрингтон.
– Пехоту и кавалерию я видел, сэр, – выговорил Хорнблауэр, пытаясь успокоиться и вспомнить. – Пушек не видел.
– А эмигранты бегут, как зайцы?
– Да, сэр.
– Вот и они.
За холмиком появились несколько синих мундиров. Французы бежали, спотыкаясь от усталости.
– Я полагаю, нам следует прикрыть их отступление, хотя они и не стоят того, чтобы их спасать, – сказал Эдрингтон. – Смотрите!
Отряд, который он отправил охранять фланг, стоял на вершине небольшого холма. Солдаты построились в каре, красное на зеленом фоне. Отряд всадников подскакал к холму и закружился вокруг него водоворотом.
– Хорошо, что я их там поставил, – спокойно заметил Эдрингтон. – А вот и рота Мэйна.
Вернулся отряд, стоявший у брода. Слышались отрывистые приказы. Две роты повернулись кругом. Старший сержант, держа в руках саблю и оправленную серебром трость, Ровнял строй, словно на плацу.
– Я облагаю, вам следует остаться со мной, мистер Хорнблауэр, – сказал Эдрингтон.
Он направил лошадь между двух колонн, Хорнблауэр тупо следовал за ним. Еще один приказ, и полубатальон медленно двинулся через долину, сержанты отсчитывали шаг, старший сержант следил за дистанцией. Повсюду, выбиваясь из сил, бежали солдаты-эмигранты. Вот один из них задыхаясь, рухнул на землю. Потом справа за холмом возникла цепочка плюмажей, цепочка сабель – кавалерийский полк рысью скакал вперед. Хорнблауэр увидел, как сабли взметнулись вверх, увидел, как лошади перешли в галоп услышал крики атакующих. Солдаты в красных мундирах не двигались; затем раздался приказ и полубатальон неспешным шагом перестроился в каре. Верховые офицеры оказались в середине. Атакующие всадники были не более чем в сотне ярдов. Один из офицеров начал низким голосом отдавать приказы – он произносил их нараспев, словно распоряжался некой торжественной церемонией. По первому приказу солдаты сняли с плеч ружья, по второму все враз щелкнули открываемыми полками. По третьему приказу все солдаты подняли ружья и прицелились.
– Слишком высоко! – сказал старший сержант. – Ниже, эй, седьмой номер.
Атакующие были уже в тридцати ярдах. Хорнблауэр видел передовых всадников в развевающихся за плечами плащах. Каждый держал наперевес обнаженную саблю.
– Пли! – скомандовал низкий голос.
Раздался грохот – все ружья выстрелили одновременно. Каре окуталось облаком дыма. Там, куда смотрел Хорнблауэр, несколько десятков людей и лошадей лежали на земле, некоторые в предсмертных судорогах, некоторые без движения.
Кавалерийский полк разбился о каре, словно волна о скалу, и, не причинив вреда, пронесся вдоль его флангов., – Неплохо, – сказал Эдрингтон.
Снова зазвучал низкий речитатив; словно марионетки на одной веревочке, стрелявшие только что солдаты перезаряжали ружья. Все враз скусили патроны, все враз забили снаряд, все враз, одинаково наклонив головы, выплюнули пули в ружейные стволы. Эдрингтон внимательно смотрел, как кавалерия беспорядочной толпой собирается в долине.
– 43-й вперед марш! – приказал он.
Тихо и торжественно каре разделилось на две колонны и продолжило прерванный путь. Отряд, охранявший фланг, присоединился к ним, оставив на холме убитых лошадей и людей. Кто-то крикнул «ура!».
– Молчать в строю! – заорал старший сержант. – Сержант, узнайте, кто кричал.
Но Хорнблауэр заметил, как тщательно старший сержант следит за дистанцией между колоннами; оно должно было быть в точности таким, чтоб рота, перестроившись, образовала каре.
– Вот они опять, – сказал Эдрингтон.
Кавалерия построилась для новой атаки, но каре уже ждало ее. Лошади устали, а люди порастеряли свой пыл. На английских солдат двигалась не прежняя сплошная стена всадников, а отдельные кучки, которые бросались то туда, то сюда, и отскакивали в сторону, натолкнувшись на ряд штыков. Атака была слишком слаба, чтоб устоять перед беглым огнем; по команде сержанта солдаты время от времени обстреливали наиболее назойливые отряды. Хорнблауэр видел, как один человек (судя по золотому шитью на мундире – офицер) натянул поводья перед строем штыков и вытащил пистолет. Прежде чем он успел выстрелить, разом грянули полдюжины ружей; лицо офицера превратилось в жуткую кровавую маску, он вместе с лошадью рухнул на землю. Потом кавалерия разом повернулась, как скворцы на поле, и колонна могла продолжать свой путь.
– Никакой дисциплины у этих французов, что с той стороны, что с этой, – сказал Эдрингтон.
Колонна двигалась к морю, к спасительным кораблям, но Хорнблауэру казалось, что она еле ползет. Солдаты с томительной тщательностью печатали шаг, а рядом и впереди бурным потоком неслись эмигранты, торопясь укрыться в безопасности. Оглядываясь, Хорнблауэр видел наступающие колонны – революционная пехота нагоняла.
– Только позвольте людям бежать, и вы ничего другого от них уже не добьетесь, – сказал Эдрингтон, проследив взгляд мичмана.
Крики и стрельба с фланга привлекли их внимание. По полю рысью неслась запряженная в повозку кляча. Повозка подпрыгивала на кочках, кто-то в моряцкой одежде держал поводья, другие моряки отстреливались от нападающих всадников. Это был Брейсгедл на своей ассенизационной повозке – он потерял пушки, зато спас людей. Когда повозка приблизилась к колоннам, преследователи отстали; Брейсгедл заметил Хорнблауэра и возбужденно ему замахал.
– Боадицея и ее колесница![9] – завопил он.
– Вы очень обяжете меня, сэр! – гаркнул Эдринггон – если отправитесь вперед и подготовите все к нашей погрузке.
– Есть, сэр!
Тощая лошаденка рысью побежала вперед, таща за собой подпрыгивающую повозку, ухмыляющиеся моряки цеплялись за борта. Сбоку волной накатила пехота; безумная размахивающая руками, бегущая толпа пыталась перерезать 43-му путь. Эдринггон взглядом окинул поле.
– 43-й! В развернутый строй! – крикнул он. Словно хорошо смазанная машина, полубатальон выстроился в ряд на пути бегущей толпы; каждый солдат вставал на свое место, словно кирпич в кладку.
– 43-й вперед марш!
Медленно и неумолимо красная цепочка двинулась вперед. Толпа бежала к ней, офицеры размахивали шпагами, зовя людей за собой.
– Заряжай!
Ружья разом опустились вниз, щелкнули зарядные полки.
– Цельсь!
Ружья поднялись вверх, толпа заколебалась. Кто-то пытался отступить в толпу и укрыться за телами товарищей.
– Пли!
Грохот выстрелов. Хорнблауэр, глядя с лошади поверх голов, видел, как рухнули подкошенные выстрелами передовые французы. Красная цепочка двигалась вперед; после каждого шага раздавался приказ, и солдаты перезаряжали, как автоматы. Пятьсот ртов выплевывали пятьсот пуль, пятьсот правых рук враз поднимали пятьсот шомполов. Когда солдаты вскидывали ружья, чтобы прицелиться, красная цепочка оказывалась среди убитых и раненых; при наступлении толпа отпрянула назад, и теперь под угрозой огня отступала дальше. Залп был дан, наступление продолжалось. Новый залп, новое наступление. Толпа рассыпалась, кто-то обратился в бегство. Теперь все повернулись спинами к стрелкам и бросились бежать. Склоны холма были черны от бегущих людей, как тогда, когда бежали эмигранты.
– Стой!
Наступление прекратилось; цепочка перестроилась в сдвоенную колонну и продолжала отступление.
– Весьма удовлетворительно, – заметил Эдринггон. Лошадь Хорнблауэра осторожно переступала через убитых и раненых, а сам он так старался усидеть в седле, так растерялся, что не сразу заметил, что они поднялись на последний склон и перед ними блещет залив. Здесь качались на якоре корабли и – о благословенное зрелище! – шлюпки гребли к берегу. Как раз вовремя – самые отчаянные из революционных пехотинцев уже настигали колонны, обстреливая их издалека. То один, то другой солдат падал убитым.
– Сомкнись! – командовал сержант, и колонны твердо шли вперед, оставляя за собой убитых и раненых.
Лошадь под адъютантом вдруг фыркнула, прянула в сторону и упала на колени, затем, брыкаясь, стала заваливаться на бок. Веснушчатый адъютант успел высвободить ноги из стремян и отскочить в сторону: еще немного, и лошадь придавила бы его.
– Вы ранены, Стэнли? – спросил Эдринггон.
– Нет, милорд. Все в порядке, – ответил адъютант, отряхивая красный мундир.
– Вам недолго придется идти пешком, – сказал Эдринггон. – Нет надобности высылать солдат вперед, чтобы отогнать этот сброд. Встанем здесь.
Он посмотрел на рыбачьи хижины, на бегущих в панике эмигрантов, на революционную пехоту, наступающую по полям. Времени на размышления не оставалось. Солдаты в красных мундирах вбежали в дома, и вскоре уже высовывали из окон ружья. К счастью, рыбацкая деревушка охраняла подход к морю с одной стороны, с другой же был крутой и неприступный склон, на вершине которого уже закрепились солдаты в красных мундирах. В промежутке между этими точками две роты выстроились в развернутый строй, едва укрытый за небольшим береговым валом.
Эмигранты уже грузились в качающиеся на слабых волнах шлюпках. Хорнблауэр услышал пистолетный выстрел и догадался, что кто-то из офицеров использовал последний довод, способный сдержать обезумевших от страха людей, не дать всем сразу набиться в шлюпки и потопить их. Артиллерийская батарея закрепилась на расстоянии ружейного выстрела и обстреливала британские позиции, за ней собралась революционная пехота. Пушечные ядра пролетали прямо над головой.
– Пусть себе стреляют, – сказал Эдринггон, – Чем дольше, тем лучше.
Артиллерия не могла причинить большого вреда британцам, скрытым за береговым валом, и командир революционеров понял, что зря теряет драгоценное время. Со стороны противника зловеще зарокотали барабаны, и колонны двинулись вперед. Так близко они были, что Хорнблауэр видел лица передовых офицеров. Они размахивали шляпами и шпагами.
– 43-й, заряжай! – скомандовал Эдрингтон. Щелкнули полки. – Семь шагов вперед, марш!
Раз…два…три…семь мучительных шагов, и строй на гребне вала.
– Целься! Пли!
Перед таким огнем ничто не могло устоять. Французская колонна замедлилась и смешалась. Новый залп, за ним еще один. Колонна побежала.
– Превосходно! – сказал Эдрингтон.
Громыхнула батарея – двое солдат в красных мундирах попадали, как куклы. Они лежали страшной кровавой массой у самых ног чалой лошади.
– Сомкнись! – скомандовал сержант, и по солдату с каждой стороны шагнуло на освободившееся место.
– 43-й, семь шагов назад, марш!
Строй укрылся за валом, словно красных марионеток вовремя дернули за ниточку. Впоследствии Хорнблауэр не мог вспомнить, дважды или трижды накатывали на них революционеры, отбрасываемые каждый раз дисциплинированным ружейным огнем. Но солнце уже садилось в океан, когда он обернулся и увидел, что берег пуст, а к ним бредет мичман Брэйсгедл, чтоб доложить о ходе погрузки.
– Я могу отпустить одну роту, – сказал Эдрингтон;
Слушая Брэйсгедла, он не спускал глаз с противника. – Как только они погрузятся, приготовьте все шлюпки и ждите.
Одна рота ушла строем; еще одна атака была отбита. После первых неудач французы уже не налетали с прежним пылом. Теперь батарея сосредоточила свой огонь на расположенном с фланга возвышении и осыпала ядрами стоявших там солдат. Французский батальон двинулся, чтоб атаковать с той стороны.
– Это даст нам время, – сказал Эдрингтон. – Капитан Гриффин, можете уводить людей. Знаменосцам с караулом остаться здесь.
Солдаты строем двинулись к берегу. На их месте по-прежнему развевалось знамя, видимое французам из-за вала. Рота, занявшая домишки, выскочила наружу, построилась и зашагала к берегу. Эдрингтон подъехал к основанию склона. Он наблюдал, как французы готовятся к атаке, а пехота грузится в шлюпки.
– Ну, гренадеры! – закричал он вдруг. – Бегите! Знаменосцы!
Рота побежала вниз к морю по крутому склону, сползая и спотыкаясь. У кого-то от неосторожного обращения выстрелило ружье. Последний солдат сбежал со склона как раз тогда, когда знаменосцы со своей бесценной ношей начали забираться в шлюпку. Французы, дико вопя, бросились на оставленную британцами позицию.
– За мной, сэр, – сказал Эдрингтон, поворачивая лошадь к морю.
Как только лошадь заплескала по мелководью, Хорнблауэр выпал из седла. Он отпустил поводья и побрел к баркасу сначала по грудь, потом по плечи в воде. На носу баркаса стояла четырехфунтовая пушка, а рядом с ней Брэйсгедл. Он втащил Хорнблауэра в шлюпку. Хорнблауэр оглянулся и увидел занятное зрелище: Эдрингтон добрался до шлюпки, не выпуская из рук поводьев. Французы уже заполнили берег. Эдрингтон взял ружье из рук ближайшего солдата, приставил дуло к лошадиной голове и выстрелил. Лошадь в предсмертной судороге упала на мелководье; лишь чалая Хорнблауэра досталась в добычу революционерам.
– Табань! – приказал Брэйсгедл, и шлюпка начала поворачивать прочь от берега.
Хорнблауэр лежал на рыме шлюпки, не в силах шевельнуть пальцем. Берег, заполненный кричащими и жестикулирующими французами, алел в свете заката.
– Минуточку, – сказал Брэйсгедл, потянулся к вытяжному шнуру и аккуратно его выдернул.
Пушка громыхнула у самого Хорнблауэрова уха. На берегу падали убитые.
– Это картечь, – сказал Брэйсгедл. – Восемьдесят четыре пули. Левая, суши весла! Правая, весла на воду.
Лодка повернула от берега и заскользила к гостеприимным кораблям. Хорнблауэр смотрел на темнеющий французский берег. Все позади; попытка его страны силой подавить революцию окончилась кровавым поражением. Парижские газеты захлебнутся от восторга, лондонский «Вестник» посвятит инциденту несколько сухих строчек. Хорнблауэр провидел, что через какой-нибудь год мир едва будет помнить об этом событии. Через двадцать лет его забудут окончательно. Но те обезглавленные тела в Мюзийяке, разорванные в клочья красномундирные солдаты, французы, застигнутые картечью из четырехфунтовой пушки – все они мертвы, как если бы в этот день повернулась мировая история. А сам он так бесконечно устал. В кармане у него по-прежнему лежал кусок хлеба, который он положил туда сегодня утром, и про который забыл.
Испанские галеры
В то время, когда Испания заключила с Францией мир, старый добрый «Неустанный» стоял на якоре в Кадисском заливе. Хорнблауэру случилось быть вахтенным мичманом и именно он обратил внимание лейтенанта Чадда на то, что к ним приближается восьмивесельный пинас с красно-желтым испанским флагом на корме. Чадд в подзорную трубу различил золото эполетов и треуголку. Он тут же приказал фалрепным и караулу морских пехотинцев выстроиться для отдания традиционных почестей капитану союзного флота. Поспешно вызванный Пелью ожидал гостя на шкафуте; там и произошел весь последующий разговор. Испанец с низким поклоном протянул англичанину пакет с печатями.
– Мистер Хорнблауэр, – сказал Пелью, держа в руках нераспечатанное письмо. – Поговорите с ним по-французски. Пригласите его спуститься вниз на стаканчик вина.
Испанец, вновь поклонившись, отверг угощение и, опять кланяясь, попросил Пелью немедленно прочесть письмо. Пелью сломал печать и прочел содержимое, с трудом продираясь сквозь французские фразы: он немного читал по-французски, хотя говорить не мог совсем. Он протянул письмо Хорнблауэру.
– Это значит, что даго заключили мир, так ведь? – Хорнблауэр с трудом прочел двенадцать строк, содержащих приветствия, которые Его Превосходительство герцог Бельчитский (гранд первого класса и еще восемнадцать титулов, из них последний – главнокомандующий Андалузии) адресовал любезнейшему капитану сэру Эдварду Пелью, кавалеру ордена Бани. Второй абзац был коротким и содержал уведомление о заключенном мире. Третий абзац, такой же длинный, как и первый, состоял из церемонного прощания, почти слово в слово повторявшего приветствие.
– Это все, сэр, – сказал Хорнблауэр. Но у испанского капитана вдобавок к письменному сообщению было еще и устное.
– Пожалуйста, скажите своему капитану, – он говорил по-французски с испанским акцентом, – что, будучи теперь нейтральной державой, Испания должна осуществлять свои права. Вы простояли здесь на якоре двадцать четыре часа. Если по истечении шести часов с этого момента, – Испанец вынул из кармана золотые часы и посмотрел на них,– вы будете в пределах досягаемости батареи Пунталес, она получит приказ открыть по вам огонь.
Хорнблауэру оставалось только перевести этот безжалостный ультиматум, даже не пытаясь его смягчить. Пелью выслушал, и его загорелое лицо побелело от гнева.
– Скажите ему… – начал он и тут же овладел собой. – Черт меня подери, если я дам ему понять, что он меня разозлил.
Пелью прижал шляпу к животу и поклонился, в меру своих сил изображая испанскую вежливость. Потом он обернулся к Хорнблауэру.
– Скажите ему, что я с радостью выслушал его сообщение. Скажите ему, что я сожалею об обстоятельствах, разлучающих меня с ним, и что я надеюсь навсегда сохранить его личную дружбу, каковы бы ни были отношения между нашими странами. Скажите ему… вы сами не хуже меня можете все это сказать, верно, Хорнблауэр? Надо проводить его за борт с почестями. Фалрепные! Боцманматы! Барабанщики!
Хорнблауэр, как мог, источал любезности, капитаны после каждых двух фраз обменивались поклонами, испанец с каждым поклоном отступал на шаг, а Пелью, не желая уступать в вежливости, следовал за ним. Барабанщики выбивали дробь, пехотинцы держали ружья на караул, а дудки свистели, пока голова испанца не опустилась до уровня главной палубы. Пелью тут же выпрямился, нахлобучил шляпу и повернулся к первому лейтенанту.
– Мистер Эклз, я хочу, чтоб корабль был готов к отплытию через час.
И он, стуча каблуками, сбежал вниз, чтоб в одиночестве вернуть утерянное самообладание.
Матросы на реях отдавали парус, готовясь выбирать шкоты; скрип шпиля подтверждал, что другие матросы выбирают якорный канат. Хорнблауэр, стоя на правом переходном мостике с плотником мистером Уэлсом, глядел на белые домики одного из красивейших городов Европы.
– Я дважды был здесь на берегу, – сказал Уэлс, – Вино у них хорошее, если вы вообще пьете эту гадость. Но вот коньяк их даже не пробуйте, мистер Хорнблауэр. Яд, чистый яд. Ого! Я вижу нас собираются провожать.
Два длинных острых носа выскользнули из внутреннего залива и теперь смотрели в сторону «Неустанного». Хорнблауэр, проследив взгляд Уэлса, не смог сдержать удивленного возгласа. Это были галеры – по бокам у каждой мерно вздымались и опускались весла, и, поворачиваясь плашмя, вспыхивали в солнечном свете. Сотня весел взмывали, как одно – это было очень красиво; Хорнблауэр вспомнил, что школьником переводил строчку из латинского стихотворения и очень удивился тогда, узнав, что «белые крылья» римских военных судов это их весла. Теперь сравнение стало понятным – даже летящие чайки, чьи движения Хорнблауэр всегда считал безупречно-прекрасными, не могли сравниться с галерами. У них была низкая осадка и непропорционально большая длина. На низких наклонных мачтах не было паруса, ни даже латинского рея. Носа их блестели позолотой, под ними пенилась вода; галеры шли прямо против слабого бриза золотые с красным испанские знамена отдувало ветром к корме. Вверх – вперед – вниз в неизменном ритме двигались весла, не отклоняясь друг от друга ни на один дюйм. На носу каждой галеры, указывая точно вперед, стояло по большой пушке.
– Двадцатичетырехфунтовки, – сказал Уэлс. – Если они настигнут вас в штиль, то разнесут в куски. Подойдут с кормы, где вы не сможете навести на них пушку, и будут поливать продольным огнем, пока вы не сдадитесь. А там спаси вас Бог – лучше турецкая тюрьма, чем испанская.
Кильватерный строем, словно прочерченным по линейке, строго сохраняя дистанцию, словно отмеренную рулеткой, галеры прошли вдоль левого борта «Неустанного». Команда фрегата под барабанный бой и свист дудок вытянулась по стойке «смирно», дабы засвидетельствовать почтение проплывающему мимо флагу. Офицеры галер вернули приветствия.
– Мне что-то не нравится, – процедил сквозь зубы Уэлс, – салютовать им, словно они фрегат.
Поравнявшись с бушпритом «Неустанного», первая галера двинула весла правого борта в обратную сторону и, несмотря на большую длину и малую ширину, повернулась, как волчок, встав поперек носа фрегата. Легкий ветерок дул прямо со стороны галеры; Хорнблауэр почувствовал сильную вонь, и не он один: все матросы на палубе криками выражали свое отвращение.
– Они все так воняют, – объяснил Уэлс. – Пятьдесят весел, на каждом по четыре гребца. Получается двести галерных рабов. Все прикованы к своим скамьям. Если вы попадаете на судно рабом, вас сразу приковывают к скамье и уже не отковывают, пока не приспеет время выбросить вас за борт. Иногда, когда матросы не заняты, они выгребают дерьмо, но это случается нечасто: во-первых их мало, а во-вторых, они даго.
Хорнблауэр всегда хотел все знать точно.
– Сколько их, мистер Уэлс?
– Человек тридцать. Достаточно, чтоб при необходимости управиться с парусами. Или чтоб встать к пушкам: прежде, чем идти в бой, они убирают паруса и реи, как сейчас, мистер Хорнблауэр, – обычным менторским тоном произнес Уэлс. Слово «мистер» прозвучало у него с легким ударением, неизбежным в устах шестидесятилетнего уорент-офицера, потерявшего надежду на дальнейшее продвижение, когда тот обращается к восемнадцатилетнему уорент-офицеру (формально равному ему по чину), который может в один прекрасный день сделаться адмиралом. – Так что вы сами понимаете. При команде в тридцать человек они не могут держать без привязи две сотни рабов.
Галеры снова развернулись, и теперь шли с правого борта «Неустанного». Движение весел замедлилось, и Хорнблауэр успел внимательно разглядеть оба корабля: низкий полубак я высокий полуют соединялись длинным переходным мостиком, по которому расхаживал человек с бичом. Гребцов заслонял фальшборт, отверстия для весел, насколько мог разобрать Хорнблауэр, были заделаны обернутыми вкруг весельных вальков кусками кожи. На полуюте два человека стояли у румпеля; здесь же находились несколько офицеров, золотые галуны мундиров блестели на солнце. Если исключить золотые галуны и двадцатичетырехфунтовые погонные орудия, суда, на которые смотрел Хорнблауэр, были в точности такие же, как те, на которых сражались древние. Полибий и Фукидид писали почти о таких же галерах. Если на то пошло, всего лишь двести с небольшим лет назад галеры сражались в великой битве при Лепанто. Но в тех битвах участвовало по несколько сотен галер с каждой стороны.
– Сколько их сейчас на ходу? – спросил Хорнблауэр.
– Да с десяток наверно, точно я не знаю. Обычно они стоят в Картахене, за Проливом.
Уэлс имел в виду «за Гибралтарским проливом», то есть в Средиземном море.
– Для Атлантики они хиловаты, – заметил Хорнблауэр. Нетрудно было заключить, почему сохранились эти несколько судов: главной причиной был, конечно, консерватизм испанцев. Кроме того на галеры ссылали преступников. В конечном счете они могли пригодиться в безветрие – торговое судно, заштилевшее в Гибралтарском проливе, должно было стать легкой добычей для галер из Картахены или Кадиса. Наконец галеры могли буксировать суда в гавань и из гавани при неблагоприятном ветре.
– Мистер Хорнблауэр! – крикнул Эклз. – Передайте капитану мое почтение и скажите, что мы готовы к отплытию. Хорнблауэр стремглав бросился вниз.
– Передайте мистеру Эклзу мои приветствия, – сказал Пелью, отрывая взгляд от своих бумаг, – и скажите, что я немедленно поднимусь на палубу.
Южного бриза едва хватало на то, чтоб «Неустанный» прошел на ветре окончание мыса. Со взятым на кат якорем и обрасоплеными реями корабль украдкой двинулся в сторону моря; в царившей на палубе дисциплинированной тишине ясно слышалось журчание воды под водорезом – мелодичный звук, в своей невинности ничего не говорящий об опасностях того жестокого мира, в который вступало судно. Под марселями «Неустанный» делал не больше трех узлов. Сзади вновь появились галеры – весла их двигались быстро-быстро, словно галеры похвалялись своей независимостью от стихий. Блеснув позолотой, они обогнали «Неустанный», и его команда вновь ощутила их отвратительный запах.
– Они бы весьма меня обязали, если б держались с подветренной стороны, – процедил Пелью, наблюдая за ними в подзорную трубу. – Впрочем, насколько я понимаю, в испанскую вежливость это не входит. Мистер Катлер!
– Сэр! – отозвался артиллерист.
– Начинайте салют.
– Есть, сэр.
Передняя карронада подветренного борта прогремела первое приветствие, ей отвечал форт Пунталес. Грохот салюта прокатился над живописным заливом; со всей учтивостью две страны говорили между собой.
– Я полагаю, что когда мы следующий раз услышим эти пушки, они будут стрелять боевыми, – сказал Пелью, глядя на Пунталес и развевающийся над ним испанский флаг.
И впрямь, военная удача отвернулась от Англии. Страна за страной выходила из борьбы с Францией; кого принуждала к этому сила оружия, кого – дипломатия молодой и сильной республики. Всякому думающему человеку было ясно, что после первого шага – от войны к нейтралитету, второй шаг – от нейтралитета до войны с противоположной стороной – будет куда легче. Хорнблауэр представлял себе, как вскорости вся Европа объединится против Англии, и той придется сражаться за свое существование с воспрянувшей Францией и злобой всего остального мира.
– Пожалуйста, поставьте паруса, мистер Эклз, – сказал Пелью.
Двести пар тренированных ног побежали по вантам, двести пар тренированных рук отдали паруса, и «Неустанный» пошел вдвое быстрее, слегка покачиваясь под легким бризом. А вот и настоящая атлантическая качка. Вот она подхватила галеры. «Неустанный» к этому времени оставил их за кормой, и Хорнблауэр, обернувшись, видел, как первая галера зарылась носом в длинный вал, так что бак ее скрылся облаке брызг. Для такого хрупкого судна это было слишком – с одной стороны весла двинулись назад, с другой – вперед. Заканчивая поворот, галеры на мгновение круто накренились в подошве волны, и вот они уже спешат назад, в тихие воды Кадисского залива. На «Неустанном» кто-то засвистел, весь корабль подхватил. Шквал оскорбительных выкриков, свиста и гогота провожал галеры, матросы словно сорвались с узды. Пелью на шканцах захлебывался от гнева, унтер-офицеры носились по палубе, тщетно ища зачинщиков. Так зловеще прощались они с Испанией.
И впрямь зловеще. Вскорости капитан Пелью сообщил, что Испания окончательно переметнулась на другую сторону: как только благополучно вернулся конвой с сокровищами, она объявила Англии войну – революционная республика заручилась поддержкой самой замшелой монархии в Европе. Силы Британии были истощены до предела – нужно следить еще за тысячей миль побережья, блокировать еще один флот, обороняться от целой орды каперов; а гаваней, где можно укрыться, набрать воды и скудного провианта для поддержания сил изнуренных тяжелых трудом моряков, становилось все меньше. В эти дни пришлось заводить дружбу с полудикими государствами и сносить наглость деев и султанов, чтоб северная Африка снабжала тощими бычками и ячменем британские гарнизоны в Средиземном море, окруженные с суши вражескими войсками, и корабли, их единственную связь с миром. Не привыкшие к честно заработанному богатству Оран, Тетуан, Алжир купались в неожиданно хлынувшим к ним рекой британском золоте.
В тот день в Гибралтарском заливе стоял мертвый штиль. Море было подобно серебряному щиту, а небо – сапфировой чаше. Положение «Неустанного» было крайне неприятно, но не из-за ослепительно солнца, размягчавшего смолу в палубных пазах. В Средиземном море из Атлантики всегда идет слабое течение, и преобладающие ветры дуют в ту же сторону. В такой штиль судно запросто может отнести течением через пролив, за Гибралтар. Чтоб добраться потом до Гибралтарского залива, лавируя против ветра, ему понадобятся дни и даже недели. Так что Пелью не зря беспокоился о своем конвое судов с зерном из Орана. Гибралтару нужна провизия – Испания уже выслала армию для его осады. Пелью никак нельзя было проскочить мимо цели. Его приказ пришлось доводить до конвоя флажками и даже пушечными выстрелами: ни одного из торговых капитанов с их вечно недоукомплектованными командами не привлекала та работа, которую задумал Пелью. «Неустанный», точно так же как и конвой, спустил шлюпки, и те взяли на буксир беспомощные суда. Труд был бесконечный, изматывающий. Матросы раз за разом налегали на весла, тросы натягивались от сверхчеловеческого напряжения, корабли неуклюже переваливались с боку на бок. Этим способом суда делали менее мили в час, и то лишь доводя команду шлюпок до полного изнеможения. Однако это позволяло оттянуть время, до того как гибралтарское течение снесет их в подветренную сторону, и увеличивало шансы дождаться желанного зюйда – все что им было надо, это два часа южного ветра, чтоб обойти мол.
На баркасе и тендере «Неустанного» матросы настолько отупели от адской работы, что не слышали, как на судне взволнованно зашумели. Они налегали на весла под безжалостным небом, ожидая окончания двухчасового срока страданий. Очнуться их заставил голос самого капитана.
– Мистер Болтон! Мистер Чадд! Отдайте буксир, пожалуйста. Немедленно возвращайтесь на борт и вооружите своих людей. Приближаются наши Кадисские друзья.
Вернувшись с бака на шканцы, Пелью в подзорную трубу оглядел подернутый дымкой горизонт и своими глазами убедился в том, о чем уже доложили с салинга.
– Они идут прямо на нас, – сказал он. Со стороны Кадиса приближались две галеры; видимо, верховой гонец из наблюдательного пункта в Тарифе сообщил, что им представилась блестящая возможность оправдать свое затянувшееся существование: в мертвый штиль по морю разбросан британский конвой. Галеры могли захватить несчастные торговые суда и хотя бы сжечь (увести их не удастся) под самым носом «Неустанного», лежащего на расстоянии чуть больше пушечного выстрела. Пелью посмотрел на три брига и два торговых судна. Одно из них было в полумиле от «Неустанного» и его можно было прикрыть огнем, но остальные – в полутора милях, в двух милях – такой защиты не имели.
– Пистолеты и абордажные сабли, ребята, – приказал он прыгающим на палубу матросам. – Цепляйте сей-тали! Поосторожней с этой карронадой, мистер Катлер!
«Неустанный» участвовал в стольких операциях, где дорога была каждая минута, что сейчас на подготовку почти не требовалось времени. Команда шлюпок похватала оружие, на нос тендера и барказа спустили шестифунтовые карронады, и вскоре шлюпки, наполненные вооруженными людьми и снабженные всем необходимым на случай непредвиденных обстоятельств, гребли навстречу галерам.
– Какого черта вы это делаете, мистер Хорнблауэр? О чем вы думаете?
Пелью только сейчас заметил, что Хорнблауэр спускает на воду находившийся под его командованием ялик. Ему было непонятно, что мичман собирается делать против галер со своей двенадцатифутовой лодочкой и командой из шестерых матросов.
– Мы можем подойти к одному из судов конвоя и усилить его команду, сэр, – отвечал Хорнблауэр.
– А, очень хорошо, продолжайте. Буду полагаться на ваш здравый смысл, хотя дело это гиблое.
– Вы молодец, сэр! – в восторге воскликнул Джексон, когда ялик отвалил от фрегата. – Просто молодец! Никто другой до этого бы не додумался.
Джексон, рулевой ялика, был уверен, что Хорнблауэр не собирается выполнять обещанное и усиливать команду одного из торговых судов.
– Даго вонючие, – процедил сквозь зубы загребной. Хорнблауэр чувствовал, что его команда охвачена той же безотчетной ненавистью к галерам, которую испытывал он сам. В те краткие секунды, анализируя свои чувства, он объяснил их обстоятельствами, при которых он впервые увидел эти галеры, а также запахом, которые те оставляли за собой. Никогда прежде не испытывал он личной ненависти; он сражался как слуга короля, не чувствуя враждебности к противнику. Но сейчас, под опаляющим небом, он вцепился в румпель, страстно желая поскорее сцепиться с врагом.
Баркас и тендер намного его обогнали и, хотя их команда уже отсидела два часа на веслах, скользили по воде с такой скоростью, что ялик, несмотря на преимущество, которое давало ему совершенно гладкое море, еле-еле нагонял их. Море за бортом было чистейшего, небесно-синего цвета; весла вспенивали его, делая белым. Впереди лежали суда конвоя, там, где застал их внезапный штиль. Сразу за ними Хорнблауэр увидел блеск весел: галеры быстро двигались к своей жертве. Баркас и тендер разошлись, чтоб прикрыть как можно больше судов, гичка осталась далеко за кормой. Если б Хорнблауэр и хотел высадиться на какое-нибудь судно, для этого уже не оставалось времени. Он положил руль к борту, собираясь держаться за тендером. В этот момент галера неожиданно появилась в промежутке между двумя торговыми судами. Хорнблауэр увидел, как тендер развернулся и направил свою шестифунтовую карронаду в нос приближающейся галеры.
– Налегай, ребята! Налегай! – выкрикивал Хорнблауэр, обезумев от возбуждения.
Он не мог себе вообразить, что будет дальше, но хотел быть, в самой гуще событий. Из шестифунтовой пушечки невозможно прицелиться на расстоянии больше ружейного выстрела – она годится на то, чтоб выпустить заряд картечи по толпе людей но бессильна против укрепленного носа галеры.
– Налегай! – снова выкрикнул Хорнблауэр. Они были у самой кормы тендера.
Карронада выстрелила. Хорнблауэру показалось, что он видит, как от носа галеры отлетают позолоченные щепки. С тем же успехом можно остановить разъяренного быка горохом из детской трубочки. Галера развернулась, весла ее задвигались быстрее. Галера шла на таран, как греки при Саламине[10].
– Налегай! – выкрикнул Хорнблауэр. Инстинктивно он повернул румпель, чтоб обойти тендер.
– Суши весла!
Гребцы замерли, и шлюпка по инерции скользнула мимо тендера. Хорнблауэр видел, как Сомс стоит на корме, глядя в лицо летящей к нему по синей воде смерти. Борт о борт тендер мог выдержать удар, но он слишком поздно попробовал увернуться. Хорнблауэр видел, как он повернул, подставив форштевню галеры свой уязвимый борт. Больше он ничего не видел – корпус галеры скрыл от него финальный акт трагедии. Весла ялика едва не задели весла правого борта галеры. Хорнблауэр услышал крики и треск, увидел, как галера на миг приостановилась от столкновения. Им овладела безумная жажда битвы, мозг его работал с лихорадочной быстротой.
– Левая, на воду, – закричал он, и шлюпка скользнула под корму галеры. – Обе на воду!
Ялик метнулся к корме галеры, словно прыгающий на быка терьер.
– Цепляйся за них, Джексон, черт тебя побери! Джексон чертыхнулся в ответ и ринулся вперед, перемахнул через головы гребцов, не сбивая их с такта, схватил кошку на длинном лине и с силой размахнулся. Кошка зацепилась за резное позолоченное ограждение на корме. Джексон потянул линь, гребцы с силой налегли на весла, и шлюпка подошла к самой корме. В этот момент Хорнблауэр увидел то, что долго еще мучило его во сне – из-под кормы галеры выплыла раздробленная передняя часть тендера с паяющимися за неё людьми – теми, кто остался после долгого пути под днищем потопившей их галеры. Искаженные, налитые кровью лица, лица покойников. Через мгновение они исчезли, и по толчку, передававшемуся шлюпке через линь, Хорнблауэр понял, что галера двинулась вперед.
– Я не могу удержать ее! – крикнул Джексон.
– Заверни на утку, болван!
Теперь галера тащила привязанный двадцатифутовым линем ялик на буксире у самой кормы, сразу за рулем. Вода пенилась вокруг, нос ялика от натяжения задрался вверх, как будто они загарпунили кита: по полуюту галеры кто-то бежал с ножом, чтобы перерезать линь.
– Убей его, Джексон, – крикнул Хорнблауэр. Пистолет Джексона выстрелил, испанец упал на палубу – хороший выстрел. Несмотря на горячечное возбуждение, несмотря на бурлящую кругом воду и палящее солнце, Хорнблауэр пытался продумать дальнейшие действия. Инстинкт и здравый смысл говорили ему, что самое разумное – атаковать противника, невзирая на численный перевес.
– Эй, вы, подтяните нас к ней! – крикнул он. Все в лодке бешено орали. Баковые гребцы повернулись вперед, ухватились за линь и налегли на него. Однако на такой скорости подтянуть шлюпку было невероятно трудно; после того, как ценой неимоверных усилий удалось приблизиться к галере на ярд, это стало просто невозможно. Кошка зацепилась за леерное ограждение полуюта ярдах в десяти выше уровня воды, и, по мере того как шлюпка приближалась к корме, угол, под которым отходил линь, становился все круче. Нос ялика задрался еще выше.
– Отставить! – приказал Хорнблауэр, и, вновь повысив голос, крикнул: – Ребята, вынимай пистолеты!
Над кормой галеры возникли четверо или пятеро смуглых лиц. Ружейные дула уставились в ялик. Началась перестрелка. Один из гребцов со стоном упал на дно ялика, но лица на корме галеры исчезли. Осторожно стоя на качающейся корме, Хорнблауэр не мог различить на полуюте галеры ничего, кроме двух макушек, принадлежавших, очевидно, рулевым.
– Заряжай, – сказал он матросам, чудом вспомнив отдать этот приказ. Шомпола вошли в пистолетные дула.
– Делайте это тщательно, если хотите снова увидеть своих подружек, – сказал Хорнблауэр.
Он трясся от возбуждения. Безумная жажда битвы застилала ему глаза, и лишь какая-то часть сознания, вымуштрованная часть, машинально выдавала взвешенные приказы. Жажда крови на время убила в нем лучшие чувства.
Все вокруг было как в багровом тумане – так вспоминалось ему позднее, когда он мысленно возвращался к этим событиям. Вдруг послышался треск разбиваемого стекла: кто-то просунул ружейное дуло в большое кормовое окно галеры. Теперь испанцу требовалось время, чтобы прицелиться. Беспорядочная пальба из ялика послышалась одновременно с ружейным выстрелом. Куда попала пуля испанца, никто не заметил; испанец упал.
– Клянусь Богом! Вот нам куда! – заорал Хорнблауэр и тут же себя одернул. – Заряжай.
Когда пули были загнаны в стволы, он встал. За поясом у него был пистолет, из которого он еще ни разу не выстрелил, на боку – абордажная сабля.
– Перебирайся на корму, – приказал он загребному. (Ялик не выдержал бы еще одного человека на носу).– И ты тоже.
Хорнблауэр встал на банку, оглядывая натянутый линь и окно каюты.
– Посылай их за мной по одному, Джексон, – приказал он.
Собравшись с духом, Хорнблауэр прыгнул на линь, линь провис, и ноги его коснулись воды, но ему удалось, собрав все силы, несколько раз перехватить руки и взобраться по линю. Вот и разбитое окно. Размахнувшись ногами, он выбил большой кусок оставшегося стекла, просунул внутрь ноги, а затем и все тело. Он со стуком спрыгнул на палубу каюты: после ослепительного солнца снаружи там было совсем темно. Встав на ноги, он наступил на что-то мягкое, оно застонало от боли – очевидно, это был раненый испанец. Рука, которой Хорнблауэр вытаскивал саблю, была в крови. В испанской крови. Выпрямляясь, он с оглушительным треском врезался головой в палубный бимс. Каюта была совсем низкая, не выше пяти футов, и он чуть не потерял сознание от удара. Но вот перед ним дверь, и он ринулся вперед, сжимая в руке саблю. Над головой он услышал топот; сверху и спереди звучали выстрелы. Испанцы на корме перестреливались с командой ялика. Дверь каюты выходила на низкую полупалубу. Хорнблауэр бросился туда, в яркий солнечный свет, и оказался на крошечной полупалубе, начинающейся от уступа полуюта. Узкий переходный мостик тянулся между двумя рядами гребцов. Хорнблауэр увидел бородатые лица и копны взлохмаченных волос; тощие загорелые тела ритмично двигались взад-вперед, налегая на весла.
Это все, что он успел разглядеть. На дальнем конце мостика рядом с уступом полубака стоял надсмотрщик с бичом. Он мерно выкрикивал что-то по-испански, видимо, задавая ритм. На полубаке стояли двое или трое; за ними через распахнутую дверь фальшборта полубака Хорнблауэр видел две большие пушки, освещенные падающим через пушечные порты светом. Около пушек стояли артиллеристы: их было гораздо меньше, чем требуется для двух двадцатичетырехфунтовок. Хорнблауэр вспомнил слова Уэлса, что команда галеры составляет не больше тридцати человек. По крайней мере, один орудийный расчет отозвали на полуют для отражения атаки с ялика.
Сзади раздались шаги. Хорнблауэр подпрыгнул. Развернувшись с саблей наготове, он увидел Джексона – тот нетвердой походкой вышел на полупалубу. В руках у него была сабля.
– Чуть черепушку себе не раскроил, – сказал Джексон. Он говорил, как пьяный. Вторя его словам, на полуюте, на уровне их голов, послышалась стрельба.
– Олдройд идет за мной, – сказал Джексон. – Франклин убит.
По обеим сторонам от них были трапы, ведущие на полуют. Математически казалось логичней подниматься каждому со своей стороны, но Хорнблауэр рассудил иначе.
– За мной! – крикнул он Джексону и побежал по правому трапу. В этот момент появился Олдройд – ему Хорнблауэр тоже приказал следовать за собой.
Поручни трапа были сплетены из красных и желтых веревок – взбираясь вверх с пистолетом в одной руке и саблей в другой, Хорнблауэр успел обратить внимание на такую мелочь. Всего один шаг, и голова оказалась на уровне палубы. На крошечном полуюте сгрудилось более десятка людей, но двое из них были убиты, один стонал, прислонившись спиной к леерному ограждению, двое стояли у руля. Остальные глядели через ограждение на команду ялика. Хорнблауэр был все в том же исступлении. Последние две или три ступеньки он перемахнул одним прыжком и с безумным криком бросился на испанцев. Его пистолет выстрелил как бы помимо его воли, но лицо стоявшего в ярде испанца превратилось в кровавую маску. Хорнблауэр бросил пистолет и выхватил второй. Он нащупал пальцем курок и в то же время с грохотом обрушил свою саблю на шпагу следующего испанца – тот попытался оказать сопротивление. Хорнблауэр разил и разил саблей, словно безумный. Джексон был рядом: он тоже хрипло кричал и рубил саблей направо и налево.
– Бей их! Бей! – кричал Джексон.
Хорнблауэр видел, что Джексон обрушил свою саблю на голову беззащитного рулевого. Рубясь со стоящим перед ним испанцем, он краем глаза заметил сбоку еще одну шпагу, но его спас пистолет: он машинально спустил курок. Рядом выстрелил другой пистолет, видимо – Олдройда, и бой был окончен. Как испанцы так оплошали, что дали захватить себя врасплох, Хорнблауэр так никогда и не понял. Может, они не знали, что человек в каюте ранен и полагали, что он охраняет этот путь, может, им в голову не приходило, что трое могут напасть на десятерых, может они не заметили, что эти трое проделали опасный путь по линю, может быть, и скорее всего, в горячке битвы они просто потеряли головы ведь с того момента как ялик зацепился за корму, до того, как полуют был очищен, прошло всего несколько минут. Два-три испанца сбежали по трапу с полуюта и дальше по мостику между двумя рядами гребцов. Один из них зацепился за ограждение и жестом показал, что сдается. Но Джексон уже схватил его рукой за горло. Джексон был силен неимоверно – он перегнул испанца через перила, другой рукой ухватил его за ноги и перекинул через борт. Испанец с криком упал раньше, чем Хорнблауэр успел вмешаться. Палуба полуюта была полна корчившимися в предсмертных судорогах людьми, словно дно лодки бьющейся рыбой. Один из испанцев, когда Джексон и Олдройд ухватили его, упал на колени. Они подняли его и перекинули через борт.
– Прекратить! – сказал Хорнблауэр, и они с неохотой втащили его обратно и грохнули на окровавленные доски.
Джексон и Олдройд были как пьяные, они покачивались и хрипло дышали, глядя перед собой остекленевшими глазами. Хорнблауэр сам только что вышел из этого припадка. Он шагнул к уступу полуюта и вытер заливавший глаза пот, пытаясь одновременно стереть багровый туман, застилавший ему глаза. Впереди, на полубаке, собрались уцелевшие испанцы: когда Хорнблауэр двинулся в их сторону, один выстрелил, но пуля пролетела мимо. Внизу гребцы по-прежнему мерно двигались взад-вперед, их взлохмаченные головы и нагие тела качались в такт веслам, в такт словам надсмотрщика. Тот все еще стоял на мостике (остальные испанцы сгрудились за ним) и считал: «seis, siete, ocho».
– Прекратить! – заорал Хорнблауэр.
Он прошел к правому борту на глазах у гребцов этой стороны, поднял руку и снова крикнул. Одно или два заросших лица повернулось к нему, но весла продолжали двигаться.
– Uno, doce, tres, – считал надсмотрщик.
Джексон появился рядом с Хорнблауэром и навел пистолет на голову ближайшего гребца.
– Отставить, – раздраженно сказал Хорнблауэр. Его уже тошнило от убийств. – Найдите мои пистолеты и перезарядите их.
Он стоял на верхней ступеньке трапа, как во сне – как в кошмаре. Галерные рабы продолжали налегать на весла; более десятка врагов по-прежнему толпились возле полубака в тридцати ярдах от него; позади стонали, расставаясь с жизнью, раненые испанцы. Новый призыв к гребцам тоже не возымел никакого действия. Олдройд был самым хладнокровным из всех или раньше других пришел в себя.
– Я спущу их флаг, сэр? – спросил он. Хорнблауэр очнулся. На флагштоке над гакабортом колыхалось желто-красное знамя.
– Да, спустите немедленно, – сказал Хорнблауэр. Теперь сознание его прояснилось, и горизонт его не ограничивался узкими бортами галеры. Хорнблауэр посмотрел вокруг на синее, синее море. Вот торговые суда, за ними «Неустанный». Сзади белый след галеры: изогнутый след. До этого Хорнблауэр не осознавал, что не взял под контроль руль, и последние три минуты галера идет по морю неуправляемой.
– Встаньте к рулю, Олдройд, – приказал он. Это что, другая галера исчезает в дымке? Похоже; а вот далеко за нею баркас. Вот с левого борта гичка, весла ее подняты. Хорнблауэр видел маленькие фигурки на носу и на корме. Они размахивали руками, и до него дошло, что они приветствуют спуск испанского флага. Впереди раздался ружейный выстрел, пуля с силой ударила в перила у самого его бедра, так что позолоченные щепки полетели в сторону, вспыхивая в солнечном свете. Но Хорнблауэр уже пришел в себя и побежал обратно к умирающим: дальний конец полуюта не простреливался с мостика, и там он был в безопасности. Он по-прежнему видел гичку с левого борта.
– Право руля, Олдройд.
Галера медленно развернулась – при своих пропорциях она плохо слушалась руля, если ему не помогали весла – но вскоре нос ее уже почти закрыл гичку.
– Прямо руль!
Удивительно, но здесь, под кормой галеры, по-прежнему прыгал на пенной воде ялик. В нем был один живой человек и двое убитых.
– Где остальные, Бромли?
Бромли показал за борт. Видимо,их убило выстрелами с гакаборта в то время, как Хорнблауэр и двое матросов готовились штурмовать полуют.
– А ты какого черта там остался?
Бромли левой рукой приподнял правую: она явно не работала. Отсюда помощи ждать не приходится, и все же галерой надо овладеть полностью. Иначе их могут даже увести в Альхесирас – хотя руль и у них, человек, который приказывает гребцам, может, если захочет, управлять курсом судна. Оставалось одно.
Теперь, когда боевая горячка схлынула, Хорнблауэр был в мрачном состоянии духа. Его не волновало, что будет с ним; надежда и страх равно покинули его вместе с прежним лихорадочным возбуждением. Им овладел фатализм. Его мозг, продолжая просчитывать варианты, говорил ему, что если останется всего один шанс добиться удачи, надо его испробовать, а подавленное состояние духа позволило ему исполнить задуманное машинально, без эмоций и колебаний. Он подошел к ограждению полуюта: испанцы по-прежнему толпились на дальнем конце мостика, надсмотрщик все также отсчитывал гребцам ритм. Испанцы смотрели на Хорнблауэра. Он тщательнейшим образом убрал в ножны саблю, которую до той поры держал в руках; делая это, он заметил на мундире и на руках кровь. Медленно он поправил на боку ножны.
– Мои пистолеты, Джексон, – сказал он. Джексон вручил ему пистолеты, и Хорнблауэр так же медленно убрал их за пояс. Он повернулся к Олдройду: испанцы, как зачарованные, следили за его движениями.
– Оставайся у румпеля, Олдройд. Джексон, за мной. Не делай ничего без моего приказа.
Солнце светило ему прямо в лицо. Он спустился по трапу, прошел по мостику и приблизился к испанцам. По обе стороны от него всклокоченные головы и нагие тела галерных рабов все так же мерно двигались в такт веслам. Он подошел к испанцам: руки их нервно сжимали шпаги и пистолеты. Сзади кашлянул Джексон. В двух ярдах от испанцев Хорнблауэр остановился и обвел их взглядом. Он жестом указал на всех, кроме надсмотрщика, потом ткнул пальцем в сторону полубака.
– Все на нос, – сказал он.
Они стояли, во все глаза глядя на него, хотя не могли не понять его жест.
– На нос, – сказал Хорнблауэр и махнул рукой. При этом он топнул ногой по палубе.
Лишь один человек, похоже, собирался активно сопротивляться. Хорнблауэр подумал было выхватить пистолет и застрелить его на месте. Но пистолет может дать осечку, выстрел может вывести испанцев из оцепенения. Хорнблауэр пристально поглядел на того человека.
– На нос, кому сказано.
Они двинулись на нос, неловко переставляя ноги. Хорнблауэр наблюдал за ними. Чувства вернулись к нему; сердце так бешено колотилось в груди, что он едва мог сдерживаться. Ему пришлось дождаться, пока все остальные уйдут, прежде чем обратиться к надсмотрщику.
– Останови их, – приказал он. Хорнблауэр посмотрел надсмотрщику в глаза, указывая пальцем на гребцов. Губы надсмотрщика шевельнулись, но он не проронил ни слова.
– Останови их, – Хорнблауэр положил руку на рукоять пистолета.
Этого оказалось достаточно. Надсмотрщик что-то пронзительно выкрикнул, и весла остановились. Как только они перестали скрипеть в уключинах, на корабле воцарилась мертвая тишина. Слышен был только плеск воды за кормой идущей по инерции галеры. Хорнблауэр повернулся и окрикнул, Олдройда.
– Олдройд! Где гичка?
– Близко по правому борту, сэр!
– Как близко?
– В двух кабельтовых, сэр. Они гребут к нам.
– Развернись к ним, пока хватает скорости.
– Есть, сэр.
За какое время гичка на веслах покроет четверть мили? Хорнблауэр боялся, как бы в последний момент у испанцев не вспыхнули чувства. Простое ожидание может стать причиной этого. Нельзя вот так стоять и ничего не делать. Хорнблауэр чувствовал, как идет по воде галера. Он обернулся к Джексону.
– Неплохо идет, правда, Джексон? – сказал он и заставил себя рассмеяться, словно на свете все было просто и ясно.
– Да, сэр, полагаю, что так, сэр, – изумленно ответил Джексон. Он нервно теребил пистолет.
– Посмотри-ка на этих людей, – продолжал Хорнблауэр, указывая на галерных рабов. – Ты хоть раз в жизни видел такую бороду?
– Н-нет, сэр.
– Говори со мной, болван. Говори естественно.
– Я… я не знаю, что говорить, сэр.
– Черт побери, ничего ты не понимаешь, Джексон. Видишь, рубец на плече у этого парня? Видимо, не так давно надсмотрщик ударил его бичом.
– Наверное вы правы, сэр.
Хорнблауэр подавил раздражение и приготовился произнести новый монолог, когда сбоку борт заскрежетал о борт. Через мгновение на палубу попрыгала команда гички. Невозможно описать, какое он испытал облегчение. Хорнблауэр чуть не расслабился совсем, но вспомнил о необходимости сохранять достоинство. Он вновь подтянулся.
– Рад видеть вас на борту, – сказал он, когда лейтенант Чадд перекинул ногу через фальшборт и спрыгнул на палубу возле уступа полубака.
– Рад видеть вас, – сказал Чадд с удивлением глядя на него.
– Эти люди на носу – пленники. Хорошо бы их обезоружить. Я полагаю, это единственное, что осталось сделать.
И теперь он не мог расслабиться; ему казалось, что так и придется оставаться в напряжении всю оставшуюся жизнь. Напряженный и в то же время отупевший, он услышал приветственные крики с «Неустанного», когда галера подошла к фрегату. Отупевший и скучный, докладывал он, запинаясь, капитану Пелью, не забыв в самых лестных тонах отозваться о храбрости Джексона и Олдройда.
– Адмирал будет доволен, – сказал Пелью, внимательно глядя на Хорнблауэра.
– Я рад, сэр, – услышал Хорнблауэр свой ответ.
– Теперь, когда мы потеряли бедного Сомса, нам понадобится еще один офицер для несения вахты. Я намерен назначить вас исполняющим обязанности лейтенанта.
– Спасибо, сэр, – сказал Хорнблауэр все в том же отупении.
Сомс был седовласый офицер с огромным опытом. Он проплавал семь морей, участвовал во множестве сражений. Но, в новой для него ситуации, ему не хватило сообразительности, чтоб не подставить свою шлюпку под таран. Сомс мертв, и.о. лейтенанта Хорнблауэр займет его место. Боевая горячка, чистое сумасшествие принесли ему это повышение. Хорнблауэр и не знал, в какие пучины безумия он готов погрузиться. Как Сомс, как вся команда «Неустанного», он позволил слепой ненависти к галерам увлечь себя, и лишь удача сохранила ему жизнь. Это стоит запомнить.
Экзамен на лейтенанта
Его Величества корабль «Неустанный» скользил по водам Гибралтарского залива. На шканцах, рядом с капитаном Пелью, стоял исполняющий обязанности лейтенанта Горацио Хорнблауэр, напряженный и подтянутый. Его подзорная труба была направлена в сторону Альхесираса. По иронии судьбы главные военно-морские базы двух враждующих держав располагались всего в шести милях друг от друга, и, приближаясь к Гибралтарской гавани, не мешало повнимательней наблюдать за Альхесирасом – всегда существовала возможность, что оттуда неожиданно выйдет испанская эскадра и внезапно нападет на ничего не подозревающий фрегат.
– Восемь… девять судов с поднятыми реями, сэр, – сообщил Хорнблауэр.
– Благодарю вас, – отвечал Пелью. – Поворот оверштаг!
«Неустанный» лег на другой галс и взял курс на мол. Гибралтарская гавань была, как обычно, полна судов: здесь вынужденно базировались все средиземноморские военно-морские силы Англии. Пелью взял марсели на гитовы и положил руль к борту. Потом загромыхал канат и «Неустанный» повернулся на якоре.
– Спускайте мою гичку, – скомандовал Пелью. Пелью выбрал для своей шлюпки и ее команды сочетание синего и белого – синие рубахи и белые штаны для матросов, белые шляпы с синими лентами; сама шлюпка была синяя с белым, у весел – синие рукоятки и белые лопасти. Все вместе получалось очень красиво – весла взметнулись, и шлюпка плавно заскользила по воде. Капитан Пелью отправился засвидетельствовать свое почтение адмиралу порта. Вскоре по его возвращении к Хорнблауэру подбежал посыльный.
– Капитан приветствует вас и хотел бы видеть вас в своей каюте.
– Проверь-ка свою совесть, – ухмыльнулся мичман Брэйсгедл. – Что ты такого натворил?
– Хотел бы я знать, – искренне отвечал Хорнблауэр. Вызов к капитану – это всегда повод для волнения. Подходя к каюте, Хорнблауэр нервно сглотнул и, прежде чем постучаться, немного помедлил, собираясь с духом. Однако опасения его оказались напрасны: Пелью сидел за столом и приветливо улыбался.
– А, мистер Хорнблауэр, у меня для вас новость, надеюсь, радостная. Завтра будут лейтенантские экзамены, здесь, на «Санта Барбаре». Я надеюсь, вы к ним готовы?
Хорнблауэр чуть не ответил: «Думаю, что да», но вовремя себя одернул.
– Да, сэр. – Пелью ненавидел уклончивые ответы.
– Что ж, очень хорошо. Доложитесь там в три часа пополудни с характеристиками и журналами.
– Есть, сэр.
Такой короткий разговор о таком важном деле! Пелью назначил Хорнблауэра исполняющим обязанности лейтенанта два месяца тому назад. Завтра экзамен. Если он сдаст, адмирал на следующий же день утвердит назначение, и Хорнблауэр станет лейтенантом с двумя месяцами стажа. Но если он провалится! Это будет означать, что он не достоин лейтенантского чина. Он снова станет мичманом, два месяца стажа пропадут, и до следующих экзаменов его допустят не раньше, чем через полгода. Восемь месяцев стажа – дело огромной важности. Оно может повлиять на всю последующую карьеру.
– Скажите мистеру Болтону, что я разрешаю вам завтра оставить судно. Можете воспользоваться одной из корабельных шлюпок.
– Благодарю вас, сэр.
– Удачи, Хорнблауэр.
В последующие двадцать четыре часа Хорнблауэру нужно было не только перечесть «Краткий курс навигации» Нори и «Полный справочник по судовождению» Кларка, но и добиться, чтоб его парадная форма блестела, как с иголочки. За порцию спиртного уорент-офицерский кок разрешил лейтенантскому вестовому нагреть на камбузе утюг и прогладить шейный платок. Брейсгедл одолжил чистую рубашку, однако критический момент наступил, когда обнаружилось, что весь лейтенантский запас ваксы ссохся в комок. Пришлось двум мичманам растирать его с жиром, а получившаяся смесь, будучи нанесена на хорнблауэровы башмаки с пряжками, решительно отказалась натираться. Лишь упорный труд с применением сперва полинялой лейтенантской обувной щетки, а затем мягкой тряпочки, позволил довести их до приличествующего экзаменам блеска. Что до треуголки – тяжела жизнь треуголки в мичманской каюте, и часть вмятин так и не удалось выправить.
– Снимай ее как можно скорей и держи под мышкой, – посоветовал Брэйсгедл. – Может они не увидят, как ты поднимаешься на мостик.
Все собрались проводить Хорнблауэра, когда тот покидал корабль, со шпагой, в белых бриджах, в башмаках с пряжками, неся под мышкой стопку журналов, а в кармане – характеристики (о трезвости и примерном поведении). Зимний день уже давно перевалил за полдень, когда Хорнблауэр поднялся на борт «Санта Барбары» и доложился вахтенному офицеру.
«Санта Барбара» была плавучей тюрьмой. Захваченная родни в Кадисе, она с 1780 года так и гнила без мачт, на приколе, в мирное время – склад, в военное – тюрьма. На переходных мостиках стояли солдаты в красных мундирах – ружья заряжены, штыки примкнуты. Карронады на полубаке и шканцах были направлены внутрь и наклонены так, чтобы простреливался весь шкафут. Несколько печальных и оборванных заключенных прогуливались по палубе. Поднявшись на борт, Хорнблауэр сразу почувствовал вонь: внизу томились две тысячи заключенных. Он доложился вахтенному офицеру и сообщил цель своего прибытия.
– Кто бы мог догадаться? – сказал вахтенный, пожилой лейтенант с длинными, до плеч, седыми волосами, оглядывая безупречную форму и толстую стопку у Хорнблауэра под мышкой. – Пятнадцать человек вашего брата уже на борту, и – Боже милостивый, вы поглядите только.
Целая флотилия маленьких лодок приближалась к «Санта Барбаре». На каждой было по крайней мере по одному мичману в треугольной шляпе и белых бриджах, на иных четыре-пять.
– Каждый уважающий себя молодой человек в Средиземноморском флоте хочет получить эполет, – сказал лейтенант. – Вот подождите только, экзаменационная комиссия увидит, сколько вас собралось. Ни за что на свете я не хотел бы оказаться на вашем, юноша, месте. Идите на корму и ждите в левой бортовой каюте.
Каюта была полна, и пятнадцать пар глаз уставились на Хорнблауэра. Офицеры в возрасте от восемнадцати до сорока лет, все в парадных формах, все нервничали. Кто-то судорожно листал «Краткий курс» Нори, восстанавливая в памяти сомнительные места. Одна компания передавала из рук в руки бутылку, очевидно для поднятия духа. Следом за Хорнблауэром хлынул поток новоприбывших. Каюта начала заполняться и вскоре была набита битком. Половине из сорока мичманов посчастливилось сесть на палубу, другие остались стоять.
– Сорок лет назад, – произнес кто-то громко, – мой дед шел с Клайвом отомстить за Черную Калькуттскую Яму[11]. Видел бы он, что случится с его отпрыском.
– Выпей! – сказал другой, – и ну их всех к черту!
– Нас здесь сорок, – заметил высокий, худой, ученый на вид офицер, считая по головам. – Сколько сдаст, как вы думаете. Пять?
– А ну их всех к черту, – повторил хмельной голос в углу и затянул: – Прочь от меня, докучные заботы…
Воздух наполнился протяжным свистом боцманских дудок, на палубе зазвучали команды.
– На борт поднялся капитан, – заметил кто-то. Офицер выглянул в дверную щелку.
– Неустрашимый Фостер, – сообщил он.
– Вот уж кто все жилы вытянет, – сказал толстый молодой человек, удобно прислонившийся к переборке. Снова засвистели дудки.
– Харви, из дока, – сообщил наблюдатель. Тут же последовал третий капитан.
– Черный Чарли Хэммонд, – сказал наблюдатель. – У него такой вид, словно он потерял гинею и нашел шестипенсовик.
– Черный Чарли?! – воскликнул кто-то, вскакивая и опрометью бросаясь к двери.– Дайте-ка глянуть! Он самый! По крайней мере, один молодой человек на экзамен не останется. Я и так знаю, что он мне скажет. «Еще шесть месяцев в море, сэр, и как, вы посмели, черт вас дери, явиться на экзамен с такими знаниями». Черный Чарли никогда мне не простит, что я уронил его любимого пуделя с борта тендера в Порт-оф-Спейн. Он тогда был первым на «Пегасе». Прощайте, джентльмены. Кланяйтесь от меня экзаменационной комиссии.
С этими словами молодой человек вышел. Все видели, как он объясняется с вахтенным офицером и подзывает лодку, чтоб вернуться на свой корабль.
– Одним меньше, – сказал ученый офицер. – В чем дело, любезный?
– Комиссия приветствует вас, господа, – сказал посыльный – морской пехотинец, – и приглашает первого молодого джентльмена.
Все смутились – никто не хотел быть первой жертвой.
– Тот, кто ближе к двери, – предложил пожилой помощник штурмана. – Будете добровольцем, сэр?
– Я буду Даниилом, – в отчаянии произнес бывший наблюдатель. – Вспоминайте меня в своих молитвах.
Он пригладил мундир, расправил галстук и вышел. Остальные ждали в полном молчании, нарушаемом лишь редким бульканьем – мичман-забулдыга прикладывался к бутылке. Прошло целых десять минут, пока вернулся кандидат на повышение. Он пытался изобразить улыбку.
– Еще шесть месяцев в море? – спросил кто-то.
– Нет, – последовал неожиданный ответ. – Три! Велели послать следующего. Идите вы.
– Но о чем они вас спрашивали?
– Сначала они попросили меня определить локсодромию… Советую вам не заставлять их ждать. – Человек тридцать офицеров тут же вытащили свои тетради, чтоб перечитать про локсодромию.
– Вы пробыли там десять минут, – сказал ученый офицер, глядя на часы. – Нас сорок, по десять минут на каждого… да они и к полуночи не управятся.
– Они проголодаются, – сказал кто-то.
– И съедят нас с потрохами, – добавил другой.
– Может, они будут допрашивать нас партиями, – предложил третий, – как французские трибуналы.
Слушая их, Хорнблауэр вспоминал о французских аристократах, шутивших у подножия эшафота. Кандидаты уходили и возвращались, одни – подавленные, другие – улыбались. В каюте стало просторнее. Хорнблауэр нашел свободный кусок палубы, сел, вытянул ноги и беспечно вздохнул. Не успел он этого сделать, как понял, что притворяется сам перед собой. Его нервы были на пределе. Наступала зимняя ночь; какой-то добрый самаритянин прислал пару интендантских свечей, слегка осветивших темноту каюты.
– Сдает один из трех, – сказал ученый офицер, вставая. – Как бы мне оказаться третьим.
Ученый офицер вышел, и Хорнблауэр встал – следующая очередь его. Он шагнул в темноту на полупалубу и вдохнул прозрачный свежий воздух. Слабый бриз дул с зюйда, охлажденный снежными вершинами Африканского Атласа. Ни луны, ни звезд не было. Ученый офицер вернулся.
– Быстрей, – сказал он. – Они нервничают. Хорнблауэр прошел мимо часового в кормовую каюту; она была ярко освещена, он заморгал и обо что-то споткнулся. Тут он вспомнил, что не поправил галстук и не проверил, ровно ли висит шпага. Он продолжал растерянно моргать. Три мрачных лица смотрели из-за стола.
– Ну, сэр? – произнес суровый голос. – Доложитесь. У нас нет времени.
– Х-хорнблауэр, сэр. Г-горацио Х-хорнблауэр. Мичман, то есть исполняющий обязанности лейтенанта Его Величества судна «Неустанный».
– Характеристики, пожалуйста,– произнес сидевший справа.
Хорнблауэр протянул капитанам бумаги и ждал, пока они их изучат. Тут неожиданно заговорил сидевший слева:
– Вы идете в крутой бейдевинд левым галсом, мистер Хорнблауэр, лавируя в проливе против штормового норд-оста в двух милях к норду от Дувра. Это понятно?
– Да,сэр.
– Теперь ветер заходит на четыре румба и лобовой порыв застает вас врасплох. Что вы делаете, сэр? Что вы делаете?
Если Хорнблауэр о чем и думал в этот момент, то только о локсодромии. Вопрос в лоб застал его врасплох не хуже ветра в описанной ситуации. Он открыл и снова закрыл рот.
– Вы уже потеряли мачту, – сказал сидевший посредине смуглолицый капитан – Хорнблауэр заключил, что это Черный Чарли Хэммонд. Об этом он мог думать, а вот об экзамене – никак.
– Потеряли мачту, – повторил сидевший слева. Он улыбался, словно Нерон, наслаждающийся предсмертными муками христианина, – а скалы Дувра с подветренной стороны. Вы в затруднительной ситуации, мистер э… Хорнблауэр.
Вот уж действительно. Рот Хорнблауэра открылся и закрылся. В полном отупении он услышал глухой пушечный выстрел где-то неподалеку, но он не обратил внимания. Комиссия тоже ничего не сказала. Через минуту, однако, последовала целая серия выстрелов. Капитаны вскочили на ноги. Без всяких церемоний они выбежали из каюты, сбив с ног часового, Хорнблауэр – за ними. Как только они выскочили на шкафут, в ночное небо взмыла ракета и рассыпалась водопадом красных брызг – тревога! Над водой стоял барабанный бой, на всех кораблях командовали по местам. Возле левого борта, оживленно переговариваясь, толпились оставшиеся кандидаты.
– Смотрите, – сказал кто-то.
В полумиле от них темная вода осветилась желтоватым светом. Свет приближался, и вскоре все увидели объятый пламенем корабль. Он на всех парусах несся прямо к якорной стоянке.
– Брандеры!
– Вахтенный! Сигнальте моей гичке! – заорал Фостер. Цепочка брандеров неслась по ветру, прямо на тесно стоящие корабли. На «Санта Барбаре» поднялась суматоха: матросы и морские пехотинцы высыпали на палубу, капитаны и кандидаты подзывали лодки. Оранжевое пламя осветило воду, раздался рев бортового залпа – какое-то судно палило по брандеру, пытаясь его потопить. Стоит одному из этих пылающих остовов коснуться, пусть на секунду, стоящего на якоре корабля, пламя перекинется на сухую, крашеную древесину, на просмоленный такелаж, на паруса, и уже ничто его не остановит. Для легковоспламеняющихся кораблей, начиненный взрывчатыми веществами, огонь – страшнейшая из морских опасностей.
– Эй, на лодке! – заорал вдруг Хэммонд. – Сюда! Сюда, черт вас раздери!
Его зоркие глаза высмотрели проплывающую мимо лодку с двумя гребцами.
– Давайте сюда, не то стреляю! – подключился Фостер. – Часовой, приготовьтесь стрелять по ним.
При этой угрозе лодчонка развернулась и заскользила к бизань-русленю.
– Сюда, джентльмены, – сказал Хэммонд. Все три капитана бросились к бизань-русленю и попрыгали в лодку. Хорнблауэр прыгнул за ними. Он знал, что у него, как у младшего офицера, шансы раздобыть лодку минимальны, а он обязан добраться до своего судна. После того, как все три капитана доберутся до своих судов, он сможет воспользоваться лодкой и попасть на «Неустанный». Он прыгнул на корму отваливающей лодки, загремел шпагой о планширь и чуть не вышиб дух их капитана Харви. Однако три капитана приняли незваного гостя, ни слова не сказав.
– Гребите к «Неустрашимому», – приказал Фостер.
– Тысяча чертей, я тут старший, – произнес Хэммонд. – Гребите к «Калипсо».
– К «Калипсо», – сказал Харви, берясь за румпель, и повел лодочку по темной воде.
– Быстрей, быстрее же, – говорил Фостер с искаженным страданием лицом. Ничто не сравниться с душевной мукой капитана, лишенного возможности попасть на свой, терпящий бедствие, корабль.
– Вот один из них, – сказал Харви.
Прямо на них несся на всех парусах маленький бриг; они различали отблески огня, и вдруг, прямо на глазах, бушующее пламя объяло весь корабль, как праздничный фейерверк. Огонь полыхнул из бортов, взвился над люками. Сама вода осветилась зловещим красным отблеском. Судно замедлилось и начало тихо поворачиваться.
– Оно идет прямо на якорный канат «Санта Барбары», – сказал Фостер.
– Еще чуть-чуть, и оно прошло бы мимо, – добавил Хэммонд. – Не повезло же беднягам на «Барбаре». Сейчас оно пройдет борт о борт.
Хорнблауэр подумал о двух тысячах испанских и французских пленных, задраенных под палубами тюрьмы.
– Человек у руля мог бы провести его мимо, – сказал Фостер. – Мы должны это сделать!
Тут все завертелось. Харви положил руль на борт.
– Гребите, – сказал он лодочникам. Те по понятной причине не хотели грести к пылающему каркасу.
– Гребите! – сказал Харви.
Он выхватил из ножен шпагу, и лезвие, направленное загребному в горло, зловеще блеснуло красным. Коротко всхлипнув, загребной налег на весло и лодка понеслась.
– Подведите ее к кормовому подзору, – сказал Фостер. – Я на него прыгну.
Хорнблауэр наконец обрел дар речи:
– Позвольте мне, сэр. Я управлюсь.
– Давайте со мной, если хотите, – ответил Фостер. – Тут могут понадобиться двое.
Прозвище «Неустрашимый Фостер» происходило, вероятно, от названия корабля, но подходило по всем статьям. Харви подвел лодку под корму горящего судна; оно снова шло по ветру, прямо на «Санта Барбару».
В этот момент Хорнблауэр оказался ближе всех к бригу. Медлить было нельзя. Он встал на банку и прыгнул, ухватился за что-то и рывком втащил на палубу свое неуклюжее тело. Судно неслось по ветру и пламя отдувало вперед; на самой корме было пока просто очень жарко, но Хорнблауэр слышал рев пламени и треск горящего дерева. Он шагнул к штурвалу и схватил рукоятки. Штурвал был принайтовлен веревочной стройкой. Сбросив ее, Хорнблауэр снова взялся за штурвал и почувствовал, как руль берет воду. Он всем телом налег на штурвал и повернул его. Правый борт брига почти касался правого борта «Санта Барбары». Пламя осветило взволнованную, размахивающую руками толпу на полубаке плавучей тюрьмы.
– Руль на борт, – загремел в ушах Хорнблауэра голос Фостера.
– Есть руль на борт, – отвечал Хорнблауэр. Тут бриг послушался руля, нос его повернулся, столкновения не произошло.
Огромный столб огня поднялся из люка за грот-мачтой, мачта и такелаж вспыхнули, и тут же порыв ветра понес пламя к корме. Какой-то инстинкт подсказал Хорнблауэру, не выпуская штурвал, другой рукой схватить шейный платок и закрыть им лицо. Пламя на мгновение закружилось вокруг и спало. Но промедление оказалось опасным, бриг продолжал поворачиваться, и теперь его корма грозила врезаться в нос «Санта Барбары». Хорнблауэр в отчаянии крутил штурвал в другую сторону. Пламя отогнало Фостера к гакаборту, теперь он вернулся.
– Руль круто под ветер!
Бриг уже послушался. Его правый борт слегка задел шкафут «Санта Барбары» и скользнул мимо.
– Прямо руль! – крикнул Форстер.
Брандер прошел в двух-трех ярдах от борта «Санта Барбары». По шкафуту, держась наравне с бригом, бежали люди. Минуя плавучую тюрьму, Хорнблауэр краем глаза видел другую группу людей: на шканцах стояли матросы с пожарным деревом, готовые оттолкнуть брандер. Наконец «Санта Барбара» осталась позади.
– «Отважный» с правого борта, – сказал Форстер. – Не заденьте.
– Есть, сэр.
Жар был чудовищный, непонятно, как вообще можно было дышать. Лицо и руки Хорнблауэра обжигало горячим воздухом. Обе мачты высились огненными столпами.
– Один румб вправо, – сказал Форстер. – Мы посадим его на мель у нейтральной земли.
– Есть один румб вправо, – отвечал Хорнблауэр. Его захлестнула волна сильнейшего возбуждения, даже восторга; рев огня пьянил его, страха не было совсем. Тут палуба вспыхнула чуть не в ярде от штурвала. Пламя вырвалось из разошедшихся палубных пазов, жар стал невыносимым, пазы раскрывались все дальше, пламя быстро бежало по корме. Хорнблауэр потянулся за стропкой, чтоб принайтовить штурвал, но тот свободно завертелся под рукой – перегорели тросы рулевого привода. Тотчас палуба под ногами вздыбилась и полыхнула огнем. Хорнблауэр отскочил к гакаборту. Фостер был здесь.
– Перегорели тросы рулевого привода, сэр, – доложил Хорнблауэр.
Кругом бушевало пламя. Рукав его сюртука обуглился.
– Прыгайте! – сказал Фостер.
Хорнблауэр почувствовал, что Фостер толкает его. Все было как во сне. Он перелез через гакаборт, прыгнул, в воздухе от страха захватило дух, но ужаснее всего было прикосновение холодной воды. Волны сомкнулись над ним, и он в панике рванулся к поверхности. Было холодно – Средиземное море в декабре холодное. Какое-то время остававшийся в одежде воздух поддерживал его, несмотря на вес шпаги. Глаза, ослепленные огнем, ничего не видели в темноте. Кто-то барахтался рядом.
– Они идут за нами на лодке и сейчас подберут, – послышался голос Фостера, – Вы плавать умеете?
– Да, сэр. Не очень хорошо.
– Я тоже, – сказал Фостер, потом закричал. – Эй! Эй! Хэммонд! Харви!
Крича, он попытался выпрыгнуть из воды, плюхнулся обратно, снова попытался выпрыгнуть, снова плюхнулся; вода заливала ему рот, не давая закончить слово. Даже слабея в схватке с водой, Хорнблауэр не терял способности думать – так уж странно был устроен его мозг – и отметил про себя, что даже капитан с большим стажем в конечном счете, оказывается, простой смертный. Хорнблауэр попытался отцепить шпагу, не преуспел, а только погрузился глубже и с большим трудом вынырнул; со второй попытки он наполовину вытащил шпагу из ножен, дальше она выскользнула сама, однако ему стало не намного легче.
Тут Хорнблауэр услышал плеск весел и громкие голоса, увидел темный силуэт приближающейся лодки и испустил отчаянный крик. Через секунду лодка нависла над ним, и Хорнблауэр судорожно вцепился в планширь.
Фостера втащили через корму. Даже зная, что его дело – не шевелиться и не пытаться самому влезть в лодку, Хорнблауэр должен был собрать всю свою волю, чтоб тихо висеть за бортом и ждать своей очереди. Он одновременно презирал себя и с интересом анализировал этот необоримый страх. Для того, чтоб люди в лодке смогли подвести его к корме, надо было ослабить смертельную хватку, которой он вцепился в планширь, а для этого потребовалось серьезное и сознательное напряжение воли. Его втащили внутрь и он, на грани обморока, рухнул лицом вниз на дно лодки. Кто-то заговорил, и по коже Хорнблауэра побежали мурашки, ослабшие мускулы напряглись: слова были испанские, по крайней мере – на чужом языке, похожем на испанский.
Кто-то отвечал на том же языке. Хорнблауэр попытался выпрямиться, но чья-то рука легла ему на плечо. Он перекатился на спину, и привыкшими к темноте глазами различил три смуглых черноусых лица. Эти люди – не из Гибралтара. Через мгновение его осенило – это команда одного из брандеров, они провели судно за мол, подожгли, и теперь уходили на лодке. Фостер сидел на дне, согнувшись пополам. Подняв лицо от колен, он огляделся по сторонам.
– Кто это? – спросил он слабо. Схватка с морем вымотала его не меньше Хорнблауэра.
– Я полагаю, сэр, это команда испанского брандера, – сказал Хорнблауэр. – Мы в плену.
– Вот оно что!
Мысль эта вдохнула в него силы, как только что случилось с Хорнблауэром. Фостер попытался встать, но рулевой-испанец, доложив руку на плечо, пригнул его обратно. Фостер попытался скинуть руку и испустил слабый крик, но рулевой шутить не собирался. С быстротой молнии он выхватил из-за пояса нож. Свет брандера, безобидно догоравшего на мели, отразился на лезвии, и Фостер прекратил сопротивление. Несмотря на свое прозвище, Неустрашимый Фостер понимал, когда надо проявить благоразумие.
– Куда мы движемся? – шепотом, чтоб не раздражать хозяев, спросил он у Хорнблауэра.
– На север, сэр. Вероятно они хотят высадиться на нейтральной земле и там перейти границу.
– Это для них лучше всего, – согласился Фостер. Он неловко повернул голову, оглядываясь на гавань.
– Два других судна догорают вон там, – сказал он. – Мне помнится, их было всего три.
– Я видел три, сэр.
– Значит все обошлось благополучно. Но какое смелое предприятие. Кто бы мог подумать, что доны на такое решатся?
– Возможно, они узнали про брандеры от нас, – предположил Хорнблауэр.
– Вы думаете, мы «тот самый повернули маховик, что, приводил в движение огниво»?
– Возможно, сэр.
Какой же ледяной выдержкой надо было обладать, чтобы цитировать стихи и обсуждать военно-морскую диспозицию, следуя в испанский плен под угрозой обнаженной стали. Ледяной в данном случае может быть понято и буквально – Хорнблауэр весь дрожал в мокрой одежде под пронизывающим ночным ветром. После всех волнений этого дня он ощущал себя слабым и разбитым.
– Эй, на лодке! – раздалось над водой: в ночи возник темный силуэт. Испанец, сидевший на корме, резко повернул румпель, направляя лодку в противоположную сторону. Гребцы с удвоенной силой налегли на весла.
– Караульная шлюпка, – сказал Фостер, но осекся, вновь увидев лезвие ножа.
Конечно, с северного края стоянки должна нести дозор караульная шлюпка; они могли бы об этом подумать.
– Эй, на лодке! – послышался новый окрик. – Суши весла, не то стреляю.
Испанцы не отвечали, и через секунду последовала вспышка и звук ружейного выстрела. Пули они не слышали, но выстрел всполошит флот, к которому они сейчас двигались. Однако испанцы не собирались сдаваться. Они отчаянно гребли.
– Эй, на лодке!
Это кричали уже с другой лодки, впереди. Испанцы в отчаянии опустили весла, но окрик рулевого заставилихвновь приняться за работу. Хорнблауэр видел вторую лодку – она была прямо перед ними – и слышал новый окрик с нее. По команде рулевого-испанца загребной налег на весло, лодка развернулась; новая команда, и оба гребца рванули на себя весла. Лодка пошла на таран. Если им удастся опрокинуть находящуюся на пути шлюпку, второй лодке придется задержаться, чтоб подобрать товарищей; тогда испанцы успеют уйти.
Все смешалось, каждый, казалось, орал что есть мочи. Лодки с треском столкнулись, нос испанской лодки прошел по английской шлюпке, но опрокинуть ее не удалось. Кто-то выстрелил, потом караульная шлюпка оказалась рядом, команда попрыгала к испанцам. Кто-то навалился на Хорнблауэра и принялся его душить. Хорнблауэр услышал протестующие, крики Фостера, через мгновение нападавший ослабил хватку, и Хорнблауэр услышал, как мичман караульной шлюпки извиняется за грубое обращение с капитаном Королевского Флота. Кто-то открыл лодочный фонарь, и в его свете появился Фостер, грязный и оборванный. Фонарь осветил молчащих пленников.
– Эй, на лодке! – послышался крик, и еще одна лодка возникла из темноты.
– Капитан Хэммонд, если не ошибаюсь: – В голосе Фостера звучали зловещие нотки.
– Благодарение Небу! – послышался голос Хэммонда.
– Вас-то благодарить не за что, – горько произнес Фостер.
– После того, как брандер миновал «Санта Барбару», порыв ветра понес вас так быстро, что мы отстали, – объяснил Харви.
– Мы двигались так быстро, как только могли заставить грести этих прибрежных скорпионов, – добавил Хэммонд.
– И все же, если б не испанцы, мы бы утонули, – фыркнул Фостер. – Я считал, что могу положиться на двух братьев-капитанов.
– На что вы намекаете, сэр? – огрызнулся Хэммонд,
– Я ни на что не намекаю, но другие могут прочесть намек в простом перечислении событий.
– Я считаю ваши слова оскорблением, сэр, – сказал Харви, – адресованным как мне, так и капитану Хэммонду.
– Такая проницательность делает вам честь, – отвечал Фостер.
– Что ж, – сказал Харви, – мы не можем продолжать разговор в присутствии этих людей. Я пришлю вам своего друга.
– Я буду очень рад.
– В таком случае, желаю вам доброй ночи, сэр.
– И я тоже, – сказал Хэммонд. – Весла на воду. Лодка выскользнула из освещенного пространства, оставив невольных свидетелей с открытыми ртами дивиться причудам людской натуры. Человек, только что спасенный сначала от смерти, потом от плена, вновь бесцельно рискует жизнью. Фостер провожал лодку взглядом; возможно, он уже раскаивался в своем истерическом всплеске.
– Мне многое предстоит сделать за ночь, – сказал он скорее самому себе, потом обратился к мичману караульной шлюпки. – Вы, сэр, займетесь пленными и отвезете меня на мой корабль.
– Есть, сэр.
– Кто-нибудь тут говорит по-ихнему? Я хочу, чтоб им объяснили, что я отправлю их в Картахену по картелю, без обмена. Они спасли нам жизнь, и это – наименьшее, что мы можем для них сделать. – Последняя фраза была адресована Хорнблауэру.
– Я думаю, это справедливо, сэр.
– Теперь вы, мой огнестойкий друг. Могу я выразить вам свою благодарность? Вы молодец. Если я переживу сегодняшнее утро, то постараюсь, чтоб начальство узнало о вашем поведении.
– Благодарю вас, сэр. – Вопрос застрял у Хорнблауэра в горле и потребовалась некоторая решимость, чтобы его выговорить: – А мой экзамен, сэр? Мои характеристики?
Фостер тряхнул головой: – Боюсь, в таком составе эта комиссия уже не соберется. Вам придется подождать другого случая.
– Есть, сэр, – с нескрываемым отчаянием произнес Хорнблауэр.
– Послушайте-ка, мистер Хорнблауэр, – сказал Фостер, поворачиваясь к нему. – Насколько я помню, вы находились в полной растерянности с наветренной стороны Луврских скал. Еще минута, и вы бы пошли ко дну. Вас спас только предупредительный выстрел. Разве не так?
– Так, сэр.
– Тогда благодарите судьбу за маленькие подарки. А тем более за большие.
Ноев ковчег
Исполняющий обязанности лейтенанта Горацио Хорнблауэр стоял на корме баркаса вместе с мистером Таплингом из дипломатической службы. У их ног лежали мешки с золотом. Вокруг поднимались крутые склоны Оранского залива. Перед ними в ярких лучах солнца белел город, похожий на россыпь мраморных кубиков, небрежно раскиданных по склонам холмов. Шлюпка плыла по легкой зыби, гребцы ритмично налегали на весла, пеня изумрудно-зеленую воду. Средиземное море позади них было небесно-голубым.
– Издали вид премилый, – сказал Таплинг, глядя на приближающийся город, – но при ближайшем рассмотрении вы обнаружите, что зрение ваше обманулось. А тем более обоняние. В запах правоверных, право, не поверишь. Подведите баркас к причалу вот сюда, мистер Хорнблауэр, за этими шебеками.
– Есть, сэр, – отозвался на приказ Хорнблауэра рулевой.
– Вон часовой на батарее, – заметил Таплинг, внимательно осматриваясь, – и даже не совсем спит. Обратите внимание на эти пушки. Двадцатидвухфунтовые, не меньше. Каменные ядра сложены наготове. Каменное ядро, разлетевшись на куски, причиняет ущерб, несопоставимый с его размерами. И стены очень даже прочные. Боюсь, Оран не просто взять coup de main[12]. Если Его Туземное Высочество бей решит перерезать нам глотки и забрать наше золото, за нас не скоро отомстят, мистер Хорнблауэр.
– Не думаю, чтоб отмщение меня сильно утешило, – сказал Хорнблауэр.
– Тоже верно. Но, без сомнения, Его Туземное Высочество нас на этот раз пощадит. Мы – гусыня, которая несет золотые яйца. Полная лодка золота каждый месяц – радужная перспектива для пиратского бея в наши дни, когда торговые суда хорошо охраняются.
– Шабаш! – крикнул рулевой. Лодка плавно скользнула к причалу и аккуратно пришвартовалась. На берегу сидели в тени несколько человек – они сразу повернули головы и принялись разглядывать англичан. На палубах шебек появились темнолицые мавры и тоже принялись глазеть. Один или двое что-то выкрикнули.
– Без сомнения, они перечисляют родословные неверных, – сказал Таплинг. – Брань на вороту не виснет особенно если я ее не понимаю, – и добавил, глядя из-под руки: – Где же он?
– Никого не видно, кто бы походил на христианина, – сказал Хорнблауэр.
– Он не христианин, – сказал Таплинг. – Белый, но не христианин. Белый благодаря смеси французской, арабской и мавританской кровей, консул Его Британского Величества в Оране pro tem[13] и мусульманин из соображений удобства. Кстати, в положении правоверного есть серьезные минусы. Зачем мне четыре жены, если в благодарность за это сомнительное удовольствие я должен воздерживаться от спиртного?
Таплинг спрыгнул на причал, Хорнблауэр последовал за ним. Внизу умиротворяюще плескалась легкая зыбь. От каменных плит, по которым они ступали, отражался ослепительный жар полуденного солнца. Далеко в заливе стояли на якоре два корабля – транспортное судно «Каролина» и Е.В.С. «Неустанный». Они были дивно хороши на синей морской глади, искрящейся серебром.
– И все-таки я предпочел бы Друри Лейн в субботнюю ночь, – сказал Таплинг.
Он снова повернулся к городской стене, защищающей Оран с моря. Узкие ворота, обрамленные бастионами, выходили прямо к причалу. Сверху стояли часовые в красных кафтанах. В густой тени под проемом ворот что-то двигалось, но ослепленные солнцем глаза не могли ничего различить. Наконец на свет вышла небольшая группа: полуголый негр вел осла, на котором сбоку, ближе к крупу, располагалась массивная фигура в белом одеянии.
– Пойдем навстречу консулу Его Британского Величества? – спросил Таплинг. – Нет. Пусть сам к нам идет.
Негр остановил осла, всадник спешился и вразвалку подошел к ним. Это был высокий грузный человек в длинном одеянии. Землистого цвета лицо украшали жидкие усики и бородка, большую голову венчал белый тюрбан.
– К вашим услугам, господин Дюра, – сказал Таплинг.
– Позвольте представить вам мистера Горацио Хорнблауэра, и. о. лейтенанта с фрегата «Неустанный».
Господин Дюра кивнул. Его лоб покрывала испарина.
– Деньги привезли? – спросил он утробным голосом. Прошло несколько минут, пока Хорнблауэр привык к его французскому и начал понимать.
– Семь тысяч золотых гиней, – отвечал Таплинг на сносном французском языке,
– Хорошо, – произнес Дюре с явным облегчением. – Они в шлюпке?
– В шлюпке, – ответил Таплинг, – там они пока и останутся. Помните условия? Четыре сотни упитанных бычков, пять тысяч фанег ячменя. Когда я увижу, что все это погружено на лихтеры, а лихтеры подошли к судам в заливе, я вручу вам деньги. Когда припасы будут готовы?
– Скоро.
– Так я и знал. Когда?
– Скоро… очень скоро.
Таплинг состроил недовольную мину.
– Тогда мы возвращаемся на корабль. Завтра, может быть послезавтра, мы вернемся с золотом.
На потном лице Дюра проступил испуг.
– Нет, нет, не делайте этого, – сказал он поспешно. – Вы не знаете Его Высочество бея. Нрав его переменчив. Если он будет знать, что золото здесь, он велит пригнать скот. Увезите золото, и он не шевельнет пальцем. И.. и… он разгневается на меня.
– Ira prinsipis mors est, – произнес Таплинг, и, видя непонимающее лицо Дюра, снизошел до перевода. – Гнев князя означает смерть. Так ведь?
– Да, – отвечал Дюра и в свою очередь произнес несколько слов на незнакомом языке, сопроводив их резким непонятным жестом, потом перевел. – Да не будет этого.
– Конечно, мы надеемся, что этого не будет, – с обезоруживающей сердечностью согласился Таплинг. – Шнурок для удушения, крюк, даже битье по пяткам – все это так неприятно. Посему отправляйтесь-ка лучше к бею и постарайтесь, чтоб он распорядился насчет скота и ячменя. Иначе мы отчалим с наступлением ночи.
Желая подчеркнуть, что надо торопиться, Таплинг взглянул на солнце.
– Я поеду, – Дюра примиряюще развел руками. – Я поеду. Но умоляю вас, не отчаливайте. Быть может, Его Высочество занят в гареме. В этом случае никому не разрешается его беспокоить. Но я попытаюсь. Зерно уже здесь, в касбе[14]. Нужно только пригнать скот. Прошу вас, не беспокойтесь. Умоляю вас. Его Высочество не привык торговать, тем более торговать по обычаю франков. – Дюра подолом вытер потное лицо.
– Простите меня, – сказал он. – Я плохо себе чувствую. Но я отправлюсь к Его Высочеству. Умоляю вас, подождите меня.
– До заката, – непреклонно отвечал Таплинг. Дюра окликнул слугу-негра, который скрючился под ослиным животом, прячась от солнца, и с усилием взгромоздил свое жирное тело на ослиный круп. Снова вытерев лицо он в некотором замешательстве взглянул на англичан.
– Ждите меня, – были его последние слова. Ослик затрусил обратно к городским воротам.
– Он боится бея, – сказал Таплинг, провожая консула взглядом. – По мне лучше двадцать беев, чем один разъяренный адмирал сэр Джон Джервис. Что он скажет об этой новой задержке, когда флот и так на голодном пайке? Он мне кишки выпустит.
– От этих мавров не приходится ждать пунктуальности, – произнес Хорнблауэр с беспечностью человека, который сам ни за что не отвечает. Но подумал он о Британском флоте, который без друзей, без союзников, ценой отчаянных усилий поддерживает блокаду враждебной Европы перед лицом превосходящих сил противника, штормов, болезней, а теперь еще и голода.
– Посмотрите-ка! – вдруг сказал Таплинг. В пересохшей сточной канаве появилась большая серая крыса. Она села и принялась осматриваться, не обращая внимания на яркий солнечный свет. Таплинг топнул на нее ногой, но и тогда крыса не особо встревожилась. Он снова топнул, она попыталась спрятаться обратно в водосток, оступилась, упала, немного подергалась, потом поднялась на лапки и исчезла в темноте.
– Старая крыса, – сказал Таплинг. – Наверное, из ума выжила. Может даже слепая.
Ни слепые, ни зрячие крысы Хорнблауэра не волновали. Он пошел к баркасу, дипломат следовал за ним.
– Максвелл, разверни-ка грот, чтоб он давал нам немного тени, – сказал Хорнблауэр. – Мы останемся здесь до вечера.
– Как все-таки хорошо в мусульманском порту, сказал Таплинг, усаживаясь на швартовую тумбу рядом со шлюпкой. – Не надо волноваться, что матросы сбегут. Не надо волноваться, что они напьются. Всех-то и забот, что бычки да ячмень. И как поджечь этот трут.
Он вынул из кармана трубку, продул и собрался набивать. Грот затенял теперь шлюпку, и матросы уселись на носу, переговариваясь вполголоса, другие поудобнее расположились на корме. Шлюпка мерно покачивалась на легкой зыби. Ритмичное поскрипывание кранцев между шлюпкой и причалом убаюкивало, город и порт дремали в послеполуденный зной. Однако живой натуре Хорнблауэра тяжело было сносить длительное бездействие. Молодой человек взобрался на пристань, прошелся туда-сюда, чтобы размять ноги. Мавр в белом одеянии и тюрбане нетвердой походкой вышел на солнечный свет у края воды. Его качало, и он широко расставлял ноги, пытаясь сохранить равновесие.
– Вы говорили, сэр, что мусульманам запрещено употреблять спиртное? – спросил Хорнблауэр сидевшего на корме Таплинга.
– Не то чтоб совсем запрещено, – осторожно ответил Таплинг, – но спиртное предано анафеме, поставлено вне закона и его трудно достать.
– Кое-кто ухитрился его достать, сэр, – заметил Хорнблауэр.
– Дайте-ка глянуть, – сказал Таплинг, вставая. Матросы, наскучившие ожиданием и всегда интересующиеся насчет выпивки, тоже перелезли на пристань.
– Похож на пьяного, – согласился Таплинг.
– Набрался до краев, – сказал Максвелл, когда мавр пошел полукругом.
В конце полукруга мавр упал ничком, из-под длинной одежды высунулась коричневая нога и тут же втянулась обратно. Теперь он лежал без движения, положив голову на руки. Упавший на землю тюрбан обнажил бритую голову с прядью волос на макушке.
– Лишился мачт, – сказал Хорнблауэр.
– И сел на мель, – закончил Таплинг. Мавр лежал, ни на что не обращая внимания.
– А вот и Дюра, – сказал Хорнблауэр.
Из ворот вновь появилась массивная фигура на осле. Следом, тоже на осле, ехал другой дородный мавр. Обоих осликов вели слуги-негры. Сзади шли человек десять темных личностей, чьи мушкеты и подобие формы выдавали солдат.
– Казначей Его Высочества, – представил Дюра, когда оба спешились. – Явился получить золото.
Дородный мавр высокомерно посмотрел на англичан. Солнце палило. Дюра по-прежнему обливался потом.
– Золото здесь. – Таплинг указал на шлюпку. – Оно на корме барказа. Вы его увидите, когда мы увидим припасы которые собираемся купить.
Дюра перевел его слова на арабский. Потом они с казначеем обменялись несколькими фразами, и казначей очевидно, сдался. Он обернулся к воротам и махнул рукой! Видимо, это был условленный сигнал, потому что из ворот тут же выступила печальная процессия: длинная цепочка полуголых людей, белых, цветных, мулатов. Каждый сгибался под тяжестью мешка с зерном. Рядом шли надсмотрщики с палками.
– Деньги, – перевел Дюра слова казначея. По команде Таплинга матросы принялись вытаскивать на причал тяжелые мешки с золотом.
– Когда зерно будет на пирсе, я прикажу отнести золото туда же, – сказал Таплинг Хорнблауэру. – Последите за ним, пока я загляну хотя бы в несколько мешков.
Таплинг подошел к веренице рабов. Открывая то один, то другой мешок, он заглядывал внутрь и доставал пригоршню золотистого ячменя. Некоторые мешки он ощупывал снаружи.
– Никакой возможности проверить все сто тонн ячменя, – заметил он, возвращаясь к Хорнблауэру. – Полагаю, в нем изрядная доля песка. Таков уж обычай правоверных. Цена назначена соответственно. Очень хорошо, эффенди[15].
По знаку Дюра подгоняемые надсмотрщиками рабы затрусили к воде и начали грузить мешки на пришвартованный к причалу лихтер. Первые десять человек принялись раскладывать груз на дне лихтера, другие затрусили за новыми мешками. Тела их лоснились от пота. Тем временем из ворот появились два смуглых погонщика. Перед собой они гнали небольшое стадо.
– Жалкие заморыши, – произнес Таплинг, разглядывая бычков, – но плата учитывает и это.
– Золото, – сказал Дюра.
Вместо ответа Таплинг открыл один из мешков, вытащил пригоршню золотых гиней и водопадом ссыпал их обратно.
– Здесь пять сотен гиней, – сказал он. – Четырнадцать мешков, как вы можете видеть. Вы получите их, как только лихтеры будут загружены и снимутся с якоря.
Дюра усталым жестом вытер лицо. Ноги едва держали его. Он оперся на стоявшего позади спокойного ослика.
Бычков сгоняли по сходням другого лихтера. Еще одно стадо прошло через ворота и теперь ждало своей очереди.
– Дело идет быстрее, чем вы боялись, – сказал Хорнблауэр.
– Видите, как они гоняют этих бедняг, – нравоучительно произнес Таплинг. – Гляньте-ка! Дела идут быстро, если не щадить людей.
Цветной раб свалился под тяжестью своей ноши и лежал, не обращая внимания на град палочных ударов. Ноги его слабо подергивались. Кто-то оттащил его в сторону, и движение мешков в сторону лихтера возобновилось. Другой лихтер быстро заполнялся стиснутым в сплошную мычащую массу скотом.
– Надо же. Его Туземное Высочество держит свое слово, – дивился Таплинг. – Если бы меня спросили раньше, я бы согласился на половину.
Один из погонщиков сел на причал и закрыл лицо руками, посидел так немного и повалился на бок.
– Сэр, – начал Хорнблауэр, обращаясь к Таплингу. Оба англичанина в ужасе посмотрели в друг на друга, пораженные одной мыслью.
Дюра начал что-то говорить. Одной рукой он держался за ослиную холку, другой жестикулировал, как бы произнося речь, но в его хриплых словах не было никакого смысла. Лицо его раздулось больше своей природной толщины, исказились, к щекам прилила кровь, так что они побагровели даже под густым загаром. Дюра отпустил ослиную холку и на глазах у англичан пошел по большому полукругу. Голос его перешел в шепот, ноги подкосились, он упал на четвереньки, а затем и плашмя.
– Это чума! – воскликнул Таплинг. – Черная смерть! Я видел ее в Смирне в 96-м.
Англичане отпрянули в одну сторону; казначей и солдаты в другую. Посредине осталось лежать подергивающееся тело.
– Чума, клянусь святым Петром! – взвизгнул молодой матрос. Он был готов броситься к барказу, остальные побежали бы за ним.
– Стоять смирно! – рявкнул Хорнблауэр. Он испугался не меньше других, но привычка к дисциплине так прочно въелась в него, что он машинально остановил панику.
– Какой же я дурак, что не подумал об этом раньше, – сказал Таплинг. – Эта умирающая крыса, этот тип, которого мы приняли за пьяного… Я должен был догадаться!
Сержант казначейского эскорта и главный надсмотрщик что-то бурно обсуждали между собой, то и дело тыкая пальцами в сторону умирающего Дюра; сам казначей прижимал к себе одежду и с зачарованным ужасом глядел себе под ноги, где лежал несчастный.
– Сэр, – обратился Хорнблауэр к Таплингу, – что нам делать?
Характер Хорнблауэра в чрезвычайных обстоятельствах требовал действовать немедленно.
– Что делать? – Таплинг горько усмехнулся. – Мы останемся здесь и будем гнить.
– Здесь?
– Флот не примет нас обратно. По крайней мере, пока не пройдут три недели карантина. Три недели после последнего случая заболевания.
– Чушь! – сказал Хорнблауэр. Все его уважение к старшим взбунтовалось против услышанного. – Никто не отдаст такого приказа.
– Вы думаете? Вы видели эпидемию на флоте? Хорнблауэр не видел, но слышал, как на флотах девять из десяти умирали от сыпного тифа. Тесные корабли, где на матроса приходится по двадцать два дюйма, чтобы подвесить койку – идеальные рассадники эпидемий. Хорнблауэр понял, что ни один капитан, ни один адмирал не пойдут на такой риск ради двадцати человек, составляющих команду барказа.
Две стоявшие у причала шебеки неожиданно снялись с якорей и на веслах выскользнули из гавани.
– Наверное, чума разразилась только сегодня, – задумчиво сказал Хорнблауэр. Его привычка к умозаключениям оказалась сильнее тошнотворного страха.
Погонщики бросили свою работу, оставив товарища лежать на пристани. У городских ворот стражники загоняли народ обратно в город – видимо, слух о чуме уже распространился и вызвал панику, а стражники только что получили приказ не давать обитателям разбегаться по окрестностям. Скоро в городе начнут твориться кошмарные вещи. Казначей взбирался на осла; толпа рабов рассеялась, как только разбежались надсмотрщики.
– Я должен доложить на корабль, – сказал Хорнблауэр. Таплинг, штатский дипломат, не имел над ним власти. Вся ответственность лежала на Хорнблауэре. Команда барказа подчинялась Хорнблауэру, ее поручил ему капитан Пелью, чья власть исходила от короля.
Удивительно, как быстро распространяется паника. Казначей исчез, негр Дюра ускакал на осле своего бывшего хозяина, солдаты ушли толпой. На пирсе остались только мертвые и умирающие. Вдоль побережья, под стеной, лежал путь в окрестности города, туда все и устремились. Англичане стояли одни, у ног их лежали мешки с золотом.
– Чума передается по воздуху, – говорил Таплинг. – Даже крысы умирают от нее. Мы были здесь несколько часов. Мы были достаточно близко… к этому… – Он кивнул в сторону умирающего Дюра. – Мы с ним говорили, до нас долетало его дыхание. Кто из нас будет первым?
– Посмотрим, когда придет время, – сказал Хорнблауэр. Это было в его натуре: бодриться, когда другие унывают. Кроме того, он не хотел, чтобы матросы слышали слова Таплинга.
– А флот! – горько произнес Таплинг. – Все это, – он кивнул в сторону брошенных лихтеров, один из которых был почти полон скота, другой – мешков с зерном. – Все это было бы для него спасением. Люди и так на двух третях рациона.
– Мы что-нибудь придумаем, черт возьми, – сказал Хорнблауэр. – Максвелл, погрузите золото обратно в шлюпку и уберите этот навес.
Вахтенный офицер Его Величества судна «Неустанный» увидел, что корабельный барказ возвращается из города. Легкий бриз покачивал фрегат и транспортный бриг на якорях. Барказ, вместо того чтоб подойти к борту, зашел под корму «Неустанного» с подветренной стороны.
– Мистер Кристи! – крикнул Хорнблауэр, стоя на носу барказа.
Вахтенный офицер подошел к гакаборту.
– В чем дело? – спросил он с удивлением.
– Мне надо поговорить с капитаном.
– Так поднимитесь на борт и поговорите с ним. Какого черта?
– Прошу вас, спросите капитана Пелью, может ли он поговорить со мной.
В окне кормовой каюты появился Пелью – он явно слышал разговор.
– Да, мистер Хорнблауэр? – Хорнблауэр сообщил новости.
– Держитесь с подветренной стороны, мистер Хорнблауэр.
– Да, сэр. Но припасы…
– Что с ними?
Хорнблауэр обрисовал ситуацию и изложил свою просьбу.
– Это несколько необычно, – задумчиво сказал Пелью. – Кроме того…
Он не хотел орать во всеуслышанье, что вскоре вся команда барказа может умереть от чумы.
– Все будет в порядке, сэр. Там недельный рацион для эскадры.
Это было самое главное. Пелью должен был взвесить с одной стороны, возможную потерю транспортного брига, с другой – несравненно более важную возможность получить припасы, которые позволят эскадре продолжить наблюдение за средиземноморским побережьем. С этой точки зрения предложение Хорнблауэра выглядело вполне разумным.
– Что ж, очень хорошо, мистер Хорнблауэр. К тому времени, как вы доставите припасы, я закончу перевозить команду. Назначаю вас командовать «Каролиной».
– Спасибо, сэр.
– Мистер Таплинг останется с вами пассажиром.
– Хорошо, сэр.
Так что когда команда барказа, обливаясь потом и налегая на весла, привела оба лихтера в залив, «Каролина», оставленная своей командой, покачивалась на волнах, а с борта «Неустанного» десяток любопытных в подзорные трубы наблюдал за происходящим. Хорнблауэр с полудюжиной матросов поднялся на борт брига.
– Прям-таки чертов Ноев ковчег, сэр, – сказал Максвелл.
Сравнение было очень точным: гладкая верхняя палуба «Каролины» была разделена на загоны для скота, а чтоб облегчить управление судном, над загонами были уложены мостки, образующие почти сплошную верхнюю палубу.
– И всякой твари по паре, сэр, – заметил другой матрос.
– Но у Ноя все твари сами заходили парами, – сказал Хорнблауэр. – Нам же не так повезло. И сначала придется погрузить зерно. Раздраить люки!
При нормальных условиях две-три сотни матросов с «Неустанного» быстро перегрузили бы мешки с лихтера, но теперь все это предстояло сделать восемнадцати матросам с барказа. К счастью, Пелью был достаточно добр и предусмотрителен, он приказал вынуть из трюма балласт, не то пришлось бы делать сперва эту утомительную работу.
– Цепляйте к талям, – сказал Хорнблауэр. Пелью посмотрел, как первые мешки с зерном медленно поднялись над лихтером, проплыли по воздуху и опустились в люк «Каролины».
– Он справится, – решил Пелью. – Мистер Болтон, пожалуйста, команду на шпиль, с якоря сниматься.
Хорнблауэр, распоряжавшийся погрузкой, услышал голос Пелью, усиленный рупором:
– Удачи, мистер Хорнблауэр. Доложитесь через три недели в Гибралтаре.
– Очень хорошо, сэр. Спасибо, сэр. Хорнблауэр обернулся и увидел рядом матроса, державшего руку под козырек.
– Простите, сэр. Слышите, как они мычат, сэр? Жарко ужасно, и они пить хотят, сэр.
– Черт! – сказал Хорнблауэр.
До заката ему этот скот не загрузить. Он оставил несколько человек продолжать погрузку и вместе с остальными стал придумывать, как же напоить несчастных животных. Полтрюма «Каролины» было заполнено фуражом и бочонками с водой, но воду эту пришлось перекачивать в лихтер с помощью помпы и шланга. Почуяв воду, бедные животные бросились к ней. Лихтер накренился и чуть было не перевернулся. Один из матросов (к счастью, он умел плавать) спрыгнул с лихтера через борт – иначе его задавили бы насмерть.
– Черт! – сказал Хорнблауэр, и далеко не в последний раз.
Без всякой подсказки ему предстояло научиться, как обращаться со скотом в море: чуть ли не каждую секунду он получал новый урок. Действительно, странные обязанности выпадают иногда флотскому офицеру. Давно стемнело, когда Хорнблауэр разрешил своим людям закончить работу; на следующий день он поднял их ни свет, ни заря. Утро только начиналось, когда они закончили погрузку мешков, и перед Хорнблауэром встала новая проблема: как перегружать бычков с лихтера. Животные провели ночь на судне, почти без пищи и воды, и были настроены недружелюбно. Однако поначалу, пока они стояли тесно, все оказалось не так уж сложно. На ближайшего бычка надели подпругу, прицепили к ней тали, животное повисло в воздухе и опустилось через отверстие в мостках. Его легко загнали в одно из стойл. Моряки кричали и размахивали рубашками, это их веселило. Однако следующий бычок, когда с него сняли подпругу, пришел в ярость и принялся гоняться за ними по палубе, грозя насмерть заколоть рогами, пока не забежал в стойло, где его быстро заперли на щеколду. Хорнблауэр, глядя, как солнце быстро встает на востоке, не находил во всем этом ничего смешного.
По мере того, как лихтер пустел, бычкам оставалось все больше места; они носились по палубе, и поймать их, чтоб надеть подпругу, становилось все более опасным. Вид их собратьев, с мычанием проплывающих над головами, отнюдь не успокаивал полудиких бычков. Еще до середины дня люди Хорнблауэра так вымотались, словно выдержали бой, и не один из них с радостью поменял бы свою новую работу на обычный матросский труд, например взбираться на рей и брать рифы на марселе в штормовую ночь. Когда Хорнблауэр догадался разделить внутренность лихтера на части ограждениями из рангоутного дерева, дело пошло лучше, но это заняло время, и до того, как они это сделали, стадо понесло некоторые потери: бешено носясь по палубе, бычки затоптали парочку наиболее слабых животных.
Некоторое разнообразие внесла подошедшая с берега лодка со смуглыми гребцами-маврами и казначеем на корме. Хорнблауэр оставил Таплинга торговаться – видимо, бей не настолько испугался чумы, чтоб позабыть про деньги. Хорнблауэр настоял только, чтоб лодка держалась на приличном расстоянии с подветренной стороны, и чтоб деньги отправили к ней по воде в пустых бочонках из-под рома. Наступила ночь, а в стойла перегрузили едва ли половину животных. Хорнблауэр тем временем ломал голову, как их напоить и накормить. Он тут же подхватывал любые намеки, которые удавалось дипломатично выудить из тех матросов, кто был родом из деревни. Лишь начало светать, он снова выгнал людей на работу. Он немного развлекся, глядя, как Таплинг прыгает на мостки, спасаясь от разъяренного быка. К тому времени, как всех животных благополучно заперли в стойлах, перед Хорнблауэром встала новая задача, которую один из матросов элегантно обозначил как «выгребание навоза». Задать корм… Напоить… Выгрести навоз… Полная палуба скота обещала достаточно работы для восемнадцати человек, а ведь надо будет еще управлять судном.
Но в том, что люди заняты, есть свое преимущество, мрачно решил про себя Хорнблауэр: с тех пор как началась работа, про чуму не говорили совсем. Место, где стояла «Каролина», не было защищено от северо-восточных ветров, и Хорнблауэр счел необходимым вывести ее в открытое море, пока они не задуют. Он собрал своих людей и поделил их на вахты; поскольку он был единственным навигатором, ему пришлось назначить рулевого и младшего рулевого, Джордана, вахтенными офицерами. Кто-то вызвался быть коком, и Хорнблауэр, обведя собравшихся взглядом, назначил Таплинга помощником кока. Тот открыл было рот, но, увидев выражение хорнблауэрова лица, предпочел промолчать. Ни боцмана, ни плотника… врача тоже нет, как мрачно заметил про себя Хорнблауэр. С другой стороны, если потребность во враче и возникнет, то, надо надеяться, ненадолго.
– Левая вахта, отдать кливера и грот-марсель, – приказал Хорнблауэр. – Правая вахта, на шпиль.
Так началось путешествие Его Величества транспортного брига «Каролина», ставшее (благодаря сильно приукрашенным байкам, которые матросы травили долгими собачьими вахтами в последующих плаваниях) легендарным во всем Королевском Флоте. «Каролина» провела свои три недели карантина в бездомных странствиях по западной части Средиземного моря. Ей надо было держаться ближе к Проливу, чтобы западные ветры и преобладающие течения со стороны океана не отнесли ее слишком далеко от Гибралтара. Она лавировала между испанскими и африканскими берегами, оставляя за собой крепнущий запах коровника. «Каролина» была старым, потрепанным судном: в любую погоду она текла, как решето; у помпы постоянно стояли матросы, то откачивая воду, то поливая водой палубу, чтоб ее очистить, то качая воду животным.
Верхний рангоут «Каролины» делал ее неуправляемой в свежий бриз; ее палубные пазы, естественно, текли, и вниз постоянно капала неописуемо мерзкая жижа. Единственным утешением было обилие свежего мяса. Многие матросы не ели его последние месяца три. Хорнблауэр щедро жертвовал по бычку в день: в таком жарком климате мясо долго не хранится. Так что его люди пировали, ели бифштексы и языки; многие из них ни разу в жизни не пробовали бифштекса.
Но с питьевой водой было плохо – это тревожило Хорнблауэра даже сильнее, чем обычного капитана: бычки постоянно хотели пить. Дважды Хорнблауэру приходилось высаживать на заре десант, захватывать какую-нибудь деревушку и наполнять бочки речной водой.
Дело это было опасное. Когда после второй вылазки «Каролина» торопилась прочь от берега, из-за мыса на всех парусах вышел испанский люггер береговой охраны – guarda-costa. Первым его заметил Максвелл. Хорнблауэр увидел люггер раньше, чем Максвелл успел доложить о появлении неприятеля.
– Очень хорошо, Максвелл, – сказал Хорнблауэр, пытаясь не выдать волнения. Он направил на люггер подзорную трубу. Тот был в милях в трех, не больше, с наветренной стороны, и «Каролина» оказалась заперта в бухте. Пути к спасению были отрезаны. За то время, что они сделают два фута, люггер сделает три, а неуклюжий рангоут «Каролины», не позволял ей идти круче восьми румбов к ветру. Хорнблауэр смотрел, в нем вскипало накопленное за последние семнадцать дней раздражение. Он злился на судьбу, впутавшую его в глупую историю. Он ненавидел «Каролину», ее неуклюжесть, ее вонь и ее груз. Он негодовал на свою неудачливость, загнавшую его в это безнадежное положение.
– Черт! – произнес Хорнблауэр, от гнева буквально топая ногами по мосткам. – Тысяча чертей!
«Надо же», – с любопытством подумал он, – «я пляшу от гнева». Но эта боевая лихорадка означало, что так просто он не сдастся. План действий созревал. Сколько человек в команде испанского guarda-costa? Двадцать? Это – от силы, ведь задача подобных люггеров – бороться с мелкими контрабандистами. Поскольку внезапность на его стороне, у него есть шанс, несмотря на четыре восьмифунтовки, которые нёс люггер.
– Пистолеты и абордажные сабли, ребята, – сказал он – Джордан, выбери двух матросов и встань с ними тут, на виду. Остальные, спрячьтесь. Спрячьтесь. Да, мистер Таплинг, вам можно с нами. Не забудьте вооружиться.
Никто не будет ожидать сопротивления от нагруженного скотом транспортного судна; испанцы думают, что на борту не больше двенадцати человек, а там дисциплинированный отряд из двадцати. Главное – подманить люггер достаточно близко.
– Круто к ветру, – сказал Хорнблауэр стоявшему внизу рулевому. – Приготовьтесь прыгать, ребята. Максвелл, если кто-нибудь, высунется до моего приказа, застрели его собственной рукой. Это приказ, если ослушаешься, тебе будет плохо.
– Есть, сэр, – сказал Максвелл.
Люггер приближался к ним; несмотря на слабый ветер, под его острым носом пенилась вода. Хорнблауэр посмотрел вверх и убедился, что «Каролина» не несет флага. Это делало его план допустимым с точки зрения морских законов. Раздался выстрел и над люггером поднялось облачко дыма: стреляли по курсу «Каролины».
– Я лягу в дрейф, Джордан, – сказал Хорнблауэр. – Грот-марса-брасы. Руль под ветер.
«Каролина» привелась к ветру и лежала, покачиваясь: казалось, самое беспомощное на свете судно сдается на милость победителя.
– Ни звука, ребята, – сказал Хорнблауэр.
Животные жалобно мычали. Вот и люггер, отчетливо видна вся его команда. Хорнблауэр видел офицера, тот стоял на грот-вантах, готовясь перепрыгнуть на «Каролину». Все остальные беззаботно посмеивались над уродливой «Каролиной» и доносившихся из нее мычанием.
– Ждите, ребята, ждите, – сказал Хорнблауэр. Люггер подошел к борту. Кровь прихлынула Хорнблауэру к щекам, когда он спохватился, что безоружен. Он велел своим людям взять пистолеты и сабли, он посоветовал Таплингу вооружиться, а сам совершенно забыл, что ему тоже понадобятся шпага и пистолет. Исправлять это было поздно. Кто-то с люггера окрикнул его по-испански, и Хорнблауэр жестами показал, что не понимает. Люггер коснулся «Каролины» бортом.
– За мной, ребята! – закричал Хорнблауэр. Он побежал по мосткам, и, сглотнув, прыгнул на державшегося за ванты офицера. В воздухе он снова сглотнул; обрушившись всем телом на несчастного, он обхватил его за плечи и с ним рухнул на палубу. Позади слышались громкие крики: команда «Каролины» прыгала на люггер. Топот ног, треск, грохот. Хорнблауэр поднялся. Максвелл только что зарубил офицера саблей. Таплинг впереди матросов бежал на нос; он размахивал саблей и вопил, как сумасшедший. Через мгновение все было кончено. Изумленные испанцы не успели шевельнуть пальцем в свою защиту.
Так что на двадцать второй день карантина транспортный бриг вошел в Гибралтарский залив, ведя с подветренного борта захваченный люггер guarda-costa. Густой запах коровника тоже был при нем, но, по крайней мере, когда Хорнблауэр поднялся на борт «Неустанного», у него был ответ для мистера мичмана Брэйсгедла.
– Привет, Ной, как поживают Сим и Хам? – спросил мистер Брэйсгедл.
– Сим и Хам взяли приз, – сказал Хорнблауэр. – Сожалею, что мистер Брэйсгедл не может сказать о себе того же.
Но главный интендант эскадры, когда Хорнблауэр доложился ему, сказал такое, что тот даже не нашелся ответить.
– Вы что, хотите сказать, мистер Хорнблауэр, – спросил главный интендант, – что вы позволяли матросам есть свежее мясо? По быку в день на восемнадцать человек? На борту было достаточно обычной провизии. Это невероятное расточительство, мистер Хорнблауэр, вы меня удивляете.
Герцогиня и дьявол
Исполняющий обязанности лейтенанта Горацио Хорнблауэр привел шлюп «Ла рев», приз судна Его Величества «Неустанный», на стоянку в Гибралтарский залив. Он нервничал: спроси его сейчас, уж не думает ли он, что весь Средиземноморский флот наблюдает за ним в подзорные трубы, Хорнблауэр лишь рассмеялся бы в ответ на это фантастическое предположение; но именно так он себя чувствовал. Никто еще не оценивал так старательно силу легкого попутного бриза, не измерял так тщательно расстояние между большими линейными кораблями, не рассчитывал с такой точностью, сколько места нужно «Ла рев», чтобы стать на якорь. Джексон, старшина шлюпа, стоял на носу, готовый убрать кливер, и быстро исполнил соответствующий приказ Хорнблауэра.
– Руль под ветер, – кричал Хорнблауэр. – Взять на гитовы!
«Ла рев» медленно скользила вперед, ее инерция снижалась с потерей ветра.
– Отдать якорь!
Канат недовольно загромыхал, когда якорь потащил его через клюз, и, наконец, раздался долгожданный плеск о воду – это якорь достиг дна. Хорнблауэр внимательно наблюдал, как «Ла рев» установилась на якоре, и лишь затем немного расслабился. Приз доставлен в целости и сохранности. Коммодор – сэр Эдвард Пелью – явно еще не прибыл, значит, Хорнблауэру следует доложиться адмиралу порта.
– Спустите шлюпку, – приказал он, потом, вспомнив о долге милосердия, добавил: – Можете выпустить пленных на палубу.
Последние сорок восемь часов они были задраены внизу: каждый командир приза больше всего на свете боится, как бы пленные не захватили судно. Но здесь, в бухте, в окружении всего средиземноморского флота, опасность миновала. Два гребца налегали на весла, и через десять минул Хорнблауэр уже докладывал о себе адмиралу.
– Вы говорите, она быстроходна? – спросил последний, оглядывая приз.
– Да, сэр. И достаточно маневренна, – отвечал Хорнблауэр.
– Я беру ее на службу. Никогда не хватает судов для доставки депеш, – задумчиво сказал адмирал.
Несмотря на этот намек, Хорнблауэр приятно удивился, когда получил официальный приказ со множеством печатей, и вскрыв его, прочел, что «сим вам указывается и предписывается» принять под командование Его Величества шлюп «Ла рев» и, сразу по получении направляемых в Англию депеш, «со всей возможной скоростью» проследовать в Плимут. Это – независимое командование, это – возможность вновь увидеть Англию (последний раз Хорнблауэр ступал на родной берег три года назад), наконец это – высокий профессиональный комплимент. Но другое письмо, доставленное вместе с этим, Хорнблауэр прочел с меньшим восторгом. «Их превосходительства, генерал-майор сэр Хью и леди Далримпл, просят и.о. лейтенанта Горацио Хорнблауэра присутствовать на обеде сегодня, в три часа, в губернаторском дворце».
Может и приятно пообедать с губернатором Гибралтара и его супругой, однако для и.о. лейтенанта, все пожитки которого умещались в одном маленьком рундучке, необходимость одеться соответственно случаю заметно омрачала это удовольствие. И все же редкий молодой человек не испытал бы радостного трепета, поднимаясь от пристани к губернаторскому дворцу, особенно если его друг мичман Брэйсгедл, происходивший из богатой семьи и располагавший неплохим доходом, одолжил бы ему пару лучших белых чулок из китайского шелка. У Брэйсгедла были полные икры, у Хорнблауэра – тощие, но эту незадачу удалось искусно преодолеть. Две подушечки из пакли, несколько кусков лейкопластыря из докторских запасов – и Хорнблауэр стал обладателем пары превосходных ног, которые не стыдно показать людям. Теперь он мог выставлять вперед левую ногу и кланяться, не боясь, что чулок соберется в складки. Как выразился Брэйсгедл, такой ногой джентльмен может гордиться.
В губернаторском дворце Хорнблауэра встретил и провел вперед блестящий и томный адъютант. Хорнблауэр поклонился сэру Хью, суетливому краснолицему старому джентльмену, и леди Далримпл, суетливой краснолицей старушке.
– Мистер Хорнблауэр, – сказала леди. – Позвольте представить – Ваше сиятельство, это мистер Хорнблауэр, новый капитан «Ла рев». Ее сиятельство, герцогиня Уорфедельская.
Герцогиня, не более не менее! Хорнблауэр выставил вперед положенную ногу, оттянул носок, приложил руку к сердцу и поклонился так низко, как только позволяли его тугие бриджи – он вырос с тех пор, как купил их, поступая на «Неустанный». Подняв взор, он увидел перед собой смелые голубые глаза и некогда прекрасное немолодое лицо.
– Так это, значиться, он самый и есть? – спросила герцогиня. – Матильда, милочка, неужели вы доверите меня этому младенцу?
Резкая вульгарность произношения ошеломила Хорнблауэра. Он был готов ко всему, кроме того, что шикарно разодетая герцогиня заговорит с акцентом лондонских трущоб. Он уставился на нее, забыв даже выпрямиться, да так замер, подняв подбородок и прижав руку к сердцу.
– Ну, прямо гусак на лужайке, – сказала герцогиня. – Щас как зашипит.
Она выставила подбородок, уперла руки в колени и закачалась из стороны в сторону – точь-в-точь разъяренный гусь. Очевидно, получилось так похоже на Хорнблауэра, что остальные гости расхохотались. Хорнблауэр был в полном смущении.
– Не обижайте парнишку, – сказала герцогиня, приходя ему на помощь и хлопая его по плечу. – Молодой он просто, и нечего тут стыдиться. Наоборот, гордиться надо, что ему в таком возрасте уже доверили судно.
К счастью, приглашение к столу спасло Хорнблауэра от дальнейшего смущения, в которое повергла его последняя фраза. Хорнблауэр с другими младшими офицерами и прочей мелюзгой оказался в середине стола; с одного конца восседали сэр Хью и герцогиня, с другого – леди Далримпл и коммодор. Однако женщин было куда меньше, чем мужчин: Гибралтар был, по крайней мере, в техническом смысле, осажденной крепостью. Так что у Хорнблауэра не оказалось дамы ни с одной стороны, ни с другой; справа сидел встретивший его молодой адъютант.
– За здоровье Ее Сиятельства, – сказал коммодор, поднимая бокал.
– Спасибочки, – отвечала герцогиня. – Очень вовремя, а то я чуть от жажды не сдохла.
Она подняла к губам наполненный до краев бокал. Когда она его опустила, бокал был пуст.
– Веселенькая у вас будет попутчица, – сказал Хорнблауэру адъютант.
– Как это? – изумился Хорнблауэр. Адъютант сочувственно посмотрел на него.
– Так вам ничего не сказали? – спросил он. – Как всегда тот, кого это больше всех касается, узнает последним. Отплывая завтра с депешами, вы будете иметь честь везти Ее Сиятельство в Англию.
– Господи помилуй, – сказал Хорнблауэр.
– Аминь, – благочестиво произнес адъютант, отхлебывая вино. – Какая же гадость эта сладкая малага. Старый Хар накупил ее в 95-м целую уйму, и с тех пор каждый губернатор все пытается ее допить.
– Но она-то кто? – спросил Хорнблауэр.
– Ее Сиятельство герцогиня Уорфедельская, – отвечал адъютант. – Разве вы не слышали, как леди Далримпл ее вам представила?
– Но герцогини так не говорят, – настаивал Хорнблауэр.
– Да. Старый герцог был в маразме, когда женился на ней. Ее друзья говорят, что она вдова трактирщика. Можете вообразить, что говорят ее враги.
– А как она тут очутилась? – не унимался Хорнблауэр.
– Она следует в Англию. Насколько я понимаю, она была во Флоренции, когда туда вошли французы, бежала оттуда в Ливорно, там подкупила шкипера каботажного судна и добралась досюда. Она попросила сэра Хью отправить ее в Англию, а сэр Хью попросил адмирала. Сэр Хью разобьется в лепешку для герцогини, даже если ее друзья говорят что она вдова трактирщика.
– Ясно, – сказал Хорнблауэр. За столом послышался взрыв хохота. Герцогиня ручкой ножа тыкала губернатора в обтянутый алой материей бок – убедиться, что, тот понял шутку.
– По крайней мере, вам не скучно будет возвращаться домой, – сказал адъютант.
В тот самый момент перед Хорнблауэром водрузили дымящийся говяжий филей, и его тревоги померкли перед необходимостью разделывать мясо с соблюдением всех приличий. Он с опаской взял нож, вилку и оглядел собравшихся.
– Позвольте положить вам кусочек говядины, Ваше Сиятельство. Мадам? Сэр? Достаточно, сэр? Немного жира.
В зале было жарко: орудуя ножом и вилкой, Хорнблауэр обливался потом. К счастью большинство гостей предпочитали другие блюда, так что много резать не пришлось. Пару изуродованных кусков он положил в свою тарелку, скрыв таким образом наиболее явные огрехи.
– Говядина из Тетуана, – фыркнул адъютант, – Жесткая и жилистая.
Хорошо губернаторскому адъютанту! Он и вообразить не мог, какой пищей богов показалось мясо молодому флотскому офицеру, только что с переполненного фрегата. Даже перспектива принимать герцогиню не могла до конца испортить Хорнблауэру аппетит. А заключительные блюда – меренги, миндальные пирожные, кремы и фрукты – что за упоение для молодого человека, чьим единственным лакомством был воскресный пудинг на нутряном жире с коринкой.
– Сладкое портит вкус, – сказал адъютант. Хорнблауэра это не волновало.
Теперь шли официальные тосты. Хорнблауэр стоя выпил за здоровье короля и королевской семьи, поднял бокал за герцогиню.
– Теперь за наших врагов, – сказал сэр Хью, – чтоб их нагруженные сокровищами галионы попытались пересечь Атлантику.
– В добавление, к вашему тосту, сэр Хью, – произнес коммодор с другого конца стола. – Чтобы доны надумали, наконец, выйти из Кадиса.
За столом поднялся звероподобный гул. Большая часть присутствующих флотских офицеров принадлежали к средиземноморской эскадре Джервиса[16], которая последние несколько месяцев моталась по Атлантике в надежде напасть на испанцев, если те посмеют высунуть нос наружу. Джервис вынужден был отправлять свои суда для возобновления запасов, так что офицеры были с тех двух судов его эскадры, что стояли сейчас в порту.
– Джонни Джервис сказал бы на это «аминь», – произнес сэр Хью. – По полной за донов, джентльмены, и пусть они выходят из Кадиса.
Дамы под предводительством хозяйки покинули комнату, и Хорнблауэр, при первой возможности, извинился и выскользнул из дворца. Он твердо решил не напиваться перед первым самостоятельным плаванием.
Может быть, перспектива принимать на борту герцогиню оказалась неплохим лекарством от чрезмерного возбуждения и спасла Хорнблауэра от излишних переживаний по поводу его первого самостоятельного плавания. Он проснулся до зари – еще до краткого в Средиземноморье предрассветного сумрака – убедиться, что его драгоценный корабль готов к встрече с морем, а также с врагами, которыми это море изобиловало. Для защиты от них Хорнблауэр располагал четырьмя игрушечными четырехфунтовыми пушечками, то есть – не мог противостоять никому. Его суденышко – слабейшее в море, даже самый маленький торговый бриг и тот вооружен сильнее. Для слабых созданий единственное спасение – скорость. Хорнблауэр в полумраке посмотрел наверх, туда, где будут подняты паруса, от которых столько будет зависеть. Вместе с двумя своими офицерами – мичманом Хантером и помощником штурмана Виньятом – он прошелся по списку членов команды и еще раз убедился, что все одиннадцать знают свои обязанности. После этого осталось только облачиться в лучшую походную форму, кое-как проглотить завтрак и ждать герцогиню.
К счастью, она явилась рано: чтобы проводить герцогиню, Их Превосходительствам пришлось подняться с постели в самый неурочный час. Мистер Хантер со сдерживаемым волнением доложил о приближении губернаторского баркаса.
– Спасибо, мистер Хантер, – холодно отвечал Хорнблауэр – так требовала служба, хотя всего несколько недель назад они вместе играли в салки на вантах «Неустанного».
Баркас подошел к борту, и два опрятно одетых матроса зацепили трап. «Ла рев» так мало возвышалась над водой, что взобраться на нее не составило труда даже для дам. Губернатор ступил на борт под звуки всего лишь двух дудок – все, что нашлось на «Ла рев» – за ним леди Далримпл. Потом герцогиня, потом ее служанка, молодая женщина, такая красавица, какой могла быть раньше сама герцогиня. Когда на борт поднялись два адъютанта, на палубе «Ла рев» стало так тесно, что некуда было внести герцогинин багаж.
– Позвольте показать вам каюту, Ваше Сиятельство, – сказал губернатор.
Леди Далримпл сочувственно закудахтала при виде крошечной каюты – там еле помещались две койки, и каждый входящий неизменно бился головой о палубный бимс.
– Переживем, – стоически произнесла герцогиня, – а ведь те, кто отправляется в прогулку на Тайберн, и этого сказать не могут.
Один из адъютантов в последний момент извлек на свет пакет с депешами и попросил Хорнблауэра расписаться в получении; отзвучали последние прощания, и сэр Хью с леди Далримпл под звуки дудок покинули корабль.
– На брашпиль! – закричал Хорнблауэр, как только гребцы барказа взялись за весла.
Несколько секунд напряженной работы, и «Ла рев» снялась с якоря.
– Якорь поднят, сэр, – доложил Виньят.
– Кливер-фалы! – кричал Хорнблауэр. – Грота-фалм!
Подняв паруса, «Ла рев» повернулась через фордевинд. Вся команда была занята: одни брали якорь на кат, другие ставили паруса, так что Хорнблауэру пришлось самому салютовать флагом, когда «Ла рев», подгоняемая слабым северо-восточным ветром, обогнула мол и погрузила нос в первый из атлантических валов, набегающих через Пролив. Корабль качнуло. Хорнблауэр сквозь световой люк услышал грохот падающего предмета и вскрик, но ему было не до женщин там, внизу. Он стоял с подзорной трубой, направляя ее сначала на Альхесирас, потом на Тарифу – какой-нибудь капер или военное судно могли неожиданно появиться оттуда и сцапать беззащитное суденышко. До конца послеполуденной вахты он так и не передохнул. Они обогнули мыс Марроки, и Хорнблауэр указал курс на Сан-Висенти. Горы Южной Испании начали таять за горизонтом. Лишь когда с правого борта появился Трафальгарский мыс, Хорнблауэр сложил трубу и подумал об обеде; хорошо быть капитаном собственного судна и заказывать обед по своему вкусу. Боль в ногах говорила о том, что он простоял слишком долго – одиннадцать часов кряду. Если в дальнейшем ему придется часто самостоятельно командовать кораблями, он доконает себя таким поведением.
Сидя в каюте на рундуке, Хорнблауэр блаженно расслабился и отправил кока постучать герцогине, передать приветствия и спросить, все ли в порядке. Резкий голос герцогини ответил, что ничего не надо, обеда тоже. Хорнблауэр философски пожал плечами и с юношеским аппетитом уничтожил принесенный обед. На палубу он поднялся с приближением темноты. Вахту нес Виньят.
– Туман сгущается, сэр, – сказал он.
Так оно и было. Садящееся солнце скрылось за густой пеленой тумана. Хорнблауэр знал, что это – оборотная сторона попутного ветра; зимой в этих широтах холодный бриз, достигая Атлантики, вызывает туман.
– К утру еще гуще будет, – сказал он мрачно, и внес коррективы в ночной приказ, изменив курс вест-тень-норднавест. Он хотел на случай тумана держаться подальше от мыса Сан-Висенти.
Вот такие-то пустяки и могут перевернуть всю жизнь – у Хорнблауэра было впоследствии вдоволь времени порассуждать, что случилось бы, не прикажи он изменить курс. Ночью он часто поднимался на палубу и вглядывался в непроницаемую мглу, но критический момент застал его внизу, спящим. Разбудил Хорнблауэра моряк, энергично трясший егоза плечо.
– Пожалуйста, сэр. Пожалуйста, сэр. Меня послал мистер Хантер. Он просит вас подняться на палубу, сэр.
– Сейчас, – Хорнблауэр заморгал и скатился с койки. Густой туман слегка розовел в свете только что забрезжившей зари. «Ла рев», качаясь, ползла по мрачному морю.
Слабый ветер едва обеспечивал ту минимальную скорость, при которой корабль слушается руля. Хантер, в крайнем напряжении, стоял спиной к штурвалу.
– Послушайте, – сказал он Хорнблауэру. Он произнес это шепотом и от волнения забыл прибавить обязательное при обращении к капитану «сэр» – Хорнблауэр от волнения этого не заметил. Прислушавшись, Хорнблауэр уловил привычные корабельные звуки – скрип древесины, шум разрезаемого носом моря. Тут он услышал другие корабельные звуки: рядом тоже скрипело дерево, еще одно судно разрезало воду.
– Какой-то корабль совсем близко, – сказал Хорнблауэр.
– Да, сэр, – подтвердил Хантер. – После того, как я послал за вами, я слышал команду. Она была на испанском – по крайней мере, на иностранном языке.
Страх, подобно туману, сгущался вокруг суденышка.
– Всех наверх. Тихо, – сказал Хорнблауэр. Отдав команду, он тут же засомневался в ее целесообразности. Можно расставить матросов по местам, зарядить пушки, но если корабль в тумане не просто торговое судно, то они – в смертельной опасности. Хорнблауэр попытался успокоить себя – может быть, это лакомый испанский галион, набитый сокровищами, и, захватив его, он станет богатым на всю жизнь.
– Поздравляю с Валентиновым днем[17], – произнес голос совсем рядом. Хорнблауэр чуть не подпрыгнул от неожиданности: он совершенно забыл о герцогине.
– Прекратите шуметь, – зашипел он, и герцогиня изумленно смолкла. Она была закутана в плащ с капюшоном, больше ничего в тумане видно не было.
– Позвольте спросить… – начала она.
– Молчать! – прошептал Хорнблауэр. В тумане послышался резкий голос, другие голоса повторили приказ, раздались свистки, шум и топот.
– Это испанцы, сэр, да? – прошептал Хантер.
– Испанцы, испанцы. Меняют вахту. Слушайте! До них донеслись два сдвоенных удара колокола. Четыре склянки утренней вахты. Неожиданно со всех сторон зазвучали колокола, словно вторя первому.
– Господи, да мы посреди флота, – прошептал Хантер.
– Большие корабли, сэр, – сказал Виньят. Он присоединился к ним по команде «все наверх». – Когда меняли вахту, я насчитал не меньше шести различных дудок.
– Значит доны все-таки вышли из Кадиса, – сказал Хантер.
«А я указал курс прямо на них», – горько думал Хорнблауэр. Сумасшедшее, душераздирающее совпадение. Но он запретил себе говорить об этом. Он даже подавил истерический смешок, возникший при воспоминании о тосте сэра Хью. Сказал же он следующее:
– Они прибавляют парусов. Даго на ночь все убирают и дрыхнут, как какие-нибудь жирные торговцы. Только с восходом они ставят брамсели.
В тумане со всех сторон доносился скрип шкивов в блоках, топот ног у фалов, удары брошенных на палубу концов, многоголосый гомон.
– Ну и шумят же, черти, – сказал Хантер. Он стоял, пытаясь проникнуть взглядом за стену тумана. Во всей его позе чувствовалось напряжение.
– Дай Бог, чтоб они шли другим курсом, – рассудительно заметил Виньят. – Тогда мы их скоро минуем.
– Вряд ли, – сказал Хорнблауэр.
«Ла рев» шла почти прямо по ветру; если бы испанцы шли в бейдевинд или в галфвинд, то звуки, доносившиеся с ближайшего судна, постепенно стихали бы, или, напротив, становились громче. Скорее всего, «Ла рев» догнала испанский флот с его убранными на ночь парусами и теперь была в самой его гуще. Вопрос, что в таком случае делать: убавить парусов и лечь в дрейф, чтобы пропустить испанцев мимо, или, наоборот, прибавить и попытаться их обогнать. Но с каждой минутой становилось все яснее: шлюп идет практически одним Курсом с флотом, иначе он неизбежно сблизился бы с каким-нибудь судном. Пока туман не рассеялся, такая позиция надежнее всего.
Но с наступлением утра туман неизбежно рассеется.
– Может, нам изменить курс, сэр? – спросил Виньят.
– Погодите, – сказал Хорнблауэр.
В свете разгорающейся зари мимо приносились клочья более густого тумана – верный признак, что долго он не продержится. В этот момент они вышли из полосы тумана на чистую воду.
– Вот он! – сказал Хантер. Офицеры и матросы забегали в панике.
– Стоять, черт возьми! – сорвался Хорнблауэр. Меньше чем в кабельтове с правого борта почти параллельным курсом шел трехпалубный корабль. Впереди и по правому борту угадывались силуэты трех боевых кораблей. Ничто не спасет шлюп, если он привлечет к себе внимание, единственный шанс – идти, как ни в чем не бывало. Остается надежда, что в беспечном испанском флоте вахтенные офицеры не знают, что у них нет такого шлюпа, как «Ла рев» или даже, чудом, что такой шлюп у них есть. В конце концов, «Ла рев» построена во Франции и оснащена по-французски. Борт о борт «Ла рев» и военные корабли шли по неспокойному морю. С такого расстояния любая из пятидесяти больших пушек могла бы расстрелять их в упор; одного попадания хватило бы, чтоб потопить шлюп. Хантер вполголоса ругался грязными словами, но дисциплина была безупречная – направленная с испанской палубы подзорная труба не обнаружила бы на борту шлюпа ничего подозрительного. Мимо них вновь проплыли клочья тумана, и они вошли в новую полосу.
– Слава Богу! – выдохнул Хантер, не заметив контраста между набожностью этой фразы и недавними богохульствами.
– Поворот через фордевинд, – скомандовал Хорнблауэр.– Положите ее на правый галс.
Матросам не надо было напоминать, чтоб они работали тихо: все и так прекрасно сознавали опасность. «Ла рев» плавно развернулась, шкоты были выбраны и свернуты без единого звука; теперь шлюп сел круто к ветру и волны набегали на его правую скулу.
– Сейчас мы пересечем их курс, – сказал Хорнблауэр.
– Дай Бог нам пройти у них под кормой, а не под носом, – заметил Виньят.
Герцогиня по-прежнему стояла на корме, закутанная в плащ с капюшоном. Она старалась никому не попадаться под ноги.
– Быть может, Вашему Сиятельству лучше спуститься вниз? – Хорнблауэр с трудом заставил себя обращаться официально.
– О нет, пожалуйста, – сказала герцогиня. – Я этого не вынесу.
Хорнблауэр пожал плечами и тут же забыл о герцогине, охваченный новой тревогой. Он ринулся вниз и вернулся с двумя большими запечатанными пакетами депеш. Вынув из ограждения кофель-нагель, он принялся куском веревки тщательно приматывать его к пакетам.
– Пожалуйста, – сказала герцогиня, – пожалуйста, мистер Хорнблауэр, скажите, что вы делаете?
– Хочу убедиться, что они утонут, если судно будет захвачено и я выброшу их за борт, – мрачно ответил Хорнблауэр.
– Но тогда они пропадут?
– Это лучше, чем если их прочтут испанцы, – Хорнблауэр с трудом сохранял спокойствие.
– Я могу позаботиться о них, – сказала герцогиня. – Конечно, могу.
Хорнблауэр пристально посмотрел на нее.
– Нет, – сказал он. – Они могут обыскать ваш багаж. Скорее всего, так они и поступят.
– Багаж! – воскликнула герцогиня. – Как будто я собираюсь убирать их в багаж! Я спрячу их на себе – меня-то они обыскивать не будут. У меня под юбкой их точно никто не найдет.
Неприкрытый реализм этих слов слегка ошеломил Хорнблауэра и одновременно заставил его почувствовать, что в предложении герцогини что-то есть.
– Если они нас захватят, – продолжала герцогиня, – не дай Бог, конечно, но если они нас захватят, меня они в плен не возьмут. Они отправят меня в Лиссабон и при первой же возможности посадят на английское судно. Тогда я немедленно передам депеши. Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда.
– Это верно, – задумчиво произнес Хорнблауэр.
– Я буду беречь их пуще жизни, – сказала герцогиня. – Клянусь, что не расстанусь с ними. Я никому не скажу, что они у меня, пока не передам их королевскому офицеру.
Она посмотрела на Хорнблауэра. Ее взгляд светился честностью.
– Туман рассеивается, сэр, – заметил Виньят,
– Быстро! – сказала герцогиня.
Медлить было нельзя. Хорнблауэр высвободил пакеты из намотанной на них веревки, вручил их герцогине и вставил кофель-нагель на место.
– Ох уж эта чертова французская мода, – сказала герцогиня. – Я правду сказала, что спрячу их под юбками. За пазухой у меня места нет.
Действительно, верхняя часть платья отнюдь не выглядела вместительной: талия располагалась прямо под мышками, а дальше платье свисало свободно, в полном противоречии с анатомией.
– Дайте мне ярд этой веревки, быстро, – сказала герцогиня. Виньят отрезал ножом веревку и протянул герцогине. Она уже задрала юбки. Хорнблауэр в ужасе увидел полоску белого тела над чулками и тут же отвернулся. Туман несомненно, рассеивался.
– Можете смотреть, – сказала герцогиня, но юбки упали именно в тот самый момент, когда Хорнблауэр обернулся. – Они у меня под сорочкой, прямо на теле, как я вам обещала. Со времен Директории никто больше не носит корсетов. Так что я привязала их веревкой, один к животу, другой к спине. Вы что-нибудь видите?
Она повернулась кругом, чтоб Хорнблауэр смог убедиться.
– Нет, ничего не видно, – сказал он. – Я должен поблагодарить Ваше Сиятельство.
– Некоторое утолщение есть, – заметила герцогиня, – но неважно, что подумают испанцы, раз они не подумают правды.
Невозможность что-либо делать ставила Хорнблауэра в неудобное положение. Обсуждать с женщиной ее сорочки и корсеты – или отсутствие оных – занятие более чем странное.
Бледное солнце, еще совсем низкое, пробило туман и засияло им в глаза. Грот отбрасывал на палубу бледную тень. Солнце с каждой минутой светило все ярче.
– Вот оно, – сказал Хорнблауэр.
Горизонт стремительно распахнулся – сначала с нескольких ярдов до сотен, затем с сотен ярдов до полумили. Море было усеяно кораблями. Не менее шести были видны отчетливо, четыре линейных корабля и два больших фрегата. На их мачтах развевались красно-золотые испанские флаги, и, что еще более характерно, с них свисали большие деревянные кресты.
– Разверните судно обратно, мистер Хантер, – сказал Хорнблауэр. – Назад в туман.
Это был единственный шанс на спасение. Приближающиеся корабли обязательно обратят на них внимание, избежать их не удастся. «Ла рев» развернулась, но полоска тумана, из которой они только что вынырнули, уже растаяла под жарким солнцем. Последние остатки ее плыли впереди, но и они, тая, относились ветром. Прогремел пушечный выстрел, и недалеко от правого борта взвился фонтан брызг. Хорнблауэр оглянулся – как раз вовремя, чтоб увидеть последние клубы дыма, поднимающиеся над носом преследующего их фрегата.
– Два румба вправо, – сказал он рулевому, пытаясь учесть одновременно курс фрегата, направление ветра, расположение других судов и последнего островка тумана.
– Два румба вправо, – повторил рулевой. – фока– и грота-шкоты! – сказал Хантер. Новый выстрел. Ядро упало далеко за кормой, но направление было выбрано верно. Хорнблауэр неожиданно вспомнил о герцогине.
– Вы должны спуститься вниз, Ваше Сиятельство, – отрывисто сказал он.
– Нет, нет, нет, – сердито запротестовала герцогиня.– Пожалуйста, позвольте мне остаться. Я не могу спуститься в каюту, там эта моя горничная лежит в морской болезни и собирается помирать. Только не в эту вонючую коробку.
Да и незачем было отсылать ее в каюту. Обшивка «Ла рев» слишком тонка, чтоб устоять перед артиллерийским обстрелом. В трюме, ниже ватерлинии, женщины были бы в безопасности – но для этого им пришлось бы лечь на бочки с солониной.
– Корабль впереди, – крикнул впередсмотрящий. Туман рассеялся, и меньше чем в полумиле впереди возник силуэт линейного корабля, идущего почти тем же курсом, что и «Ла рев». Ба-бах – донеслось с фрегата. Эти выстрелы наверняка всполошили всю эскадру. На линейном корабле впереди поняли, что за шлюпом погоня. В воздухе с пугающим свистом пролетело ядро. Линейный корабль ждал их – марсели его медленно разворачивались.
– К шкотам! – приказал Хорнблауэр. – Мистер Хантер, поворот через фордевинд.
«Ла рев» снова развернулась, направляясь в быстро сужающийся просвет между судами. Фрегат ринулся наперерез. Ядро с ужасающим свистом пронеслось в нескольких футах от Хорнблауэра, так что поток воздуха заставил его пошатнуться. В гроте появилась дыра.
– Ваше Сиятельство, – сказал Хорнблауэр. – Это не предупредительные выстрелы.
Теперь по ним стрелял линейный корабль, чей капитан наконец-то подготовил корабль к бою и расставил людей на батарее верхней палубы. Одно ядро попало в корпус «Ла рев»; палуба задрожала под ногами, словно корабль разваливался на куски. Тут же другое ядро ударило в мачту, штаги и ванты лопнули, на палубу посыпались щепки. Мачта, паруса, гик, гафель – все полетело за борт. Зацепившись за воду, они развернули двигавшийся по инерции остов. Все на мгновение оцепенели.
– Кто-нибудь ранен? – спросил Хорнблауэр, приходя в себя.
– Только царапина, сэр, – ответил кто-то. – Просто чудо, что никто не убит.
– Плотник, замерьте уровень воды в льяле, – сказал Хорнблауэр и тут же опомнился. – Нет, черт возьми. Отставить. Если доны могут спасти судно, пусть делают это сами.
Линейный корабль, чей залп произвел эти разрушения уже расправил марсели и двинулся прочь, фрегат быстро настигал их. Из кормового люка выбралась рыдающая женщина. Это была горничная герцогини, от страха позабывшая про морскую болезнь.
– Вашему Сиятельству стоит сложить багаж, – сказал Хорнблауэр. – Без сомнения вы скоро нас покинете. Надеюсь, доны предоставят вам каюту поудобнее.
Он изо всех сил старался говорить спокойно, как если бы в самом скором времени его не ждал испанский плен; но от его спутницы не укрылись ни подергивание обычно твердого рта, ни плотно сжатые кулаки.
– Как мне выразить, насколько меня это огорчает. – В голосе герцогини сквозила жалость.
– Тем тяжелее это для меня, – сказал Хорнблауэр и даже выдавал улыбку.
Испанский фрегат лег в дрейф в кабельтове с наветренной стороны.
– Позвольте, сэр, – сказал Хантер.
– Да?
– Мы можем сражаться, сэр. Только прикажите. Когда доны будут высаживаться на «Ла рев», можно внезапным выстрелом потопить шлюпки. Первый раз мы их отобьем.
Измученный Хорнблауэр чуть было не выпалил: «Бросьте валять дурака» – но сдержался и просто указал на фрегат. Двадцать пушек глядели на них в упор. Даже шлюпка, спускаемая сейчас с фрегата, несла по крайней мере в два раза больше людей, чем их шлюп. «Ла рев» была не больше иной прогулочной яхты. Это не десять к одному, даже не сто к одному.
– Понятно, сэр, – сказал Хантер. Испанская шлюпка спустилась на воду и готовилась отвалить.
– Мне надо поговорить с вами наедине, мистер Хорнблауэр, – неожиданно сказала герцогиня.
Хантер и Виньят, услышав ее слова, отошли в сторону.
– Да, Ваше Сиятельство, – сказал Хорнблауэр. Герцогиня, по-прежнему обнимая плачущую горничную, посмотрела прямо на него.
– Я такая же герцогиня, как и вы, – сказала она.
– Господи! – воскликнул Хорнблауэр. – Кто же вы?
– Китти Кобхэм, – Имя показалось Хорнблауэру смутно знакомым.
– Я вижу, мистер Хорнблауэр, вы слишком молоды, чтобы меня помнить. Прошло пять лет с тех пор, как я последний раз играла на сцене.
Вот оно что! Актриса Китти Кобхэм.
– Я не успею вам все рассказать, – продолжала герцогиня – испанская лодка быстро приближалась к ним, – но вступление французов во Флоренцию было лишь последним звеном в цепочке моих несчастий. Я бежала от них без копейки денег. Кто шевельнет пальцем ради бывшей артистки – брошенной и покинутой? Что мне оставалось делать? Другое дело герцогиня. Старушка Далримпл в Гибралтаре из кожи вон лезла, чтобы угодить герцогине Уорфедельской.
– Почему вы выбрали этот титул? – против воли спросил Хорнблауэр.
– Я ее знаю, – пожала плечами герцогиня. – Она именно такая, как я ее изобразила. Поэтому я ее и выбрала – характерные роли всегда давались мне лучше, чем откровенный фарс. И не так скучно долго играть.
– Но мои депеши, – всполошился Хорнблауэр. – Верните их немедленно.
– Как скажете, – отвечала герцогиня. – Но когда придут испанцы, я смогу по-прежнему оставаться герцогиней. Они освободят меня при первой возможности. Я буду хранить эти депеши, как зеницу ока, клянусь вам, клянусь! Если вы доверите их мне, я передам их не позже, чем через месяц.
Хорнблауэр смотрел в ее умоляющие глаза. Быть может, она шпионка и искусно пытается сохранить депеши, чтоб потом передать их испанцам. Но никакой шпион бы не рассчитал, что «Ла рев» в тумане зайдет в самую середину испанского флота.
– Да, я прикладывалась к бутылочке, – говорила герцогиня. – Я пила. Но в Гибралтаре я оставалась трезвой, так ведь? И я не выпью ни капли, ни одной капли, до возвращения в Англию. Клянусь. Прошу вас, сэр. Умоляю вас. Позвольте мне сделать для моей страны то, что в моих силах.
Это был нелегкий выбор для девятнадцатилетнего молодого человека, который ни разу в жизни не разговаривал с актрисой. За бортом послышались голоса – сейчас испанская лодка зацепится за шлюп.
– Оставьте их у себя, – сказал Хорнблауэр. – Вручите, когда сможете.
Он не сводил глаз с ее лица, ждал, не мелькнет ли в ее глазах торжество. Если бы он увидел что-нибудь в этом роде, то в ту же минуту сорвал бы депеши с тела герцогини. Однако лицо ее выражало обыкновенное удовольствие, – и лишь тогда он решил поверить ей, – не прежде.
– О, благодарю вас, сэр, – сказала герцогиня. Испанская лодка зацепилась за шлюп и испанский офицер неуклюже попытался вскарабкаться на борт. Наконец он на четвереньках выбрался на палубу, поднялся на ноги, и Хорнблауэр заспешил ему на встречу. Победитель и побежденный обменялись поклонами. Хорнблауэр не понимал, что говорит испанец, но, очевидно, это были официальные фразы. Испанец заметил женщин и замер в изумлении, Хорнблауэр поспешил представить на ломаном испанском:
– Senor el tenenie Espanol. Senora la Duquesa de Wharfedale.
Титул явно произвел впечатление, лейтенант низко поклонился, герцогиня отвечала высокомерным безразличием. Хорнблауэр мог не опасаться за судьбу депеш. Эта мысль немного скрашивала ему ожидание испанского плена на борту своего полузатонувшего суденышка. Тут он услышал с подветренной стороны как бы раскаты дальнего грома. Гром не может греметь так долго. Это бортовые залпы сражающихся кораблей – или флотов. Где-то за мысом Сан-Висенти британский флот настиг, наконец, испанцев. Артиллерийские залпы гремели все яростней. Взобравшиеся на палубу испанцы заволновалась. Хорнблауэр стоял с непокрытой головой и ждал, пока его уведут.
Плен – это ужасно. Хорнблауэр ощутил это, как только прошло первое оцепенение. Даже весть о сокрушительном поражении испанского флота у мыса Сан-Висенти не могла смягчить отчаяние несчастного пленника. Не тяжелые условия (десять квадратных футов на человека в пустом парусном хранилище вместе с другими пленными уорент-офицерами) угнетали его – младшему офицеру в море приходится не лучше. Страшнее всего была утрата свободы, сам факт плена.
Так прошло четыре месяца, пока Хорнблауэру пришло первое письмо – испанское правительство, нерасторопное во всех отношениях, располагало худшей почтовой системой в Европе. Но вот это письмо, с несколько раз поправленным адресом, в его руках, после того, как Хорнблауэр буквально вырвал его из рук тупого унтер-офицера, озадаченного странной фамилией. Почерк был незнакомый, сломав печать и прочитав обращение, Хорнблауэр подумал было, что вскрыл чужое письмо. «Милый мальчик» – начиналось оно. Кто мог так его называть? Он читал, как во сне.
«Милый мальчик,
Надеюсь, Вам приятно будет узнать, что данное мне Вами, доставлено по назначению. Когда я вручала его, мне сказали, что вы в плену. Сердце мое обливается кровью. Еще мне сказали, что они очень довольны тем, как вы поступили. А один из этих адмиралов – совладелец Друри-Лейн[18]. Кто бы мог подумать? Но он улыбнулся мне, а я улыбнулась в ответ. Я тогда не знала, что он совладелец, и улыбалась просто от доброты сердечной. Боюсь, рассказывая ему о своих злоключениях с драгоценным грузом, я всего лишь разыграла представление. Но он мне поверил, а моя улыбка и мои приключения так его растрогали, что он потребовал у Шерри роль для меня, и вот теперь я играю вторые роли, преимущественно трагических матерей, и срываю аплодисменты партера. Это – утешение в старости, чье приближение я чувствую все острее. Я не притрагивалась к вину с тех пор, как рассталась с Вами, и никогда больше не притронусь. И еще одно: мой адмирал обещал переправить это письмо со следующей картелью – вам это слово, без сомнения, говорит больше, чем мне. Надеюсь только, что письмо когда-нибудь доберется до Вас и утешит Вас в Ваших бедствиях.
Молюсь за Вас еженощно.
Ваш преданный друг Катарина Кобхэм»Утешит в бедствиях? Возможно. Отрадно было сознавать, что депеши доставлены по назначению, и что, судя по письму, Лорды Адмиралтейства им довольны. Отрадно было даже то, что герцогиня вновь играет на сцене. Но все это меркло рядом с его страданиями.
Тут появился стражник и повел Хорнблауэра к коменданту. Рядом с комендантом сидел переводчик – перебежчик из ирландцев. На столе лежали бумаги – видимо, комендант получил их с той же картелью, что и послание Китти Кобхем.
– Добрый вечер, сударь, – как всегда вежливо сказал комендант, предлагая стул.
– Добрый вечер, сударь, премного благодарен. – Хорнблауэр учил испанский язык медленно и мучительно.
– Вы получили повышение, – сказал ирландец по-английски.
– Что? – переспросил Хорнблауэр.
– Повышение, – повторил ирландец. – Вот письмо: «До сведения испанских властей доводится, что ввиду безупречной службы временно назначенный исполнять обязанности лейтенанта мичман Горацио Хорнблауэр утвержден в лейтенантском чине. Лорды Адмиралтейства выражают уверенность, что мистеру Горацио Хорнблауэру будут немедленно предоставлены все причитающиеся младшему офицерскому составу привилегии». Вот так, молодой человек.
– Примите поздравления, сударь, – сказал комендант.
– Большое спасибо, сударь, – ответил Хорнблауэр. Добродушный старый комендант ласково улыбнулся нескладному юноше и хотел было продолжать, однако Хорнблауэр не мог разобрать испанских терминов и в отчаянии посмотрел на переводчика.
– Теперь вы офицер, – сказал тот, – и вас переведут в помещение для пленных офицеров.
– Спасибо, – отвечал Хорнблауэр.
– Вы будете получать половину причитающегося вашему званию жалованья.
– Спасибо.
– Вас будут отпускать под честное слово. Дав слово, вы сможете в течение двух часов посещать город и его окрестности.
– Спасибо, – сказал Хорнблауэр.
В последующие долгие месяцы страдания Хорнблауэра несколько облегчались тем, что на два часа ежедневно его честное слово давало ему свободу; свободу побродить по улочкам маленького городка, выпить чашку шоколада или стаканчик вина – если у него были деньги – вежливо и с большим трудом поговорить с испанскими солдатами, матросами или горожанами. Но еще лучше было провести свои два часа, бродя по козьим тропкам на мысу, подставив голову ветру и солнцу, в обществе моря, исцеляющего горькую тоску плена. Еда теперь была чуть получше, помещение чуть поудобнее. А главное – сознание, что он лейтенант, лейтенант королевской службы, и если когда-нибудь, хоть когда-нибудь эта война закончится, и его выпустят на свободу, он сможет голодать на половинное жалование – ибо с окончанием войны на флоте не останется свободных мест для младших офицеров. Но он честно заработал свое повышение. Он заслужил одобрение начальства.Об этом стоило подумать во время одиноких прогулок.
И вот наступил день, когда задул штормовой зюйд-вест с той стороны Атлантики. Пролетев над бескрайним водным простором, он беспрепятственно набирал скорость, обращая море в череду бегущих валов, с грохотом и брызгами разбивающихся об испанский берег. Хорнблауэр стоял на мысу над Феррольской бухтой, придерживая рваную шинель и наклоняясь навстречу ветру, чтоб устоять на ногах. Ветер дул в лицо с такой силой, что перехватывало дыхание. Если повернуться к ветру спиной, дышать становилось легче, но тогда ветер задувал в глаза растрепанные волосы, задирал на голову плащ и так шаг за шагом заставлял Хорнблауэра спускаться вниз, к Ферролю, куда ему сейчас совсем не хотелось возвращаться. На два часа он один и свободен, и эти два часа были для него драгоценны. Он мог вдыхать атлантический воздух, идти, куда пожелает, делать, что захочет. Он мог смотреть на море: иногда с мыса удавалось разглядеть британский военный корабль, медленно пробирающийся вдоль берега в надежде захватить врасплох каботажное судно, наблюдая одновременно за военно-морскими приготовлениями испанцев. Когда такое судно появлялось в отпущенные Хорнблауэру два часа, он стоял и не отрываясь глядел на него, как умирающий от жажды глядит на недостижимый стакан воды, примечал все мелкие детали, вроде формы марселей и особенностей покраски; сердце его разрывалось на части. Кончался второй год плена. Двадцать два месяца, по двадцать четыре часа в сутки находился он под замком, запертый вместе с пятью другими младшими офицерами в тесной комнатушке крепости Эль-Ферроль. А сегодня ветер бушевал над ним, свободный и неукротимый. Хорнблауэр стоял лицом к ветру, перед ним лежала Корунья: белые домики, рассыпанные по склонам, как куски сахара. Между ним и Коруньей раскинулась покрытая барашками бухта Корунья, а слева тянулся узкий проход в Феррольский залив. Справа была открытая Атлантика; от подножия невысоких обрывов к северу тянулась цепочка рифов – Dientes del Diablo – Чертовы зубы. Подгоняемые ветром валы с промежутком в полминуты накатывали на рифы, ударяя о них с такой силой, что содрогался самый мыс, на котором стоял Хорнблауэр. Каждый вал рассыпался фонтаном брызг, которые тут же относил ветер, вновь открывая взору черные клыки скал.
Хорнблауэр был на мысу не один: в нескольких ярдах от него нес дозорную службу артиллерист испанского ополчения. Он непрерывно осматривал море в подзорную трубу. Воюя с Англией, приходится все время быть начеку: на горизонте может внезапно появиться флот, высадить небольшой десант, захватить Ферроль, сжечь док и корабли. Сегодня на это надеяться не приходилось – в такую погоду войско на берег не высадишь.
Однако часовой, без сомнения, пристально смотрел в какую-то точку с наветренной стороны; вытерев заслезившийся глаз рукавом, он стал смотреть снова. Хорнблауэр глядел туда же, не понимая, что привлекло внимание часового. Тот что-то пробормотал, потом повернулся и затрусил к караулке, где грелись остальные ополченцы, обслуживающие установленные на обрыве пушки. Вернулся он с дежурным сержантом, который взял подзорную трубу и стал смотреть туда же, куда прежде часовой. Оба затараторили на варварском гальегском диалекте; за два года упорных трудов Хорнблауэр овладел не только кастильским, но и галисийским, однако сейчас в реве ветра не понимал ни слова. Наконец, когда сержант согласно кивнул, Хорнблауэр невооруженным глазом разглядел, о чем они спорили. Светло-серый прямоугольник над серым морем – парус какого-то корабля. Корабль несется по ветру, чтоб укрыться в Корунье или Ферроле.
Весьма опрометчиво, ибо судну будет одинаково трудно как лечь в дрейф и бросить якорь в бухте Корунья, так и пройти узкий пролив, соединяющий с морем Феррольский залив. Осторожный капитан предпочел бы лавировать от подветренного берега, пока ветер не ослабнет. «Ох уж эти испанские капитаны, – подумал Хорнблауэр, пожимая плечами. – Впрочем, естественно, они стараются побыстрее добраться до гавани, ведь море прочесывает Королевский Флот». Но сержант и часовой не стали бы так волноваться из-за одного-единственного судна. Хорнблауэр не мог больше сдерживаться. Он подошел к оживленно разговаривающим ополченцам, мысленно формулируя фразы на чужом языке.
– Прошу вас, господа, – сказал он и начал снова. – Прошу вас, господа, скажите, что вы видите?
Сержант взглянул на Хорнблауэра и, повинуясь какому-то непонятному порыву, вручил ему трубу – Хорнблауэр чуть не выхватил ее из рук. В подзорную трубу Хорнблауэр различил корабль с полностью зарифленными марселями (все равно куда больше парусов, чем разумно в такую погоду) стремительно мчащийся к ним навстречу. Через секунду он увидел еще один серый прямоугольник. Еще парус. Еще корабль. Фор-стеньга значительно короче грот-стеньги, да не только это – весь облик до боли знакомый – британское военное судно, британский фрегат, преследующий другой корабль – очевидно, испанский капер. Упорная погоня – силы участников почти равны. Вполне вероятно, что испанцы укроются под защитой береговых батарей раньше, чем фрегат их настигнет. Хорнблауэр опустил трубу, чтоб дать глазу передохнуть, и сержант тут же вырвал ее из рук. Он внимательно следил за англичанином и по выражению его лица прочел все, что ему было нужно. Эти корабли ведут себя так, что он поступит правильно, если позовет офицера и поднимет тревогу. Сержант и часовой побежали в караулку, и через несколько секунд артиллеристы уже бежали к пушкам на краю обрыва. Вскоре на дороге, пришпоривая коня, показался офицер. Взглянув в подзорную трубу, он тут же поскакал к батарее, и вскоре пушечный выстрел оповестил всю береговую охрану о появлении неприятельского судна. На флагштоке рядом с батареей взвился испанский флаг; в ответ флаг взметнулся над Сан-Антоном, где другая батарея охраняла бухту Корунья. В готовность была приведена и артиллерия порта. Теперь, если британский фрегат подойдет на пушечный выстрел, ему несдобровать.
Преследователь и преследуемый были уже гораздо ближе к Корунье. Теперь Хорнблауэр с мыса видел их целиком. Они стремительно неслись вперед, и Хорнблауэр каждую минуту ожидал, что ветер сломает стеньги или сорвет с ликтросов паруса. Фрегат отставал примерно на полмили, чтоб стрелять из пушек в такую качку, ему нужно было подойти значительно ближе. Вот по дороге прискакал комендант со своими офицерами, он заметил Хорнблауэра и с испанской учтивостью поднял шляпу; Хорнблауэр, без шляпы; постарался так же учтиво поклониться. Он подошел к коменданту с неотложной просьбой – ему пришлось ухватиться за луку седла и кричать испанцу прямо в лицо.
– Сударь, я дал честное слово и должен вернуться через десять минут. Можно мне продлить отлучку? Пожалуйста, разрешите мне остаться!
– Оставайтесь, сеньор, – милостиво согласился комендант.
Хорнблауэр смотрел за погоней и в то же время внимательно наблюдал подготовку к обороне. Он дал честное слово, но никакой кодекс чести не запрещает ему запоминать то, что он видит. Когда-нибудь, возможно, он будет свободен, и тогда, может быть, знания об обороне Ферроля ему пригодятся. С приближением судов волнение нарастало. Английский капитан держался ярдов на сто мористее испанца, но догнать его никак не мог – Хорнблауэру даже показалось что испанец увеличивает разрыв. Однако английский корабль ближе к открытому морю, значит этот путь закрыт. Свернув от берега, испанец потеряет свое преимущество. Если он не сумеет попасть в бухту Корунья или Феррольский залив, он обречен.
Сейчас испанец поравнялся с мысом Корунья, – пора круто поворачивать руль и заходить в бухту, рассчитывая что под защитой мыса якоря смогут удержать корабль. Но когда такой силы ветер свистит среди скал и обрывов, все может случиться. Видимо, идущий из бухты порыв ветра ударил судно в лоб при попытке обогнуть мыс. Хорнблауэр видел, как оно закачалось, а потом, когда встречный порыв стих и ветер вновь подхватил его, накренилось и почти легло на борт. Когда судно выровнялось, Хорнблауэр на мгновение увидел дыру в грот-марселе. На мгновение, ибо после образования дыры миги марселя сочтены – только что появилась дыра, и вот уже парус исчез, разорванный в клочья. Баланс давления нарушился, и судно тут же потеряло управление; ветер, наполнив фор-марсель, развернул судно, как флюгер. Если б у испанцев хватило времени поставить хоть какой-нибудь парус ближе к корме, судно еще можно было бы спасти, но в этих замкнутых водах лишнего времени не бывает. Только что судно могло обогнуть мыс Корунья, теперь эта возможность утрачена.
У испанца оставались еще шансы проскочить в узкий проливчик, соединяющий с морем Феррольский залив, ветер для этого был попутный – почти. Хорнблауэр, стоя на мысу, пытался представить себе, что думает на качающейся палубе испанский капитан. Он видел, как тот выровнял судно и направил в узкий пролив, знаменитый у моряков своей труднопроходимостью. Он видел, как судно взяло курс, и несколько секунд, пока оно неслось к устью, казалось, что испанцам удастся-таки, несмотря ни на что, проскочить точно в пролив. Тут снова налетел встречный ветер. Если бы судно хорошо слушалось руля, оно могло бы спастись, но с нарушенным балансом парусов оно неизбежно запаздывало. Яростный порыв ветра развернул его нос, и стало ясно, что судно обречено. Но испанский капитан решил играть до конца. Он не хотел выбрасывать корабль на подножие низких обрывов. Круто развернув руль, он предпринял смелую попытку обогнуть Феррольский мыс на отраженном от обрывов ветре.
Попытка смелая, но с самого начала обреченная на неудачу – судно и впрямь обогнуло мыс, но ветер снова развернул его нос, и корабль полетел на зазубренную цепочку Чертовых зубов. Хорнблауэр, комендант и все остальные бросились на другую сторону мыса, досмотреть финальный акт трагедии. Судно, подхваченное попутным ветром, с невероятной быстротой неслось к рифам. Волна подхватила его, еще увеличив скорость. Оно ударилось об риф и на секунду исчезло из виду, скрытое пеленой брызг. Когда брызги рассеялись, его трудно было узнать. Все три мачты исчезли, и только черный корпус возвышался над белой пеной. Инерция и волна почти протащили его через риф – без сомнения, распоров днище – и судно зацепилось кормой, а носом зарылось в относительно спокойную воду позади рифа.
На палубе оставались люди. Хорнблауэр видел, как они, ища спасения, жмутся к уступу полуюта. Новый вал разбился о Чертовы зубы, окутав брызгами несчастное судно. Но вот оно снова появилось, черное на фоне белой пены. Теперь, под прикрытием погубившего его рифа, оно было относительно защищено. Хорнблауэр видел, как на его палубе копошатся живые существа. Жить им оставалось недолго – минут пять, если повезет. Если не повезет – часов пять.
Вокруг него испанцы выкрикивали проклятия. Женщины плакали, мужчины в ярости грозили кулаками уходящему фрегату, который, удовлетворившись достигнутым, вовремя развернулся и теперь под штормовыми парусами лавировал в открытое море. Ужасно было смотреть на обреченных испанцев. Если более крупная волна, перекатившись через риф, не смоет корму и судно не затонет окончательно, оно так и будет биться о рифы вместе с бедными моряками. Если оно не разобьется сразу, несчастные не вынесут постоянных ударов ледяных брызг. Надо что-то сделать, надо их спасти, но лодка не сможет обогнуть мыс и Чертовы зубы, не сможет добраться до останков судна. Но… Мысли Хорнблауэра понеслись галопом. Комендант, сидя на лошади, что-то сердито говорил испанскому флотскому офицеру, очевидно о том же самом, офицер разводил руками, объясняя, что любая попытка спасти потерпевших обречена на провал. И все же… Два года Хорнблауэр был в плену; вся его искусственно сдерживаемая энергия рвалась наружу, а после двух лет заключения ему было все равно, будет он жить или погибнет. Он подошел к коменданту и вмешался в спор.
– Сударь, – сказал он. – Позвольте, я попробую их спасти. Может быть, из этой бухточки… Если со мной отправятся несколько рыбаков…
Комендант посмотрел на офицера. Офицер пожал плечами.
– Как вы хотите это сделать? – спросил комендант Хорнблауэра.
– Мы должны перетащить через мыс лодку из дока, – объяснил Хорнблауэр, с трудом облекая свои мысли в испанские фразы. – Но надо быстро… быстро!
Он указал на обломки судна. Волна, разбивающаяся о Чертовы зубы, прибавила силы его словам.
– Но как вы перетащите лодку? – спросил комендант. Даже по-английски кричать против ветра было бы очень трудно; кричать же по-испански было свыше его сил.
– Покажу вам в доке, сударь, – крикнул Хорнблауэр. – Объяснить не могу. Но надо быстрее.
– Так вы хотите отправиться в док?
– Да, да.
– Садитесь сзади меня, сударь, – сказал комендант. Хорнблауэр неловко вскарабкался на круп и уцепился за пояс коменданта. Лошадь, побежала вниз по склону. Хорнблауэра замотало из стороны в сторону. Все городские и гарнизонные зеваки бежали за ними.
Феррольский док пришел в полный упадок по причине британской блокады. Расположенный в одном из самых глухих уголков Испании, связанный с ее внутренними частями самыми плохими дорогами, он получал большинство припасов морским путем, а теперь, в результате блокады, оказался от них отрезан. Заход испанских военных судов лишил его последних запасов, тогда же большинство докеров завербовали во флот. Но Хорнблауэр из прежних внимательных наблюдений знал: все что ему понадобится, там есть. Он соскользнул с лошадиного крупа, счастливо избежав инстинктивного удара копытом со стороны раздраженного животного, и собрался с мыслями. Он указал на низкую телегу – скорее даже платформу на колесах. На ней обычно возили к пристани бочки с солониной и коньяком.
– Лошади, – сказал он, и десятки добровольных помощников бросились запрягать лошадей.
Рядом с причалом покачивались с полдюжины лодок. Здесь же было все необходимое для подъема тяжестей. Пропустить под лодку канаты и поднять ее было делом нескольких минут. Испанцы как правило ленивы и медлительны, но убеди их в необходимости действовать быстро, вдохнови, предложи им смелый план – они будут работать, как одержимые. А умелых работников было хоть отбавляй. Весла, мачта, парус (впрочем парус не понадобится), руль, румпель, черпаки – все оказалось на месте. Кто-то сбегал на склад за подпорками для лодки, их тут же поставили на телегу, телегу подвели под тали и взгромоздили на нее лодку.
– Пустые бочки, – приказал Хорнблауэр. – Вот эти.
Смуглый галисийский рыбак сразу понял, чего Хорнблауэр хочет, и подкрепил его ломаные фразы более пространными объяснениями. Тут же притащили дюжину пустых бочек из-под воды, с плотно пригнанными затычками. Смуглый рыбак забрался на телегу и принялся найтовить их под банками. Если их хорошо укрепить, они удержат лодку на плаву, даже если она наберет воды по самый планширь.
– Мне нужно шесть человек, – крикнул Хорнблауэр, стоя на телеге и оглядывая толпу. – Шесть рыбаков, кто знает маленькие лодки.
Смуглый рыбак, тот, что привязывал к банкам бочонки, оторвался от своего дела.
– Я знаю, кто нам нужен, сударь, – сказал он. Он выкрикнул несколько имен, и вперед выступили шесть рыбаков: сильные, обветренные, уверенные в себе. Очевидно, смуглый галисиец был их капитаном.
– Ну, вперед, – сказал Хорнблауэр, но галисиец остановил его.
Хорнблауэр не понял, что тот сказал, но в толпе кто-то кивнул, побежал и скоро вернулся, сгибаясь под тяжестью бочонка с водой и ящичка – видимо, с сухарями. Хорнблауэр мысленно обругал себя; он забыл, что их может отнести в море. Комендант, не слезая с лошади, внимательно наблюдал за происходящим и тоже заметил эти припасы.
– Помните, сударь, что вы дали мне слово, – сказал он.
– Я дал вам слово, сэр, – повторил Хорнблауэр. На несколько блаженных секунд он совершенно позабыл о своем плене.
Припасы были аккуратно убраны под кормовое сиденье. Капитан рыбачьей лодки поглядел на Хорнблауэра. Тот кивнул.
– Вперед! – крикнув он толпе.
Подковы зацокали по мостовой, и телега, подпрыгивая, двинулась вперед. Одни вели лошадей, другие толпою шли рядом, а Хорнблауэр с капитаном восседали на повозке, словно генералы. Процессия миновала ворота дока, прошла по главной городской улице и свернула на крутую дорожку, ведущую за гребень мыса. Энтузиазм толпы еще не остыл, и, когда на склоне лошади замедлили шаг, сотня людей налегла сзади, с боков, ухватилась за постромки и втащила телегу на холм. На гребне дорога почти исчезла, но телега продолжала тащиться вперед. Дальше дорога стала еще хуже. Петляя между земляничными и миртовыми деревьями, она серпантином спускалась со склона в маленькою песчаную бухточку, о которой Хорнблауэр сразу и подумал. Он видел, как в хорошую погоду рыбаки закидывали там невод, и еще тогда заприметил ее как наиболее подходящее место для высадки десанта, если когда-нибудь Королевский Флот захочет напасть на Ферроль.
Ветер неистовствовал по прежнему. Все море было покрыто белыми барашками. Перевалив через гребень мыса, все увидели тянущуюся от берега цепочку Чертовых зубов и свисающий с них остов корабля, черный на фоне бушующей пены. Кто-то заорал, все налегли на телегу, так что лошади перешли на рысь и телега, подпрыгивая на кочках, понеслась вперед.
– Тише, – заорал Хорнблауэр. – Тише!
Если они сломают ось или потеряют колесо, вся затея позорно провалится. Комендант присоединился к Хорнблауэру и несколькими громкими командами привел своих людей в чувство. Уже поспокойнее, телегу спустили к краю песчаной отмели. Ветер с силой подхватывал мокрый песок и безжалостно швырял в лицо, но волны, накатывающие на песок, были совсем небольшие: бухточка глубоко вдавалась в береговую линию, а с наветренной стороны валы разбивались о Чертовы зубы и дальше бежали уже параллельно берегу. Колеса зарылись в песок, и лошади остановились у кромки воды. Десяток добровольцев бросился распрягать лошадей, а с полсотни других затащили телегу в воду – при таком избытке рабочих рук сделать это было нетрудно. Как только первая волна прокатилась под днищем телеги, команда вскарабкалась в лодку. Дно бухты было покрыто каменными глыбами, но ополченцы и докеры, по грудь в воде, налегли посильнее и протащили через них телегу. Лодка едва не уплывала с подпорок, и, как только команда освободила се и забралась внутрь, начала поворачиваться под напором ветра. Моряки ухватились за весла и несколькими сильными гребками заставили ее слушаться; капитан-галисиец уже вставил рулевое весло в паз на корме, не полагаясь на руль и румпель. Берясь за весло, он посмотрел на Хорнблауэра. Тот молча кивнул, уступая ему эти работу.
Хорнблауэр, согнувшись против ветра, стоял на корме, ища между камней путь к останкам корабля. Тихая бухточка осталась далеко позади. Лодка пробиралась по бушующим волнам, кругом завывал ветер. Волны двигались беспорядочно, и лодку мотало из стороны в сторону. К счастью, рыбаки привыкли грести по бурному морю. Они держали лодку на ходу, так что капитан, с силой налегая на рулевое весло, мог вести ее через обезумевшие волны. Хорнблауэр, выбиравший путь, жестами указывал капитану направление, и тот мог сосредоточить все свое внимание на том, чтоб неожиданная волна не опрокинула лодку. Ветер ревел, лодка подскакивала на каждой волне, но пядь за пядью они приближались к погибшему кораблю. Если в движении волн и была какая-то закономерность, так это то, что все они огибали Чертовы зубы с дальнего конца, поэтому лодку приходилось постоянно разворачивать носом навстречу волне, затем обратно, отвоевывать у ветра бесценные пяди. Хорнблауэр взглянул на гребцов: они работали на износ. Ни секунды передышки – весла к себе, весла от себя, к себе, от себя; Хорнблауэр дивился, как сердце и мускулы выдерживают такое напряжение.
Тем не менее, они постепенно приближались к погибшему кораблю. Когда брызги рассеялись, Хорнблауэр увидел всю его перекошенную палубу. Видел он и человеческие фигурки, укрывавшиеся за уступом полуюта. Кто-то из них махнул ему рукой. В этот момент из моря, ярдах в двадцати впереди, вынырнуло чудовище. В первую секунду Хорнблауэр не понял, что это такое. Лишь когда оно вновь вынырнуло, он узнал толстый конец сломанной мачты. Мачта еще держалась за судно последним уцелевшим штагом, привязанным к ее верхнему концу. Ее отнесло к подветренной стороне судна, и здесь она вздымалась и подпрыгивала на волнах – казалось, некое морское божество, скрытое под водой, в гневе грозит пловцам. Хорнблауэр указал на опасность рулевому, тот кивнул и крикнул: «Nombre de Dios», но крик утонул в шуме ветра. Они обогнули мачту. Имея неподвижный ориентир, Хорнблауэр смог лучше оценить их скорость. Он видел, что каждый дюйм дается отчаянным усилием гребцов, видел, как лодка останавливается или даже относится назад более сильными порывами ветра, которыми весла не могли противостоять.
Теперь они были за мачтой, вблизи затонувшего носа судна, и достаточно близко к Чертовым зубам, так что каждая волна, разбившись о противоположную сторону рифов, осыпала их водопадом брызг. На дне лодки плескалась вода, вычерпывать ее было некому и некогда. Наступила самая сложная часть всего предприятия: надо подвести лодку достаточно близко к судну и не разбить ее при этом. Вдоль кормовой части судна торчали острые камни; и, хотя полубак выступал над водой, вся носовая часть шкафута была затоплена. К счастью, остов несколько наклонился на правый борт, то есть к ним, и это облегчало задачу. Когда вода спадала, то есть прямо перед тем, как следующий вал разбивался о риф, Хорнблауэр, встав и вытянув шею, видел, что рядом с центральной частью шкафута, там, где палуба соприкасалась с водой, камней вроде бы нет. Он указал рулевому на это место, потом взмахами привлек внимание уцелевших матросов у полуюта и показал, куда им надо двигаться. Волна, перекатываясь через риф, разбилась о палубу остова и почти по края наполнила лодку. Лодка завертелась в круговороте, но бочонки удержали ее на плаву, а могучие усилия рулевого и гребцов – от удара о скалы или об остов.
– Ну, давай! – крикнул Хорнблауэр. Не важно, что в этот решающий момент он заговорил по-английски – его поняли и так. Лодка продвинулась вперед, а потерпевшие, распутав веревки, которыми привязались в своем укрытии, поползли вниз по палубе. Хорнблауэра поразило, что их всего четверо – человек двадцать-тридцать смыло за борт, когда корабль налетел на риф. По команде рулевого гребцы подняли весла. Один из потерпевших собрался с духом и прыгнул на нос лодки. Еще одно усилие гребцов, и лодка снова продвинулась вперед, еще один потерпевший прыгнул в нее. Тут Хорнблауэр, следивший за морем, увидел, как новый вал вздымается над рифом. По его сигналу лодка отошла в безопасное – относительно безопасное – место, а два оставшихся на палубе матроса вскарабкались обратно к уступу полуюта. Волна прокатилась с грохотом и ревом, пена шипела, брызги стучали, лодка вновь придвинулась к остову. Третий потерпевший приготовился прыгать, не рассчитал и упал в море. Больше его никто не видел. Обессиленный от холода и усталости, он камнем пошел на дно, но печалиться было некогда. Четвертый потерпевший ждал своей очереди. Как только лодка подошла, он прыгнул и счастливо приземлился на носу.
– Есть кто еще? – крикнул Хорнблауэр и получил отрицательный ответ. Они спасли три жизни, рискуя восемью.
– Вперед, – сказал Хорнблауэр, но рулевой не нуждался в его словах.
Он уже позволил ветру отнести лодку подальше от погибшего корабля, подальше от скал – и дальше от берега. Достаточно было лишь изредка налегать на весла, чтоб держать лодку носом к ветру и волне. Хорнблауэр посмотрел на потерпевших, без чувств лежащих на дне лодки. По ним прокатывалась вода. Он наклонился и затряс их, приводя в сознание; потом с трудом сунул черпаки в их занемевшие руки. Они должны двигаться, иначе они умрут. С изумлением он увидел, что уже темнеет. Надо немедленно решать, что делать дальше. Гребцы явно не могли больше грести; если попытаться вернуться в песчаную бухточку, откуда они начали свой путь, ночь застанет их, обессиленных, меж предательских прибрежных камней. Хорнблауэр сел рядом с капитаном-галисийцем, который, не спуская глаз с набегающих волн, лаконично изложил свои соображения.
– Темнеет. – Он поглядел на небо. – Камни. Люди устали.
– Лучше не возвращаться, – сказал Хорнблауэр.
– Да.
– Тогда надо выйти в открытое море. Годы блокадной службы приучили Хорнблауэра держаться подальше от подветренного берега.
– Да, – сказал капитан и добавил несколько слов, которые Хорнблауэр не разобрал из-за ветра и плохого знания языка. Капитан повторил свои слова громче, сопровождая их выразительными жестами. Показывать ему приходилось одной рукой, другая была занята рулевым веслом.
«Плавучий якорь, – решил про себя Хорнблауэр. – Совершенно верно».
Он оглядел исчезающий из виду берег, прикинул направление ветра. Вроде бы он стал по-южнее. Если ветер не переменится, они смогут дрейфовать на плавучем якоре всю ночь, не опасаясь быть выброшенными на берег.
– Хорошо, – сказал Хорнблауэр вслух. Он тоже прибегнул к пантомиме, и капитан одобрительно кивнул, потом приказал двум баковым гребцам вынуть свои весла и сделать из них плавучий якорь – привязать эти весла к длинному фалиню, пропущенному под носом лодок. При таком напоре ветра лодка будет достаточно сильно тянуть плавучий якорь, чтоб нос постоянно указывал в открытое море. Хорнблауэр наблюдал, как плавучий якорь устанавливается в воде.
– Хорошо, – сказал он снова.
– Хорошо, – повторил капитан, кладя в лодку рулевое весло.
Хорнблауэр только сейчас понял, что все это время, мокрый до нитки, стоял на пронизывающем зимнем ветру. У его ног без чувств лежал один из потерпевших, двое других вычерпали почти всю воду и, благодаря своим усилиям, были живы и в сознании. Гребцы валились от усталости. Капитан-галисиец уже опустился на дно лодки и обхватил бесчувственное тело. Повинуясь общему импульсу, все сгрудились на дне лодки, под банками, подальше от ревущего ветра.
Так наступила ночь. Хорнблауэр почувствовал, что прикосновение человеческих тел согревает его, почувствовал на спине чью-то руку, и сам кого-то обнял. Подними на дне лодки плескались остатки воды, над ними по-прежнему яростно завывал ветер. Лодка кренилась то на нос, то на корму и, взбираясь на волну, резко вздрагивала, стопорясь плавучим якорем. Каждую секунду новая порция брызг обрушивалась в лодку на съежившиеся от холода тела; через короткое время на дне набралось столько воды, что пришлось расцепиться, сесть и на ощупь в темноте вычерпывать воду. Потом снова можно было сгрудиться под банками.
Посреди этого ночного кошмара, когда они в третий раз собрались вычерпывать воду, Хорнблауэр обнаружил, что тело, на котором лежала его рука, неестественно застыло. Матрос, которого капитан пытался привести в сознание, так и умер, лежа между ним и Хорнблауэром. Капитан в темноте оттащил тело на корму. Ночь продолжалась: холодный ветер, холодные брызги, качка; садись, вычерпывай воду, ложись, съеживайся, дрожи. Мучения были невыносимые – Хорнблауэр не мог поверить своим глазам, когда увидел наконец первые признаки наступающего утра. Постепенно забрезжила заря, и надо было думать, что делать дальше. Но вот окончательно рассвело, и все проблемы решились сами собой. Один из рыбаков, встав на ноги, хрипло закричал, указывая на север. Там отчетливо вырисовывался корабль, дрейфующий под штормовыми парусами. Капитан с первого взгляда узнал его.
– Английский фрегат, – сказал он. Видимо за ночь фрегат снесло на то же расстояние,чтои дрейфующую на плавучем якоре лодку.
– Сигнальте ему, – сказал Хорнблауэр. Никто не возразил.
В лодке не оказалось ничего белого, кроме рубашки Хорнблауэра, и тот снял ее, дрожа от холода; рубашку привязали к веслу и подняли на мачту. Капитан увидел, что Хорнблауэр надевает на голое тело мокрый сюртук, одним движением стянул через голову толстую вязаную фуфайку и протянул ему.
– Спасибо, не надо, – запротестовал Хорнблауэр, но капитан настаивал; с широкой ухмылкой он показал на застывшее тело, лежащее на корме и объяснил, что переоденется в фуфайку мертвеца. Спор был прерван новым криком одного из рыбаков. Фрегат привелся к ветру. Под взятыми в три рифа фор– и грот-марселями он двинулся к ним, подгоняемый слабеющим ветром. Хорнблауэр смотрел на корабль, потом, оглянувшись, увидел бледнеющие на горизонте галисийские горы. Впереди было тепло, свобода, товарищи, сзади – одиночество и плен.
С подветренного борта фрегата любопытные лица смотрели на бешено плясавшую лодку. Англичане спустили шлюпку и двое проворных матросов перепрыгнули с нее к рыбакам. С фрегата в лодку перебросили канат, на конце его был спасательный круг со штанами. Английские матросы помогали окоченевшим испанцам по очереди забираться в штаны и придерживали, пока тех поднимали на палубу.
– Я пойду последним, – сказал Хорнблауэр, когда они повернулись к нему. – Я – королевский офицер.
– Господи, помилуй! – сказал матрос.
– Тело тоже отправьте наверх, – велел Хорнблауэр. – Его надо будет похоронить, как положено.
Труп гротескно закачался в воздухе. Капитан-галисиец начал было препираться с Хорнблауэром, кому принадлежит честь последним покинуть лодку, но Хорнблауэра было не переспорить. Наконец матрос помог ему сунуть ноги в штаны спасательного круга и обвязал страховочным концом. Хорнблауэр взмыл вверх, раскачиваясь вместе с судном. Полдюжины сильных рук подхватили его и аккуратно положили на палубу.
– Ну вот, моя радость, ты и здесь, целый и невредимый, – произнес бородатый матрос.
– Я королевский офицер, – сказал Хорнблауэр. – Где вахтенный?
Вскоре Хорнблауэр, облаченный в невероятно сухую одежду, попивал горячий грог в каюте Крома, капитана фрегата Его Величества «Сириус». Кром был с виду бледен и угрюм, но Хорнблауэр слышал о нем, как о первоклассном офицере.
– Эти галисийцы отличные моряки, – сказал Кром. – Я не могу их завербовать, но может кто из них предпочтет стать добровольцем, чем отправляться в плавучую тюрьму.
– Сэр… – начал Хорнблауэр и заколебался. Негоже младшему лейтенанту спорить с капитаном.
– Да?
– Они вышли в море спасать чужие жизни. Они не подлежат взятию в плен.
Серые глаза Крома стали ледяными. Хорнблауэр был прав, негоже младшему лейтенанту спорить с капитаном.
– Вы будете меня учить, сэр? – спросил Кром.
– Упаси меня Бог, – поспешно отвечал Хорнблауэр. – Я давно не читал Адмиралтейские инструкции и боюсь, что память меня подвела.
– Адмиралтейские инструкции? – переспросил Кром несколько другим тоном,
– Наверное я ошибаюсь, сэр, – сказал Хорнблауэр, – но мне казалось, что та же инструкция касалась и двух других, потерпевших кораблекрушение.
Даже капитан не волен нарушать Адмиралтейские Инструкции.
– Я приму это во внимание; – сказал Корм.
– Я отправил покойника на корабль, сэр, – продолжал Хорнблауэр, – в надежде, что вы, быть может, разрешите похоронить его как следует. Эти галисийцы рисковали жизнью, чтобы его спасти и, думаю, сэр, будут чрезвычайно вам признательны.
– Папистские похороны? Я распоряжусь, пусть делают, что хотят.
– Спасибо, сэр, – сказал Хорнблауэр.
– Теперь касательно вас. Вы сказали, что имеете чин лейтенанта. Вы можете служить на этом корабле до встречи с адмиралом. Тогда он решит. Я не слышал, чтобы «Неустанный» списывал команду, так что формально вы можете числиться в его списках.
Вот тут-то, когда Хорнблауэр еще раз глотнул горячего грога, дьявол и попытался его искусить. Юноша до боли радовался тому, что вновь очутился на королевском корабле, Снова есть солонину и сухари, а нут и фасоль – никогда. Ступать по корабельной палубе, говорить по-английски. Быть свободным. Свободным! Очень маловероятно, чтоб он снова попал в руки к испанцам, Хорнблауэр с мучительной ясностью вспомнил беспросветную тоску плена. И все что от него требуется, это день или два подержать язык за зубами. Но дьявол недолго искушал его. Хорнблауэр еще раз отхлебнул горячего грога, отогнал искусителя и посмотрел Крому прямо в глаза.
– Мне очень жаль, сэр.
– В чем дело?
– Я здесь под честное слово. Я дал слово, прежде чем покинуть берег.
– Вот как? Это меняет дело. Здесь вы, конечно, в своем праве.
То, что британского офицера отпустили под честное слово, было настолько обычно, что не вызывало расспросов;
– Вы дали слово в обычной форме? – спросил Кром. – Что не попытаетесь бежать?
– Да, сэр.
– И что же вы решили?
Кром, конечно, и думать не мог повлиять на джентльмена в таком личном деле, как честное слово.
– Я должен вернуться, сэр, – сказал Хорнблауэр. – При первой возможности.
Он оглядел уютную каюту. Сердце его разрывалось.
– По крайней мере, вы сможете пообедать и переночевать на борту, – сказал Кром. – Я не рискну приближаться к берегу, пока ветер не уляжется. При первой возможности я отправлю вас в Корунью под белым флагом. И я посмотрю, что говорят инструкции об этих пленных.
Было солнечное утро, когда часовой форта Сан-Антон в бухте Корунья доложил офицеру, что британское судно обогнуло мыс, легло в дрейф вне досягаемости пушек и спустило шлюпку. На этом ответственность часового кончалась, и он праздно наблюдал, как офицер разглядывает тендер, плавно идущий под парусами, и белый флаг на нем. Тендер лег в дрейф на расстоянии чуть больше ружейного выстрела. К изумлению часового, на окрик офицера кто-то встал в лодке и отвечал на чистейшем гальегском диалекте. Подойдя по приказу офицера к причалу, тендер высадил десять человек и повернул обратно к фрегату. Девять из десяти кричали и смеялись, десятый, самый молодой, шел с каменным лицом. Выражение его не изменилось даже тогда, когда остальные с нескрываемым расположением обняли его за плечи. Никто не потрудился объяснить часовому, кто этот непроницаемый молодой человек, да его это и не слишком волновало. Отправив всю компанию в Ферроль через бухту Корунья, он выкинул их из головы.
Была почти уже весна, когда испанский ополченец вошел в барак, служивший в Ферроле офицерской тюрьмой.
– Сеньор Орнбловерро? – спросил он. По крайней мере, сидевший в углу Хорнблауэр понял, что обращаются к нему. Он уже привык, как испанцы коверкают его фамилию.
– Да? – спросил он, вставая.
– Будьте добры следовать за мной. Комендант послал меня за вами, сударь.
Комендант лучился улыбкой. В руках он держал депешу.
– Это, сударь, – сказал он, размахивая депешей под носом у Хорнблауэра, – персональный приказ. Вторая подпись герцога де Фуэнтесауко, министра Флота, но первая – премьер-министра, князя Миротворца, герцога Алькудийского.
– Да, сэр, – сказал Хорнблауэр.
В этот момент он должен был начать надеяться, но в жизни каждого заключенного наступает пора, когда все надежды умирают. Сейчас его больше заинтересовал странный титул князя Миротворца, о котором в Испании уже начали поговаривать.
– Тут говорится: «Мы, Карлос Леонардо Луис Мануэль де Годой и Боэгас, премьер-министр Его Католического Величества, князь Миротворец, герцог Алькудийский и гранд первого класса, граф Алькудийский, кавалер Священного Ордена Золотого Руна, кавалер Святого Ордена Сантьяго, Главнокомандующий морскими и наземными силами Его Католического Величества, адмирал Двух Океанов, генерал от кавалерии, от инфантерии, от артиллерии…[19] – во всяком случае, сударь, это приказ мне немедленно предпринять шаги для вашего освобождения. Я должен под белым флагом передать вас вашим соотечественникам, в благодарность «за смелость и самопожертвование, проявленные при спасении чужих жизней с риском для своей собственной».
– Спасибо, сударь, – сказал Хорнблауэр.
Лейтенант Хорнблауэр
I
Лейтенант Уильям Буш прибыл на борт судна Его Величества «Слава», когда то стояло на якоре в Хэмоазе. Он доложился вахтенному офицеру — высокому и довольно нескладному молодому человеку со впалыми щеками и меланхолическим выражением лица. Мундир на нем сидел так, словно он оделся в темноте и больше об этом не вспоминал.
— Рад видеть вас на борту, сэр, — сказал вахтенный. — Меня зовут Хорнблауэр. Капитан на берегу. Первый лейтенант десять минут назад ушел с боцманом на бак.
— Спасибо, — сказал Буш.
Он внимательно огляделся, примечая, как ведутся бесчисленные работы по подготовке судна к долгому плаванию в отдаленных морях.
— Эй, вы! На сей-талях! Помалу! Помалу! — кричал Хорнблауэр через плечо Буша. — Мистер Хоббс! Следите, что делают ваши люди!
— Есть, сэр, — последовал унылый ответ.
— Мистер Хоббс! Пройдите сюда!
Жирный мужчина с толстой седой косичкой вразвалку приблизился к стоящим на шкафуте Хорнблауэру и Бушу. Яркий свет слепил ему глаза, и он заморгал, глядя на Хорнблауэра; солнце осветило седую щетину на его многочисленных подбородках.
— Мистер Хоббс! — сказал Хорнблауэр. Говорил он тихо, но прозвучавший в его словах напор удивил Буша. — Порох нужно загрузить дотемна, и вы об этом знаете. Так что не отвечайте на приказы подобным тоном. В следующий раз отвечайте бодро. Как вы заставите матросов работать, если сами скулите? Идите на бак и не забудьте, что я сказал.
Говоря, Хорнблауэр немного наклонился вперед. Сцепленные за спиной руки, вероятно, должны были служить противовесом выставленному вперед подбородку, но в целом небрежная поза не соответствовала яростному напору его слов. При этом говорил он так тихо, что никто, кроме них троих, ничего не слышал.
— Есть, сэр, — сказал Хоббс, поворачиваясь, чтобы идти на бак.
Буш отметил про себя, что этот Хорнблауэр — горячая голова. Тут он встретился с ним взглядом и с изумлением увидел, как меланхолический глаз легонько ему подмигивает. Внутренним чутьем он понял, что этот свирепый молодой лейтенант совсем не так свиреп, и жар, с которым он говорил — напускной, почти как если бы Хорнблауэр практиковался в иностранном языке.
— Только позволь им скулить, и они совсем разболтаются, — объяснил Хорнблауэр. — А Хоббс еще хуже других. Исполняющий обязанности артиллериста, причем очень плохой. Вконец обленился.
Двоедушие молодого лейтенанта покоробило Буша. Человеку, который может напустить на себя притворный гнев и тут же легко его отбросить, доверять нельзя. Однако карий глаз щурился так заразительно, что честный голубой глаз Буша тоже подмигнул, почти помимо его воли. Буш почувствовал прилив неожиданной приязни к Хорнблауэру, но природная осторожность заставила его тут же подавить этот импульс. Впереди долгое плавание, и времени, чтоб составить взвешенное суждение, будет предостаточно. Пока Буш видел, что молодой офицер пристально его разглядывает, явно намереваясь спросить — о чем, мог догадаться даже Буш. В следующую секунду оказалось, что он не ошибся.
— Когда вы были назначены? — спросил Хорнблауэр.
— В июле 96-го, — сказал Буш.
— Спасибо. — Ровный тон Хорнблауэра ничего не сообщил Бушу, и тому пришлось в свою очередь спросить:
— А вы?
— В августе 97-го, — сказал Хорнблауэр. — Вы старше меня. И Смита тоже — у него январь 97-го.
— Так вы, значит, младший лейтенант.
— Да, — ответил Хорнблауэр.
Судя по голосу, он ничуть не огорчился, что новоприбывший оказался старше, однако Буш без труда угадывал его чувства. Буш сам еще недавно был младшим лейтенантом на линейном корабле и прекрасно знал, что это такое.
— Вы будете третьим, — продолжал Хорнблауэр. — Смит — четвертый, я — пятый.
— Я буду третьим? — задумчиво, как бы самому себе сказал Буш.
Каждый лейтенант имеет право помечтать, даже если он, подобно Бушу, начисто лишен воображения. Возможность повышения существует, хотя бы теоретически: от гусеницы-лейтенанта до бабочки-капитана, иногда даже минуя стадию куколки — капитан-лейтенанта. Без сомнения, лейтенантов иногда продвигали по службе; по большей части, естественно, тех, кто располагал друзьями при дворе или в парламенте, или тех, кому повезло привлечь внимание адмирала как раз тогда, когда открылась вакансия. Большинство капитанов в капитанском списке были обязаны своим возвышением тому или иному из этих обстоятельств. Но иногда лейтенанта повышали за боевые заслуги — во всяком случае при удачном стечении благоприятных обстоятельств и боевых заслуг, а это, как известно, дело случая. Если корабль исключительно отличился в некой исторической операции, его первый лейтенант мог продвинуться в звании (как ни странно, это считалось комплиментом его капитану). В случае же гибели капитана заменивший его лейтенант (старший из оставшихся в живых) иногда получал чин даже за небольшой успех. С другой стороны, лихая шлюпочная операция, блестящий успех наземного десанта могли привести к повышению командовавшего ими лейтенанта — старшего, разумеется. Честно говоря, шансы на это были ничтожны, но они все-таки существовали.
Но даже эти малые шансы по большей части относились к первому лейтенанту; для младшего они были и того меньше. Так что лейтенант, мечтающий о капитанском чине с его почетом, неплохим жалованием и призовыми деньгами, вскоре вновь мысленно возвращался к теме своего старшинства. Если «Слава» окажется в таком месте, где адмирал не сможет посылать на нее лейтенантами своих любимчиков, то всего две жизни будут отделять Буша от положения первого лейтенанта с вытекающими отсюда шансами на повышение. Естественно, он думал об этом. Столь же естественно, он не думал о том, что стоящего перед ним человека отделяют от этого положения четыре жизни.
— Впереди Вест-Индия, — философски заметил Хорнблауэр. — Желтая лихорадка. Малярия. Ядовитые змеи. Плохая вода. Тропическая жара. Сыпной тиф. И в десять раз больше шансов на боевые действия, чем в Ла-Маншском флоте.
— Верно, — признательно согласился Буш. Оба молодых человека с их двумя-тремя годами лейтенантского стажа (и свойственной молодости верой в свое бессмертие) могли с удовлетворением обсуждать опасности Вест-Индской службы.
— Капитан приближается, сэр, — торопливо доложил вахтенный мичман.
Хорнблауэр молниеносно поднес к глазам подзорную трубу и устремил ее на движущуюся к ним лодку.
— Совершенно верно, — сказал он. — Бегите на нос и скажите мистеру Бакленду. Боцманматы! Фалрепные! Поживей!
Капитан Сойер поднялся через входной порт, приложил руку к полям треуголки, приветствуя офицеров, и подозрительно огляделся. На корабле царил полный хаос, как всегда перед дальним плаванием, но это едва ли оправдывало косые быстрые взгляды, которые бросал по сторонам Сойер.
У капитана было крупное лицо и длинный крючковатый нос, которым он, стоя на шканцах, поводил из стороны в сторону. Сойер заметил Буша; тот подошел и доложился.
— Вы поднялись на борт в мое отсутствие, так ведь? — спросил Сойер.
— Да, сэр. — Буш несколько удивился.
— Кто сказал вам, что я на берегу?
— Никто, сэр.
— Тогда как вы об этом догадались?
— Я не догадывался об этом, сэр. Я не знал, что вы на берегу, пока мне не сказал мистер Хорнблауэр.
— Мистер Хорнблауэр? Так вы знакомы?
— Нет, сэр. Я доложился ему по прибытии на борт.
— Значит вы втайне от меня успели перекинуться несколькими словами с глазу на глаз?
— Нет, сэр.
Буш собирался было добавить «конечно, нет», но смолчал. Пройдя суровую жизненную школу, Буш научился не произносить лишних слов в разговоре со старшим офицером, склонным к раздражительности, что для старших офицеров вообще характерно. В данном случае раздражительность казалась еще более неоправданной, чем обычно.
— Я хочу, чтоб вы знали: я не позволю никому сговариваться у меня за спиной, мистер… э… Буш, — сказал капитан.
— Есть, сэр.
Буш встретил испытующий взгляд капитана со спокойствием ни в чем неповинного человека, но при этом изо всех сил постарался скрыть свое изумление, а так как актер он был никудышный, борьба эта отразилась на его лице.
— Ваша вина написана у вас на физиономии, мистер Буш, — сказал капитан. — Я это запомню.
С этим он повернулся и пошел вниз, а Буш, стоявший до этого навытяжку, расслабился и обернулся к Хорнблауэру, чтобы выразить свое изумление. Ему очень хотелось порасспросить о необычном поведении капитана, но слова застряли у него в горле при виде деревянного, ничего не выражающего лица молодого офицера. Буш отвернулся, удивленный и немного обиженный. Он уже готов был записать Хорнблауэра в капитанские прихлебатели — или вместе с капитаном в безумцы — когда краем глаза увидел, что голова Сойера вновь появилась над палубой. Видимо, у основания трапа тот решил вернуться, чтобы захватить врасплох обсуждающих его офицеров — и Хорнблауэр знал привычки своего капитана лучше, чем Буш. Последний усилием воли заставил себя выглядеть естественно.
— Можно мне попросить у вас пару матросов, чтобы отнести вниз мой рундук? — спросил он, надеясь, что слова его не покажутся капитану такими вымученными, какими они прозвучали в его собственных ушах.
— Конечно, мистер Буш, — сказал Хорнблауэр совершенно официально. — Позаботьтесь об этом, пожалуйста, мистер Джеймс.
— Ха! — фыркнул капитан, снова сбегая по сходням.
Хорнблауэр, глядя в сторону Буша, слегка приподнял бровь, но это был единственный знак, что поведение капитана несколько необычно. Буш, спускаясь за своим рундуком в каюту, с отчаянием осознал, что на этом корабле никто не решается открыто высказывать свое мнение. Но «Слава» среди свиста и сутолоки готовилась к выходу в море, и Буш был на борту, по закону — один из ее офицеров. Ничего не оставалось, кроме как философски покориться судьбе. Придется пережить это плавание, если одна из тех причин, которые Хорнблауэр перечислил в первом разговоре, не избавит его от дальнейших хлопот.
II
Корабль Его Величества «Слава» лавировал к зюйду под зарифленными марселями. Западный ветер кренил на бок идущее против ветра судно, направляющееся в те широты, где его подхватит северо-восточный пассат и понесет прямо к Вест-Индии. Ветер пел в туго натянутом такелаже, ревел в ушах балансирующего на палубе с правой стороны шканцев Буша. Одна за одной огромные серые волны набегали на судно; сначала волну встречал правый борт, медленно поднимался, устремляя в небо бушприт, но не успевал закончиться килевой крен, как начинался бортовой. Судно наклонялось вбок медленно-медленно, а бушприт вставал все круче и круче. Бортовой крен еще продолжался, а нос уже соскальзывал с дальнего края волны, вспенивая воду; бушприт начинал двигаться по дуге вниз, и корабль тяжеловесно возвращался в горизонтальное положение. Тут ветер наклонял его, и тотчас же волна, уходя, поднимала корму, нос опускался, завершая штопор с тяжелым достоинством, какого и следует ожидать от громадного сооружения, несущего на палубах пятьсот тонн артиллерии. Крен на корму, на борт, подъем, крен на другой борт; это было чудесно, ритмично, это завораживало. Буш балансировал на палубе с легкостью, которую дает десятилетний опыт, и был бы почти счастлив, если бы крепчающий ветер не нес с собой необходимость взять еще один риф. По действующему на корабле постоянному приказу-инструкции это означало, что следует поставить в известность капитана.
Однако впереди оставались несколько благословенных секунд, пока можно было стоять на качающейся палубе, предаваясь вольному полету мыслей. Не то чтобы Буш находил необходимость в размышлениях — он бы только улыбнулся, скажи ему кто-нибудь об этом. Но последние три дня пронеслись в сплошном круговороте, с того момента, как пришел письменный приказ, получив который Буш сразу простился с сестрами и матерью (он провел с ними три недели после того, как «Завоеватель» списал команду на берег) и поспешил в Плимут, подсчитывая по дороге оставшиеся в кармане деньги — точно ли хватит заплатить за почтовую карету. На «Славе», готовящейся к отплытию в Вест-Индию, царила спешка, и в прошедшие до отплытия тридцать часов Буш не успел не то что поспать, а даже присесть. Первый раз ему удалось нормально отдохнуть ночью, когда «Слава» уже лавировала через залив. Но с самого прибытия на судно он был озабочен фантастическими настроениями капитана — то безумно подозрительного, то по-глупому беспечного. Буш никогда не был чувствителен к моральному климату — человек стойкий, он философски относился к необходимости исполнять свой долг в тяжелейших морских условиях — но даже он не мог не чувствовать напряженности и страха, пронизывающих жизнь «Славы». Он испытывал недовольство и беспокойство, не зная, что это — свойственные ему формы напряженности и страха. За три дня в море он почти ничего не узнал о коллегах; он предполагал, что Бакленд — первый лейтенант — знает свое дело и уверен в себе, что второй лейтенант, Робертс, добр и беспечен; Хорнблауэр казался сообразительным и бойким, Смит — немного нерешительным. Но все это были только догадки. Кают-компания — лейтенанты, штурман, врач и баталер — были скрытны и замкнуты. В каком-то смысле это было правильно — Буш и сам не любил лишней болтовни, но в данном случае доходило до того, что разговоры ограничивались несколькими словами, и то строго по делу. Многое о корабле и его команде Буш быстро узнал бы, если бы другие офицеры решили поделиться своими наблюдениями за проведенный на судне год. Однако за исключением Хорнблауэра, подавшего ему один-единственный намек в день прибытия на борт, никто не проронил ни слова. Будь у Буша романтическое настроение, он представил бы себя призраком в обществе других призраков, отрезанных от людей и друг от друга, с неведомой целью бороздящих бескрайние моря. Как он догадывался, скрытность офицеров проистекала от странных настроений капитана. Это вернуло его мысли к тому, что ветер все усиливается и нужен второй риф. Он прислушался к пению такелажа, почувствовал наклон палубы под ногами и грустно тряхнул головой. Ничего не поделаешь.
— Мистер Вэйлард, — сказал он стоявшему рядом волонтеру. — Скажите капитану, я думаю, нужен второй риф.
— Есть, сэр.
Через несколько секунд Вэйлард снова появился на палубе.
— Капитан поднимется сам, сэр.
— Очень хорошо, — сказал Буш.
Произнося эти ничего не значащие слова, он не смотрел Вэйларду в глаза; он не хотел, чтобы Вэйлард видел, как он воспринял эту новость, и не хотел видеть, что выражает лицо Вэйларда. Вот появился капитан. Его спутанные длинные волосы развевались по ветру, крючковатый нос по обыкновению двигался из стороны в сторону.
— Вы хотите взять еще риф, мистер Буш?
— Да, сэр, — сказал Буш, ожидая язвительного замечания. К его приятному удивлению, замечания не последовало. Капитан казался почти добродушным.
— Очень хорошо, мистер Буш. Свистать всех наверх. По всей палубе засвистели дудки.
— Все наверх! Все наверх! Всей команде брать рифы на марселях! Все наверх!
Матросы, выбегали на палубу; команда «Все наверх!» заставила офицеров покинуть кают-компанию, каюты, мичманскую каюту. С расписанием постов в карманах они спешили убедиться, что недавно реорганизованная команда заняла свои места. В шуме ветра слышались приказы капитана. Матросы встали к фалам и риф-талям. Корабль качался в сером море под серым небом, и неморяк удивился бы, как в такую погоду вообще можно устоять на палубе, не то что карабкаться по вантам. В самый разгар маневра капитанский приказ прервал юный, срывающийся от возбуждения голос:
— Стой! Стой выбирать!
В голосе звучала такая убежденность, что матросы послушно остановились. Капитан закричал с полуюта:
— Кто отменяет мой приказ?
— Это я, Вэйлард, сэр.
Молодой волонтер повернулся к корме и громко кричал, чтоб его было слышно против ветра. Со своего места Буш видел, как капитан подошел к леерному ограждению полуюта; он видел, что тот трясется от гнева, а его нос указывает вперед, словно ища жертву.
— Вы об этом пожалеете, мистер Вэйлард. О да, вы пожалеете.
Рядом с Вэйлардом появился Хорнблауэр. С самого отплытия из Плимутской бухты он был зелен от морской болезни.
— Риф-сезень зацепился за блок риф-талей, сэр, с наветренной стороны, — крикнул он. Буш, отойдя немного, увидел, что так оно и есть. Если бы матросы продолжали тянуть за трос, повредился бы парус.
— Как вы смеете вставать между мной и ослушником! — закричал капитан. — Бессмысленно его выгораживать!
— Здесь мой пост, сэр, — отвечал Хорнблауэр. — Мистер Вэйлард исполнял свой долг.
— Заговор! — произнес капитан. — Вы с ним сговорились!
В ответ на это невероятное обвинение Хорнблауэр только застыл навытяжку, обратив к капитану бледное лицо.
— Отправляйтесь вниз, мистер Вэйлард, — заревел капитан, поняв, что ответа не последует. — И вы тоже, мистер Хорнблауэр. Я разберусь с вами через несколько минут. Слышите меня? Вниз! Я вас научу, как строить козни!
Это был приказ, и надо было подчиняться. Хорнблауэр и Вэйлард медленно двинулись к корме. Было заметно, что Хорнблауэр не смотрит в сторону мичмана, чтоб нечаянно не обменяться с ним взглядом и не навлечь на себя новое обвинение в сговоре. Под пристальным наблюдением капитана оба спустились вниз. Когда они сошли по трапу, капитан снова поднял свой большой нос.
— Пошлите матроса освободить риф-таль, — спокойно приказал он.
— Выбирай!
Второй риф на марселях был взят, и матросы начали слезать с реев. Капитан совершенно спокойно стоял у ограждения полуюта.
— Ветер отходит, — сказал он Бакленду. — Эй, наверху, пошлите матроса прижать стень-фордуны к обечайке. Команду к брасам с наветренной стороны! Кормовые матросы! Нажать на грота-брас с наветренной стороны! Дружней нажимай, ребята! Хорошо, фока-рей! Хорошо, грота-рей! Ни дюйма больше!
Приказы отдавались разумно и здраво. Вскоре матросы уже стояли в ожидании, когда отпустят подвахтенных.
— Боцманмат! Передайте мои приветствия мистеру Ломаксу и скажите, что я желал бы видеть его на палубе.
Мистер Ломакс был баталером. Офицеры на шканцах не могли не обменяться взглядами: невозможно вообразить, зачем он мог понадобиться сейчас на палубе.
— Вы посылали за мной, сэр? — спросил запыхавшийся Ломакс, поднимаясь на шканцы.
— Да, мистер Ломакс. Матросы выбирали грота-брас с наветренной стороны.
— Да, сэр.
— Теперь мы хотим это дело спрыснуть.
— Что, сэр?
— Что слышали. Мы собираемся это дело спрыснуть. Каждому матросу по глоточку рома. Да, и каждому юнге.
— Что, сэр?
— Что слышали. Я сказал, по глоточку рома. Я что, должен повторять свои приказы дважды? Каждому матросу по глоточку рома. Даю вам на это пять минут, мистер Ломакс, и ни секундой больше.
Капитан вынул часы и выразительно посмотрел на них.
— Есть, сэр, — сказал Ломакс. Ничего другого он сказать не мог. Однако секунду или две он стоял, глядя то на капитана, то на часы, пока длинный нос не поднялся в его сторону, а кустистые брови не начали сходиться. Тогда он повернулся и бежал: пяти минут, отведенных на исполнение этого невероятного приказа, ему едва хватало на то, чтоб собрать свою команду, отпереть кладовую, где хранилось спиртное, и вынести ром. Разговор между капитаном и баталером вряд ли могли слышать больше пяти-шести матросов, но наблюдали его все, и теперь переглядывались, не веря своему счастью. На некоторых лицах появились ухмылки, которые Бушу страстно хотелось стереть.
— Боцманмат! Бегите и скажите мистеру Ломаксу, что две минуты прошли. Мистер Бакленд! Попрошу вас собрать матросов!
Матросы столпились на шкафуте. Быть может, у Буша разыгралось воображение, но ему показалось, что они ведут себя расхлябанно. Капитан подошел к ограждению шканцев. Его лицо лучилось улыбкой, так не похожей на прежний оскал.
— Я знаю, где искать верность, ребята, — крикнул он. — Я видел ее. Я вижу ее сейчас. Я вижу ваши верные сердца. Я вижу ваш неустанный труд. Я вижу его, как вижу все, что творится на корабле. Все, я сказал. Предатели понесут наказание, а верность будет вознаграждена. Ура, ребята!
Матросы крикнули «Ура!», кто неохотно, кто с излишним воодушевлением. Из грота-люка появился Ломакс, за ним — четверо матросов, каждый с двухгаллонным бочонком в руках.
— Еле-еле успели, мистер Ломакс. Если бы вы опоздали, вам бы несдобровать. Смотрите, чтоб при раздаче не случалось несправедливости, как на других судах. Мистер Бут! Идите сюда.
Толстый коротконогий боцман засеменил к нему.
— Надеюсь, ваша трость при вас?
— Да, сэр.
Бут продемонстрировал длинную, оправленную серебром трость из ротанговой пальмы. Через каждые два дюйма на дереве шли толстые узловатые сочленения. Все лентяи в команде знали эту трость, да и не только лентяи — в момент возбуждения Бут имел обыкновение лупить ей направо и налево без разбору.
— Выберите двух самых крепких ваших помощников. Правосудие должно свершиться.
Теперь капитан не лучился и не скалился. На его крупных губах играла усмешка, но она ничего не означала и не отражалась в его глазах.
— За мной, — сказал капитану Буту и его помощникам. С этим он покинул палубу, оставив Буша уныло созерцать нарушение привычного корабельного распорядка и дисциплины, вызванное странным капризом капитана.
После того, как ром был роздан и выпит, Буш смог отпустить подвахтенных и занялся тем, чтобы вновь заставить вахтенных работать, горькими словами ругая их за леность и безразличие. Он не испытывал никакого удовольствия, стоя на качающейся палубе, наблюдая движение корабля и бегущие атлантические волны, следя за поворотом парусов и рулевым у штурвала. Буш так и не осознал, что в этих повседневных делах можно находить удовольствие, но он чувствовал: что-то ушло из его жизни.
Бут и его помощники вернулись на бак, вот на шканцах появился Вэйлард.
— Явился в наряд, сэр, — сказал он.
Лицо мальчика было белым и напряженным. Буш, пристально разглядывая, заметил, что глаза его чуть влажноваты. Шел Вэйлард прямо и не сгибался, возможно, гордость заставила его расправить плечи и поднять подбородок, но была и другая причина, по которой он не сгибал ноги в бедре.
— Очень хорошо, мистер Вэйлард, — сказал Буш. Он вспомнил узлы на трости Бута. Он часто видел несправедливость. Не только мальчиков, но и взрослых мужчин иногда били незаслуженно. Когда это случалось, Буш мудро кивал: он считал, что встреча с несправедливостью этого жестокого мира необходимо входит в воспитание каждого человека. Взрослые мужчины улыбались друг другу, когда мальчики подвергались побоям, они соглашались, что это пойдет на пользу обеим сторонам; мальчиков били с начала истории и, если когда-нибудь, невероятным образом, случится, что мальчиков перестанут бить, это будет черный день для всего мира. Все так, но тем не менее Буш жалел Вэйларда. К счастью, надо было сделать одно дело, подходящее для настроения и состояния юного волонтера.
— Эти песочные часы надо сверить между собой, мистер Вэйлард, — сказал Буш, кивая в сторону нактоуза. — Как только в семь склянок перевернут получасовые часы, проверьте их минутными.
— Есть, сэр.
— Отмечайте каждую минуту на доске, если не хотите сбиться со счета, — добавил Буш.
— Есть, сэр.
Смотреть, как бежит песок в минутных склянках, быстро их переворачивать, отмечать на доске и снова смотреть — все это поможет Вэйларду отвлечься от своих неприятностей, не требуя в то же время физических усилий. Буш сомневался в получасовых склянках, и проверить их будет невредно. Вэйлард, не сгибая ног, подошел к нактоузу и начал готовиться к наблюдениям.
Поводя носом из стороны в сторону, на палубе появился капитан. Настроение его снова изменилось: беспокойная суетливость улетучилась, он выглядел как человек, который хорошо пообедал. В соответствии с требованиями этикета, Буш при его появлении отошел на подветренную сторону шканцев, и капитан начал медленно прохаживаться с наветренной стороны, по многолетней привычке приспосабливая шаг к бортовой и килевой качке. Вэйлард взглянул на него и всецело погрузился в работу: только что пробили семь склянок и перевернули получасовые часы. Некоторое время капитан прохаживался взад и вперед. Остановившись, он изучил состояние атмосферы с наветренной стороны, почувствовал щекой ветер, внимательно посмотрел на колдунчик и вверх на марсели, убедился, что реи обрасоплены правильно, подошел к нактоузу, проверил, как рулевой держит курс. Все это было совершенно нормально; любой капитан любого корабля вел бы себя на палубе точно так же. Вэйлард знал, что капитан близко, и старался не выдавать беспокойства; он перевернул минутные склянки и сделал на доске пометку.
— Мистер Вэйлард работает? — спросил капитан. Говорил он сбивчиво и невразумительно, совсем не тем озабоченным тоном, что за несколько минут до этого.
Вэйлард, смотревший на склянки, ответил не сразу. Буш мог догадаться, что он придумывает самый безопасный, и в то же время точный ответ.
— Так точно, сэр.
Во флоте никогда сильно не ошибешься, отвечая так старшему.
— Так точно, сэр, — передразнил капитан. — Мистер Вэйлард понял, что значит интриговать против капитана, против своего законного начальника, поставленного над ним Его Всемилостивейшим Величеством, королем Георгом II?
На это было не так-то просто ответить. В склянках бежали последние песчинки, и Вэйлард ждал, пока они пересыплются; «да» и «нет» могли оказаться равно роковыми.
— Мистер Вэйлард невесел, — говорил капитан. — Быть может, мистер Вэйлард размышляет о том, что ждет его впереди. «На реках Вавилонских мы сидели и плакали». Но мистер Вэйлард горд и не плачет. И сидеть он тоже не будет. Нет, он постарается не садиться. Постыдная часть его тела расплатилась за его постыдное поведение. Взрослых мужчин за их вину бьют кошками по спине, но мальчишек, гадких испорченных мальчишек, наказывают иначе. Так ведь, мистер Вэйлард?
— Да, сэр, — пробормотал несчастный. Ничего другого он сказать не мог, а отвечать было надо.
— Для такого случая как раз годится трость мистера Бута. Она знает свое дело. Согнутый над пушкой злоумышленник может поразмыслить о своих деяниях.
Вэйлард перевернул склянки, а капитан, видимо удовлетворившись, к огромному облегчению Буша пару раз прошелся по палубе. Однако, проходя мимо Вэйларда, капитан остановился на полушаге и снова заговорил; теперь голос его стал пронзительным.
— Так вы вступили в сговор против меня? — спросил он. — Вы хотели выставить меня на посмешище перед матросами?
— Нет, сэр. — Вэйлард встревожился. — Нет, сэр, конечно, нет, сэр.
— Вы и этот щенок Хорнблауэр. Мистер Хорнблауэр. Вы замышляли принизить мою законную власть.
— Нет, сэр!
— Только матросы верны мне на этом судне, где все остальные сговорились против меня. И вы коварно искали способ уменьшить мое влияние на них. Выставить меня смешным в их глазах. Сознайтесь!
— Нет, сэр. Я этого не делал, сэр.
— Зачем отрицать? Это ясно, это логично. Кто придумал зацепить риф-сезень за блок риф-талей?
— Никто, сэр. Он…
— Кто отменил мой приказ? Кто опозорил меня перед обеими вахтами, когда все матросы были на палубе? По всем признакам это детально продуманный план.
Капитан стоял, сцепив за спиной руки и легко балансируя на палубе. Ветер хлопал полами его сюртука и отдувал волосы на щеки, но Буш видел, что капитан трясется от гнева — если не от страха. Вэйлард снова перевернул минутные склянки и сделал пометку на доске.
— Так вы потому прячете лицо, что на нем написана ваша вина, — неожиданно заорал капитан. — Вы делаете вид, что заняты, думаете меня обмануть! Лицемер!
— Я приказал мистеру Вэйларду сверить часы, сэр, — сказал Буш.
Ему не хотелось вмешиваться, но вмешаться было все-таки легче, чем просто стоять и слушать. Капитан посмотрел на него так, словно впервые увидел.
— Вы, мистер Буш? Вы прискорбно заблуждаетесь, если полагаете, что в этом молодом человеке есть хоть капля хорошего. Разве что… — лицо капитана на мгновение исказил страх, — разве что вы сами замешаны в этом позорном деле. Но ведь это не так, мистер Буш? Я всегда был о вас лучшего мнения, мистер Буш.
Испуганное выражение сменилось чарующим благодушием.
— Да, сэр, — ответил Буш.
— Весь мир ополчился против меня, но я всегда полагался на вас, мистер Буш, — сказал капитан, бросая беспокойные взгляды из-под бровей. — Так что вы должны радоваться, когда это дьявольское отродье получает по заслугам. Мы добьемся от него правды.
Буш чувствовал: быстрый на язык и сообразительный человек мог бы использовать новое настроение капитана, чтобы вызволить Вэйларда из беды — разыграв верного друга, высмеять в тоже время мысль о заговоре, успокоить страхи капитана. Так он чувствовал, но не полагался на себя.
— Он ничего не знал, сэр, — сказал Буш, выдавив ухмылку. — Он не отличит гик от ватерштага.
— Вы так думаете? — с сомнением произнес капитан, качаясь на каблуках вместе с кренящимся судном. Казалось, он поверил, но тут ему в голову пришли новые соображения.
— Нет, мистер Буш. Вы слишком честны. Я это понял, как только вас увидел. Вы не знаете, в какую пучину зла может погрузиться человек. Этот негодяй вас обманул. Обманул вас!
Голос капитана перешел в хриплый визг. Вэйлард повернул к Бушу побелевшее, искаженное от страха лицо.
— Право, сэр… — начал Буш, снова выдавливая ухмылку, похожую на оскал черепа.
— Нет, нет, нет, — орал капитан. — Правосудие должно совершиться! Правда должна выйти на свет! Я ее от него добьюсь! Старшина-рулевой! Бегите на нос и скажите мистеру Буту идти сюда. И его помощникам.
Капитан заходил по палубе, как если бы открыл выпускной клапан, сбрасывая лишнее давление. Неожиданно он обернулся:
— Я от него добьюсь! Или он за борт выпрыгнет! Вы меня слышите? Где боцман?
— Мистер Вэйлард не закончил проверять часы, сэр. — Буш предпринял последнюю слабую попытку оттянуть дело.
— И не закончит, — сказал капитан.
Вот и боцман, семенит короткими ногами, за ним два помощника.
— Мистер Бут! — сказал капитан. Его настроение снова изменилось, на губах играла невеселая улыбка. — Возьмите этого негодяя. Справедливость требует, чтобы вы снова занялись им. Еще дюжина ударов тростью, да как следует. Еще дюжина, и он запоет, как миленький.
— Есть, сэр, — сказал боцман, но он колебался. Это была моментальная картинка: капитан в хлопающем сюртуке, боцман просительно глядит на Буша, дородные боцманматы стоят за ним, словно истуканы; рулевой, внешне безразличный ко всему, держит штурвал, глядя на марсели; несчастный мальчик сжался возле нактоуза — все это под серым небом, а кругом колышется серое море, раскинувшееся до безжалостного горизонта.
— Отведите его на главную палубу, мистер Бут, — сказал капитан.
Это было неизбежно; за словами капитана стояла власть парламента и освященная веками традиция. Поделать ничего было нельзя.
Вэйлард положил руки на нактоуз, словно собирался вцепиться в него и держать, пока его не утащат силой. Однако он опустил руки по швам и последовал за боцманом. Капитан, улыбаясь, проводил его взглядом.
Буш был рад, когда его отвлек старшина-рулевой, доложивший:
— Десять минут до восьми склянок, сэр.
— Очень хорошо. Будите подвахтенных.
Хорнблауэр появился на шканцах и подошел к Бушу.
— Не вы должны меня сменять, — сказал Буш.
— Нет, я. Приказ капитана.
Хорнблауэр говорил без всякого выражения. Буш уже привык, что офицеры на корабле держатся скрытно, и знал, по какой причине. Однако любопытство заставило еще спросить:
— Почему?
— Мне назначено двухвахтное дежурство, — бесстрастно сказал Хорнблауэр. — До дальнейших распоряжений.
Говоря это, он смотрел на горизонт; лицо его не выражало никаких чувств.
— Плохо дело, — сказал Буш и тут же засомневался: не слишком ли он далеко зашел, выразив таким образом сочувствие. Но поблизости никого не было.
— В кают-компании не давать мне спиртного, — продолжал Хорнблауэр, — до дальнейших распоряжений. Ни моего, ни чьего-либо еще.
Для некоторых офицеров это было наказание похлеще, чем двухвахтное дежурство — четыре часа на посту и четыре часа отдыха — но Буш слишком мало знал о привычках Хорнблауэра чтобы судить, так ли это в его случае. Он собирался снова сказать «плохо дело», когда дикий вопль, прорезавший шум ветра, достиг их ушей. Через мгновение он повторился еще громче. Хорнблауэр, не меняясь в лице, смотрел на горизонт. Буш, глядя на него, решил не обращать внимания на крики.
— Плохо дело, — сказал он.
— Могло быть хуже, — ответил Хорнблауэр.
III
Было воскресное утро. «Слава», подхватив северо-восточный пассат, стремительно неслась через Атлантику. С обеих сторон были поставлены лиселя. Ревущий ветер ритмично кренил судно, и под высоко поднятым носом корабля то и дело взвивался фонтан брызг, в нем на мгновение возникала радуга. Громко и чисто пели натянутые тросы, сплетая свои дискант и тенор с баритоном и басом скрипящей древесины — симфония морей. Несколько ослепительно белых облаков плыли по небу, меж ними светило животворное солнце, отражаясь в бесчисленных гранях лазурного моря.
В этом изысканном обрамлении корабль был изысканно красив, его высоко поднятый нос и ряды пушек дополняли картину. То был великолепный боевой механизм, повелитель волн, по которым он сейчас летел в гордом одиночестве. Само это одиночество говорило о многом; военно-морские силы противников закупорены в портах, заблокированы стоящими на страже эскадрами, и «Слава» может держать свой курс, никого не страшась. Ни одно тайком прорвавшее блокаду судно не сравнится с ней силой; в море нет ни одной вражеской эскадры, способной атаковать ее. «Слава» может насмехаться над неприятельскими берегами; все враги заперты и бессильны, значит она может нанести свой могучий удар там, где сочтет нужным. Быть может, и в этот момент корабль стремился нанести такой удар по слову Лордов Адмиралтейства.
На главной палубе выстроилась вся корабельная команда, люди, занятые бесконечным трудом по поддержанию этого механизма в рабочем состоянии, устранением постоянных неполадок, причиняемых морем, погодой и даже просто течением времени. Снежно-белые палубы, яркая краска, точное и правильное расположение рангоута и такелажа — все свидетельствовало о прилежности их работы. А когда «Славе» придет время высказать последний аргумент в споре о морском владычестве, именно они встанут к пушкам — какой бы великолепной боевой машиной ни было судно, оно было обязано этим усилиям слабых человеческих созданий. Они, как и сама «Слава», служили лишь крошечными винтиками большой машины — Королевского флота. В большинстве своем привыкшие к освященным временем флотским традициям и дисциплине, они вполне удовлетворялись ролью винтиков, необходимостью мыть палубу и ставить паруса, направлять пушки или обрушиваться с абордажными саблями на вражеский фальшборт. Они не задумывались, указывает ли нос судна на север или на юг, француз ли, испанец ли, немец рухнет под их ударом. На сегодня только капитан знал, с какой целью и куда Лорды Адмиралтейства (очевидно, после обсуждения с Кабинетом) направляют «Славу». Известно было только, что она держит курс в Вест-Индию, но куда именно и зачем — знал лишь один человек из семисот сорока, находившихся на палубах «Славы».
В то воскресное утро на палубу выгнали всех, кого можно: не только обе вахты, но и «бездельников», не несших вахт — трюмных, работавших так глубоко внизу, что многие из них неделями в буквальном смысле слова не видели белого света, купора и его помощников, парусного мастера, кока и вестовых. Все были в лучшей своей одежде. Офицеры в треуголках и при шпагах стояли рядом со своими отделениями. Лишь вахтенный офицер с помогавшим ему мичманом, старшина-рулевой у штурвала, впередсмотрящие да еще с десяток матросов, необходимых для управления судном в случае совершенно непредвиденных обстоятельств, не стояли на шкафуте по стойке «смирно» в покачивающихся вместе с судном рядах.
Это было воскресное утро, и вся команда стояла с непокрытыми головами, слушая слова капитана. Но то была не церковная служба. Эти люди обнажили головы не для того, чтоб поклониться своему Творцу. Богослужению отводились три воскресенья в месяц, но тогда корабль не обыскивали так тщательно, добиваясь присутствия всех членов команды. Веротерпимое Адмиралтейство недавно освободило католиков, иудеев и даже сектантов от обязанности присутствовать на корабельных службах. Сегодня было четвертое воскресенье, когда поклонение Богу отменялось ради более строгой, более торжественной церемонии, требовавшей тех же чистых рубашек и обнаженных голов, но не опущенных глаз. Напротив, каждый прямо смотрел вперед. Шляпы все держали перед собой, и ветер трепал им волосы: они слушали закон, столь же всеохватывающий, как Десять Заповедей, кодекс, столь же строгий, как Книга Левит — каждое четвертое воскресенье месяца капитан должен был вслух читать команде Свод Законов Военного Времени, чтобы даже неграмотные не смогли потом оправдаться своим незнанием. Религиозный капитан мог втиснуть перед этим небольшое богослужение, но чтение Свода Законов было обязательно.
Капитан перевернул страницу.
— Статья девятая, — читал он. — «Если кто-либо на флоте созовет или попытается созвать мятежную сходку с любой противоправной целью, лица, повинные в этом правонарушении и признанные таковыми трибуналом, подлежат смерти».
Буш, стоявший рядом со своим отделением, слушал эти слова, как слушал их десятки раз до того. Он слышал их так часто, что обычно оставлял без внимания; вот и слова предыдущих восьми статей он пропустил мимо ушей. Но девятую статью он услышал отчетливо. Возможно, капитан читал ее с особым ударением; кроме того, Буш, поднявший в ярком солнечном свете глаза, увидел Хорнблауэра, несшего вахту. Тот тоже слушал, стоя у ограждения шканцев. И это слово «смерть». Оно прозвучало как последний всплеск упавшего в колодец камня, и это было странно, потому что и в первых статьях, которые читал капитан, это слово повторялось часто — смерть уклонившемуся от опасности, смерть заснувшему при несении вахты.
Капитан продолжал читать.
— «Всякий, подстрекающий к мятежу, повинен смерти…». «Если офицер, морской пехотинец или нижний чин будет вести себя непочтительно по отношению к старшему по званию офицеру…»
Сейчас, когда Хорнблауэр глядел на Буша, эти слова значили гораздо больше; он почувствовал какое-то беспокойство. Буш глянул на капитана, нечесанного, неряшливо одетого, и вспомнил события нескольких прошедших дней. Если был в мире человек, абсолютно неспособный к исполнению своих обязанностей, то это был капитан, однако его неограниченную власть утверждал тот самый Свод Законов, который он сейчас читал. Буш снова поглядел на Хорнблауэра; он чувствовал, что знает наверняка, о чем тот думает, стоя у ограждения шканцев. Странно было жалеть этого неуклюжего, угловатого молодого лейтенанта, с которым он так мало знаком.
— «Если офицер, морской пехотинец, нижний чин или другое лицо на флоте» — капитан дошел до XXII статьи, — «осмелится вступить в ссору с кем-нибудь из старших по званию офицеров, либо не подчинится законному приказанию, таковое лицо подлежит смерти».
Буш до сих пор не обращал внимания, как настойчиво Свод Законов возвращается к этой теме. Буш всегда спокойно подчинялся дисциплине, философски убеждая себя, что несправедливость и некомпетентность начальства можно стерпеть. Теперь он четко видел, почему их надо терпеть. И как бы для того, чтоб забить последний гвоздь, капитан читал последнюю статью, восполняющую последние пробелы.
— «Все другие преступления, совершенные лицом или лицами на флоте, не упомянутые в этом документе…»
Буш вспомнил эту статью. С ее помощью офицер может добить подчиненного, у которого хватило ума не подпасть под действие предыдущих статей.
Капитан прочел последние мрачные слова и оторвал взгляд от страницы. Словно наводимая пушка, двинулся из стороны в сторону длинный нос, указывая на каждого офицера по очереди; небритое лицо выражало злобное торжество. Было похоже, что, читая эти статьи, капитан на время победил свой страх. Он расправил грудь и даже встал на цыпочки, готовясь произнести заключительные слова.
— Вы должны знать, что все эти статьи относятся к моим офицерам точно так же, как и ко всем остальным.
Буш не поверил своим ушам. Невероятно, чтоб капитан говорил команде такие слова. Невозможно представить более губительную для дисциплины речь. Дальше капитан продолжал, как обычно:
— Приступайте, мистер Бакленд.
— Есть, сэр. — Бакленд выступил вперед, цепляясь за привычный ход дела. — Шляпы надеть!
Церемониал закончен; офицеры и матросы покрыли головы.
— Дивизионные офицеры, прикажите дивизионам разойтись!
Оркестр морской пехоты ждал этого момента. Тамбур-сержант взмахнул палочкой, и барабаны гулко зарокотали. Пронзительно и мелодично засвистели дудки. «Ирландская прачка» — отрывистая и бодрая. Щелк-щелк — морские пехотинцы взяли ружья на плечо. По приказу своего командира, Уайтинга, красные ряды пехотинцев двинулись в обе стороны по шканцам. Капитан Сойер смотрел, как течет нормальная корабельная жизнь. Теперь он заговорил громче.
— Мистер Бакленд!
— Сэр!
Капитан поднялся на две ступеньки по шканцевому трапу, так что всем его было видно, и заговорил нарочито громко, чтобы его слышало как можно больше народу.
— Сегодня каболкино воскресенье.
— Есть, сэр.
— И двойная порция рома моим славным ребятам.
— Есть, сэр.
Бакленд изо всех сил пытался скрыть недовольство. Вместе с предыдущими словами капитана это было уже слишком. Каболкино воскресенье означает, что матросы проведут остаток дня в праздности. Двойной ром в этом случае почти наверняка вызовет ссоры и драки между матросами.
Буш, идущий по главной палубе в сторону кормы, отчетливо видел, как в команде, избалованной капитаном, нарастает беспорядок. Невозможно поддерживать дисциплину, когда капитан игнорирует любой неблагоприятный рапорт со стороны офицеров. Задиры и скандалисты оставались безнаказанными; хорошие матросы начали отлынивать от работы, а плохие стали и вовсе неуправляемы. «Славные ребята» — сказал капитан. Матросы прекрасно знают, как вели себя последнюю неделю. Раз капитан после этого назвал их «славными ребятами», в следующую неделю они будут вести себя еще хуже. Кроме того, все матросы прекрасно видели, как капитан обращается со своими лейтенантами, как грубо им выговаривает, как жестоко их наказывает. Пословица гласит: «что сегодня в кают-компании на жаркое, завтра будет нижней палубе на похлебку», имея в виду, что все, происходящее на шканцах, в искаженном виде обсуждается на баке. Трудно ожидать, что матросы будут подчиняться офицерам, которых откровенно презирает капитан. Буш, поднимавшийся на шканцы, был обеспокоен.
Капитан ушел в свою каюту. Бакленд и Робертс стояли возле коечных сеток. Они были погружены в разговор, и Буш присоединился к ним.
— Эти статьи относятся к моим офицерам, — сказал Бакленд, когда он подошел.
— Каболкино воскресенье и двойной ром, — добавил Робертс. — Все для этих славных ребят.
Прежде чем продолжить, Бакленд украдкой огляделся по сторонам. Жалко было видеть, как первый лейтенант линейного корабля озирается, боясь, что его подслушают. Но Хорнблауэр и Вэйлард стояли по другую сторону штурвала. На полуюте шкипер вел занятия по навигации: мичманы с секстанами проводили полуденные наблюдения.
— Он сумасшедший, — сказал Бакленд так тихо, как позволял северо-восточный ветер.
— Мы все это знаем, — ответил Робертс.
Буш ничего не сказал. Он не хотел себя компрометировать.
— Клайв пальцем не шевельнет, — сказал Бакленд. — Дурак набитый.
Клайв был судовым врачом.
— Вы его спрашивали? — поинтересовался Робертс.
— Пытался. Но он не скажет ни слова. Он боится.
— Ни с места, джентльмены, — вмешался резкий громкий голос — хорошо знакомый голос капитана. Он раздавался на уровне палубы у самых их ног. Все три офицера вздрогнули от изумления.
— Налицо все признаки вины, — гремел голос. — Вы свидетель, мистер Хоббс.
Офицеры оглянулись. Световой люк капитанской каюты был приоткрыт, и капитан глядел на них в щелку; видны были только его нос и глаза. Росту он был высокого и, став на что-нибудь, на книги или на скамеечку, сумел заглянуть за комингс светового люка. Замерев, офицеры ждали. Еще одна пара глаз выглянула из светового люка. Они принадлежали Хоббсу, исполняющему обязанности артиллериста.
— Ждите, пока я подойду к вам, джентльмены. — После слова «джентльмены» капитан фыркнул. — Очень хорошо, мистер Хоббс.
Оба лица исчезли из светового люка. Офицеры едва успели обменяться отчаянными взглядами, как капитан уже поднялся по трапу.
— Я полагаю, это мятежная сходка, — сказал капитан.
— Нет, сэр, — отвечал Бакленд. Все, кроме категорического отрицания, было бы признанием вины — вины, способной затянуть веревки на их шеях.
— Вы что, лжете мне на моих же шканцах! — заорал капитан. — Я был прав, когда подозревал своих офицеров. Они интригуют. Шепчутся. Сговариваются. Замышляют мятеж. А теперь проявляют ко мне величайшее неуважение. Я сделаю все, чтобы вы об этом пожалели, мистер Бакленд.
— Я не хотел вас обидеть, сэр, — запротестовал Бакленд.
— Вы лжете мне прямо в лицо! А вы двое подстрекали его! Вы ему поддакивали! До сих пор я был о вас лучшего мнения, мистер Буш.
Буш решил, что разумнее не отвечать.
— Молчаливая наглость, да? — сказал капитан. — Тем не менее вы не прочь посудачить, когда думаете, что я вас не вижу.
Капитан пристальным взглядом обвел шканцы.
— А вы, мистер Хорнблауэр, — произнес он, — не сочли нужным доложить мне об этой сходке. Тоже мне вахтенный офицер! Конечно, и мистер Вэйлард здесь. Этого следовало ожидать. Боюсь, мистер Вэйлард, у вас будут неприятности из-за этих джентльменов. Плоховато вы следили, чтоб их никто не заметил. Вы в очень неприятном положении, мистер Вэйлард. У вас нет на этом корабле ни единого друга, кроме дочки артиллериста, которую вам вскоре предстоит целовать.
Капитан высился над шканцами, взгляд его был устремлен на несчастного Вэйларда, который заметно съежился под этим взглядом. Целовать дочку артиллериста означало быть битым на пушке.
— Но у меня будет вдоволь времени разобраться с вами мистер Вэйлард. Сперва лейтенанты, как требует их высокий чин.
Капитан оглядел лейтенантов. Страх и торжество поочередно сменялись на его лице.
— Мистер Хорнблауэр уже несет двухвахтное дежурство, — сказал он. — Вследствие этого вы наслаждались бездельем, а леность, как известно, мать всех пороков. Мистер Бакленд не стоит на вахте. Могущественный и честолюбивый первый лейтенант…
— Сэр… — начал Бакленд и тут же прикусил язык. Слово «честолюбивый» без сомнения означало, что он помышлял захватить власть на судне, но трибунал не усмотрит этого смысла. Само собой, каждый офицер честолюбив, и сказать ему это — не оскорбление.
— Сэр! — передразнил капитан. — Сэр! Так у вас хватает ума — или хитрости — придерживать язык. Но вы не уйдете от расплаты за ваши дела. Мистер Хорнблауэр может оставаться на двухвахтном дежурстве. Но эти два джентльмена будут докладываться вам при каждой смене вахт, а также в две, в четыре и в шесть склянок каждой вахты. Докладывая, они должны быть одеты по форме, а вы должны выслушивать их полностью проснувшимся. Ясно?
Все трое от изумления лишились дара речи.
— Отвечайте!
— Есть, сэр, — вымолвил Бакленд.
— Есть, сэр, — сказали Робертс и Буш, когда капитан посмотрел на них.
— Попробуйте только позволить себе поблажки в исполнении моего приказа, — произнес капитан. — У меня есть способы проверить, слушаются меня, или нет.
— Есть, сэр, — сказал Бакленд. Приговор капитана обрекал его, Робертса и Буша просыпаться и вставать через каждый час, днем и ночью.
IV
В трюме стояла абсолютная, беспросветная тьма. Ночь над морем была безлунная, под тремя палубами, ниже уровня моря, сквозь дубовую обшивку судна слышался плеск воды, удары разрезаемых волн, ворчание и жалобы сжимаемой то бортовым, то килевым креном древесины. Буш спускался в темноте с крутого трапа, шаря ногой в поисках опоры. Нащупав ее, он шагнул вниз и оказался меж бочонков с водой. Пискнула и юркнула крыса, но здесь, в трюме, крыс следовало ожидать, и Буш без колебаний двинулся на ощупь к корме. Из темноты перед ним в многоголосом корабельном шуме послышался тихий свист. Буш остановился и зашипел в ответ. Его не смущала вся эта конспирация. Любые предосторожности были нелишни, ибо дело было и впрямь очень опасное.
— Буш, — послышался шепот Бакленда.
— Да.
— Остальные здесь.
За десять секунд до этого, в две склянки ночной вахты Буш и Робертс в соответствии с приказом капитана докладывались Бакленду в его каюте. Перемигнуться, сделать знак рукой, пошептаться было делом нескольких секунд — и вот они уже договорились встретиться. Абсолютно невероятно, чтоб лейтенантам королевского судна приходилось вести себя подобным образом из страха перед шпионами и соглядатаями, но это было необходимо. Они двинулись окольными путями и через разные люки. Хорнблауэр, которого Смит сменил на вахте, был уже здесь.
— Мы не должны тут надолго задерживаться, — прошептал Робертс.
Даже по шепоту, даже в темноте, чувствовалось, как он волнуется. Уж это без сомнения мятежная сходка, за которую всех их можно повесить.
— Что если мы объявим его непригодным к командованию? — прошептал Бакленд. — Наденем на него наручники?
— Тогда нам придется действовать быстро и решительно, — сказал Хорнблауэр. — Иначе он позовет матросов, они могут его поддержать. И тогда…
Хорнблауэр мог не продолжать. Все присутствующие мысленно представили себя раскачивающимися на реях.
— Положим, мы будем действовать быстро и решительно, — согласился Бакленд. — Положим, мы наденем на него наручники?
— Тогда мы должны будем идти на Антигуа, — сказал Робертс.
— А там под трибунал, — произнес Буш, впервые заглядывая так далеко вперед.
— Да, — прошептал Бакленд.
В одном этом слоге слились волнение и отчаяние, безысходность и неверие.
— В том-то и дело, — прошептал Хорнблауэр. — Он даст показания. В суде все будет звучать иначе. Мы были наказаны, двухвахтное дежурство, не получали спиртного. Это может случиться с каждым. Это не повод для мятежа.
— Но он портит матросов.
— Двойная порция рома. Время поштопать одежду, в суде это будет звучать совершенно нормально. Не наше дело обсуждать методы капитана — так подумает суд.
— Но они его увидят.
— Он хитер. И он не буйнопомешанный. Он может говорить, он на все найдет объяснения. Вы его слышали. Он будет красноречив.
— Но он унижал нас перед матросами. Он поручил Хоббсу шпионить за нами.
— Это будет лишним свидетельством того, в какой безвыходной ситуации он находился, окруженный такими преступниками, как мы. Если мы его арестуем, мы будем виновны, пока не докажем обратного. Любой трибунал будет на стороне капитана. За мятеж вешают.
Хорнблауэр вложил в свою речь все сомнения, которые Буш чувствовал нутром, но не мог выразить словами.
— Верно, — пробормотал Буш.
— А как же Вэйлард, — прошептал Робертс. — Вы слышали, как он кричал в последний раз?
— Он всего-навсего волонтер. Даже не мичман. Ни друзей. Ни родственников. Что скажут судьи, когда узнают, что капитан приказал раз шесть выпороть мальчишку? Они рассмеются. И мы бы посмеялись, если б не знали. Пойдет ему на пользу, скажут они, как пошло на пользу всем нам.
За этими непреложными словами последовала тишина, которую, наконец, прервал Бакленд, прошептавший несколько грязных ругательств; но они не принесли ему облегчения.
— Он обвинит нас, — прошептал Робертс. — Как только мы встретимся с другими судами. Я абсолютно уверен.
— Двадцать два года я служу лейтенантом, — сказал Бакленд. — Теперь он меня погубит. Он погубит всех вас.
Офицеры, которых капитан обвинит перед трибуналом в непочтительном и подрывающем дисциплину поведении, обречены. Все они это знали. Отчаяние их достигло предела. Обвинения, выдвинутые капитаном с его безумной злобой и хитростью, могут привести не только к увольнению со службы — они могут привести к тюрьме и веревке.
— До Антигуа дней десять, — сказал Робертс. — Если ветер останется попутным, а он останется.
— Но мы не знаем, на Антигуа ли мы идем — возразил Хорнблауэр, — Это все наши домыслы. Могут пройти недели — даже месяцы.
— Господи, помилуй! — вымолвил Бакленд.
В отдалении послышались тихие быстрые шаги — звук совершенно отличный от шумов движущегося судна. Все вздрогнули. Буш сжал волосатые кулаки. Но всех успокоил голос, тихо окликнувший:
— Мистер Бакленд… Мистер Хорнблауэр… Сэр!
— Господи, Вэйлард, — сказал Робертс.
Они слушали, как Вэйлард пробирается к ним.
— Капитан, сэр! — сообщил Вэйлард. — Он идет.
— Господи!
— Откуда? — быстро спросил Хорнблауэр.
— От рулевого люка. Я спустился в кокпит и пробрался сюда. Он послал Хоббса…
— Вы трое, идите к носу, — оборвал его объяснения Хорнблауэр. — К носу, и как только будете на палубе, расходитесь по одному. Быстро!
Никто не заметил, что Хорнблауэр отдает приказы офицерам, которые несравненно старше его. Каждая минута была драгоценна, нельзя было тратить время на колебания или глупые ругательства. Это стало ясно, как только Хорнблауэр заговорил. Буш повернулся к носу. Споткнувшись о невидимое препятствие, он больно расшиб подбородок. Убегая, он слышал, как Хорнблауэр произнес: «Вэйлард, за мной».
Канатный ящик — трап — и, наконец, невероятная безопасность нижней пушечной палубы. После полной темноты трюма здесь казалось даже светло. Бакленд и Робертс продолжали подниматься на главную палубу; Буш повернулся и двинулся к корме. Подвахтенные уже давно были в койках и спали крепко; их храп мешался с корабельными шумами. Ряды плотно прижатых друг к другу коек сплошной массой раскачивались вместе с кренящимся судном. Далеко между рядами Буш различил огонек. Он приближался. Это был рожок со свечой, а нес его и.о. артиллериста Хоббс, в сопровождении двух матросов. Он торопился. Увидев Буша, матросы переглянулись. Хоббс заколебался, и стало ясно, что ему очень хотелось бы спросить у Буша, как тот очутился на нижней пушечной палубе. Но есть вещи, которые и.о. уорент-офицера, будь он сто раз капитанским любимчиком, у лейтенанта спросить не может. На лице Хоббса отразилось разочарование. Очевидно, он спешил перекрыть все выходы из трюма и теперь был в отчаянии, что Буш от него ускользнул. Матросы явно были ошарашены странной кутерьмой, да еще во время полуночной вахты. Хоббс отступил в сторону, пропуская старшего по званию, и Буш, не глядя, прошествовал мимо. Удивительно, насколько уверенней он чувствовал себя, вырвавшись из трюма и отмежевавшись от мятежной сходки. Он решил идти в свою каюту — скоро четыре склянки и надо будет снова докладываться Бакленду. Когда отправленный вахтенным офицером посыльный придет будить его он найдет его в койке. Но добравшись до грот-мачты, Буш застал там невероятную сумятицу. Будь он ни в чем не замешан, он не мог оставить ее без внимания. Следовательно, он должен (так он сказал себе) спросить, что тут происходит — не мог же он просто пройти мимо. Здесь располагались морские пехотинцы, и все они поспешно одевались в своих койках. Те, кто надел уже штаны и рубахи, застегивали портупеи, готовясь к бою.
— Что тут происходит? — спросил Буш, делая вид, будто не знает, что на судне творится нечто необычное.
— Не могу знать, сэр, — ответил рядовой, к которому он обратился. — Сказали нам выходить. С ружьями, тесаками и боевыми патронами.
Сержант морской пехоты выглянул из-за перегородки, отделявшей помещение для унтер-офицеров от остальной палубы.
— Приказ капитана, сэр, — сказал он и заорал на пехотинцев. — Давайте быстрее!
— А где капитан? — Буш изо всех сил пытался изобразить полную непричастность.
— Где-то на корме. Послал за корабельной полицией, а мне велел будить людей.
Четверо рядовых пехотинцев вместе с капралом составляли судовую полицию. Круглые сутки полиция несла дозор у капитанской каюты. Капитану достаточно было одного слова, чтобы поднять на ноги охрану и окружить себя хотя бы несколькими вооруженными и дисциплинированными людьми.
— Очень хорошо, сержант, — сказал Буш. Он постарался принять озабоченный вид и заспешил на корму, словно желая узнать, что там происходит. Но ему было страшно. Он чувствовал, что готов на все, лишь бы не продолжать свой путь навстречу неизвестности. Появился Уайтинг, капитан морской пехоты, небритый и сонный. Он пристегивал шпагу поверх рубашки.
— Какого черта?.. — начал он, увидев Буша.
— Спросите кого-нибудь другого! — ответил Буш, подражая естественному поведению Уайтинга. Нервы Буша были на пределе, и обычно бездеятельное воображение разыгралось. Он представил себе, как в обманчивой тишине трибунала прокурор спрашивает Уайтинга: «Было ли поведение мистера Буша вполне обычным?». Жизненно важно, чтоб Уайтинг смог ответить; «Да». Буш даже ощутил шершавое прикосновение веревки к своей шее. Но в следующий момент уже не пришлось разыгрывать изумление. Он и впрямь удивился.
— Позовите доктора! — раздался крик. — Позовите доктора!
Прибежал побледневший Вэйлард:
— Позовите доктора Клайва!
— Кто заболел, Вэйлард?
— К-капитан, сэр.
Вэйлард был в смятении, но вот следом за ним появился Хорнблауэр. Он тоже был бледен и тяжело дышал, но, по-видимому, уже взял себя в руки. Взгляд, которым он обвел полутемное помещение, скользнул по Бушу, словно не замечая его.
— Приведите доктора Клайва, — крикнул Хорнблауэр высунувшемуся из каюты мичману; потом другому: — А вы бегите за первым лейтенантом. Попросите его спуститься вниз. Ну, бегом!
Задержавшись на Уайтинге, взгляд Хорнблауэра скользнул дальше, туда, где пехотинцы разбирали со стоек ружья.
— Почему поднялись ваши люди, капитан Уайтинг?
— Приказ капитана.
— Тогда вы можете их построить. Но я не думаю, чтобы в этом была необходимость. — Только сейчас Хорнблауэр заметил Буша. — О, мистер Буш. Раз вы здесь, я передаю вам руководство. Я послал за первым лейтенантом. Капитан расшибся — боюсь, очень сильно, сэр.
— Но что случилось? — спросил Буш.
— Капитан упал в люк, сэр, — ответил Хорнблауэр. В неярком свете Хорнблауэр смотрел прямо на Буша, но тот ничего не мог прочесть в его глазах. В кормовой части нижней пушечной палубы собралась толпа, и сообщение Хорнблауэра, первое определенное сообщение за это время, было встречено возбужденным гулом. Это был тот самый недисциплинированный шум, который всегда злил Буша. К счастью, он вызвал у него естественную реакцию.
— Молчать! — заорал Буш. — Занимайтесь своими делами.
Он обвел взглядом толпу, и она смолкла.
— Я спущусь вниз, с вашего разрешения, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Нужно посмотреть, как там капитан.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр. — Буш столько раз произносил эту стандартную фразу, что она прозвучала вполне обычно.
— Идите со мной, Вэйлард, — сказал Хорнблауэр и повернулся.
В этот момент появились еще несколько человек — Бакленд с бледным напряженным лицом, рядом с ним Робертс, из каюты вышел заспанный Клайв в рубашке и штанах. Все они чуть вздрогнули при виде пехотинцев строящихся в шеренгу на загроможденной палубе. Ружейные дула отсвечивали в слабом свете фонарей.
— Вы прямо сейчас идете, сэр? — спросил Хорнблауэр, оборачиваясь к Бакленду.
— Иду, — ответил тот.
— Ради Бога, что тут происходит? — спросил Клайв.
— Капитан расшибся, — коротко отвечал Хорнблауэр. — Поспешите. Вам понадобится свет.
— Капитан… — Клайв заморгал, стряхивая с себя сон.
— Где он? Эй, дайте мне фонарь. Где мои помощники? Бегите, разбудите моих помощников. Их койки в лазарете.
Так что в конце концов по трапу двинулась процессия из шести человек с фонарями — четыре лейтенанта, Клайв и Вэйлард. Ожидая у трапа, Буш украдкой взглянул на Бакленда: лицо первого лейтенанта подергивалось от волнения. Бакленд неизмеримо охотней ступал бы под градом картечи по изуродованной снарядами палубе. Он вопросительно посмотрел на Буша, но Клайв был совсем близко, и Буш не осмелился ничего сказать. Кстати, знал он не больше Бакленда. Они не ведали, что ждет их внизу: арест, позор, может быть — смерть.
Фонарь осветил красный мундир с капральскими нашивками и белую портупею стоявшего у люка морского пехотинца.
— Есть что доложить? — спросил Хорнблауэр.
— Нет, сэр. Нечего, сэр.
— Капитан лежит внизу без сознания. Его охраняют два пехотинца, — сказал Хорнблауэр Клайву, указывая вниз. Клайв с трудом протиснул в люк свое массивное тело и исчез.
— Теперь, капрал, — произнес Хорнблауэр, — расскажите первому лейтенанту, что вы об этом знаете.
Капрал стоял по стойке «смирно». Под взорами четверых лейтенантов сразу он заметно нервничал. По опыту службы он, вероятно, знал, что неприятности среди верхних чинов запросто могут выйти боком простому капралу, которого угораздило, пусть и невинно, впутаться в это дело. Он стоял навытяжку, стараясь никому не смотреть в глаза.
— Говорите же, — резко произнес Бакленд. Он тоже нервничал, но это было вполне естественно для первого лейтенанта, чей капитан только что получил серьезную травму.
— Я, значит, караульный капрал, сэр. В две склянки я сменил часового у капитанской каюты.
— Да?
— И… и… снова пошел спать.
— Черт! — сказал Робертс. — Докладывайте же!
— Меня разбудил один из джентльменов, сэр, — продолжал капрал. — По-моему, он артиллерист.
— Мистер Хоббс?
— Кажись, его так зовут, сэр. Он говорит: «Приказ капитана, выводите караул». Я, значит, вывожу караул, вижу — капитан с Уэйдом, часовым то есть, я его поставил, значит. В руках он держал пистолеты, сэр.
— Кто, Уэйд?
— Нет, сэр, капитан, сэр.
— Как он себя вел? — спросил Хорнблауэр.
— Ну, сэр… — Капрал не хотел говорить ничего плохого о капитане, даже обращаясь к лейтенанту.
— Ладно, отставить. Продолжайте.
— Капитан сказал, сэр, сказал он, значит, сказал, сэр: «Идите за мной» и тому джентльмену он сказал: «Выполняйте свой долг, мистер Хоббс». Мистер Хоббс, значит, пошел в одну сторону, сэр, а мы с капитаном, значит, сюда, сэр. «Затевается мятеж», — сказал он. — «Гнусный кровавый мятеж. Мы должны захватить мятежников. Поймать их с поличным». — Так сказал капитан.
Из люка высунулась голова доктора.
— Дайте мне еще один фонарь, — сказал он.
— Как капитан? — спросил Бакленд.
— Похоже, что у него сотрясение мозга и несколько переломов.
— Сильно расшибся?
— Пока не знаю. Где мои помощники? А, вот и вы, Кольман. Тащите лубки и бинты, как можно быстрее. Еще прихватите доску для переноски раненых, парусину и веревки. Ну, бегом! Вы, Пирс, спускайтесь, поможете мне.
Так что лекарские помощники исчезли, не успев появиться.
— Продолжайте, капрал, — сказал Бакленд.
— Я не помню, что я сказал, сэр.
— Капитан привел вас сюда.
— Да, сэр. Значит, в руках у него были пистолеты, я уже говорил, сэр. Одну шеренгу он послал вперед. «Заткните каждую щель», — сказал он, и еще он, значит, сказал: «Вы капрал, берите двоих караульных и идите на поиски». Он… он, орал, как… У него пистолеты были в руках.
Говоря, капрал испуганно посмотрел на Бакленда.
— Все в порядке, капрал, — произнес тот. — Говорите правду.
Известие о том, что капитан без сознания и, возможно, сильно расшибся, успокоило его, как успокоило оно Буша.
— Я повел свою шеренгу по трапу, сэр, — сказал капрал. — Я шел впереди с фонарем, у меня ведь ружья не было. Мы спустились к подножию трапа, сюда, где мешки, сэр. Капитан, он кричал нам через люк. «Быстрее», — говорил он, — «Быстрее, не дайте им уйти. Быстрее же». Вот мы, значит, и полезли через припасы, сэр.
Приближаясь к развязке, сержант смолк. Возможно, он добивался дешевого театрального эффекта, однако, скорее всего, просто боялся впутаться в историю, способную повредить ему, несмотря на полную его непричастность.
— И что же дальше? — спросил Бакленд. В этот момент вновь появился Кольман, нагруженный разнообразными приспособлениями; на плече он нес шестифутовую доску. Он посмотрел на Бакленда, испрашивая разрешения пройти. Получив это разрешение, он положил на палубу доску, парусину и веревки, а со всем остальным спустился по трапу.
— Ну? — сказал Бакленд капралу.
— Я не знаю, что случилось, сэр.
— Расскажите, что знаете.
— Я услышал крик, сэр. И грохот. Я всего-то отошел ярдов на десять, не больше. Я, значит, вернулся с фонарем.
— И что же вы увидели?
— Это был капитан, сэр. Он лежал у подножия трапа. Он лежал, как труп, сэр. Он упал в люк, сэр.
— И что вы сделали?
— Я попробовал перевернуть его, сэр. Все его лицо было в крови, сэр. Он был без сознания, сэр. Я думал, может он мертвый, но почувствовал, что сердце бьется.
— Да?
— Я не знал, что мне делать, сэр. Я не знал ни про какой такой мятеж, сэр.
— Но что же вы все-таки сделали?
— Я оставил двух моих людей с капитаном, сэр, и пошел наверх, поднять тревогу. Я не знал, кому это доверить, сэр.
Была своя ирония в этой ситуации: капрал боялся, что его заставят отвечать за такой пустяк — надо ли было послать гонца или идти самому. В то же время четыре лейтенанта рисковали головой.
— Ну?
— Я увидел мистера Хорнблауэра, сэр, — облегчение в голосе капрала прозвучало эхом того облегчения, которое он испытал, увидев, наконец, на кого переложить свою непомерную ответственность, — Он был с молодым джентльменом, кажись его Вэйлард звать. Я ему сказал, что с капитаном. Мистер Хорнблауэр, значит, велел мне стоять здесь, сэр.
— Вы поступили правильно, капрал, — произнес Бакленд тоном судьи.
— Спасибо, сэр. Спасибо, сэр.
По трапу вскарабкался Кольман. Снова взглядом спросив у Бакленда разрешение, он передал сложенное у люка снаряжение кому-то, стоящему внизу. Потом снова спустился. Буш глядел на капрала; закончив свой рассказ, тот снова ощутил себя неловко под взглядами четырех лейтенантов.
— Итак, капрал, — неожиданно заговорил Хорнблауэр, — вы не знаете, как капитан упал в люк?
— Нет, сэр. Конечно нет, сэр.
Хорнблауэр один раз взглянул на своих коллег. Всего один раз. Слова капрала и взгляд Хорнблауэра несказанно успокаивали.
— Он был возбужден, вы сказали? Ну, отвечайте же.
— Ну… да, сэр, — капрал вспомнил, что совсем недавно так неосторожно сболтнул, и вдруг сделался словоохотлив. — Он кричал нам в люк, сэр. Я думаю, он перегнулся вниз. Он, наверно, упал, когда корабль накренило. Он мог зацепиться ногой за комингс и полететь вниз головой.
— Так оно наверно и было, — сказал Хорнблауэр.
Клайв поднялся по трапу и встал над комингсом.
— Сейчас я буду его выносить. — Посмотрев на четверых лейтенантов, доктор сунул руку за пазуху рубашки и вытащил пистолет. — Это лежало рядом с капитаном.
— Я возьму его, — сказал Бакленд.
— Там еще один должен быть, судя по тому, что мы только что слышали, — сказал Робертс. До этого он молчал и сейчас заговорил слишком громко. Он был возбужден, и поведение его могло показаться подозрительным всякому, кто имел основания подозревать. Буш почувствовал приступ раздражения и страха.
— После того, как мы поднимем капитана, я прикажу поискать, — сказал Клайв, потом позвал, наклонившись к люку: — Поднимайтесь.
Первым появился Кольман с двумя веревками в руке, за ним пехотинец: одной рукой он цеплялся за трап, а другой придерживал ношу.
— Давайте потихоньку, — сказал Клайв.
Кольман с пехотинцем вылезли из люка и вытащили верхний край доски. К ней было привязано спеленатое, как мумия, тело. Это — наилучший способ вносить по трапу человека с переломанными костями. Пирс, другой лекарский помощник, карабкался сзади, придерживая нижний край доски. Когда доска приподнялась над комингсом, офицеры столпились у люка, помогая ее вытащить. В свете фонарей Буш видел над парусиной лицо капитана. Насколько можно было разглядеть (бинты закрывали нос и один глаз), лицо это было спокойно и ничего не выражало. На одном виске запеклась кровь.
— Отнесите его в каюту, — сказал Бакленд.
Это был приказ. Момент был важный: если капитан выбывает из строя, долг первого лейтенанта — взять на себя командование, и четыре слова, произнесенные Баклендом, показывали, что он это сделал. Приняв командование, он мог отдавать приказы даже в отношении капитана. Но этот важный шаг был вполне в рамках заведенного порядка: Бакленд десятки раз принимал временное командование судном в отсутствие капитана. Заведенный порядок помог ему пройти через эту критическую ситуацию, а привычки, сформировавшиеся за тридцать лет службы на флоте — сначала мичманом, потом лейтенантом — позволили вести себя с подчиненными и действовать как обычно, несмотря на неопределенность его ближайшего будущего.
И все же Буш, внимательно за ним наблюдавший, не был уверен, что привычки хватит надолго. Бакленд был явно потрясен. Это можно было бы объяснить естественным состоянием офицера, на которого в таких поразительных обстоятельствах свалилась огромная ответственность. Так мог бы решить ни о чем не подозревавший человек. Но Буш, с ужасом гадавший, как поведет себя капитан, придя в сознание, видел, что Бакленд разделяет его страхи. Кандалы, трибунал, веревка палача — мысли об этом лишали Бакленда воли к действию. А жизнь, во всяком случае будущее всех офицеров на судне, зависели от него.
— Простите, сэр, — сказал Хорнблауэр.
— Да? — отозвался Бакленд и с усилием добавил: — Да, мистер Хорнблауэр?
— Можно мне записать показания капрала, пока события еще свежи в его памяти?
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр.
— Спасибо, сэр, — сказал Хорнблауэр. На его лице нельзя было прочесть ничего, кроме почтительного усердия. Он повернулся к капралу: — Доложитесь мне в моей каюте, после того, как вновь поставите караул.
— Да, сэр.
Доктор и его помощники давно унесли капитана. Бакленд не двигался с места — казалось, он парализован.
— Надо еще разобраться со вторым пистолетом капитана, — сказал Хорнблауэр все так же почтительно.
— Ах, да. — Бакленд огляделся по сторонам.
— Здесь есть Вэйлард, сэр.
— Ах, да. Он подойдет.
— Мистер Вэйлард, — сказал Хорнблауэр, — спуститесь с фонарем и поищите пистолет. Принесете его первому лейтенанту на шканцы.
— Есть, сэр.
Вэйлард почти успокоился; уже некоторое время он не сводил глаз с Хорнблауэра. Теперь он поднял фонарь и спустился по трапу. То, что Хорнблауэр сказал про шканцы, проникло в сознание Бакленда — он медленно двинулся к выходу, остальные за ним. На нижней пушечной палубе Бакленду отсалютовал капитан Уайтинг.
— Будут приказания, сэр?
Значит, весть о том, что капитан выбыл из строя и первый лейтенант принял командование, разнеслась по судну с молниеносной быстротой. Бакленду потребовались одна или две минуты, чтоб собраться с мыслями.
— Нет, капитан, — сказал он наконец и добавил: — Прикажите своим людям разойтись.
Когда они поднялись на шканцы, ветер по-прежнему дул с правой раковины и «Слава» летела над зачарованным морем. Над их головами вздымались пирамиды парусов, выше, выше, выше, к бесчисленным звездам, корабль качался, и верхушки мачт описывали в небе большие круги. С левого борта только что вынырнул из моря месяц и висел над горизонтом, как маленькое чудо, отбрасывая к кораблю длинную серебристую дорожку. На белых досках палубы отчетливо выделялись черные фигуры людей.
Стоявший на вахте Смит бросился к ним, как только они поднялись по трапу. Больше часа расхаживал он, как в лихорадке, слыша доносившиеся снизу шум и возню, ловя расползающиеся по кораблю слухи, будучи не вправе покинуть свой пост и разузнать, что же происходит на самом деле.
— Что случилось, сэр? — спросил он.
Смит не был посвящен в тайну встречи четырех лейтенантов. Кроме того, капитан не так его притеснял. Но он не мог не чувствовать всеобщего недовольства, он должен был догадываться, что капитан не вполне нормален. И все же Бакленд был не готов к его вопросу и не приготовил ответ. Наконец заговорил Хорнблауэр.
— Капитан упал в трюм, — сказал он спокойно и без особого выражения. — Его только что в бессознательном состоянии отнесли в каюту.
— Как его угораздило? — изумленно спросил Смит.
— Он искал заговорщиков, — сказал Хорнблауэр все тем же ровным тоном.
— Ясно, — сказал Смит. — Но…
Он прикусил язык. Ровный тон Хорнблауэра предупредил его, что дело деликатное — если продолжать расспросы, придется обсуждать умственное здоровье капитана, а Смиту не хотелось высказывать свое мнение по этому поводу. В таком случае он не хотел больше ничего спрашивать.
— Шесть склянок, сэр, — доложил ему старшина-рулевой.
— Очень хорошо, — машинально ответил Смит.
— Мне нужно записать показания капрала, — сказал Хорнблауэр. — Я заступаю на вахту в восемь склянок.
Раз Бакленд принял командование, он мог отменить нелепый приказ, по которому Буш с Робертсом ежечасно являлись к нему, а Хорнблауэр нес двухвахтное дежурство. Наступила неловкая пауза. Никто не знал, сколько капитан пролежит без сознания и в каком состоянии он будет, придя в себя. На шканцы вбежал Вэйлард.
— Вот второй пистолет, сэр, — сказал он, вручая оружие Бакленду. Тот взял пистолет и достал из кармана другой. Так он и стоял беспомощно, с двумя пистолетами в руках.
— Мне забрать их у вас, сэр? — спросил Хорнблауэр, беря пистолеты у него из рук. — А Вэйлард может помочь мне записать показания капрала. Можно я возьму его с собой, сэр?
— Да, — сказал Бакленд.
Хорнблауэр повернулся, чтобы уйти, Вэйлард за ним.
— Мистер Хорнблауэр… — начал Бакленд.
— Сэр?
— Ничего, — сказал Бакленд. В его голосе прозвучала нерешительность.
— Простите, сэр, но на вашем месте я бы немного отдохнул, — сказал Хорнблауэр, останавливаясь у трапа. — У вас была тяжелая ночь.
Буш внутренне согласился с Хорнблауэром: не то чтоб его заботило, тяжелая ли ночь была у Бакленда; просто, если Бакленд уйдет в каюту, меньше шансов, что он неосторожным словом выдаст себя — и своих сообщников. Тут только до Буша дошло, что именно это Хорнблауэр имел в виду. В то же время он пожалел, что Хорнблауэр от них уходит, и понял, что Бакленд тоже об этом жалеет: Хорнблауэр хладнокровен и быстро соображает, невзирая на опасность. Это он подал им всем пример естественного поведения, как только внизу поднялась тревога. Может быть, Хорнблауэр что-то от них скрывал, может быть, он лучше знает, как же капитана угораздило свалиться в люк. Это смущало и волновало Буша, но даже если он был прав, Хорнблауэр ничем не выдавал этого.
— Когда, черт возьми, доложится этот проклятый доктор? — произнес Бакленд, ни к кому не обращаясь.
— Почему бы вам не подождать его в своей каюте, сэр? — сказал Буш.
— Хорошо. — Бакленд заколебался, прежде чем продолжить: — Вам, джентльмены, лучше по-прежнему докладываться мне ежечасно, как приказал капитан.
— Есть, сэр, — отвечали Робертс и Буш. Как понял Буш, это означает, что Бакленд решил не рисковать: капитан, придя в себя, узнает, как выполнялись его приказы. В тоске и тревоге Буш спустился вниз, чтобы хоть полчасика отдохнуть, прежде чем снова идти докладываться. Поспать он не надеялся. Через тонкую перегородку, отделявшую его каюту от соседней, он слышал приглушенные голоса — Хорнблауэр записывал показания капрала.
V
В кают-компании накрывали к завтраку. Этот завтрак был еще молчаливей и печальней, чем обычно. Штурман, баталер, капитан морской пехоты — все произнесли традиционное «доброе утро» и без дальнейших разговоров принялись за еду. Они слышали (как и все остальные на судне), что капитан пришел в сознание.
Через отверстия в борту судна падали длинные лучи света, освещавшие тесное помещение; судно слегка покачивалось, и лучи двигались по каюте взад и вперед. Через открытую дверь внутрь проникал восхитительно свежий воздух. Кофе был горячий; сухари, пробывшие на борту меньше трех недель, до того пролежали не больше пары месяцев на складе, судя по тому, что в них почти не было жучков. Офицерский кок разумно воспользовался хорошей погодой, чтоб зажарить остатки вчерашней солонины с луком из быстро тающего запаса. Гуляш из солонины, горячий кофе и хорошие сухари, свежий воздух, солнце, ясная погода — в кают-компании должно было быть весело. Вместо этого в ней царили озабоченность, дурные предчувствия, напряженное беспокойство. Буш посмотрел через стол на осунувшегося, бледного и усталого Хорнблауэра. Бушу многое хотелось бы ему сказать, но пока тень капитанского безумия лежала на корабле, говорить этого было нельзя.
Бакленд вошел в кают-компанию вместе с доктором. Все вопрошающе посмотрели на них; почти все встали, чтобы выслушать новости.
— Он в сознании, — сказал Бакленд и посмотрел на Клайва, чтобы тот рассказал подробнее.
— У него слабость, — произнес Клайв.
Буш посмотрел на Хорнблауэра, надеясь, что тот задаст вопрос, который хотелось задать ему самому. Лицо Хорнблауэра казалось ничего не выражающей маской. Он, не отрываясь, смотрел на Клайва, но рта не раскрывал. В конце концов этот вопрос задал Ломакс, баталер.
— Он что-нибудь соображает?
— Ну… — начал Клайв, искоса поглядывая на Бакленда. Было ясно, что меньше всего на свете Клайв хочет определенно высказываться по поводу умственного здоровья капитана. — Пока он для этого слишком слаб.
Ломакс, к счастью, был достаточно любопытен и достаточно упрям, чтобы не смутиться уклончивостью врача.
— А сотрясение мозга, — спросил он. — Как оно на нем сказалось?
— Череп не поврежден, — ответил Клайв. — Множественные разрывы кожной ткани. Нос сломан. Сломана клавикула — ключица то есть, и пара ребер. Он упал головой вперед, что естественно, раз он споткнулся о комингс.
— Как же его угораздило? — спросил Ломакс.
— Он не сказал, — ответил Клайв. — Я думаю, он не помнит.
— Как это?
— Это обычное дело, — произнес Клайв. — Можно даже сказать, это симптоматично. После сильного сотрясения мозга у пациента обычно наблюдаются провалы в памяти, охватывающие несколько часов до травмы.
Буш снова взглянул на Хорнблауэра. Лицо младшего лейтенанта было по-прежнему непроницаемо, и Буш решил последовать его примеру, то есть не выдавать своих чувств и оставить другим задавать вопросы. Однако весть была великая, славная, чудесная, и, на вкус Буша, никакие подробности о ней не могли быть излишними.
— Он знает, где он находится? — продолжал Ломакс.
— Он знает, что он на этом корабле, — осторожно сказал Клайв.
Теперь к Клайву повернулся Бакленд; он осунулся, был небрит и выглядел усталым. Однако он видел капитана в его каюте, и вследствие этого был чуть понастойчивее.
— Может ли капитан исполнять свои обязанности? — спросил он.
— Ну… — начал Клайв.
— Ну?
— Временно, наверно, нет.
Ответ был явно неудовлетворительный, но Бакленд, добиваясь его, казалось, истратил всю свою решимость. Хорнблауэр поднял бесстрастное лицо и посмотрел прямо на Клайва.
— Вы хотите сказать, что сейчас он не в состоянии командовать судном?
Остальные одобряюще загудели, требуя точного ответа. Клайв, оглядев настойчивые лица, вынужден был сдаться.
— Сейчас да.
— Теперь мы хоть знаем что к чему, — сказал Ломакс. В голосе его звучало удовлетворение, которое разделяли в кают-компании все, кроме Бакленда и Клайва.
Отстранить капитана от командования было необходимо и одновременно очень непросто. Король и парламент совместно назначили Сойера командовать «Славой», и его смещение попахивало изменой. Все, кто имел хоть малейшее касательство к этой истории, до конца жизни будут нести несмываемое пятно неподчинения и мятежа. Последний штурманский помощник рискует не получить в будущем нового назначения только из-за того, что служил на «Славе», когда Сойера отстранили от командования. Поэтому следовало соблюсти видимость законности в деле, которое при ближайшем рассмотрении никогда не будет вполне законным.
— Здесь у меня показания капрала Гринвуда, сэр, — сказал Хорнблауэр, — с его крестиком, засвидетельствованные мной и мистером Вэйлардом.
— Спасибо, — сказал Бакленд, беря бумагу, в его движении была какая-то неуверенность, словно этот документ — шутиха, способная взорваться в любой момент. Но только Буш, искавший этих колебаний, их заметил. Всего несколько часов назад Бакленд вынужден был бежать, спасая свою жизнь, пробираться по внутренностям судна, уходя от погони. Имена Вэйларда и Гринвуда напомнили ему об этом, вызвав легкий шок. И тут же, словно вызвали демона, в дверях кают-компании появился легкий на помине Вейлард.
— Мистер Робертс послал меня узнать, какие будут распоряжения, сэр, — сказал он.
Робертс нес вахту и весь извелся от желания узнать, чтопроисходит внизу. Бакленд замер в нерешительности.
— Сейчас обе вахты на палубе, сэр, — почтительно напомнил Хорнблауэр.
Бакленд вопросительно посмотрел на него.
— Вы можете сообщить новость матросам, сэр, — продолжал Хорнблауэр.
Он лез к старшему офицеру с непрошеным советом и тем самым напрашивался на обидное замечание. Но весь его вид выражал глубочайшее почтение и ничего кроме желания уберечь старшего от любых возможных хлопот.
— Спасибо, — сказал Бакленд.
На его лице ясно читалась внутренняя борьба. Он по-прежнему пытался уклониться от того, чтобы слишком сильно себя скомпрометировать — как будто он себя еще не скомпрометировал! Тем более ему не хотелось напрямую говорить с матросами, хотя он уже понял, что сделать это придется. А чем дольше он думал, тем насущнее становилась эта необходимость — по нижней палубе слухи расползаются быстро, и команда, уже прежде выбитая капитаном из колеи, от полной неопределенности становилась все более беспокойной. Нужно было сделать им твердое, определенное заявление: это было жизненно необходимо. Однако, большая необходимость влечет за собой большую ответственность. Бакленд явно колебался меж двух огней.
— Общий сбор? — мягко предположил Хорнблауэр.
— Да. — Бакленд в отчаянии ринулся навстречу опасности.
— Очень хорошо. Мистер Вэйлард! — сказал Хорнблауэр. Буш заметил, каким выразительным взглядом Хорнблауэр сопроводил свои слова. Выразительность эта была естественна в ситуации, когда один младший офицер советует другому поторопиться, пока старший не передумал. Непосвященный бы так и подумал, но Бушу, которого усталость и тревога сделали проницательным, в этом взгляде почудилось нечто иное. Вэйлард был бледен, измотан и встревожен, Хорнблауэр его ободрил. Возможно, он сообщил ему, что тайна еще не раскрыта.
— Есть, сэр, — сказал Вэйлард и вышел.
По всему судну засвистели дудки.
— Все наверх! Все наверх! — кричали боцманматы. — Всей команде строиться за грот-мачтой! Все наверх!
Бакленд нервничал, поднимаясь на палубу, но к моменту испытания он более-менее взял себя в руки. Срывающимся бесцветным голосом он сообщил собравшимся матросам, что несчастный случай, о котором все они могли слышать, сделали капитана неспособным в настоящее время командовать судном.
— Но все мы продолжим исполнять свои обязанности, — закончил Бакленд, пристально глядя на ровный ряд поднятых голов.
Буш, смотревший в ту же сторону, приметил седую голову и жирное тело Хоббса, и.о. артиллериста, капитанского любимчика и соглядатая. В будущем дела мистера Хоббса могут пойти по-иному — по крайней мере, пока продлится недееспособность капитана. В том-то все и дело — пока продлится недееспособность капитана. Буш смотрел на Хоббса и гадал, сколько тот знает, и о скольком догадывается — в скольком он присягнет перед трибуналом. Он попытался прочесть свое будущее на толстом лице старика, но проницательность оставила его. Он не мог догадаться ни о чем.
Матросам приказали расходиться, и на несколько минут воцарились шум и суматоха, пока вахтенные не занялись своими обязанностями, а свободные от дел не спустились вниз. Именно сейчас, в шуме и суматохе, легче всего было ненадолго остаться с глазу на глаз и избежать постороннего наблюдения. Буш поймал Хорнблауэра у кнехтов бизань-мачты и задал, наконец, вопрос, мучивший его уже несколько часов; вопрос, от которого столько зависело.
— Как это случилось? — спросил Буш.
Боцманматы выкрикивали приказы, матросы сновали туда-сюда; вокруг двух офицеров царила организованная суматоха, множество людей были заняты своими делами. Они стояли обособленные от всех, лицом, к лицу. Льющийся на них благодатный солнечный свет озарил напряженное лицо, которое Хорнблауэр обратил к своему собеседнику.
— Что именно, мистер Буш? — сказал Хорнблауэр.
— Как капитан свалился в люк?
Произнеся эти слова, Буш оглянулся через плечо, вдруг испугавшись: не услышал ли его кто. За такие слова могут повесить. Повернувшись обратно, он увидел, что лицо Хорнблауэра ничего не выражает.
— Я думаю, он потерял равновесие, — ровно произнес тот, глядя прямо в глаза Бушу, и тут же добавил. — С вашего позволения, сэр, у меня есть спешные дела.
Позже всех старших офицеров по очереди пригласили в капитанскую каюту своими глазами убедиться, что за развалина там лежит. Буш увидел в полутьме каюты слабого инвалида с лицом, наполовину закрытым бинтами. Пальцы одной руки поминутно двигались, другая рука была в лубке.
— Он под наркозом, — объяснил в кают-компании Клайв. — Я должен был ввести ему большую дозу опиата, чтоб попытаться исправить сломанный нос.
— Я думаю, он размазался по всему лицу, — жестоко сказал Ломакс. — Он был достаточно велик.
— Это обширный осколочный перелом, — согласился Клайв.
На следующее утро из капитанской каюты раздались крики: в них звучала не только боль, но и страх. Потом оттуда появились Клайв и его помощники, потные и взволнованные. Клайв тут же отправился конфиденциально доложить Бакленду, но все на корабле слышали вопли, а кто не слышал, узнал про них от тех, кто слышал. Лекарские помощники, которых другие уорент-офицеры забросали вопросами, не смогли держаться с такой важной таинственностью, которую проявлял Клайв в кают-компании. Несчастный инвалид, без сомнения, сумасшедший: когда они попытались осмотреть его сломанный нос, он впал в пароксизм страха, вырывался с безумной силой, так что они, боясь повредить другие сломанные кости, вынуждены были замотать его в парусину, словно в смирительную рубашку, оставив снаружи одну левую руку. Лауданум и сильное кровотечение наконец довели капитана до бесчувствия, но когда вечером Буш его увидел, он снова был в сознании. Это было жалкое, плачущее существо: он съеживался при виде каждого входящего, пугался теней, рыдал. Страшно было видеть, как этот крупный мужчина по-детски оплакивает свои горести и прячет лицо от мира, в котором его измученному сознанию мерещилась одна только мрачная враждебность.
— Часто случается, — менторским тоном говорил Клайв (чем дольше длилась болезнь капитана, тем охотнее он ее обсуждал), — что травма, падение, ожог или перелом полностью выводит из равновесия и прежде несколько неустойчивый мозг.
— Несколько неустойчивый! — фыркнул Ломакс. — Разве он не поднял среди ночи морских пехотинцев, чтоб ловить в трюме заговорщиков?! Спросите мистера Хорнблауэра, спросите мистера Буша, считают ли они его немного неустойчивым. Он заставил Хорнблауэра нести двухвахтное дежурство, а Буша, Робертса и самого Бакленда вскакивать с постели каждый час, днем и ночью. Да он давным-давно сбрендил!
Удивительно, как у всех развязались языки, стоило им избавиться от страха перед капитанскими шпионами.
— По крайней мере теперь мы сделаем из команды моряков, — сказал Карберри, штурман. В его голосе звучало удовлетворение, которое разделяла вся кают-компания. Парусные и артиллерийские учения, строгая дисциплина и тяжелый труд сплачивали воедино развалившуюся было команду. Бакленд явно наслаждался — об этом он мечтал с тех пор, как они миновали Эддистон. Тренируя команду, он отвлекался от прочих осаждавших его забот.
А заботило его новое ответственное решение, которое вовсю обсуждалось кают-компанией за его спиной. Бакленд уже замкнулся в тишине, приличествующей капитану военного судна. Никто за него решить не мог, и кают-компания наблюдала его внутреннюю борьбу, как наблюдала бы за боксером на ринге. Они даже заключали пари, предпримет ли Бакленд последний бесповоротный шаг к тому, чтоб объявить себя командиром «Славы», а капитана — неизлечимым.
В капитанском столе были заперты бумаги, а среди них — секретные инструкции, адресованные ему Лордами Адмиралтейства. Никто, кроме капитана, этих инструкций не видел, ни одна душа на судне не догадывалась, что в них. Это могли быть самые обычные приказы, например, они могли предписывать «Славе» присоединиться к эскадре адмирала Бискертона; но, кроме того, они могли содержать дипломатические тайны, не предназначенные для глаз простого лейтенанта. С одной стороны, Бакленд мог по-прежнему держать курс на Антигуа, а там сложить с себя ответственность и передать ее старшему морскому офицеру на острове. Там может найтись какой-нибудь молодой капитан, которого переведут на «Славу» — он прочтет приказы и поведет судно по назначению. С другой стороны, Бакленд мог прочитать приказы сейчас: вдруг в них что-то чрезвычайно спешное. Антигуа — удобная цель для идущих из Англии судов, но с военной точки зрения она не столь желательна, ибо расположена с подветренной стороны от большинства стратегически важных пунктов.
Если Бакленд приведет «Славу» на Антигуа, а потом ему придется лавировать против ветра обратно, он может изрядно схлопотать по рукам от Лордов Адмиралтейства; если же он прочтет секретные приказы, то может получить выговор за свою самодеятельность. Вся кают-компания догадывалась о его положении, и каждый офицер в отдельности поздравлял себя с тем, что его лично это не касается, и в то же время гадал, что же предпримет Бакленд.
Буш и Хорнблауэр бок о бок стояли на юте, широко расставив ноги на качающейся палубе. Встав поустойчивее, они посмотрели на горизонт в свои секстаны. Сквозь темное стекло Буш видел отраженное зеркалом изображение солнца. Он повернул руку, тщательно совмещая изображение с горизонтом. Судно качалось на длинных синих валах, и это мешало Бушу, но он упорно продолжал. Наконец он решил, что изображение солнца село на горизонт, и закрепил секстан. Теперь можно было снять показания и записать их. Уступая новомодным предрассудкам, он решил последовать примеру Хорнблауэра и замерить широту еще и с противоположной стороны горизонта. Он повернулся кругом и произвел замер. Записав результат, он попытался вспомнить, что же надо делать с половиной разницы между двумя показаниями. И с погрешностью совпадения, и с «наклонением». Он огляделся и обнаружил, что Хорнблауэр уже закончил свои наблюдения и ждет его.
— Самая большая широта, какую я когда-либо замерял, — заметил Хорнблауэр. — Никогда не был так далеко на юге. Какой у вас результат?
Они сравнили показания.
— Неплохо совпадают, — сказал Хорнблауэр. — В чем затруднение?
— Высоту солнца я взять могу, — ответил Буш. — Это без проблем. Меня смущают расчеты — эти чертовы поправки.
Хорнблауэр на мгновение поднял бровь. Он привык каждый раз в полдень проводить свои замеры и самостоятельно рассчитывать положение судна, чтобы не разучиться. Он знал, что технически сложно провести точные наблюдения на качающемся судне, но все никак не мог поверить, что кто-то находит трудными последующие математические расчеты (хотя и знал много тому примеров). Для него они были настолько просты, что, когда Буш выразил желание присоединиться к его полученным наблюдениям с целью усовершенствоваться, Хорнблауэр счел само собой разумеющимся, что Буша беспокоит только техника работы с секстаном. Но он вежливо скрыл свое изумление.
— Они несложны, — сказал он и добавил: — сэр. — Умный офицер не станет кичиться перед старшим своим умственным превосходством. Хорнблауэр осторожно подобрал слова для следующей фразы.
— Если бы вы спустились вниз, сэр, вы могли бы просмотреть мои расчеты.
Буш терпеливо выслушал объяснения Хорнблауэра. На мгновение они полностью прояснили ему проблему (лишь поспешное чтение в последнюю минуту позволило Бушу сдать лейтенантские экзамены, хотя помогла ему в этом не знание навигации, а морская практика), но он по горькому опыту знал, что завтра все будет так же туманно.
— Теперь мы можем нанести наше положение, — сказал Хорнблауэр, склоняясь над картой.
Буш смотрел, как ловкие пальцы Хорнблауэра двигают по карте параллельные линейки. У Хорнблауэра были длинные, худые, довольно красивые руки. Их умелые и точные движения завораживали Буша. Хорнблауэр сильными пальцами взял карандаш и прочертил линию.
— Вот точка пересечения, — сказал он. — Теперь мы можем проверить себя по счислению пути.
Даже Буш мог понять простые действия, нужные чтоб нанести курс судна по счислению пути со вчерашнего полдня. Твердые пальцы нанесли на карту маленький крестик.
— Видите, мы по-прежнему сдвигаемся к югу, — сказал Хорнблауэр. — Мы еще недостаточно продвинулись на восток, чтоб Гольфстрим начал сносить нас к северу.
— Вы говорили, что никогда не были в этих водах? — спросил Буш.
— Да.
— Тогда как же… Ох, понятно, вы читали.
Буша так же удивляло, что человек может прочитать заранее и таким образом подготовиться к новым условиям, как удивляло Хорнблауэра, что кого-то смущает математика.
— В любом случае, мы здесь, — сказал Хорнблауэр, постукивая по карте карандашом.
— Да, — ответил Буш.
Оба посмотрели на карту, думая об одном и том же.
— Как вы думаете, что сделает первый? — спросил Буш. Пусть Бакленд и законный командир судна, но говорить о нем как о капитане еще рано — «капитаном» все еще была рыдающая личность, спеленатая парусиной на койке в своей каюте.
— Не знаю, — отвечал Хорнблауэр. — Но он решится сейчас, или никогда. Вы же видите, с этого дня нас все время будет сносить в подветренную сторону.
— Что бы сделали вы? — Буша интересовал этот младший лейтенант, такой находчивый в действиях и такой сдержанный в словах.
— Я прочел бы приказы, — тут же ответил Хорнблауэр. — Пусть лучше меня накажут за действия, чем за бездействие.
— Не знаю… — сказал Буш.
С другой стороны, конкретные действия гораздо скорее могли стать поводом для трибунала, чем их отсутствие. Буш это чувствовал, но ему не хватало слов, чтобы выразить свое ощущение.
— Эти приказы могут направлять нас в отдельное плавание, — продолжал Хорнблауэр. — Господи, какой шанс для Бакленда!
— Это верно, — сказал Буш.
В голосе Хорнблауэра прозвучало страстное желание. Если кто и жаждал самостоятельного командования с вытекающими из него возможностями отличиться, так это Хорнблауэр. Буш не знал, хотел бы он сам командовать линейным кораблем в опасных водах или нет. Он смотрел на Хорнблауэра с растущим интересом. Хорнблауэр всегда готов к смелым решениям, он безусловно предпочитает действие бездействию, он широко начитан и притом хороший практик — в этом Буш не раз имел возможность убедиться. Образованный и в то же время деятельный человек; пылкий и в то же время скрытный — Буш вспомнил, как тактично он вел себя во время чрезвычайного происшествия с капитаном и как ловко он управлял Баклендом.
И… и… что же на самом деле произошло с капитаном? Думая об этом, Буш снова бросил на Хорнблауэра испытующий взгляд. Он не употреблял сознательно слов «мотив» и «возможность» — это было не в его духе — но он двинулся по пути логических рассуждений, указанному именно этими словами. Он хотел повторить вопрос, который уже задавал, но сделать это — значило не только напроситься на резкий отпор, это значило заслужить его. Положение Хорнблауэра было достаточно выгодно, и Буш знал — он не откажется от этого положения по неосторожности или от волнения. Буш посмотрел на худое, пылкое лицо, на длинные пальцы, барабанившие по карте. Неправильно, недолжно, негоже ему восхищаться Хорнблауэром, который не только на два года младше его (это не имело значения), но младше его, как лейтенант. Значение имели только даты их назначения — по традициям службы к младшему невозможно испытывать уважение. Иное было бы неестественно, и даже попахивало бы французским эгалитаризмом, тем самым, против которого они сражались. Мысль о том, что он заразился революционными идеями, смутила Буша. Он заерзал на стуле, но так и не смог избавиться от этого чувства.
— Я все это убираю, — сказал Хорнблауэр, вставая со стула. — После того, как матросы пообедают, я провожу учения орудийных расчетов нижней палубы. А после этого у меня первая собачья вахта.
VI
Закрепив пушки нижней палубы, потные матросы высыпали наверх. «Слава» достигла уже тридцати градусов северной широты, и на орудийной палубе, несмотря на открытые для учения порты, было жарко, а ворочать пушки — работа горячая. Хорнблауэр изрядно погонял свою команду, сто восемнадцать человек, и теперь, высыпав на палубу, на солнечный свет и свежий воздух, они услышали добродушные насмешки других матросов, которым не пришлось работать так тяжело, но которые знали, что скоро придет их черед.
Пушкари вытирали потные лбы и бросали шутки — корявые и грубые, как комья земли, на которой они взросли — обратно своим мучителям. Офицерам отрадно было видеть бодрых матросов, и знать, что преобладает хорошее настроение, что за прошедшие со смены командования три дня атмосфера на судне значительно улучшилась. Исчезли подозрительность и страх; после краткого неудовольствия матросы обнаружили, что учения и постоянный труд поднимают дух и приносят удовлетворение.
Хорнблауэр, весь в поту, прошел на корму и отдал честь стоявшему на вахте Робертсу. Тот болтал с Бушем возле уступа полуюта. Просьба Хорнблауэра была настолько необычна, что Робертс и Буш с изумлением уставились на него.
— А как же палуба, мистер Хорнблауэр? — спросил Робертс.
— Матросы вытрут ее шваброй за две минуты, сэр, — сказал Хорнблауэр, смахивая пот и с нескрываемым вожделением глядя на синее море за бортом. — Еще пятнадцать минут до того, как мне вас сменять — времени достаточно.
— Э, очень хорошо, мистер Хорнблауэр.
— Спасибо, сэр, — сказал Хорнблауэр и, снова козырнув, нетерпеливо повернулся. Робертс и Буш обменялись взглядами, в которых веселости было не меньше, чем изумления. Они смотрели, как Хорнблауэр отдает приказания.
— Шкафутный старшина! Эй, шкафутный старшина!
— Сэр?
— Немедленно вооружить помпу для мытья палубы!
— Вооружить помпу для мытья палубы?
— Да. Четырех матросов к рукояткам. Одного к шлангу. Ну-ка быстрее! Я буду здесь через две минуты.
Шкафутный старшина, проводив Хорнблауэра взглядом, принялся исполнять необычный приказ. Хорнблауэр был точен: через две минуты он вернулся, совершенно голый, если не считать намотанного вкруг бедер полотенца. Все это было очень странно.
— Ну, давайте! — крикнул он матросам у рукояток:
Они сомневались, но приказ исполнили, по двое бросая свой вес на рукояти: вверх-вниз, вверх-вниз, кланк-кланк. Шланг зашевелился, наполняясь водой; в следующий момент из него хлынула струя чистой воды.
— Направьте ее на меня, — сказал Хорнблауэр, сбрасывая полотенце. Теперь он стоял в солнечном свете совершенно голый.
Матрос у шланга заколебался.
— Ну, быстрей.
Все с тем же сомнением матрос подчинился приказу и направил струю на своего офицера, тот закрутился под ней сначала в одну, потом в другую сторону. Зрители явно забавлялись этим представлением.
— Качайте, сукины дети! — крикнул Хорнблауэр.
Широко ухмыляясь, матросы с таким энтузиазмом налегли на рукояти, что их ноги отрывались от палубы. Чистая вода с силой хлынула из шланга. Хорнблауэр завертелся под жгучей струей, лицо его изображало мучительный восторг.
Бакленд стоял у гакаборта, задумчиво глядя на пенистый след корабля, но стук помпы привлек его внимание. Он зашагал к Робертсу и Бушу взглянуть на странное зрелище.
— Странные причуды у мистера Хорнблауэра, — заметил он с улыбкой. Улыбка эта была грустная, ибо лицо Бакленда омрачали тревожившие его заботы.
— По-видимому, ему это нравится, — сказал Буш. Глядя, как прыгает под сверкающей струей Хорнблауэр, Буш в своем тяжелом мундире ощутил покалывание под рубашкой и подумал даже, что приятно позволить себе такой душ, как бы вредно это ни было для здоровья.
— Стой! — завопил Хорнблауэр. — Стой же!
Матросы за помпой прекратили работу и струя превратилась в струйку, потом исчезла.
— Шкафутный старшина! Уберите помпу. Прикажите вытереть палубу.
— Есть, сэр.
Хорнблауэр схватил полотенце и затрусил по главной палубе. Он взглянул на стоящих офицеров с ухмылкой, в которой отразились его восторг и хорошее настроение.
— Не знаю, полезно ли это для дисциплины, — заметил Робертс, когда Хорнблауэр исчез. И добавил с запоздалой проницательностью: — Я думаю, с этим все в порядке.
— Я думаю, что так, — сказал Бакленд. — Будем надеяться, он не простудится. Он был такой распаренный.
— По-моему, ему хорошо, сэр, — промолвил Буш. Перед его глазами все еще стояла ухмылка Хорнблауэра. В его памяти она слилась с пылким лицом младшего лейтенанта, рассуждавшего, как бы он поступил на месте Бакленда.
— Десять минут до восьми склянок, сэр, — доложил старшина-рулевой.
— Очень хорошо, — сказал Робертс.
Мокрое пятно на палубе почти высохло; на него падали лучи солнца, все еще жаркого в четыре часа пополудни, и с палубы поднимался пар.
— Свистать вахту, — сказал Робертс.
Хорнблауэр с подзорной трубой выбежал на шканцы; похоже, он натянул одежду с той же быстротой, с которой делал все остальное. Он отдал честь, собираясь сменить Робертса.
— Вы хорошо освежились под душем? — спросил Бакленд.
— Да, сэр, спасибо.
Буш посмотрел на этих двоих: пожилой, снедаемый заботами первый и молодой пятый лейтенант, старший с грустью завидует молодости младшего. Буш кое-что знал о людях. Он никогда не смог бы свести результаты своих наблюдений в таблицы, он просто накапливал знания; опыт и наблюдательность вместе с природной смекалкой формировали его суждения, даже когда он сам не замечал, что рассуждает. Он чувствовал, что флотские офицеры (про сухопутную часть человечества он не знал почти ничего) делятся на предприимчивых и безынициативных, на тех, кто жаждет действий и тех, кто предпочитает ждать, пока их к этим действиям принудят. Прежде этого он узнал простейшие вещи — что офицеры делятся на толковых и бестолковых, а также на умных и тупых — последняя классификация почти совпадала с предыдущей, но не всегда. Были офицеры, которые в минуту опасности действовали быстро и разумно, и те, кто этого не умел — и тут черта между ними проходила не совсем так, как в предыдущем случае. Были офицеры благоразумные и нет, спокойные и беспокойные, с сильными нервами и слабонервные. В некоторых случаях оценки Буша входили в противоречие с его предрассудками: он склонен был опасаться неординарного мышления и жажды деятельности, тем более что при отсутствии прочих желательных качеств они могли доставить немало хлопот. Окончательным и самым заметным различием из всех, что Буш наблюдал за десять лет непрерывной войны, было различие между теми, кто может вести за собой и теми, кого надо вести. Это различие Буш ощущал, хотя и не мог бы выразить словами тем более такими ясными и определенными.
Это различие невольно пришло ему на ум пока он глядел как разговаривают на шканцах Хорнблауэр и Бакленд. Послеполуденная вахта закончилась, началась первая собачья вахта — ее должен был нести Хорнблауэр. Это было традиционное время отдыха: дневной жар спадал, матросы собирались на носу, поглядывая на резвящихся вокруг судна дельфинов. Офицеры, днем дремавшие в своих каютах, поднимались на шканцы подышать воздухом, побродить небольшими группками, поговорить.
На военном судне в походе негде упасть яблоку — такой тесноты не знали самые захудалые лондонские трущобы, где ютится беднота. Однако долгий и трудный опыт научил его обитателей применяться к этим нелегким условиям. На баке одни чинили одежду, весело переговариваясь между собой, другие, освободив себе квадратный ярд палубы, уселись, скрестив ноги, разложили инструменты, материалы и, не обращая внимания на шум и толкотню, занялись ювелирной работой: резали по кости, вышивали, мастерили крошечные модели. Ближе к корме офицеры гуляли по двое, по трое, на тесных шканцах, переговариваясь и не мешая другим гуляющим.
В соответствии с флотской традицией они оставляли наветренную сторону Бакленду, пока тот находился на палубе, а в этот вечер, похоже, Бакленд решил задержаться надолго. Он глубоко ушел в разговор с Хорнблауэром. Они прохаживались вдоль шканцевых карронад, восемь ярдов туда, восемь ярдов обратно; на флоте давно убедились, что, когда пространство для прогулки ограничено, разговор не должен прерываться на поворотах. Каждая пара офицеров, уперевшись в ограждение, поворачивала обратно. На мгновение они оказывались лицом друг к другу и продолжали разговор без малейшей паузы. Все они ходили, сцепив руки за спиной — еще мичманами их начисто отучили держать руки в карманах.
Так ходили и Бакленд с Хорнблауэром. Остальные бросали на них любопытные взгляды, ибо даже в этот золотой вечер, когда солнце садилось с правого борта в эмалево-синее море, обещая великолепный закат, все знали, что под ними в каюте лежит несчастный больной, наполовину замотанный в смирительную рубашку, и Бакленд должен решить, что же с ним делать. Взад и вперед, взад и вперед ходили Бакленд с Хорнблауэром. Последний по обыкновению держался почтительно, а Бакленд, по видимости, задавал вопросы. Похоже, некоторые ответы были для него неожиданны: Бакленд не раз останавливался посреди поворота, глядел Хорнблауэру в лицо и, видимо, переспрашивал. Хорнблауэр, похоже, был непреклонен, как в прямом, так и переносном смысле: твердо, но с почтением стоял на своем. Солнце освещало изможденное лицо Бакленда.
Может быть, счастливая судьба надоумила Хорнблауэра искупаться под помпой — именно с этого начался разговор.
— Военный совет? — спросил Смит Буша, глядя на двух офицеров.
— Вряд ли, — ответил Буш.
Первый лейтенант не станет напрямую просить совета или даже спрашивать мнение у офицера настолько младше себя. И все же… все же это возможно, если начать малозначащий разговор о чем-то другом.
— Только не говорите мне, что они обсуждают католическую эмансипацию [20], — сказал Ломакс.
Вполне возможно, виновато подумал Буш, что они обсуждают нечто иное — например, как же капитан свалился в люк. При этой мысли Буш поймал себя на том, что машинально ищет глазами Вэйларда. Тот беззаботно болтал на грота-вантах с мичманами и штурманскими помощниками. Но, может быть, Бакленд и Хорнблауэр говорят совсем о другом. Судя по их поведению, темой разговора были теории, а не факты.
— Во всяком случае, до чего-то они договорились, — сказал Смит.
Хорнблауэр отдал честь, и Бакленд повернулся, чтобы идти вниз. Несколько пар любопытных глаз устремились на оставшегося в одиночестве Хорнблауэра. Заметив эти взгляды, он шагнул к офицерам.
— Государственные дела? — Ломакс задал вопрос, который хотелось задать всем.
Хорнблауэр спокойно встретил его взгляд.
— Нет, — сказал он и улыбнулся.
— Было похоже, вы обсуждаете что-то важное, — заметил Смит.
— Смотря что подразумевать под этим словом, — ответил Хорнблауэр.
Он все еще улыбался, но улыбка не давала ни малейшего ключа к его мыслям. Настаивать дальше было бы грубо: может быть, они с Баклендом обсуждали что-нибудь личное. По их виду ни о чем нельзя было догадаться.
— Ну-ка слезьте с этих гамаков! — крикнул Хорнблауэр. Болтающие мичманы не нарушали ни одно из корабельных предписаний, но это был повод сменить разговор.
Пробили три склянки: прошло три четверти первой собачьей вахты.
— Мистер Робертс, сэр! — выкрикнул из люка часовой, охранявший огнепроводные шнуры дымовых шашек. — Позовите мистера Робертса.
Робертс обернулся.
— Кто меня зовет? — спросил он, хотя, учитывая, что капитан болен, лишь один человек на судне мог позвать второго лейтенанта.
— Мистер Бакленд, сэр. Мистер Бакленд зовет мистера Робертса.
— Очень хорошо, — сказал Робертс, сбегая по трапу.
Остальные переглянулись. Возможно, решающий момент наступил. С другой стороны, Бакленд мог позвать Робертса по самому заурядному делу. Хорнблауэр воспользовался тем, что все отвлеклись, отошел и продолжил прогулку по наветренной стороне судна. Он ходил, подбородком почти касаясь груди, уравновешивая наклон головы сцепленными за спиной руками.
Снизу снова раздался крик, подхваченный часовым у люка.
— Мистер Клайв! Позовите мистера Клайва! Мистер Бакленд зовет мистера Клайва.
— О-хо-хо! — многозначительно произнес Ломакс, глядя на спешащего по трапу доктора.
— Что-то случилось, — сказал Карберри, штурман. Время шло, ни второй лейтенант, ни врач не возвращались. Смит, держа под мышкой подзорную трубу как символ своих временных полномочий, отдал Хорнблауэру честь, готовясь сменить его с началом второй собачьей вахты. Небо на востоке почернело, а с правого борта садящееся солнце окрасило его в великолепие алых и золотых тонов. От корабля до солнца все море сверкало золотом, постепенно переходившим в пурпур. Летучая рыбка разорвала поверхность воды и взмыла вверх, оставив на воде мимолетную борозду, словно царапину на эмали.
— Посмотрите! — воскликнул Хорнблауэр, обращаясь к Бушу.
— Летучая рыба, — безразлично ответил Буш.
— Да! А вот еще!
Хорнблауэр перегнулся через борт, чтобы получше разглядеть.
— Вы их еще насмотритесь в этом плавании, — сказал Буш.
— Я никогда их прежде не видел.
Удивительная игра выражений прошла по лицу Хорнблауэра: он надел на жгучее любопытство маску полного безразличия, как другой натягивает на руку перчатку. Как ни разнообразна была его прошлая служба, она ограничивалась европейскими морями — несколько лет опасных боевых действий вблизи французских и испанских берегов, два года на «Славе» в Ла-Маншском флоте. Хорнблауэр пылко стремился ко всему новому и необычному, ожидающему его в тропических водах. Но его собеседнику все это было не в новинку, и он не выразил ни малейшего восторга при виде первой в их плавании летучей рыбки. Хорнблауэр не собирался уступать кому-либо в бесстрастности и самообладании: раз чудеса глубин не трогают Буша, они тем более не должны вызывать детского восторга у него самого, по крайней мере явного восторга. Он ветеран, а не новобранец.
Буш поднял голову и увидел, что Робертс с Клайвом поднимаются по трапу в сгущающуюся ночь. Он живо повернулся к ним. Офицеры сошлись теснее, послушать, что же те скажут.
— Ну, сэр? — спросил Ломакс.
— Он это сделал, — сказал Робертс.
— Он прочитал секретные приказы? — спросил Смит.
— Насколько я понял, да.
— Ох!
Наступила пауза, пока кто-то не задал неизбежный глупый вопрос:
— И что в них?
— Инструкции секретные, — сказал Робертс. В голосе его звучала важность — то ли он отыгрывался таким образом за неведение, то ли, став вторым по старшинству, острее ощутил свою значимость. — Если бы мистер Бакленд и доверил мне их содержание, я все равно ничего не смог бы вам сказать.
— Верно, — согласился Карберри.
— А как это воспринял капитан? — спросил Ломакс.
— Бедняга! — Теперь, когда все взгляды устремились на него, Клайв раздулся от важности. — Похоже, он принял нас за исчадия ада. Вы бы видели, как он сжался, когда мы вошли. Эти болезненные страхи становятся все острее.
Клайв ждал, что его попросят говорить дальше, и хотя таковой просьбы и не последовало, продолжил свой рассказ.
— Нам надо было найти ключи от стола. Можно было подумать, мы собираемся перерезать ему горло, так он плакал и пытался спрятаться. Все горести мира — все страхи ада — мучают этого несчастного.
— Но ключ-то вы нашли? — перебил его Ломакс.
— Нашли. И открыли стол.
— И что дальше?
— Мистер Бакленд нашел приказы. Обычный полотняный пакет с адмиралтейской печатью. Пакет был уже вскрыт.
— Естественно, — сказал Ломакс. — И что потом?
— А теперь, я полагаю, — сказал Клайв, чувствуя общее напряжение, — он их читает.
— А мы так ничего и не знаем.
Все разочарованно замолчали.
— Господи! — сказал Карберри. — Мы воюем с 93-го. Почти десять лет. И вы хотите знать, что вас ждет?! Сегодня Вест-Индия — завтра Галлифакс. Мы исполняем приказы. Руль под ветер — отдавай и выбирай. Может — угостят картечью, может — шампанским с захваченного флагмана. Наше дело маленькое. Мы зарабатываем свои четыре шиллинга в день, независимо от погоды.
— Мистер Карберри! — послышалось снизу. — Мистер Бакленд зовет мистера Карберри.
— Господи! — снова сказал Карберри.
— Теперь вы сможете отработать свои четыре шиллинга в день, — сказал Ломакс.
Замечание адресовалось удаляющейся спине Карберри, который уже сбегал вниз.
— Сейчас мы будем менять курс, — сказал Смит. — Спорю на недельное жалованье.
— Дураков нет, — ответил Робертс.
В предстоящем можно было не сомневаться, ибо Карберри, штурман, отвечал на судне за навигацию.
Наступила ночь, и лица говоривших были неразличимы в темноте, хотя на западе еще алела узкая полоска, и бледная красноватая дорожка пролегла по черной воде к судну. Зажгли нактоузные огни; самые яркие звезды уже проступили на черном небе. Верхушки мачт, казалось, задевали их, покачиваясь вместе с судном, бесконечно высоко над головами. Пробил судовой колокол, но офицеры не собирались расходиться. Нетерпение росло. Вот Бакленд и Карберри поднялись по трапу; остальные собрались на другой стороне шканцев, освобождая им место.
— Вахтенный офицер! — позвал Бакленд.
— Сэр! — Смит в темноте выступил вперед.
— Мы меняем курс на два румба. Курс зюйд-вест.
— Есть, сэр. Курс зюйд-вест. Мистер Эббот, свистать команду к брасам.
«Слава» легла на новый курс. Паруса ее развернулись к ветру, составлявшему не более румба с ее правым бортом. Карберри подошел к нактоузу убедиться, что рулевой точно выполнил его приказ.
— Эй! Еще разок нажать на фока-брасы с наветренной стороны! — крикнул Смит. — Стой!
Свистки, сопровождавшие перемену курса, стихли.
— Курс зюйд-вест, сэр, — доложил Смит.
— Очень хорошо, мистер Смит, — сказал Бакленд, стоявший у ограждения.
— Простите, сэр, — осмелился спросить Робертс у маячившего в темноте Бакленда. — Вы можете сказать нам наше задание?
— Задание не могу. Это все еще секрет, мистер Робертс.
— Ясно, сэр.
— Но скажу вам, куда мы направляемся. Мистер Карберри уже знает.
— Куда, сэр?
— Санто-Доминго. Бухта Шотландца.
Последовала пауза. Всем надо было переварить полученное сообщение.
— Санто-Доминго, — повторил кто-то задумчиво.
— Эспаньола, — пояснил Карберри.
— Гаити, — произнес Хорнблауэр.
— Санто-Доминго, Гаити, Эспаньола, — сказал Карберри. — Три названия одного острова.
— Гаити! — воскликнул Робертс. Это название задело какую-то струну в его памяти. — Это там, где негры взбунтовались.
— Да, — согласился Бакленд.
Все заметили, что он постарался произнести это слово безо всякого выражения, возможно по причине сложной дипломатической ситуации, касающейся негров, а возможно потому, что страх перед капитаном все еще витал над судном.
VII
Лейтенант Бакленд, исполняющий обязанности командующего семидесятипушечным судном Его Величества «Слава», стоял на шканцах, разглядывая в подзорную трубу низкие горы Санто-Доминго. Судно неприятно и неестественно кренилось. Длинные атлантические валы, гонимые пассатом, проходили под килем судна, лежавшего в дрейфе под последними порывами бриза, дувшего с полуюта и теперь понемногу стихавшего по мере того, как жаркое солнце нагревало остров. «Слава» кренилась на борт; пушечные порты нижней палубы оказывались над водой то с одной, то с другой стороны, ибо дувший над волнами легкий бриз не мог удержать прямо лежавшее под обстененным крюйселем судно. Оно кренилось на один борт, пока пушечные тали не начинали скрипеть под тяжестью пушек, и на круто наклоненной палубе почти невозможно становилось удержаться. Тут оно замирало на несколько мучительных секунд, медленно выпрямлялось, и, не задерживаясь в этом положении, продолжало, под грохот блоков и скрип такелажа, тошнотворное падение, пока не оказывалось на другом борту. Пушечные тали скрипели, неосторожные люди скользили и падали, а судно замирало, но тут волна прокатывалась под ним и все начиналось сначала.
— Господи, — сказал Хорнблауэр, цепляясь за кофель-нагель в кофель-планке бизани, чтобы не скатиться с палубы в шпигат, — неужели он никак не может решиться?
Что-то во взгляде Хорнблауэра заставило Буша взглянуть на него повнимательней.
— Укачало? — удивился он.
— Еще бы не укачало, — ответил Хорнблауэр. — Как оно кренится!
Железный желудок Буша ни разу не побеспокоил его, однако Буш знал, что другие, менее везучие люди, страдают морской болезнью даже проведя в море несколько недель, особенно когда меняется движение судна. Эта похоронная качка не имела ничего общего со свободным полетом идущей под парусами «Славы».
— Бакленд должен разглядеть побережье, — сказал он, чтоб подбодрить Хорнблауэра.
— Что тут еще разглядывать? — проворчал Хорнблауэр. — Над фортом развевается испанский флаг. Теперь все на берегу узнают, что у них под носом рыщет линейный корабль, и донам не понадобится много ума, чтоб догадаться: это не увеселительная прогулка. Теперь у них будет вдоволь времени, чтобы подготовиться к встрече с нами.
— Но что ему оставалось делать?
— Он мог подойти ночью с морским бризом. Подготовить десант. Высадить его на заре. Взять форт штурмом, прежде чем они догадаются об опасности. О, Господи!
Последнее восклицание не имело отношения к сказанному. Оно относилось к состоянию желудка Хорнблауэра. Несмотря на сильный загар, щеки молодого лейтенанта болезненно позеленели.
— Плохо дело, — сказал Буш.
Бакленд по-прежнему стоял, силясь, несмотря на качку, разглядеть берег. Это была бухта Шотландца, Байа Эскосеса, как называли ее испанские карты. К западу берег был пологий; огромные валы разбивались на подходе к нему и, слабее, растекались кипенно-белой пеной. С востока к морю спускались плоские, поросшие лесом холмы, волны ударялись об их подножье, пелена брызг взлетала высоко к обрывам и обрушивалась густым дождем. Холмы тянулись на тридцать миль вдоль берега, почти с запада на восток, и составляли полуостров Самана, оканчивающийся Саманским мысом. По карте полуостров был не шире десяти миль. Дальше, за Саманским мысом, лежала бухта Самана, открывающаяся в пролив Мона. Здесь была самая удобная стоянка для каперов и мелких военных судов. Тут они могли бросить якорь под защитой форта на полуострове Самана, готовые в любой момент, выскользнуть и напасть на Вест-Индский конвой, идущий проливом Мона. «Славе» было приказано очистить логово разбойников, прежде чем двинуться в наветренную сторону, к Ямайке — об этом на судне все уже успели догадаться. Бакленд, столкнувшись с этой задачей, не знал, как к ней подступиться. Его колебания были очевидны всем наблюдателям, столпившимся на палубе «Славы».
Грот неожиданно громко хлопнул, и судно медленно начало разворачиваться носом к морю: береговой бриз ослаб, и пассат, постоянно дующий через Атлантику, начал забирать свою власть. Бакленд с облегчением опустил подзорную трубу. По крайней мере, это повод отложить боевые действия на потом.
— Мистер Робертс!
— Сэр!
— Положите ее на левый галс! Руль круто к ветру!
— Есть, сэр.
Кормовые матросы бросились к бизань-брасам, и корабль медленно увалился под ветер. Марсели постепенно надувались, и судно кренилось, одновременно набирая скорость. Следующую волну смело встретил левый борт, разбивши ее в бесчисленные мелкие брызги. Натянутый такелаж запел повеселее, вплетая свой голос в музыку разрезаемой судном воды. Корабль снова ожил, а не болтался в подошве волны, как труп. Ревущий пассат подхватил его. Судно понеслось, радостно подпрыгивая на волнах, оставляя на синей воде пенистый след, море ревело под его носом.
— Лучше? — спросил Хорнблауэра Буш.
— В одном смысле лучше, — последовал ответ. Хорнблауэр смотрел на удаляющиеся холмы Санто-Доминго. — Я хотел бы, чтоб мы шли в бой, а не убегали, дабы о нем поразмыслить.
— Вот вояка какой! — сказал Буш.
— Кто, я? Вояка? Да ничего подобного — совсем наоборот. Я хотел бы… полагаю, я хотел бы слишком многого.
Некоторых людей не поймешь — философски подумал Буш. Сам он с удовольствием грелся на солнышке: судно шло под ветром и жар немного спал. Если в будущем предстоят опасные боевые действия, что ж, можно подождать их со стоической выдержкой. И уж точно Буш мог поздравить себя с тем, что ответственность за семидесятипушечный линейный корабль лежит не на нем. Близость боя по крайней мере отвлекала от того ужасного факта, что внизу заключен безумный капитан.
За обедом в кают-компании Буш посмотрел на Хорнблауэра: тот ерзал и нервничал. Бакленд объявил, что намерен на следующий день взять быка за рога, обойти мыс Самана и пробиться прямо в залив. «Славе» потребуется всего несколько бортовых залпов, чтоб смести все корабли, стоящие здесь на якоре. Буш всецело одобрил план. Смести каперов, сжечь и потопить, а потом будет время подумать, что делать дальше и делать ли вообще. Бакленд спросил, есть ли у офицеров вопросы. Смит вполне разумно спросил про приливы: Карберри ответил ему. Робертс задал один-два вопроса о ситуации на южном берегу бухты, но Хорнблауэр, сидевший в конце стола, ни разу не раскрыл рта, однако внимательно смотрел на каждого говорившего по очереди.
Пока продолжались собачьи вахты, Хорнблауэр в одиночестве бродил по палубе и размышлял, низко склонив голову. Буш заметил, что его сцепленные за спиной пальцы нервно сжимаются и разжимаются. Он вдруг засомневался. Возможно ли, чтоб этому энергичному молодому офицеру не доставало личного мужества? Эта фраза не принадлежала Бушу. Он слышал ее по чьему-то поводу несколько лет назад. Сейчас лучше было употребить ее, чем прямо сказать себе, что он подозревает Хорнблауэра в трусости. Буш был не слишком терпим к чужим слабостям: с трусами он не желал иметь ничего общего.
На рассвете по палубам засвистели дудки, барабаны морских пехотинцев отбивали бодрый ритм.
— Готовить палубы к бою! Все по местам! Корабль к бою!
Буш спустился на нижнюю пушечную палубу, где располагался его боевой пост. Он командовал всей палубой и семнадцатью двадцатичетырехфунтовками правой батареи, Хорнблауэр под его началом распоряжался пушками левого борта. Матросы уже снимали перегородки и убирали препятствия. Небольшая докторская команда прошла по палубе: они несли примотанного к доске человека в смирительной рубашке. Несмотря на рубашку и веревки тот извивался и жалобно скулил — капитана несли в безопасный канатный ящик, а его каюту тем временем готовили к бою. Один или два матроса нашли время, несмотря на суматоху, сочувственно покачать головами ему вслед, но Буш тут же их одернул. Он хотел достаточно быстро доложить, что нижняя палуба готова к бою.
Появился Хорнблауэр, отдал Бушу честь и встал рядом с ним, присматривая за работой. Большая часть нижней палубы была погружена в полумрак; столбы света, падавшие из люков, почти не освещали дальние углы покрашенной в темно-красный цвет палубы. Пробежали человек шесть юнг, каждый нес по корзине с песком, который они тут же принялись горстями рассыпать по палубе. Буш внимательно наблюдал за ними: от них зависело, будет ли у пушкарей хорошая опора или нет. Ведра, стоявшие у каждой пушки, наполнили водой; они служили двоякой цели: мочить банники, которыми прочищают пушки, и быстро заливать огонь. Вокруг грот-мачты кольцом стояли запасные пожарные ведра, в кадках по обоим бортам тлели огнепроводные шнуры, от которых канониры могли при необходимости поджигать фитильные пальники. Огонь и вода. По палубе, стуча башмаками, промаршировала судовая полиция в красных мундирах с белыми портупеями; верхушки киверов задевали о палубные бимсы. Капрал Гринвуд поставил у каждого люка солдат с примкнутыми штыками и заряженными ружьями. Делом полиции было следить, чтоб никто без разрешения не спустился вниз и не спрятался бы в безопасной части судна ниже ватерлинии. Мистер Хоббс, исполняющий обязанности артиллериста, направился со своими помощниками и подручными в пороховой погреб. Все они были в матерчатых тапочках, чтобы порох, который в пылу битвы неизбежно просыплется на дно погреба, не загорелся от трения подошв.
Побежали подносчики пороха с зарядными картузами. Орудийные брюки были отцеплены, и матросы взялись за тали, ожидая приказа открыть порты и выдвинуть пушки. Буш быстро оглядел оба борта. Канониры на местах. Возле каждой пушки правого борта стоит по десять человек, возле каждой пушки левого — по пять; соответственно максимальный и минимальный орудийный расчет для двадцатичетырехфунтовки. Буш должен был в числе прочего следить за расстановкой людей у пушек. Если надо будет стрелять с обоих бортов, он поделит людей поровну, а когда появятся убитые и раненые, а пушки начнут выходить из строя, он будет перераспределять орудийные расчеты. Унтер-офицеры и уорент-офицеры доложили о готовности своих подразделений, и Буш повернулся к стоявшему рядом с ним мичману, в чьи обязанности входило передавать сообщения.
— Мистер Эббот, доложите, что нижняя палуба готова к бою. Спросите, надо ли выдвигать пушки.
— Есть, сэр.
Только что корабль гудел от шума и суматохи, и вот уже все тихо, только слышно, как скрипит древесина. Корабль ритмично покачивался на волнах — стоящий возле грот-мачты Буш покачивался вместе с ним. Юный Эббот снова сбежал по трапу.
— Мистер Бакленд передает вам свои приветствия и просит пока не выдвигать пушки.
— Очень хорошо.
Хорнблауэр, стоявший чуть дальше к корме, в ряд с рым-болтами задних пушечных талей, обернулся послушать, что скажет Эббот, а теперь повернулся обратно. Ноги его были широко расставлены, и Буш заметил, что руки он сцепил за спиной и крепко сжал. Напряженность позы, разворот плеч и наклон головы можно было толковать как угодно — и как горячее желание сражаться, и как прямо противоположное. Канонир обратился к Хорнблауэру, и Буш наблюдал, как тот повернулся, чтобы ответить. Даже в полумраке нижней палубы было заметно, что лицо у Хорнблауэра напряженное, а улыбка вымученная. Ну ладно, решил Буш, собрав всю свою снисходительность, многие выглядят так перед боем.
Было тихо, даже Буш навострил уши, пытаясь услышать, что творится наверху, и сделать выводы касательно ситуации. Через люк негромко донеслось:
— Дна нет!
Значит, на руслене бросают лот, а, следовательно, корабль приближается к берегу. На нижней палубе все пришли к тому же умозаключению и принялись его обсуждать.
— Молчать! — прикрикнул Буш.
Новый крик лотового, затем громкий приказ. Вся нижняя палуба, казалось, заполнилась гулом. Выдвигали пушки верхней палубы; в замкнутом пространстве нижней каждый звук отдавался, многократно отражаясь от дерева, так что катящиеся по доскам пушечные катки производили громоподобный шум. Все смотрели на Буша в ожидании приказа; но тот стоял спокойно — он еще никаких приказов не получал. Вот по трапу спустился мичман.
— Мистер Бакленд передает вам свои приветствия и просит выдвинуть пушки.
Он выкрикнул сообщение, даже не вступив на палубу, и все его слышали. Вся палуба загудела, а самые нетерпеливые потянулись к пушечным портам.
— Тихо! — заорал Буш. Все движение виновато прекратилось.
— Открыть порты!
Как только порты открыли, полумрак пушечной палубы сменился солнечным светом, маленькие яркие прямоугольники забегали по палубе вдоль правого борта, расширяясь и сужаясь при движении судна.
— Выдвигай!
При открытых портах шум был не такой сильный. Матросы всем телом налегли на тали, катки заскрипели, дула пушек высунулись наружу. Буш подошел к ближайшему орудию и выглянул в открытый порт. На расстоянии выстрела лежали зеленые холмы; здесь обрывы были поположе, и у их подножия расстилалась заросшая джунглями отмель.
— К повороту!
Буш узнал голос Робертса. Палуба под ногами встала горизонтально, далекие холмы качнулись. Заскрипели мачты, повернулись реи. Видимо, судно огибает Саманский мыс. Движение корабля изменилось сильнее, чем от простой перемены курса. Он не просто шел на ровном киле, он скользил по спокойной воде бухты. Буш присел на корточки возле пушечного дула и посмотрел на берег. Он видел южную сторону полуострова, внутренняя сторона, выходившая в бухту, была почти такой же крутой, как и обращенная к морю. Вот и форт на гребне водораздела, над ним развевается испанский флаг. Взволнованный мичман, словно белка, скатился по трапу.
— Сэр! Сэр! Вы попробуете пристрелочный выстрел по батареям, как только можно будет навести пушки?
Буш холодно посмотрел на него.
— Чей приказ? — спросил он.
— М-мистера Бакленда, сэр.
— Тогда так и говорите. Очень хорошо. Мое почтение мистеру Бакленду, но мои пушки еще не скоро будут на расстоянии выстрела.
— Есть, сэр.
Над фортом поднимался дым, и не только пороховой. Буш с опасением подумал, что это дымят печи для разогрева снарядов, и его чуть не затрясло: скоро форт начнет осыпать их раскаленными докрасна ядрами, и нет никакой возможности ему ответить. Буш не сможет поднять пушки достаточно высоко, чтоб дострелить до форта, а из форта, расположенного на возвышении, проще простого дострелить до судна. Он встал и прошелся к левому борту, где Хорнблауэр, тоже на корточках, выглядывал из порта рядом с пушкой.
— Здесь коса, — сказал Хорнблауэр. — Видите мели? Пролив их огибает. А на косе батарея — посмотрите на дым. Они греют ядра.
— Да уж, — сказал Буш.
Скоро они окажутся под перекрестным огнем. Буш услышал на палубе громкие команды, заскрипели мачты, повернулись реи: «Слава» огибала выступ.
— Форт открыл огонь, сэр, — доложил штурманский помощник, командовавший носовыми пушками правого борта.
— Очень хорошо, мистер Пурвис. — Буш перешел палубу и огляделся. — Вы видели, куда упало ядро?
— Нет, сэр.
— С этой стороны тоже стреляют, сэр, — доложил Хорнблауэр.
— Очень хорошо.
Буш увидел, как форт окутался белым дымом. Прямо между ним и фортом, в пятидесяти ярдах от судна из золотистого моря поднялся столб воды, и в то же мгновение что-то ударило в борт корабля прямо над головой Буша. Ядро рикошетом отлетело от воды и застряло в восемнадцатидюймовой дубовой обшивке судна. Тут послышался стук, словно великанские пальцы забарабанили по палубе: умело наведенный залп поразил судно.
— Я могу дострелить до батареи по этому борту, сэр, — сказал Хорнблауэр.
— Попробуйте, если можете.
Вот и сам Бакленд, раздраженно окликает в люк:
— Когда вы начнете стрелять, мистер Буш?
— Сию минуту, сэр.
Хорнблауэр стоял у центральной двадцатичетырехфунтовки. Канонир просунул длинный рычаг — правило — под лафет пушки и налег на него всем телом. Два матроса с обеих сторон потянули тали, направляя пушку. Из-под казенной части вынули все подъемные клинья, так что пушка теперь была поднята на максимальный угол. Канонир со щелчком откинул железную пластину, закрывавшую запальное отверстие, проследил, как туда забили порох, и с криком «Разойдись!» сунул в него дымящийся пальник. Грохот пушки раскатился в замкнутом пространстве, через порт обратно вплывали облачка дыма.
— Низковато, сэр, — доложил Хорнблауэр, стоявший у соседнего порта. — Когда пушки нагреются, мы его достанем.
— Хорошо, продолжайте.
— Первое отделение, пли! — крикнул Хорнблауэр. Четыре носовых пушки громыхнули почти одновременно.
— Второе отделение!
Буш чувствовал, как содрогается от выстрелов и от отдачи палуба под ногами. Дым набивался в закрытое пространство, горький, едкий; грохот мешал соображать.
— Еще раз, ребята! — кричал Хорнблауэр. — Канониры, следите за наводкой.
Рядом с Бушем послышался ужасающий грохот, что-то с шумом пронеслось мимо него и врезалось в палубный бимс над головой. Что-то, влетевшее в открытый порт, ударило в казенную часть пушки. Два матроса упали возле нее: один лежал тихо, другой бился в агонии. Буш собирался распорядиться насчет них, но нечто более важное привлекло его внимание. В палубном бимсе над его головой образовалась глубокая дыра, из нее клубами валил дым. Раскаленное ядро, ударившись в пушку, разлетелось на части. Большая часть застряла в палубном бимсе, и дерево уже тлело.
— Пожарные ведра сюда! — заорал Буш. Десять фунтов раскаленного докрасна металла, застряв в сухой древесине, могут в несколько секунд поджечь судно. Сверху послышался топот ног, звук передвигаемых механизмов, а затем стук помпы. Значит, на главной палубе тоже сражаются с огнем. С левого борта гремели пушки Хорнблауэра, громыхали по доскам пушечные катки. Это был ад, и адский дым окутывал их.
Снова поворачивались реи, заставляя мачты скрипеть. Несмотря ни на что, надо было вести судно по извилистому фарватеру. Буш выглянул в порт, но, заставив себя спокойно оценить расстояние, убедился, что форт на гребне по-прежнему недосягаем. Нет смысла тратить боеприпасы. Он выпрямился и оглядел окутанную дымом палубу. Что-то было не так. Чтоб проверить свое дикое подозрение, он приподнялся на носки и почувствовал едва ощутимый наклон палубы — она была непривычно неподвижной. О, Господи! Хорнблауэр оглянулся на него и указал вниз, подтверждая страшное подозрение. «Слава» села на мель. Она так плавно въехала на глинистую отмель, что потеряла скорость без малейшего толчка. Однако, нос, видимо, достаточно далеко продвинулся на мель, раз наклон палубы ощутим. Ядра с душераздирающим грохотом ударяли о судно, слышно было, как суетятся пожарные отряды. Корабль на мели и обречен медленно разваливаться на куски под обстрелом проклятых батарей, если прежде не возникнет пожар и они все не зажарятся живьем на глинистой отмели. Хорнблауэр стоял рядом с Бушем, держа в руках часы.
— Прилив еще не кончился, — сказал он. — Самая высокая вода через час. Но, боюсь, мы сели крепко.
Буш поглядел на него и грязно выругался, пытаясь таким образом облегчить свои чувства.
— Спокойно, Даф! — крикнул Хорнблауэр, оглядываясь на орудийный расчет у пушки. — Ну-ка баньте как следует! Вы что, хотите чтоб вам руки поотрывало, когда заряжать будете?
К тому времени, как Хорнблауэр снова повернулся к Бушу, тот уже взял себя в руки.
— Вы говорите, до высокой воды час? — спросил он.
— Да, сэр. По расчетам Карберри.
— О, Господи!
— Мои пушки достреливают до батареи на косе. Если я буду держать под огнем амбразуры, я, по крайней мере, заставлю их стрелять пореже, если не смогу заставить замолчать.
Снова с грохотом ударило ядро, потом еще одно.
— Но та, что за проливом, для нас недосягаема.
— Да, — сказал Хорнблауэр.
В шуме и суматохе бежали подносчики пороха с новыми картузами. Между ними пробирался посыльный мичман.
— Мистер Буш, сэр! Будьте так добры, доложитесь мистеру Бакленду. И мы на мели, под огнем.
— Заткнитесь. Я оставляю батарею на вас, мистер Хорнблауэр.
— Есть, сэр.
Солнечный свет на палубе ослепил Буша. Бакленд без шляпы стоял у ограждения, пытаясь сдержать нервное подергивание лица. Повалил пар — кто-то направил струю из шланга на раскаленные обломки, застрявшие в переборке. Убитые в шпигатах; раненых уносят прочь. Ядром или полетевшими от удара щепками, убило рулевого, и корабль, на мгновение потеряв управление, налетел на мель.
— Нам придется верповать судно, — сказал Бакленд.
— Есть, сэр.
Это значило завезти верп и выбирать канат шпилем, чтоб силой стащить корабль с мели. Буш огляделся по сторонам: он хотел убедиться в том, что успел заключить по ограниченному обзору снизу. Нос корабля был на мели, судно придется тащить кормой вперед. Совсем близко просвистело ядро; Бушу пришлось собрать всю свою волю, чтобы не подпрыгнуть.
— Вам надо будет пропустить якорный канат через кормовой порт.
— Есть, сэр.
— Робертс завезет стоп-анкер на барказе.
— Есть, сэр.
То, что Бакленд пропустил формальное «мистер» свидетельствовало о крайнем напряжении и спешке.
— Я сниму матросов с моих пушек, сэр, — сказал Буш.
— Очень хорошо.
Теперь пришла пора дисциплине и выучке матросов проявить себя. К счастью, команда «Славы» больше чем наполовину состояла из бывалых моряков, прошедших выучку за время блокады Бреста. В Плимуте ее только дополнили завербованными новичками. То, что в Ла-Маншском флоте было простыми учениями, маневром, то, что выполнялось как бы наперегонки со всей эскадрой, теперь оказалось делом жизни и смерти. Буш собрал вкруг себя орудийные расчеты, велел им поднимать якорный канат и тащить его на корму. Над их головами люди Робертса вставали к сей— и рей-талям, чтобы спустить на воду барказ.
Внизу было еще жарче, чем на раскаленной солнцем верхней палуба. Дым от Хорнблауэровых пушек клубился под палубными бимсами; сам Хорнблауэр держал шляпу в руке и вытирал платком потное лицо. Он кивнул Бушу; тому не было необходимости объяснять свои действия. В грохоте пушек, в клубах дыма, среди беготни подносчиков пороха с картузами, среди суетящихся с ведрами пожарных отрядов, люди Буша тащили якорный канат. Сто саженей каната весили больше двух тонн, чтобы протащить эту громадину на корму требовалось четкое и умелое руководство, но когда нужно было сосредоточиться на одном-единственном деле, Буш оказывался на высоте. К тому времени, как тендер оказался под кормой, готовый принять конец, Буш уже размотал канат и уложил его в бухту на палубе. Теперь он наблюдал, как огромная змея без единого рывка скользит через кормовой порт. В поле его зрения появился барказ с раскачивающимся за кормой тяжелым стоп-анкером, Буш порадовался, что сложная операция по погрузке якоря завершилась благополучно. Второй тендер тащил через клюз шпринг. Робертс командовал: Буш слышал, как он окликает тендер. Наконец все три шлюпки отошли от кормы. Вдруг между ними поднялся фонтан брызг: одна из береговых батарей, если не обе, сменили цель. Если они попадут в барказ, это будет катастрофа, если в один из тендеров — серьезная задержка.
— Извините, сэр, — раздался рядом голос Хорнблауэра, и Буш оторвал взор от сверкающей воды.
— Да?
— Я могу откатить на корму часть носовых пушек, — сказал Хорнблауэр. — Это поможет сместить центр тяжести.
— Верно, — согласился Буш; пока он размышлял, вправе ли он отдать приказ под свою ответственность, он заметил, что Хорнблауэр, вытирая пот, измазал себе сажей все лицо. — Лучше получить разрешение Бакленда. Если хотите, спросите его от моего имени.
— Есть, сэр.
Стоявшие на нижней палубе двадцатичетырехфунтовки весили по две с лишним тонны каждая; если часть их перетащить с носа на корму, легче будет снять нос с мели. Буш снова выглянул в порт. Джеймс, мичман на первом тендере, обернулся, проверяя, чтоб канат шел точно в направлении удлинения судна. Если канат от якоря пойдет к шпилю под углом, значительная часть усилий будет затрачена впустую. Барказ и тендер шли рядом, готовясь бросить якорь. Вдруг вода вокруг них закипела: еще один залп с берега. Судя по фонтанам, поднятым отскакивающими рикошетом ядрами, стрелял форт — хорошая стрельба для такого большого расстояния. На корме барказа блеснуло лезвие топора: это отдали якорь, висевший за кормой на рострах. Слава Богу.
Пушки Хорнблауэра по-прежнему гремели; судно вздрагивало от их отдачи. В то же время треск над головой говорил Бушу, что вторая батарея по-прежнему обстреливает судно и ядра по-прежнему достигают цели. По-прежнему все делалось одновременно: Хорнблауэр послал часть матросов перетаскивать на корму передние двадцатичетырехфунтовки с правого борта. Дело было хитрое: приходилось под транцы лафетов подсовывать правила. Устрашающе визжали катки, матросы с усилием поворачивали громоздкие махины и тащили их по людной палубе. Но Бушу некогда было глядеть на Хорнблауэра: он побежал на главную палубу, своими глазами посмотреть, что творится у шпиля.
Матросы под руководством Смита и Бута уже встали к вымбовкам шпиля; чтобы набрать достаточно народа, пришлось снять последних людей с пушек главной палубы. Обнаженные по пояс матросы поплевывали на ладони и покрепче упирались ногами в палубу: им не надо было объяснять, насколько серьезна ситуация, не нужна была и узловатая трость Бута.
— Пошел шпиль! — крикнул Бакленд со шканцев.
— Пошел шпиль! — заорал Бут. — Пошел, чтоб небу стало жарко!
Матросы всем телом навалились на вымбовки, и шпиль начал поворачиваться, выбирая слабину, быстро защелкали палы. Юнгам, стоявшим с сезнями у кабаляринга, пришлось поторапливаться, чтоб поспеть за шпилем. Но вот интервалы между щелчками стали больше, шпиль вращался медленнее. Еще медленнее… щелк… щелк… щелк… Канат натянулся, кнехты потрескивали. Щелк… щелк… Канат новый и может немного растягиваться.
Просвистело ядро — какая злая судьба направила его именно сюда, в это самое место? Летящие щепки, простертые тела — ядро угодило прямо в сплошную человеческую массу у шпиля. Красные струйки крови потекли по освещенной солнцем палубе; люди в понятном замешательстве отступили от покалеченных тел.
— По местам стоять! — заорал Смит. — Эй, юнги! Уберите этих с дороги! Новую вымбовку на шпиль! Ну, давай дружно!
Ядро, произведшее эти ужасные разрушения, не потеряло свою силу, пройдя через человеческие тела; оно полетело дальше, разбило станину пушечного лафета и застряло в борту судна. И кровь не остудила его; в следующую минуту из того места, где оно застряло, повалил дым. Буш собственноручно схватил пожарное ведро и выплеснул его содержимое на пышущее жаром ядро. Одним ведром не остудить двадцать четыре фунта раскаленного докрасна железа, но пожарные уже спешили залить дымящуюся угрозу.
Мертвых и раненных оттащили в сторону. Матросы вновь встали к вымбовкам.
— Пошел! — крикнул Бут.
Щелк… щелк… щелк… все медленней вращался шпиль. Наконец он остановился совсем. Кнехты стонали от напряжения.
— Пошел! Пошел!
Щелк! Неохотно, после долгого перерыва, щелк! И все. Безжалостное солнце жгло напряженные спины матросов; их мозолистые ноги упирались в палубные доски, тела налегали на вымбовки. Оставив их надрываться, Буш спустился вниз. Он мог послать снизу еще людей, чтоб утроить команду у шпиля. Так он и сделал. В дымном полумраке матросы с трудом тащили на корму последнее из носовых орудий. Хорнблауэр стоял у пушек, руководя наводкой. Буш поставил ногу на канат. Он был тверд, не как натянутая веревка, а как деревянная жердь. Тут через подошву ботинка Буш почувствовал легкое, очень легкое вздрагивание; у шпиля утроенная команда налегла на вымбовки. Щелчок еще одного отвоеванного пала отдался в древесине судна. Канат вздрогнул чуть посильнее и снова замер, твердый и неподвижный. Он не сдвинулся под ногой Буша и на один дюйм, хотя, как тот знал, у шпиля сто пятьдесят человек со всей мочи налегают на вымбовки. Через люк слабо доносились подбадривающие крики Смита и Бута, но канат не двигался ни на дюйм. Подошел Хорнблауэр и отдал Бушу честь.
— Заметно движение, когда я стреляю из пушки, сэр? — с этими словами он повернулся и махнул канониру среднего орудия. Оно было уже заряжено и выдвинуто. Канонир поднес пальник к запальному отверстию, пушка громыхнула и в дыму откатилась назад. Буш, стоявший на канате ногой, ощутил легкое движение.
— Так, вибрация… нет… да! — Буша осенило. Задавая вопрос, он уже знал ответ. — Что вы предлагаете?
— Я могу выстрелить из всех пушек сразу, чтобы корабль встряхнуло. Тогда глина может его отпустить.
Да, конечно. «Слава» лежала на глине, которая засасывала ее и не пускала. Если судно сильно встряхнуть, натягивая в то же время канат, может быть удастся его вытащить.
— Я думаю, стоит попытаться, клянусь Богом, — сказал Буш.
— Очень хорошо. Я заряжу и подготовлю пушки через три минуты, сэр. — Хорнблауэр повернулся к батарее и сложил руки рупором. — Прекратите огонь! Прекратите огонь, все.
— Я пойду, скажу на шпиле, — произнес Буш.
— Очень хорошо, сэр. — Хорнблауэр продолжал отдавать приказы. — Двойные заряды. Выдвигай.
Это было последнее, что Буш услышал, поднимаясь на главную палубу. Он сообщил о своем решении Смиту, тот сразу одобрительно кивнул.
— Стой! — закричал Смит, и потные люди у вымбовок расслабили усталые спины.
Пришлось объяснять Бакленду. Он тоже согласился, Несчастный принужден был наблюдать крах своего первого независимого командования. Этот человек, чье судно находилось в смертельной опасности, цеплялся руками за ограждение, сжимая его так, словно хотел свернуть в штопор. Посреди всего этого Смит сообщил чрезвычайно важную новость.
— Робертс мертв, — сказал он, почти не разжимая губ
— Нет!
— Он мертв. Его разорвало ядром на барказе.
— Господи…
К чести Буша надо сказать, что он прежде пожалел о смерти Робертса, и лишь после этого отметил про себя, что теперь он первый лейтенант линейного корабля. Но сейчас не было времени ни скорбеть, ни радоваться. «Слава» была на мели под неприятельским огнем. Буш крикнул в люк:
— Эй, внизу! Мистер Хорнблауэр!
— Сэр!
— Готовы пушки?
— Еще минуточку, сэр.
— Лучше заранее натянуть канат, — сказал Буш Смиту, потом, громче, в люк: — Ждите моего приказа, мистер Хорнблауэр.
— Есть, сэр.
Матросы встали к вымбовкам, уперлись ногами и телами.
— Пошел! — закричал Бут. — Пошел!
С тем же успехом матросы могли бы толкать стену собора, так мало продвинулись вымбовки после первого дюйма.
— Пошел!
Буш оставил их и побежал вниз. Он поставил ногу на жесткий канат и кивнул Хорнблауэру. Пятнадцать пушек — две с левого борта оттащили на корму — были выдвинуты, орудийные расчеты ждали приказа.
— Канониры, возьмите ваши пальники! — крикнул Хорнблауэр. — Остальным отойти! Я буду считать «раз, два, три». На счет «три» вы опускаете пальники. Ясно?
Послышался согласный гул.
— Все готовы? Все пальники горят? — Канониры помахали пальниками, чтоб те разгорелись поярче. — Тогда раз… два… три!
Пальники опустились в отверстия, и пушки громыхнули почти одновременно. Несмотря на неизбежные вариации количества пороха в запальных отверстиях все пятнадцать выстрелов прогремели в течение секунды. Буш, державший ногу на канате, почувствовал, как отдача тряхнула корабль — двойной заряд усилил эффект. Дым клубился в одуряюще жарком воздухе, но Буш не обращал внимания. Когда корабль тряхнуло, канат вздрогнул. Он движется! Бушу пришлось переставить ногу. Все отчетливо услышали щелчок пала на лебедке. Щелк… щелк… Кто-то в дыму крикнул «ура!», остальные подхватили.
— Молчать! — заорал Хорнблауэр.
Щелк… щелк… щелк… Щелчки шли с неохотой, но корабль двигался. Канат скользил медленно, словно смертельно раненое животное. Промежутки между щелчками становились короче, это должен был признать даже Буш. Канат скользил все быстрее и быстрее.
— Оставляю вас здесь за старшего, мистер Хорнблауэр, — сказал Буш и бросился на главную палубу. Раз корабль снялся с мели, дел у первого лейтенанта будет по горло. Палы, казалось, выстукивали веселую мелодию, так быстро крутился шпиль.
Дел на палубе было и впрямь по горло. Надо было немедленно решать, что делать дальше. Буш отсалютовал Бакленду.
— Будут приказания, сэр?
Бакленд обратил к нему несчастный взор.
— Мы пропустили прилив, — сказал он.
Сейчас прилив достиг максимальной отметки. Если они еще раз сядут на мель, верповать судно будет еще труднее.
— Да, сэр, — сказал Буш.
Решать предстояло Бакленду, и только Бакленду — вся ответственность лежала на нем. Но как тяжело человеку признать провал своей первой операции! Бакленд оглядел бухту, словно ища вдохновения. Над окутанной дымом батареей развевался испанский флаг — ничто тут не вдохновляло.
— Мы можем выбраться из бухты только с береговым бризом, — сказал Бакленд.
— Да, сэр.
Береговому бризу дуть недолго, подумал Буш; Бакленд знал это не хуже него. В этот момент ядро, пущенное из форта, ударило в грот-руслень; послышался грохот, судно вздрогнуло, полетели щепки. Они услышали крик, зовущий пожарных, и Бакленд принял, наконец, горькое решение.
— Надо выбирать шпринг, — сказал он. — Разверните судно носом к морю.
— Есть, сэр.
Отступление… поражение… вот что означал этот приказ. Но и поражение нужно встречать стойко: даже после этого приказа требовалась масса работы, чтобы увести судно от непосредственной опасности. Буш повернулся, чтоб отдать приказ.
— Эй, на шпиле! Стой!
Щелканье прекратилось, и судно свободно двинулось по мутной, вспененной воде бухты. Чтоб отступить, оно должно повернуться кормой к неприятелю, развернуться в ограниченном пространстве и выбираться в море. К счастью, все для этого было готово: выбирая носовой швартов, до того без дела висевший между клюзом и якорем, корабль можно быстро развернуть.
— Отцепить кабаляринг от кормового каната!
Приказы отдавались быстро и четко, дело было привычное, хотя выполнять его приходилось под градом каленых ядер. Шлюпки все еще были на воде: если капризный ветер утихнет, они отбуксируют потрепанное судно в безопасность. Шпиль потянул носовой швартов, и нос «Славы» повернулся кругом. Хотя бриз уже сменился удушающим безветрием, корабль заметно продвигался — но горечь поражения! но вид этой проклятой батареи! Пока шпиль подтягивал судно к якорю, Буш обдумывал, что делать дальше. Он снова отсалютовал Бакленду.
— Мне верповать ее из бухты, сэр?
Бакленд стоял у нактоуза, бессмысленно уставясь на форт. Не трусость — это очевидно — но потрясение и неуверенность в будущем временно отняли у него способность мыслить логически. Вопрос Буша вернул его на землю.
— Да, — сказал он, и Буш повернулся, радуясь, что может сделать что-то полезное, и знает, как это делается.
Нужно было с левого борта подвесить на кат [21] еще один якорь и вытащить еще один канат. Буш окликнул Джеймса, принявшего командование шлюпками после гибели Робертса, сообщил ему о предстоящем маневре и велел подойти к корме, чтобы принять якорь — это была самая трудная часть всей операции. Потом команда барказа налегла на весла, и шлюпка двинулась вперед, заваливаясь от тяжести болтавшегося за кормой якоря. Монотонно вращался шпиль, и «Слава» ярд за ярдом подползала к первому якорю. Когда канат встал вертикально, Джеймсу, отошедшему на барказе далеко вперед, подали сигнал бросить якорь, который везла его шлюпка, и вернуться к стоп-анкеру, чтобы поднять его. Ненужный больше кормовой канат надо было отцепить и выбрать, а усилия шпиля перенести с одного каната на другой. Двум тендерам спустили буксирные концы, чтоб они добавили к общему делу свои слабые усилия. Нельзя было пренебрегать любой, даже самой малой возможностью хоть немного ускорить движение судна и поскорее вывести его из-под огня.
Внизу Хорнблауэр перетаскивал на нос пушки, которые недавно перетаскивал на корму. Грохот и визг катящихся по доскам катков стоял по всему судну, перекрывая монотонное щелканье палов. Над головой палило безжалостное солнце, размягчая смолу в палубных пазах. Мучительно, ярд за ярдом, кабельтов за кабельтовым, судно ползло из бухты, подальше от каленых ядер, по гладкой, сверкающей воде. Наконец оно отползло за пределы досягаемости батареи. Теперь можно было передохнуть. Прежде, чем снова вернуться к работе, матросы выпили по скудной полупинте тепловатой, затхлой воды. Оставалось похоронить мертвых, устранить повреждения, осознать мысль о поражении. Может быть, поразмыслить, не тяготеет ли над ними зловещее влияние капитана, пусть безумного и беспомощного.
VIII
Когда тропическая ночь сгустилась над «Славой» (судно небыстро шло под малыми парусами, и атлантические валы, подгоняемые пассатом и морским бризом, прокатывались под его носом), Бакленд в своей каюте озабоченно обсуждал сложившуюся ситуацию с новым первым лейтенантом. Несмотря на бриз, в крохотной каюте было жарко, как в печке: два фонаря, свисавшие с палубного бимса и освещавшие разложенную на столе карту, казалось, нестерпимо нагревают воздух. Буш чувствовал, как выступает под тяжелым мундиром пот, а галстук так туго обхватил его мощную шею, что приходилось то и дело запускать под него два пальца и тянуть, впрочем, безо всякого облегчения. Проще всего было бы снять мундир и распустить галстук, но это ему и в голову не приходило. Телесный дискомфорт надо сносить безропотно, а Бушу в этом помогали привычка и гордость.
— Так вы думаете, нам надо брать курс на Ямайку.
— Я не взял бы на себя смелость это советовать, — осторожно сказал Буш.
По законам флота ответственность целиком и полностью лежала на Бакленде; Буш был слегка раздосадован, что тот пытается ее с ним разделить.
— Но что нам остается делать? — спросил Бакленд. — Что вы предлагаете?
Буш вспомнил план кампании, который набросал Хорнблауэр, но не стал сразу его предлагать. Он еще недостаточно его взвесил, даже не знал, верит ли сам в его осуществимость. Буш решил оттянуть время.
— Если мы сейчас придем на Ямайку, — сказал он, — мы явимся туда с поджатым хвостом.
— Совершенно верно. — Бакленд безнадежно махнул рукой. — И еще капитан…
— Да, — повторил Буш, — Капитан.
Если б Бакленд смог явиться к адмиралу в Кингстон с вестями о значительном успехе, тот, возможно, не стал бы слишком копаться в прошлом; но если «Слава» приползет побитой и потрепанной, куда вероятнее, что начнется расследование: почему отстранили капитана, почему Бакленд прочел секретные приказы и почему взял на себя ответственность напасть на Саману.
— То же самое сказал мне молодой Хорнблауэр, — мелочно пожаловался Бакленд. — Лучше бы я его не слушал.
— О чем вы его спрашивали? — поинтересовался Буш.
— Ох, я даже не могу сказать, чтоб о чем-нибудь его спрашивал, — так же обиженно продолжал Бакленд. — Мы просто чесали языками как-то вечером на шканцах. Это была его вахта.
— Я помню, сэр, — сказал Буш.
— Мы разговаривали. Этот чертов молокосос сказал то же самое, что и вы сейчас — не помню, с чего все началось. Но тогда был вопрос, идти ли нам на Антигуа. Хорнблауэр сказал, что нам бы лучше попытаться чего-нибудь достичь, прежде чем предстать перед следствием по делу о капитане, Он сказал, это для меня блестящая возможность. По-моему, он так и сказал. Блестящая возможность отличиться. Но когда этот Хорнблауэр говорил, можно было подумать, что меня завтра же назначат капитаном. А теперь…
Бакленд махнул рукой, показывая, как мало у него теперь шансов хоть когда-нибудь сделаться капитаном.
Буш подумал, какое донесение придется представить Бакленду: девять убитых и двадцать раненных, атака «Славы» позорно отбита, а Саманская бухта — все такое же надежное прибежище для каперов. Буш был рад, что он — не Бакленд, но осознавал в то же время серьезную опасность загреметь с ним заодно. Теперь он первый лейтенант; он был в числе тех, кто молчаливо поддержал, если не более, смещение капитана, и только победа могла бы придать ему хоть какой-нибудь вес в глазах начальства.
— Черт побери! — жалобно оправдывался Бакленд, — мы старались как лучше. Любой мог бы сесть на мель в этом проливе. Мы не виноваты, что убило рулевого. Никто не прошел бы в бухту под перекрестным огнем.
— Хорнблауэр предлагает высадить десант со стороны моря. В бухте Шотландца, сэр. — Буш говорил со всей возможной осторожностью.
— Опять его затеи? — сказал Бакленд.
— Я полагаю, он думал об этом с самого начала, сэр. Высадить десант и неожиданно напасть на форт.
Может, оттого, что их попытка провалилась, Буш теперь отчетливо видел, как глупо было подставлять деревянный корабль под раскаленные докрасна ядра.
— А вы что думаете?
— Ну, сэр, — Буш был не настолько уверен в своих мыслях, чтобы изложить их четко и ясно. Но коль скоро они один раз дали маху, можно промахнуться еще разок. Семь бед — один ответ. Буш был крепок духом; в тяжелых условиях зарабатывал он свой хлеб, и мысль о том, чтоб покорно повернуть назад после первой же неудачи, раздражала его. Самое трудное — придумать альтернативный план кампании. Он попытался высказать все это Бакленду, и так увлекся, что потерял осторожность.
— Ясно, — сказал Бакленд. В свете качающихся ламп тени бегали по его лицу, подчеркивая отражавшуюся на нем внутреннюю борьбу. Наконец он решился. — Послушаем, что он сам скажет.
— Есть, сэр. Сейчас на вахте Смит. Хорнблауэр дежурит ночью — думаю, сейчас он у себя внизу.
Бакленд устал не меньше других на судне — скорее даже больше. Мысль о том, что Хорнблауэр разлегся на койке, в то время как его начальство сидит и ломает голову, подтолкнула Бакленда к решению, которое он иначе мог бы и не принять: немедленно, не дожидаясь завтрашнего утра, вызвать Хорнблауэра.
— Пошлите за ним, — приказал он.
Хорнблауэр появился в каюте с похвальной быстротой; волосы его были взъерошены, а одежда явно надета в спешке. Войдя, он нервно огляделся; видимо, его мучили небеспочвенные сомнения, зачем это он понадобился начальству.
— О каком таком плане я сейчас услышал? — спросил Бакленд. — Насколько я понял, у вас есть какие-то предложения по штурму форта.
Хорнблауэр ответил не сразу: он выстраивал аргументы и пересматривал свой план в свете новых обстоятельств. Буш подумал, что едва ли честно заставлять Хорнблауэра излагать свой план сейчас, после того, как «Слава» сделала первую неудачную попытку и потеряла преимущества, которые давало неожиданное нападение. Но Буш видел, что Хорнблауэр перестраивает свой план.
— Я думал, десант мог бы быть успешнее, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Но это было до того, как доны узнали, что поблизости есть линейный корабль.
— А теперь вы так не думаете?
В тоне Бакленда облегчение мешалось с разочарованием — облегчение, что не надо снова принимать решения, и разочарование, что ему не предложили простого пути к успеху. Но Хорнблауэр успел уже привести в порядок свои мысли, подумать о времени и расстояниях.
— Я думаю, можно кое-что попробовать, сэр, только если сделать это немедленно.
— Немедленно? — Была ночь, команда устала, и в голосе Бакленда прозвучало удивление. — Вы же не хотите сказать, этой ночью?
— Этой ночью будет лучше всего, сэр. Доны видели, как мы уползли, поджав хвост, простите меня, сэр, но по крайней мере они так подумали. Последний раз они видели нас на закате, когда мы выбирались из бухты Самана. Они ликуют. Вы их знаете, сэр. Меньше всего они ожидают атаки на заре, с другой стороны, с суши.
Бушу это показалось разумным, он отважился издать односложное одобрительное восклицание — наибольшее, что он мог себе позволить.
— Как бы вы организовали эту атаку, мистер Хорнблауэр? — спросил Бакленд.
Хорнблауэр был готов отвечать, усталость исчезла с его лица, уступив место энтузиазму.
— Ветер попутный, сэр, и мы доберемся до бухты Шотландца за два часа до полуночи. К этому времени мы назначим людей в десант и подготовим их. Сто матросов и пехотинцы. Там есть хорошее место для высадки — я вчера приметил. Дальше вглубь острова, до начала холмов — болота, но мы можем высадиться с другой стороны от них, на полуострове.
— Ну?
Хорнблауэру пришлось молча проглотить тот факт, что кто-то неспособен продолжать с этого места сам, прыжком воображения.
— Десант без труда взберется на гребень, сэр. Тут не заблудишься — с одной стороны море, с другой — бухта Самана. Дальше они двинутся по гребню. А на заре можно штурмовать форт. Я думаю, испанцы вряд ли внимательно следят за той стороной, где болота и обрывы.
— У вас все звучит очень просто, мистер Хорнблауэр. Но… сто восемьдесят человек?
— Я думаю, этого довольно, сэр.
— Почему вы так думаете?
— Из форта по нам стреляло шесть пушек. От силы девяносто человек, а скорее — шестьдесят. Подносчики боеприпасов. Люди, которые греют снаряды. Вместе человек сто пятьдесят, может даже сто.
— Но почему вы думаете, что это все?
— Донам нечего бояться с той стороны. Они обороняются от негров, от французов, может быть, от англичан с Ямайки. Негры через болота не пойдут. Значит, главная опасность для донов — с юга, от бухты Самана. Там они наверняка и собрали всех, кто может держать ружье. Именно оттуда и угрожает им этот самый Туссен, или как его там зовут.
Последние слова были придуманы весьма кстати. Хорнблауэр не хотел слишком явно поучать старшего офицера. А Буш видел, как недовольно скривился Бакленд, когда Хорнблауэр мимоходом упомянул французов и негров. Секретные приказы — которые Бушу прочитать не дали — могли содержать строгие инструкции касательно сложной политической ситуации на Санто-Доминго, где взбунтовавшиеся рабы, французы и испанцы (формально — союзники) боролись за господство над островом.
— Не будем про французов и негров, — сказал Бакленд, подтверждая подозрения Буша.
— Да, сэр. Но испанцы все равно про них думают, — сказал Хорнблауэр, которого не так-то просто было сбить с толку. — Доны сейчас боятся негров больше, чем нас.
— Так вы думаете, атака может увенчаться успехом? — Бакленд старался перевести разговор на другую тему.
— Я думаю, да. Но время не ждет.
Бакленд в мучительной нерешительности смотрел на двух младших офицеров, и Буш посочувствовал ему. Еще одно кровавое поражение — возможно, даже хуже — захват и пленение всего десанта — будет для Бакленда полным крахом.
— Захватив форт, — сказал Хорнблауэр, — мы легко расправимся с каперами в бухте. Они никогда больше не смогут использовать его в качестве стоянки.
— Это верно, — согласился Бакленд. Такое точное и экономное исполнение полученных приказов восстановило бы его репутацию.
Ритмично поскрипывала древесина скользящей по волнам «Славы». Ветер задувал в каюту, уменьшая духоту, и освежал потное лицо Буша.
— Черт возьми! — воскликнул Бакленд с неожиданной беспечностью. — Я попробую это сделать!
— Очень хорошо, сэр, — сказал Хорнблауэр. Бушу пришлось сдержать себя, чтобы слишком явно не выказать удовольствие, Хорнблауэр не зря говорил в нейтральном тоне. Слишком явно подталкивать Бакленда было опасно — это могло бы возыметь обратное действие.
И хотя выбор был сделан, оставалось еще одно решение такое же важное и не менее спешное.
— Кто будет командовать десантом? — спросил Бакленд. Вопрос был чисто риторический: никто, кроме самого Бакленда, не мог на него ответить. И Буш, и Хорнблауэр это знали. Им оставалось только ждать.
— Будь бедный Робертс жив, это было бы его делом, — сказал Бакленд. Потом он повернулся и поглядел на Буша.
— Командовать будете вы, мистер Буш.
— Есть, сэр.
Буш встал со стула и стоял, неловко склонив голову под палубными досками наверху.
— Кого вы хотите взять с собой?
Хорнблауэр стоял в течение всего разговора и теперь смущенно переминался с ноги на ногу.
— Я еще нужен вам, сэр? — спросил он Бакленда.
Глядя на Хорнблауэра, Буш не мог сказать, что тот испытывает: у него был вид почтительного и внимательного офицера. Буш подумал про Смита, еще одного лейтенанта, про Уайтинга, капитана морской пехоты, который несомненно примет участие в вылазке. В качестве подручных офицеров можно будет использовать мичманов и штурманских помощников. Буш отправлялся в опасную, ответственную и рискованную вылазку, от которой зависела не только репутация Бакленда, но и его собственная. Кого хотел бы он видеть рядом с собой в этот решительный для его карьеры момент? Если он попросит еще одного лейтенанта, тот будет его заместителем и может ждать, что и его мнение учтут при выработке решений.
— Мистер Хорнблауэр нам еще нужен, мистер Буш? — спросил Бакленд.
Хорнблауэр будет деятельным подчиненным. Говоря иначе, беспокойным. Он будет склонен к критике, хотя бы мысленно. Бушу совсем не улыбалось отдавать приказы на глазах у Хорнблауэра. Идущий в душе Буша спор не оформился отчетливо, с аргументами за и против; скорее это был конфликт между интуицией и предрассудками, результат многолетнего опыта, который Буш никогда не смог бы выразить словами. Наконец он решил, что ни Смит, ни Хорнблауэр ему не нужны, и снова посмотрел на Хорнблауэра. Тот пытался остаться безучастным, но Буш внутренним чутьем понял, как отчаянно ему хочется участвовать в вылазке. Конечно, любой офицер хотел бы этого, жаждал бы такой возможности отличиться, но Хорнблауэр, с его неугомонным характером, имел на то особые причины. Хорнблауэр стоял по стойке «смирно», держа руки по швам, но Буш заметил, как постукивают по бедрам длинные пальцы, как Хорнблауэр останавливает их усилием воли, и как они, выходя из подчинения, снова начинают барабанить. Не холодное размышление привело Буша к решению, а нечто прямо противоположное. Это можно было назвать добротой, это можно было назвать нежностью. Он привязался к этому непостоянному, к этому переменчивому юнцу, и не сомневался больше в его смелости.
— Я хотел бы взять с собой мистера Хорнблауэра, — сказал Буш, казалось, эти слова вырвались помимо его воли. Так мог бы сказать уступчивый старший брат, собирающийся развлекаться с друзьями и, по доброте сердечной, связавший себя присутствием младшего.
Взгляд, которым Хорнблауэр ответил Бушу на эти слова, убил в зародыше всякие сожаления, которые могли бы возникнуть из-за того, что он позволил чувствам повлиять на свое решение. Столько облегчения, столько благодарности было в этом взгляде, что Буш испытал приятное тепло великодушия: ему показалось, что он стал больше и лучше. Естественно, Буш не увидел ничего странного в том, что Хорнблауэр благодарит за решение, подвергающее опасности его жизнь.
— Очень хорошо, мистер Буш, — сказал Бакленд. Характерно, что, приняв решение, он тут же заколебался. — Тогда у меня останется только один лейтенант.
— Вахту может нести Карберри, сэр, — ответил Буш. — Кое-кто из штурманских помощников тоже неплохо с этим справится.
Для Буша было так же естественно отстаивать принятое решение, как для рыбы — глубже заглатывать наживку.
— Очень хорошо, — повторил Бакленд со вздохом. — Что вас беспокоит, мистер Хорнблауэр?
— Ничего, сэр.
— Вы что-то хотели сказать. Выкладывайте.
— Ничего серьезного. Это может подождать. Я думал, не стоит ли нам изменить курс. Мы могли бы не теряя времени взять курс на бухту Шотландца.
— Я думаю, это можно. — Бакленд не хуже других офицеров на флоте знал, как непредсказуемы капризы погоды, и что вследствие этого любые действия нужно предпринимать безотлагательно, но, если его не подталкивать, вполне мог об этом и не вспомнить. — Э, очень хорошо.
После того, как судно развернулось и свистки утихли, Бакленд повел двух лейтенантов в каюту и снова устало упал на стул. Чтобы скрыть вновь охватившую его тревогу, он напустил на себя игривый тон.
— Мистера Хорнблауэра мы на какое-то время удовлетворили, — сказал он. — Теперь давайте послушаем, чего хочет мистер Буш.
Обсуждение намеченной вылазки шло заведенным порядком: кого взять из матросов, какое им выдать снаряжение, как связаться на следующее утро. Пока обсуждались эти вопросы, Хорнблауэр намеренно держался в тени.
— Вы хотите что-нибудь добавить, мистер Хорнблауэр? — спросил под конец Буш. Вопрос был продиктован вежливостью, а может и благоразумием.
— Только одно, сэр. Мы могли бы захватить с собой шлюпочные кошки с привязанными линями. Они могут пригодиться, если надо будет взбираться на стену форта.
— Верно, — согласился Буш. — Проследите, чтоб их выдали матросам.
— Есть, сэр.
— Вам нужен будет связной, мистер Хорнблауэр? — спросил Бакленд.
— Наверно, это было бы не лишним, сэр.
— Кто-нибудь определенный?
— Если вы не возражаете, я предпочел был взять мистера Вэйларда, сэр. Он достаточно сообразителен и выдержан.
— Очень хорошо. — При имени Вэйларда Бакленд пристально посмотрел на Хорнблауэра, но пока ничего по этому поводу не сказал.
— Что-нибудь еще? Нет? Мистер Буш? Решено?
— Да, сэр, — сказал Буш.
Бакленд постучал пальцами по столу. Недавняя перемена курса еще не была решительным моментом; она ни к чему его не обязывала. Однако следующий приказ обяжет. Если поднять матросов, раздать им оружие, проинструктировать, путь назад будет отрезан. Новая попытка, которая может закончиться новым поражением, даже крахом. Успех — не в его власти, но в его власти предотвратить неудачу, попросту не рискуя. Он поднял голову и встретил безжалостные взгляды двух подчиненных. Нет, он ошибался, когда думал, что не поздно еще пойти на попятный. Поздно.
— Тогда остается только отдать приказы, — сказал он. — Будьте так любезны, позаботьтесь об этом, мистер Буш.
— Есть, сэр, — сказал Буш.
Они с Хорнблауэром собирались покинуть каюту, когда Бакленд задал давным-давно мучивший его вопрос. Надо было сказать что-нибудь, дабы сменить разговор, хотя любопытство, толкнувшее Бакленда на это, вспыхнуло с новой силой при упоминании Вэйларда. Бакленд, исполненный законной гордостью за свою решимость, достаточно осмелел, все были на подъеме, и откровенность была бы естественна.
— Кстати, мистер Хорнблауэр, — сказал он, и Хорнблауэр замер в дверях, — как капитан ухитрился свалиться в люк?
Буш увидел, как энтузиазм на лице Хорнблауэра сменился маской полной безучастности. Прошла минута или две, прежде чем он ответил.
— Я думаю, он потерял равновесие, сэр, — сказал Хорнблауэр. В голосе его звучало глубокое почтение и полнейшее отсутствие чувств. — Корабль сильно качало в ту ночь, вы помните, сэр.
— Я помню, — сказал Бакленд. В его тоне отчетливо сквозили разочарование и растерянность. Он пристально посмотрел на Хорнблауэра: ничегошеньки нельзя было прочесть на этом лице. — Ну ладно, очень хорошо. Приступайте.
— Есть, сэр.
IX
Берег остыл и морской бриз стих; наступила безветренная ночная пора, когда давление воздуха над сушей и над морем почти одинаково. Всего в нескольких милях мористее по-прежнему дул пассат, как дует он вечно, но на берегу стояло влажное безветрие. Длинный атлантический вал разбивался о далеко уходящую в море отмель, но он еще жил, словно могучий некогда человек, ослабевший от долгой болезни, и ритмично вздымался, окатывая пеной берег. Здесь, в самой восточной оконечности побережья, начинались известняковые обрывы полуострова Самана; здесь же располагалась укрытое от ветра и волн место, где маленькая речушка пробила в обрыве глубокое ущелье. Море, полоску прибоя и прибрежный песок, казалось, охватил огонь. Ярко фосфоресцировала вода, вздымавшаяся прибоем и набегавшая на берег, светились весла идущих к берегу шлюпок. Шлюпки казалось, плыли по жидкому огню, который от их касания вспыхивал с новой силой; за каждой шлюпкой тянулся светящийся след, окаймленный двумя огненными полосками там, где били о воду весла.
В устье ущелья было удобно и высаживаться, и подниматься. Шлюпки зарылись носом в песок, чтобы высадиться на берег, надо было просто перелезть через борт, сразу очутившись по пояс в воде — по пояс в жидком огне — и брести к полоске песка, держа оружие и патронташи над головой, чтобы не намочить. Даже на опытных моряков произвело впечатление это свечение, новобранцев же оно настолько возбудило, что они принялись болтать и смеяться — пришлось на них резко прикрикнуть. Буш одним из первых выбрался из шлюпки; он прошел по воде и теперь стоял на непривычно твердой земле, поджидая остальных. Вода ручьями текла с насквозь промокших штанин.
От другой шлюпки отделилась черная фигура и приблизилась к нему.
— Мой отряд на берегу.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр.
— Тогда я двинусь по ущелью с авангардом, да, сэр?
— Да, мистер Хорнблауэр. Действуйте, как вам предписано.
Буш был взволнован и напряжен, насколько позволяла его железная закалка и флегматичный темперамент; ему хотелось очертя голову ринуться в бой, но тщательно составленный план, который разработали они с Хорнблауэром, не допускал этого. Он стоял и ждал, пока построится его отряд, Хорнблауэр приказывал другому подразделению:
— Матросы первой вахты! Следуйте за мной. Каждый должен идти вплотную за тем, кто впереди. Помните, ваши ружья не заряжены, так что не щелкайте курками, если встретитесь с неприятелем. Только холодная сталь. Если среди вас найдется такой болван, который зарядит и выстрелит, завтра утром он получит четыре дюжины горячих. Это я вам обещаю. Уолтон!
— Сэр!
— Пойдете замыкающим. Теперь за мной, ребята, начиная с правой стороны строя.
Отряд Хорнблауэра исчез в темноте. Морские пехотинцы уже сходили на берег, их красные мундиры казались черными на фоне светящейся воды; белые портупеи едва различались в темноте. Пехотинцы строились в два ряда, унтер-офицеры тихо отдавали приказы. Не снимая левой руки с эфеса шпаги, Буш правой еще раз проверил пистолет за поясом и патроны в кармане. Темная фигура остановилась перед ним, по-военному щелкнув каблуками.
— Все налицо, сэр. Готовы выступить, — сообщил голос Уайтинга.
— Спасибо. Можно двигаться. Мистер Эббот!
— Сэр!
— Вы знаете свои обязанности. Оставляю вас с отрядом морской пехоты. Двигайтесь за нами.
— Есть, сэр.
Подъем по ущелью был длинный и трудный; песок вскоре сменился плоскими известняковыми плитами, но даже и среди них пробивалась буйная растительность, взращенная тропическими ливнями, которые обильно орошали северный склон. Только вдоль русла пересохшей речушки (вся вода ушла в известняк) был свободный проход, если позволительно назвать его свободным, — он был извилист, неровен, его загромождали плиты известняка, на которые приходилось карабкаться. Уже через несколько минут Буш весь обливался потом, но упорно лез вверх. За ним неуклюже двигались морские пехотинцы, стуча башмаками, звякая оружием и снаряжением. Казалось, их слышно за милю вокруг. Кто-то поскользнулся и выругался.
— Придержи язык, — рявкнул капрал.
— Молчать! — прорычал Уайтинг через плечо.
Все дальше и вверх. Кое-где кусты были такие высокие, что скрывали слабый свет звезд, и Бушу приходилось пробираться среди камней на ощупь. Несмотря на крепкое сложение, он тяжело дышал. Поднимаясь, Буш то и дело замечал жуков-светляков; последний раз он видел их много лет назад, но сейчас не обращал на них внимания. Впрочем, идущие сзади пехотинцы не смогли сдержать возбужденных восклицаний. Буш страшно разозлился на несдержанных идиотов, которые своим глупым поведением подвергают опасности не только успех операции, но и свои жизни.
— Я с ними разберусь, сэр, — сказал Уайтинг и остановился, пропуская колонну вперед.
Из темноты наверху Буша окликнул пронзительный шепот.
— Мистер Буш, сэр?
— Да.
— Это Вэйлард, сэр. Мистер Хорнблауэр послал меня вас проводить. Сразу над вами начинается луг.
— Очень хорошо, — сказал Буш.
Он ненадолго остановился, вытер рукавом сюртука потный лоб и подождал, пока колонна подтянется. После этого взбираться было уже недолго. Вэйлард подвел их к кучке отдельно стоящих деревьев, едва различимых в темноте. Буш почувствовал под ногами траву. Хотя склон по-прежнему поднимался вверх, идти стало гораздо легче.
Впереди раздался тихий окрик.
— Свои, — сказал Вэйлард. — Это мистер Буш.
— Рад вас видеть, сэр, — сказал другой голос, голос Хорнблауэра.
Хорнблауэр отделился от темноты и подошел к ним чтобы доложить:
— Мой отряд расположился чуть впереди, сэр. Я послал Сэдлера и двух надежных матросов на разведку.
— Очень хорошо, — искренно одобрил Буш.
Сержант морской пехоты докладывал Уайтингу.
— Все в сборе, сэр, окромя Чэпмана, сэр. Он лодыжку вывихнул, сэр, или говорит, что вывихнул. Оставили его там внизу, сэр.
— Надо дать людям отдохнуть, капитан Уайтинг, — сказал Буш.
Жизнь на тесном линейном корабле — плохая подготовка к лазанию по скалам в тропиках, особенно если этому предшествовал такой выматывающий день. Пехотинцы повалились на землю, кое-кто с облегчением застонал, за что немедленно получил от сержанта сильнейший пинок башмаком.
— Сейчас мы на гребне, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Вон оттуда, с той стороны, можно видеть бухту.
— Мили три до форта, как вы думаете?
Буш не собирался задавать вопросов, ибо командовал он, но Хорнблауэр докладывал так охотно и быстро, что невозможно было удержаться.
— Наверно. В любом случае, меньше четырех. Рассвет через четыре часа, а луна взойдет через полчаса.
— Да.
— Как и следовало ожидать, по гребню идет что-то вроде дороги. Она должна вести к форту.
Ничего не скажешь, Хорнблауэр — хороший подчиненный. Сейчас Буш понял: по гребню полуострова, естественно, должна идти дорога — это совершенно очевидно, но до сих пор такая мысль не приходила ему в голову.
— С вашего разрешения, сэр, — продолжал Хорнблауэр, — я оставил бы Джеймса с моим отрядом, а сам прошел бы вперед с Сэдлером и Вэйлардом, посмотреть, куда ведет дорога.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр.
Не успел тот отойти, как Буш почувствовал сильную досаду. Что-то Хорнблауэр слишком много на себя берет. Буш был не из тех, кто станет терпеть посягательства на свой авторитет. Однако от этой мысли его отвлекло появление второго дивизиона матросов, потных и задыхающихся. Недавняя усталость была еще свежа в памяти Буша, и он позволил им немного отдохнуть, прежде чем вести их дальше. Даже в темноте тучи насекомых быстро обнаружили потных людей; несметные полчища их запели вкруг ушей Буша, больно кусаясь при первой возможности. Команда «Славы» после долгого пребывания в море оказалась нежной и вкусной. Буш хлопнул себя ладонью и выругался; все его подчиненные делали то же самое.
— Мистер Буш, сэр?
— Да?
— Это действительно дорога. Впереди она пересекает овраг, но он вполне проходим.
— Спасибо, мистер Хорнблауэр. Мы тронемся вперед. Попрошу вас с вашим отрядом двинуться первыми.
— Есть, сэр.
Наступление началось. Плоская известняковая вершина полуострова поросла высокой травой и редкими деревьями. Без дороги идти было трудновато из-за неравномерно разбросанных, жестких пучков высокой травы, но по дороге двигаться было довольно легко. Матросы и пехотинцы шли плотно сомкнутой массой. Глаза их постепенно привыкли к темноте, и в свете звезд они без особого труда различали дорогу. Овраг, о котором докладывал Хорнблауэр, оказался неглубокой промоиной с пологими бортами, и перейти его не составило труда.
Буш шел во главе морских пехотинцев вместе с Уайтингом, и темнота, как теплое одеяло, окутывала его. Все было как во сне, возможно из-за того, что Буш не спал уже двадцать четыре часа, а усталость от всего пережитого привела его в полное отупение. Дорога полого поднималась вверх — естественно, раз она ведет к самой высокой точке полуострова, где расположен форт.
— Ах! — неожиданно произнес Уайтинг. Дорога свернула вправо, прочь от моря, в сторону бухты. Они пересекли водораздел; им открылся вид на залив. Справа отчетливо виднелась бухта и море за ней: оно было не совсем темным, ибо лунный свет уже пробивался сквозь низкие облака над горизонтом.
— Мистер Буш, сэр?
Это была самая опасная часть операции: надо было спустить людей в овраг и развернуть их, готовя к штурму. Уайтинг прошептал вопрос, который заставил Буша на несколько секунд задуматься.
— Можно заряжать?
— Нет, — ответил Буш наконец. — Холодная сталь.
Слишком рискованно заряжать столько ружей в темноте. Во-первых, шомпола наделают много шума, во-вторых, есть опасность, что какой-нибудь болван нажмет-таки на курок. Хорнблауэр ушел налево, Уайтинг со своими пехотинцами — направо, Буш лег на землю посреди своего дивизиона, в центре. Ноги его болели от непривычной нагрузки; стоило ему положить голову, как она закружилась от усталости и недосыпа. Он стряхнул сон и сел, чтобы взять себя в руки. Если не считать усталости, ожидание не доставляло ему неудобств; годы морской жизни с ее бесчисленными однообразными вахтами, годы войны с бесконечными периодами бездействия приучили его ждать. Некоторые матросы запросто заснули на каменистом дне оврага; не раз Буш слышал, как кто-то всхрапывал и тут же стихал, получив от соседей пинок.
Но вот, наконец, впереди, за фортом небо вроде бы немного посветлело. Или просто луна вышла из-за облаков? Остальное небо было бархатно-фиолетовым, и звезды по-прежнему сияли на нем. Но вот… вот, без сомнения небо стало бледнее. Буш заерзал и почувствовал за поясом мешающие ему пистолеты. Они на предохранителе, надо не забыть взвести курок. На горизонте едва-едва угадывался намек, подозрение на красноту, окрасившую фиолетовый бархат.
— Передайте по цепочке, — сказал Буш, — чтоб готовились к атаке.
Он ждал, пока приказ обойдет всех, но, хотя по времени он еще никак не мог достичь флангов, в овраге поднялась суматоха. Чертовы идиоты, которые всегда найдутся в любом отряде, повскакивали с мест, едва команда дошла до них, возможно, даже не потрудившись передать ее дальше. По крайней мере, пример их оказался заразительным: начиная с флангов шли как бы две волны, люди вскакивали на ноги. Буш тоже поднялся. Он вытащил шпагу, ухватил ее покрепче, левой рукой выхватил пистолет и взвел курок. Справа послышалось лязганье металла: это морские пехотинцы примкнули штыки. Сейчас Буш уже различал лица стоящих справа и слева.
— Вперед! — приказал он, и строй выплеснулся из оврага. — Эй, помедленнее!
Последние слова он произнес почти громко. Рано или поздно какие-нибудь горячие головы кинутся бежать, и лучше, чтоб это произошло позже. Буш хотел, чтоб его люди достигли форта единой волной, а не поодиночке и не запыхавшись. Он слышал, что и Хорнблауэр слева приказывает своим людям: «Помедленнее!». Сейчас шум наступления наверняка достиг форта и привлек внимание даже сонных, беспечных испанских часовых. Вскоре часовой побежит к сержанту, сержант придет, секунду поколеблется и поднимет тревогу. Громада форта высилась перед Бушем, черная на фоне розовеющего неба; Буш помимо своей воли ускорил шаг, и строй поспешил вперед вместе с ним. Кто-то закричал, самые горячие подхватили его крик, все побежали. Буш побежал вместе с ними.
Словно по волшебству, они очутились на краю рва, у почти вертикально прорезанного в известняке шестифутового эскарпа.
— Вперед! — крикнул Буш.
Даже со шпагой в руке и пистолетом в другой он смог быстро спуститься в ров, повернувшись спиной к форту и цепляясь локтями за уступ, прежде чем спрыгнуть вниз. Дно сухого рва было скользкое и неровное, но Буш добрался по нему до противоположного эскарпа. Орущие люди сгрудились возле уступа, подтягиваясь наверх.
— Поднимите меня! — крикнул Буш, матросы с двух сторон подхватили его и практически подбросили вверх. Буш оказался плашмя на узкой площадке между рвом и крепостным валом. В нескольких ярдах от него матрос пытался закинуть на вал кошку. Она со скрежетом упала меньше чем в ярде от Буша, но матрос, не глядя на него, тут же подтянул кошку к себе, размахнулся, и закинул ее на крепостной вал. Кошка зацепилась, и матрос, упираясь ногами в стену, а руками цепляясь за веревку, полез наверх, как безумный. Не успел он вскарабкаться до середины, как другой матрос уже ухватился за веревку и полез вслед за ним. Рядом собралась толпа орущих, возбужденных людей, каждый хотел лезть следующим. Послышались громкие ружейные выстрелы, в ноздри Бушу ударил пороховой дым, так не похожий на чистый ночной воздух.
Справа, с другой стороны форта, морские пехотинцы пытались прорваться через пушечные амбразуры; Буш повернул налево, поглядеть, что можно сделать здесь. Почти сразу он нашел, что искал, — здесь располагались ворота для вылазок: широкая, окованная железом дверь, укрытая небольшим выступающим бастионом на углу форта. Два идиота-матроса стреляли не по двери, а по головам, появившимся над ней. Обычному матросу бессмысленно давать в руки ружье. Буш закричал так, что его голос, подобно трубному гласу, перекрыл шум:
— С топорами сюда! Топоры! Топоры!
Во рву еще оставалось множество людей, не успевших взобраться на эскарп; один из них, размахивая топором пробился сквозь толпу и начал взбираться на уступ. Но Силк, неимоверно могучий боцманмат, командовавший взводом в дивизионе Буша, подбежал по площадке и вырвал топор у него из рук. Сильными, размеренными ударами врубился он в дверь, отклоняясь назад всем телом, а потом изо всех сил обрушивая топор на дерево. Появился еще один матрос с топором, оттолкнул Буша локтем и тоже принялся рубить дверь, но у него не было ни такой силы, ни такой сноровки. Громко отдавались удары их топоров. В двери открылось окошко с железным засовом, за ним блеснула сталь. Буш навел пистолет и выстрелил. Силк пробил дверь насквозь и с усилием вытащил лезвие, потом, сменив цель, начал рубить поперечину в центральной части двери. Три могучих удара, и он остановился, чтобы показать второму матросу, куда бить. Раз и еще раз ударял Силк; потом он отбросил топор, просунул пальцы в образовавшуюся рваную дыру, уперся ногой в дверь и одним могучим усилием оторвал несколько соседних досок разом. Поперек образовавшейся дыры лежал деревянный брус; Силк обрушил на него топор… еще раз… С хриплым криком, размахивая топором, Силк ринулся в дыру.
— За мной ребята! — что было мочи заорал Буш и бросился за ним.
Они оказались во дворе форта. Буш споткнулся о мертвое тело и, подняв глаза, увидел перед собой несколько человек: они были в рубашках или неодеты; лица кофейного цвета, всклокоченные усы. Силк как безумный бросился на них, размахивая топором. Испанец рухнул под его ударом; Буш видел, как полетел на землю отрубленный палец: испанец безрезультатно пытался закрыться от топора. Щелкали пистолеты, клубился дым. Буш бросился вперед. Его шпага звякнула о чью-то саблю; и тут испанцы побежали. Буш всадил шпагу в голое плечо бегущего перед ним человека, увидел, как открылась кровавая рана, услышал крик. Тот, кого он преследовал, исчез, как призрак, и Буш, торопясь за другими, наткнулся на пехотинца в красном мундире, без шляпы, с всклокоченными волосами и безумными глазами, орущего, как демон. Бушу пришлось парировать направленный на него штык.
— Осторожней, болван! — закричал Буш. Только произнеся эти слова он понял, что орет во всю глотку.
В безумных глазах пехотинца мелькнул проблеск сознания; кажется, он узнал Буша, повернулся, держа штык наперевес, и бросился дальше. За ним бежали другие пехотинцы: видимо, они прорвались через амбразуры. Все орали, опьяненные битвой. Толпой бежали матросы, перелезшие через крепостной вал. Чуть подальше располагались несколько деревянных строений; матросы толпой окружили их, раздались стрельба и крики. Видимо, это казармы и склады, и здесь, испугавшись атакующих, укрылся гарнизон.
Появился Уайтинг в перепачканном красном мундире, с болтающейся в руке шпагой. Глаза у него были мутные.
— Отзовите их, — сказал Буш, отчаянно пытаясь прийти в себя.
Прошло некоторое время, пока Уайтинг узнал его и понял приказ.
— Да, сэр, — выговорил он.
Из-за построек появились еще матросы; видимо, Хорнблауэр со своим дивизионом проник в форт с другой стороны. Буш огляделся и подозвал своих людей, находившихся поблизости.
— За мной, — сказал он и двинулся вперед.
С внутренней стороны на крепостной вал вел некрутой скат. На середине ската лежал убитый, но Буш обратил на труп не больше внимания, чем тот заслуживал. Наверху располагалась главная батарея, шесть громадных пушек выглядывали в амбразуры. За ними виднелось кроваво-красное рассветное небо. На треть до зенита окрасилось оно в этот зловещий цвет, но пока Буш смотрел на золотистый солнечный луч, пробивающийся сквозь облака над горизонтом, краснота заметно поблекла. Теперь небо стало синим, а облака — белыми. Вот сколько времени занял штурм: всего несколько минут от первых проблесков зари до тропического восхода. Буш стоял, пытаясь осознать этот поразительный факт — ему казалось, должно быть далеко за полдень.
С орудийной платформы открывался вид на залив. Вот и другой берег, мель, на которую села «Слава» (неужели это было только вчера?), пересеченная местность, переходящая в холмы, резко очерченный силуэт другой батареи на косе. Слева полуостров переходил в серию изрезанных мысов, которые, словно пальцы, тянулись к синему, синему океану, за ними — сапфировые воды бухты Шотландца, а там сверкает на солнце обстененным крюйселем «Слава». С такого расстояния она казалась прелестной игрушкой; у Буша при виде нее перехватило дыхание, но не от красоты картины, а от облегчения. Вид корабля и связанные с ним воспоминания помогли ему придти в чувство: впереди еще куча неотложных дел.
По другому скату поднялся Хорнблауэр: одежда его была в беспорядке, и он походил на огородное пугало. Как и Буш в одной руке он держал шпагу, в другой — пистолет. Рядом с ним шел Вэйлард, с непропорционально большой для него абордажной саблей, а сзади — десятка два матросов, вполне организованных. Они держали наперевес ружья с примкнутыми штыками.
— Доброе утро, сэр, — сказал Хорнблауэр. Потрепанная треуголка все еще сидела у него на голове, и он попытался было коснуться ее, но остановился, заметив, что в руке у него шпага.
— Доброе утро, — машинально ответил Буш.
— Поздравляю вас, сэр, — сказал Хорнблауэр. Лицо его было бледно, а улыбка напоминала мертвецкий оскал. Верхнюю губу и подбородок покрывала щетина.
— Спасибо, — ответил Буш.
Хорнблауэр сунул за пояс пистолет, шпагу убрал в ножны.
— Я овладел всей этой стороной, сэр, — он махнул рукой назад. — Мне продолжать?
— Да, продолжайте, мистер Хорнблауэр.
— Есть, сэр.
На этот раз Хорнблауэр коснулся рукой шляпы. Он быстро расставил у пушек нескольких матросов и унтер-офицера.
— Видите, сэр, — сказал он, указывая рукой, — несколько человек сбежали.
Буш посмотрел вниз, на круто спускающийся к заливу склон, и увидел там несколько бегущих фигурок.
— Их так немного, что не стоит из-за них беспокоиться, — сказал Буш. Он только-только начал приходить в себя.
— Да, сэр. Я взял в плен сорок человек у главных ворот, они под охраной. Я вижу, Уайтинг отлавливает остальных. С вашего разрешения, я пойду, сэр.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр.
Хоть кто-то сохранил ясную голову в повальном помешательстве штурма. Буш спустился по дальнему скату. Здесь стояли на часах двое матросов и унтер-офицер; при виде Буша они вытянулись по стойке «смирно».
— Что вы тут делаете? — спросил Буш.
— Здесь пороховой погреб, сэр, — сказал унтер-офицер. Это был Амброз, фок-марсовый старшина, за долгие годы на флоте не утративший девонширского акцента. — Мы его охраняем.
— Приказ мистера Хорнблауэра?
— Да, сэр.
На корточках возле главного входа сидели несчастные пленники, о которых докладывал Хорнблауэр. Но неподалеку Буш увидел нескольких часовых, о которых Хорнблауэр ему не докладывал: матрос у колодца, караульные у ворот. Уолтон, самый надежный из унтер-офицеров, с шестью матросами охранял длинное деревянное строение возле самых ворот.
— Что вам поручено? — спросил Буш.
— Охранять провиантский склад, сэр. Здесь спиртное.
— Очень хорошо.
Если безумцы, совершившие штурм, — к примеру, тот же морской пехотинец, от которого Бушу пришлось отбиваться, — доберутся до спиртного, с ними не совладать никакими силами.
К Бушу подбежал Эббот, подчиненный ему дивизионный мичман.
— Где вас черти носили? — раздраженно поинтересовался Буш. — Я остался без вас с первых минут атаки.
— Простите, сэр, — извинился Эббот. Естественно, безумие битвы увлекло его, но это не оправдание, конечно, не оправдание, особенно если вспомнить Вэйларда, не отстающего от Хорнблауэра ни на шаг и готового исполнить каждый его приказ.
— Приготовьтесь подать сигнал судну, — сказал Буш. — Вы должны были быть готовы к этому пять минут назад. Подготовьте три пушки. Кто нес флаг? Найдите его, и поднимите наш флаг над испанским. Быстрее же, черт возьми!
Победа, может быть, и сладка, но настроение Буша она не улучшила; напротив, у него наступила реакция. Буш не спал и не ел, и хотя со времени взятия форта прошло всего десять минут, он жестоко корил себя за упущенное время: за эти десять минут он столько должен был успеть. К счастью, ему пришлось отвлечься от раскаяния по поводу своих упущений и заняться вместе с Уайтингом проблемой пленных. К тому времени всех их выгнали из казарм: сотню полуголых мужчин и десятка два простоволосых, едва прикрытых одеждой женщин, закрывавшихся руками. В более спокойное время Буш с удовольствием посмотрел бы на этих женщин, но сейчас его раздражала мысль о дополнительных сложностях, возникающих в связи с ними, и ничего другого он в них не видел.
Среди мужчин встречались негры и мулаты, но в основном это были испанцы. Почти все валявшиеся тут и там убитые были полностью одеты: на них были белые мундиры с синими отворотами. Это, видимо, часовые и главный караул, жестоко поплатившиеся за небрежение своими обязанностями.
— Кто тут у них старший? — спросил Буш Уайтинга.
— Не могу сказать, сэр.
— Тогда спросите у них.
Буш не знал ни одного языка, кроме родного, Уайтинг, судя по его несчастному виду, тоже.
— Простите, сэр. — Пирс, лекарский помощник, пытался привлечь внимание Буша. — Можно мне взять матросов, чтоб унести раненых в тень?
Не успел Буш ответить, как его окликнул Эббот с орудийной платформы:
— Пушки готовы, сэр. Можно мне взять порох с порохового склада?
И снова, прежде чем Буш успел ответить согласием, появился юный Вэйлард, пытающийся локтем оттеснить Пирса и привлечь внимание Буша.
— Простите, сэр. Простите, сэр. Мистер Хорнблауэр свидетельствует вам свое почтение, сэр, и спрашивает, не могли бы вы подняться на башню, сэр. Мистер Хорнблауэр говорит, это очень срочно, сэр.
В этот момент Буш почувствовал, что если его еще раз отвлекут, то сердце его разорвется.
Х
С каждого угла форта располагалось по бастиону, предназначенному для фланкирующего огня вдоль стен, а над юго-западным бастионом высилась сторожевая башенка с флагштоком. Буш и Хорнблауэр стояли на башенке, перед ними лежал Атлантический океан, сзади — бухта Самана. Над головами их реяли два флага: английский военно-морской наверху, красно-золотой испанский — внизу. Со «Славы» цветов могут не различить, но два флага увидят наверняка. А услышав три пушечных выстрела, они направят подзорные трубы на форт и увидят, как флаги медленно приспускаются и снова поднимаются, опять приспускаются и опять поднимаются. Три пушечных выстрела, два флага дважды приспущены. Это — сигнал, что форт в руках англичан. Сигнал этот был замечен, ибо на «Славе» обрасопили крюйсель, и корабль начал медленно лавировать вдоль берега полуострова. У Буша с Хорнблауэром была на двоих одна подзорная труба, найденная при поспешном обыске форта. Когда один подносил трубу к глазу, другой едва мог сдержать свои пальцы, чтоб не вцепиться в нее. Сейчас в подзорную трубу смотрел Буш, направляя ее на противоположный берег залива, а Хорнблауэр тыкал указательным пальцем туда, куда сам только что смотрел.
1. «Слава» садится на мель.
2. Высадка десанта.
3. Путь десантного отряда к форту.
4. Стоянка испанских торговых судов.
5. Испанские суда обстреляны калеными ядрами.
6. Место, где выгрузили 9-ти фунтовую пушку.
7. Место, где установили 9-ти фунтовую пушку.
— Видите, сэр? — спрашивал он. — Дальше в бухте батарея. Там город — Сабана называется. А еще дальше стоят корабли. Они в любую минуту могут сняться с якоря.
— Вижу, — сказал Буш, не отрывая трубу от глаза. — Четыре маленьких суденышка. Паруса не поставлены, трудно определить, кто они.
— Зато легко догадаться, сэр.
— Да, верно, — согласился Буш.
Здесь, у самого пролива Мона, нет, необходимости держать большие военные суда. Половина торговых путей Карибского бассейна проходит через это место, в тридцати милях от бухты Самана. Быстрое, маневренное суденышки с парой длинных пушек и большой командой может выскользнуть из бухты, захватить призы и убраться под защиту батарей, чей перекрестный огонь не пропустит врагов в бухту, как показали вчерашние события. Нападающим едва ли придется провести в море даже ночь.
— Сейчас они наверняка поймут, что мы взяли форт, — сказал Хорнблауэр. — Они догадаются, что «Слава» огибает мыс, чтоб напасть на них. Они могут идти на веслах, на буксире или верповаться. Не успеем мы охнуть, как они выберутся из бухты. А от мыса Энганьо им попутный ветер на Мартинику.
— Очень правдоподобно, — согласился Буш. С одной и той же мыслью оба повернулись и посмотрели на «Славу». Она была обращена к ним кормой. С круто обрасопленными на правом галсе парусами, она шла в море; нескоро еще она отойдет достаточно далеко, чтоб, сделав поворот оверштаг, наверняка пройти на ветре Саманский мыс. Отсюда ее белые паруса великолепно смотрелись на фоне морской синевы, но ей потребуется несколько часов, чтоб обогнуть мыс и перекрыть выход из мышеловки. Буш повернулся назад и оценивающе оглядел бухту.
— Надо поставить команду к пушкам и приготовиться открыть огонь, — сказал он.
— Да, сэр, — согласился Хорнблауэр. Он колебался. — Мы не долго сможем держать их под огнем. Осадка у них неглубокая. Они смогут пройти гораздо ближе к косе, чем «Слава».
— С другой стороны, их и потопить проще, — сказал Буш. — А, я понял, о чем вы.
— Раскаленные ядра могли бы изменить дело, сэр, — сказал Хорнблауэр.
— Отплатить им их же монетой, — с довольной ухмылкой произнес Буш. Вчера «Слава» выдержала адский обстрел раскаленными ядрами. Мысль о том, чтоб зажарить нескольких даго, показалась Бушу восхитительной.
— Верно, сэр, — сказал Хорнблауэр.
В отличие от Буша, он не ухмылялся. Лицо его нахмурилось. Мысль о том, что каперы могут ускользнуть от них и продолжить свой разбой в другом месте, угнетала его. Надо было сделать все, чтоб этого не допустить.
— Но как вам это удастся? — спросил вдруг Буш. — Вы знаете, как греть ядра?
— Я узнаю, сэр.
— Готов поспорить, никто из наших не знает.
Раскалять ядра можно только на береговой батарее: морской корабль, сделанный из горючих материалов, идя в бой с пылающей печью, подвергался бы слишком большому риску. Французы, в начале Революционной войны, провели несколько неудачных опытов, пытаясь хоть как-то сравняться силами с англичанами, но, после того как несколько судов сгорело, бросили эту затею. К настоящему времени моряки оставили использование каленых ядер береговым артиллеристам.
— Я попробую сам это выяснить, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Печь и все снаряжение внизу.
Хорнблауэр стоял на солнцепеке. На его бледном, заросшем щетиной лице боролись усталость и энтузиазм.
— Вы завтракали? — спросил Буш.
— Нет, сэр. — Хорнблауэр посмотрел прямо на него. — Вы тоже не завтракали, сэр.
— Верно, — ухмыльнулся Буш.
Ни на что такое у него не хватило времени: надо было организовать всю оборону форта. Сам он мог выдержать усталость, голод и жажду, но не знал, выдержит ли Хорнблауэр.
— Я попью воды из колодца, — сказал тот. Стоило ему произнести эти слова и осознать их смысл, выражение его лица резко изменилось. Он облизнул губы: они пересохли и потрескались, и от того, что он их облизал, лучше им не стало. Этот человек ничего не пил уже двенадцать часов — двенадцать изматывающих часов в тропическом климате.
— Обязательно попейте, мистер Хорнблауэр, — сказал Буш. — Это приказ.
— Есть, сэр.
Буш обнаружил, что подзорная труба перекочевала из его руки в руку Хорнблауэра.
— Можно мне еще раз глянуть, сэр, прежде чем я спущусь? Клянусь, так я и думал. Вон то двухмачтовое судно верпуется, сэр. Меньше чем через час оно будет в пределах нашей досягаемости. Я поставлю команду к пушкам. Посмотрите сами, сэр.
Хорнблауэр стремглав бросился по ступенькам, но на полдороге остановился.
— Не забудьте позавтракать, сэр, — сказал он, глядя на Буша снизу вверх. — У вас будет достаточно времени.
Буш взглянул в подзорную трубу и убедился в том, о чем говорил Хорнблауэр. Одно судно по крайней мере уже двигалось. Буш еще раз внимательным взглядом обвел сушу и море, потом вручил трубу Эбботу. Тот во время всего разговора стоял рядом, храня почтительное молчание.
— Внимательно наблюдайте за всем, — сказал Буш.
Внизу, в главной части форта, Хорнблауэр уже отдавал быстрые приказы, гоняя матросов туда и сюда. На орудийной платформе откатили остальные пушки. Спускаясь с платформы, Буш увидел, как Хорнблауэр распоряжается работами, сопровождая свои приказы энергичными жестами. Увидев Буша, он виновато повернулся и двинулся к колодцу. Морской пехотинец воротом поднял ведро, и Хорнблауэр схватил его, поднес к губам, отклоняясь назад для равновесия. Он пил и пил, пока ведро не опорожнилось, а вода ручьями текла по его груди и по лицу. Хорнблауэр поставил ведро и улыбнулся Бушу, по его лицу все еще текла вода. От этого зрелища у Буша, успевшего попить из колодца прежде, вновь разыгралась жажда.
Пока Буш пил, вокруг него собралась обычная уже толпа, требовавшая внимания, приказаний, сведений. К тому времени, как Буш разобрался с ними, над печью, расположенной в углу двора, уже поднимался дымок, а изнутри доносилось громкое потрескивание. Буш подошел. Матрос, стоя на коленях, раздувал кузнечные мехи, двое других носили дрова из штабеля возле крепостного вала. Открыли дверцу в печи, и на Буша так дыхнуло жаром, что ему пришлось отступить. Подошел Хорнблауэр, своим по обыкновению быстрым шагом.
— Как ядра, Сэдлер? — спросил он.
Унтер-офицер обмотал руки тряпьем и ухватился за длинные рукоятки, торчавшие с задней стороны печи, напротив двух других, торчавших спереди. Как только он потянул за них, стало видно, что все четыре рукоятки составляют часть большой железной решетки, центр которой располагался в печи над самым огнем. На решетке рядами лежали ядра, все еще черные в солнечном свете. Сэдлер переложил за щеку табак, который жевал, набрал слюны и мастерски плюнул на ближайшее ядро. Плевок зашипел, но не сильно.
— Еще не нагрелись, — сказал Сэдлер.
— Мы их, чертей, поджарим, — неожиданно вставил матрос, который, стоя на коленях, раздувал мехи. Мысль о том, чтобы сжечь врагов заживо, явно его одушевляла.
Хорнблауэр не обратил на него внимания.
— Эй, подносчики, — сказал он, — посмотрим, что вы будете делать.
За Хорнблауэром рядком шли матросы, попарно неся несложные приспособления — два железных бруса, соединенных железными же перекладинами. Первая пара подошла. Сэдлер взял клещи и осторожно переложил горячее ядро на носилки.
— Вы двое, отходите, — приказал Хорнблауэр. — Следующие.
Когда все носилки были заполнены, Хорнблауэр повел своих людей прочь.
— Теперь попробуем засунуть их в пушки, — сказал он. Буш, снедаемый любопытством, пошел следом. Процессия по скату поднялась на платформу. Орудийные расчеты уже стояли у пушек. Орудия были откачены назад, от амбразур. Между каждыми двумя пушками стояло по кадке с водой.
— Прибойничие, — сказал Хорнблауэр, — сухие пыжи забили? Тогда давайте мокрые.
Из кадок матросы вынули плоские, круглые куски мочала. С них текла вода.
— По два на пушку, — сказал Хорнблауэр.
Мокрые пыжи сунули в пушечные дула, потом забили прибойниками с круглой головкой.
— Забили? — спросил Хорнблауэр. — Ну, подносчики, Давайте ядра.
Сделать это было не так-то просто. Нужно было приставить край носилок к дулу, а потом наклонять их так, чтоб ядро скатилось в отверстие.
— Доны тренировались с этими пушками лучше, чем мы могли от них ждать, — сказал Хорнблауэр, — судя по тому как они стреляли вчера. Прибойничие!
Прибойники дослали ядра на место, послышалось громкое шипение: это горячие ядра коснулись мокрых пыжей.
— Выдвигай!
Матросы ухватились за тали и налегли на них, пушки тяжело покатились вперед и высунули дула в амбразуры.
— Прицельтесь в сторону той косы и стреляйте!
По приказу канониров правила просунули под задние оси пушек и повернули их. Запальные трубки были уже в запальных отверстиях, и каждая пушка выпалила, как только ее навели. Грохот выстрела звучал на каменной площадке иначе, чем в замкнутом пространстве корабля. Легкий ветерок относил дым в сторону.
— Неплохо! — сказал Хорнблауэр, глядя из-под руки, куда упали ядра. Потом, повернувшись к Бушу, добавил: — Задам я загадку джентльменам с той стороны. Они будут ломать голову, куда это мы стреляем?
— За какое время, — спросил Буш, с завороженным ужасом наблюдавший за происходящим, — горячее ядро прожжет пыжи и пушка выстрелит сама по себе?
— Вот этого я не знаю, сэр, — ответил Хорнблауэр с ухмылкой. — Меня не удивит, если мы узнаем это сегодня же.
— Да уж, — сказал Буш, но Хорнблауэр уже повернулся и преградил путь матросу, бегущему к платформе.
— Что вы тут делаете?
— Несу новые заряды, — удивился матрос, показывая ящик для переноски картузов.
— Тогда вернитесь назад и ждите приказа. Ну-ка все назад.
Подносчики боеприпасов, видя его гнев, мгновенно улетучились.
— Банить пушки! — приказал Хорнблауэр орудийной прислуге, и, когда те запихнули мокрые банники в дула, снова повернулся к Бушу. — Лишняя осторожность не помешает, сэр. Нельзя допустить, чтоб порох и раскаленные ядра принесли на платформу одновременно.
— Конечно, нет, — согласился Буш. То, как лихо Хорнблауэр организовал работу батареи, одновременно восхищало и раздражало его.
— Новые заряды! — крикнул Хорнблауэр, и подносчики пороха, которых он только что отослал, рысью взбежали по скату. — Готов поспорить, сэр, что это английские картузы.
— Почему вы так думаете?
— Саржа из Западных графств, прошиты и набиты в точности как наши, сэр. Я полагаю, трофейные, с наших кораблей.
Это очень походило на правду. Испанские войска, удерживающие от повстанцев восточную часть острова, скорее всего вынуждены были пополнять свои боеприпасы добычей с захваченных в проливе Мона английских судов. Ну, если все пойдет хорошо, больше они призов не захватят. Мысль эта возникшая у Буша несмотря на множество других забот, взволновала его, и он, стоя со сцепленными за спиной руками под палящим солнцем, беспокойно переступил с ноги на ногу. Донам придется плохо, если они лишатся источника боеприпасов. Им не продержаться долго против взбунтовавшихся негров, обложивших их в восточном конце Санто-Доминго.
— Забивай эти пыжи аккуратно, Крэй, — сказал Хорнблауэр. — Если в канале окажется порох, придется нам записать в судовой книге «Крэй, С.У.»
Раздался смех — «С.У.» в судовой книге означало «списан, убит» — но Буш не обратил внимания. Он вскарабкался на парапет и смотрел на бухту.
— Они близко, — сказал он. — Приготовьтесь, мистер Хорнблауэр.
— Есть, сэр.
Буш напрягал глаза, пытаясь разглядеть четыре суденышка, медленно двигавшиеся по фарватеру. Пока он смотрел, первое из них подняло паруса на обеих мачтах. Оно, очевидно, пыталось воспользоваться порывами переменчивого ветра, дувшего над нагретыми водами бухты, чтобы как можно быстрее добраться до моря и оказаться в безопасности.
— Мистер Эббот, принесите подзорную трубу, — крикнул Хорнблауэр.
Пока Эббот спускался по ступенькам, Хорнблауэр продолжал разговаривать с Бушем.
— Раз они дали деру, как только узнали, что мы взяли форт, значит, они не чувствуют себя здесь в безопасности.
— Я думаю, да.
— Можно было бы ожидать, что они попробуют так или иначе отбить форт. Они могли бы высадиться на полуострове и атаковать нас. Я пытаюсь понять, почему они этого не делают? Почему они сразу сорвались с места и бросились наутек?
— Что с даго взять, — сказал Буш. Он отказывался умозрительно рассуждать о мотивах неприятельских действий, особенно сейчас, непосредственно перед боем. Он выхватил подзорную трубу из рук Эббота.
Теперь он разглядел все подробности. Две большие шхуны с несколькими пушками, большой люггер, и еще одно судно, чью оснастку определить пока было трудно: оно сильно, отставало от других и еще не поставило парусов, а двигалось на буксире за шлюпками.
— Дистанция будет большая, мистер Хорнблауэр, — сказал Буш.
— Да, сэр. Но они попадали в нас вчера из этих же самых пушек.
— Цельтесь как следует. Они недолго будут под огнем.
— Есть, сэр.
Суденышки шли на значительном расстоянии друг от друга. Если б они держались вместе, шансов у них было бы побольше, так как из форта могли стрелять только по одному из них. Но паническое чувство «каждый за себя» погнало каждое суденышко поодиночке, как только оно было готово к отплытию. А может, фарватер был слишком узок, чтоб идти всем сразу. Первая шхуна убрала паруса: если здесь и был ветер, он был встречным для повернувшей влево вдоль фарватера шхуны. Быстро спустили две шлюпки, чтоб тянуть ее на буксире, Бушу в подзорную трубу все это было прекрасно видно.
— Остается еще немного времени до того, как она окажется в пределах досягаемости, сэр, — заметил Хорнблауэр. — С вашего разрешения, я пойду взгляну на печь.
— Я с вами, — сказал Буш.
Возле печи по-прежнему работали мехи, и жар стоял невыносимый. Но когда Сэдлер вытащил решетку с раскаленными ядрами, стало еще жарче. Даже на солнце было видно, как светятся раскаленные шары; воздух над ними дрожал, размывая их очертания. Сцена была адская. Сэдлер плюнул на ближайшее ядро, плевок с шипением отскочил от гладкой поверхности, упал вниз, заплясал на решетке и, зашипев, исчез совсем. Сэдлер плюнул снова — тот же результат.
— Достаточно горячие, сэр? — спросил он.
— Да, — ответил Хорнблауэр.
Буш еще мичманом часто носил греть на камбуз утюг, чтобы прогладить рубашку или шейный платок. Он вспомнил, что так же проверял температуру утюга. Если плевок отскакивает от металла, значит утюг опасно перегрелся, но ядра были еще горячее, гораздо горячее.
Сэдлер затолкал решетку обратно в печь и тряпками, которыми защищал руки, вытер со лба пот.
— Подносчики, приготовьтесь, — сказал Хорнблауэр. — Сейчас вам будет работа.
Взглядом испросив у Буша разрешение, он снова умчался на батарею, широкими, дерганными шагами. Буш пошел за ним, но не так быстро: сказывалась усталость. Глядя, как Хорнблауэр взбегает по скату, он вдруг подумал, что тот, не будучи так крепок физически, потрудился, пожалуй, поболее него. К тому времени» как Буш поднялся на платформу, Хорнблауэр снова наблюдал за первой шхуной.
— Палубы и переборки у нее, должно быть, жиденькие, — сказал Хорнблауэр. — Двадцатичетырехфунтовое ядро даже с такого расстояния должно пробить ее насквозь.
— Навесный выстрел, — добавил Буш, — может пробить ей дно.
— Может, — согласился Хорнблауэр и добавил: — сэр. — Даже после стольких лет службы на флоте он склонен был, если сильно задумается, пропускать это короткое, но такое важное слово.
— Она снова ставит паруса! — сказал Буш. — Собирается поворачивать.
— Буксирные концы они уже отцепили, — добавил Хорнблауэр. — Теперь скоро.
Он посмотрел на стоящие в ряд орудия. Все заряжены порохом, запальные трубки вставлены. Клинья вынуты, так что угол подъема максимальный, дула смотрят ввысь, словно ожидая, когда в них закатят ядра. Шхуна заметно приближалась. Хорнблауэр прошел вдоль пушек; руки у него за спиной беспокойно цеплялись одна за другую. Он прошел назад, повернулся и неровной походкой двинулся вдоль ряда — казалось, он не может стоять на месте. Однако, заметив, что Буш наблюдает за ним, он виновато остановился и заметным усилием принудил себя стоять так же спокойно, как и начальник. Шхуна ползла вперед, на целых полмили опережая второе судно.
— Можете сделать пристрелочный выстрел, — сказал наконец Буш.
— Есть, сэр, — тут же согласился Хорнблауэр. Казалось, река ринулась через прорванную плотину. Похоже, он заставлял себя ждать, пока Буш заговорит.
— Эй, у печи! — крикнул Хорнблауэр. — Сэдлер. Пришлите одно ядро.
По скату поднялись подносчики, осторожно неся на носилках светящееся ядро. Оно было ярко-красное, чувствовался даже исходящий от него жар. В канал ближайшей пушки забили мокрые пыжи, носилки с ядром установили вровень с дулом. Подталкивая пыжовником и прибойником, раскаленное ядро закатили в дуло. Послышалось шипение, повалил пар. Буш снова подумал, за сколько времени ядро прожжет пыжи и войдет в соприкосновение с порохом; несладко тогда придется тем, кто будет в это время наводить пушку.
— Выдвигай! — скомандовал Хорнблауэр. Матросы налегли на тали, и пушка прогромыхала вперед.
Хорнблауэр встал за пушкой, присел на корточки, сощурился и посмотрел вдоль нее.
— Правее! — Тали и рычаги повернули пушку. — Еще чуть-чуть! Довольно! Нет, чуть левее. Довольно!
К облегчению Буша, Хорнблауэр наконец выпрямился и отошел от пушки. С обычной своей несдержанной живостью он вспрыгнул на парапет и ладонью прикрыл глаза от солнца. Буш, со своей стороны, навел на шхуну подзорную трубу.
— Огонь! — скомандовал Хорнблауэр.
Шипение запала утонуло в грохоте пушки. Буш увидел в синем небе черную траекторию ядра. За то время, которое требуется для вдоха, она достигла наивысшей точки и пошла вниз. Странная это была линия. Казалось, она около дюйма длинной, постоянно убавляется сзади и постоянно прибавляется впереди, устремляясь точно к шхуне. Она все еще указывала на корабль (настолько скорость ядра опережает реакцию глазной сетчатки и мозга), когда Буш увидел всплеск, точно по курсу шхуны. Вода вновь стала гладкой. Он оторвал глаз от подзорной трубы и увидел, что Хорнблауэр смотрит на него.
— В кабельтове, — сказал Буш, и Хорнблауэр согласно кивнул.
— Можно открывать огонь, сэр? — спросил он.
— Да, приступайте, мистер Хорнблауэр.
Не успел он закончить, как Хорнблауэр снова закричал:
— Эй, у печи! Еще пять ядер!
Бушу потребовалось несколько секунд, чтоб понять смысл этого приказа. Вот оно что: неразумно одновременно приносить на платформу картузы с порохом и раскаленные ядра. Выстрелившая пушка должна оставаться незаряженной, пока не выстрелят остальные пять. Хорнблауэр спрыгнул с парапета и встал рядом с Бушем.
— Я вчера не мог понять, почему они все время стреляют по нам залпами, — сказал он. — Это снижает скорость огня до скорости самой медленной пушки. Теперь мне ясно.
— Мне тоже, — сказал Буш.
— Все пыжи на месте? — спросил Хорнблауэр у орудийной прислуги. — Точно? Тогда давайте дальше.
Ядра закатили в пушечные дула, они зашипели, снова повалил пар.
— Выдвигайте. Цельтесь. Канониры, цельтесь как следует.
Шипели ядра, пар валил из поворачиваемых пушек.
— Палите, как только наведете!
Хорнблауэр снова оказался на парапете, Бушу все было видно сквозь амбразуру бездействующей пушки. Пять пушек выстрелили с интервалом не более двух секунд, Буш в подзорную трубу видел траектории их ядер.
— Банить пушки! — приказал Хорнблауэр, потом громко: — Шесть зарядов!
Он спустился к Бушу.
— Одно упало совсем близко, — сообщил тот.
— Два довольно близко, — сказал Хорнблауэр. — Одно совсем далеко справа. Я знаю, кто это стрелял, и я с ним разберусь.
— Одного всплеска я не видел, — заметил Буш.
— Я тоже. Может, большой перелет. А может, и попали.
Матросы с картузами взбежали на платформу. Стоявшие у пушек с энтузиазмом схватили их, забили в пушки заряды, потом сухие пыжи.
— Шесть ядер! — крикнул Хорнблауэр Сэдлеру, потом канонирам: — Вставьте запальные трубки. Забейте мокрые пыжи.
— Она изменила курс, — сказал Буш. — Расстояние изменилось не сильно.
— Да, сэр. Заряжай и выдвигай! Простите меня, сэр.
Хорнблауэр поспешно подбежал к самой левой пушке — очевидно, она-то прошлый раз и стреляла плохо.
— Цельтесь как следует, — крикнул он со своего нового места. — Как наведете, стреляйте.
Буш видел, как Хорнблауэр присел на корточки возле пушки, а сам приготовился следить, куда упадут ядра.
Все повторилось: взревели пушки, прибежали подносчики с новыми картузами, тут же принесли раскаленные ядра. Только после того, как ядра закатили в жерла, Хорнблауэр вернулся к Бушу.
— Я думаю, вы попали, — сказал Буш. Он снова посмотрел в подзорную трубу. — Я думаю… Господи, так оно я есть! Дым! Дым!
Между мачтами шхуны появилось черное облачко. Оно быстро рассеялось, и Буш засомневался. Выстрелила ближайшая пушка, порыв ветра понес на него дым, закрывший на время шхуну.
— Черт побери! — сказал Буш, беспокойно ища, откуда было бы видно.
Остальные пушки выстрелили почти одновременно, дым стал еще гуще.
— Принесите свежие заряды, — крикнул Хорнблауэр стоя в дыму. — Баньте тщательно.
Дым рассеялся, шхуна, целая и невредимая, ползла вдоль залива. Буш разочаровано выругался.
— Расстояние уменьшилось, а пушки прогрелись, — сказал Хорнблауэр, потом громче: — Канониры! Вставить клинья!
Он поспешил к пушкам, лично проследить, как меняют угол наклона, и прошло несколько секунд, пока он снова приказал нести ядра. В это время Буш заметил, что шлюпки шедшие впереди шхуны, подошли к ней вплотную. Это могло означать следующее: капитан шхуны уверен, что сумеет на ветре обогнуть мыс и благополучно выбраться из бухты. Нестройно громыхнули пушки. Буш увидел три всплеска возле ближнего борта шхуны.
— Новые заряды! — кричал Хорнблауэр.
И тут Буш увидел, как шхуна развернулась, обратив свою корму к батарее, а нос — прямо к мелям противоположного берега.
— Какого черта… — сказал Буш сам себе. Тут он увидел, как из палубы шхуны столбом повалил дым, и, пока он радовался этому зрелищу, гики шхуны дернулись — она села на мель. Над ее корпусом сгустился дым, и Буш видел в подзорную трубу, как возвышавшийся над дымом большой белый грот разделился на части и исчез: пламя охватило его и одним махом уничтожило. Буш оторвал от глаза трубу и взглядом поискал Хорнблауэра. Тот снова стоял на парапете. Лицо его, покрытое темной щетиной, еще сильнее почернело от порохового дыма. Он широко улыбнулся, обнажив ослепительно белые, по контрасту, зубы. Матросы у пушек кричали «ура!», им вторили стоящие во дворе.
Хорнблауэр жестами велел прекратить шум, чтобы в форте слышали, как он отменяет приказ нести новые ядра.
— Сэдлер, отставить! Подносчики, несите ядра обратно!
Он спрыгнул с парапета и подошел к Бушу.
— Дело сделано, — сказал тот.
— По крайней мере, первое.
С горящего судна поднялся мощный столб дыма, взвиваясь все выше и выше между ее мачт. Оба лейтенанта видели, как упала грот-мачта, и тут же ушей их достиг гул взрыва — огонь добрался до порохового погреба. Когда дым немного рассеялся, они увидели, что шхуну разорвало надвое, прямо посередине. Фок-мачта еще мгновение стояла, но и она рухнула у них на глазах. Нос и корма пылали, шлюпки с командой на веслах шли через мели.
— Неприятное зрелище, — сказал Хорнблауэр. Но Буш не видел ничего неприятного в зрелище горящего врага. Он ликовал.
— Половина команды была в шлюпках, и, когда мы попали, некому было тушить огонь, — сказал он.
— Ядро могло пробить палубу и застрять в трюме, — отозвался Хорнблауэр.
Он говорил сбивчиво, заплетающимся языком, как пьяный. Буш быстро взглянул на него. Пьяным он быть не мог, хотя заросшее грязное лицо и налитые кровью глаза и наводили на такую мысль. Этот человек смертельно устал. Потом в осоловевшем взгляде Хорнблауэра блеснуло оживление, и заговорил он вполне нормально.
— Вот и следующая, — сказал он. — Скоро она подойдет на расстояние выстрела.
Вторая шхуна шла под парусами вдоль фарватера, рядом с ней шли шлюпки, готовые взять ее на буксир. Хорнблауэр снова повернулся к пушкам.
— Видите следующий корабль? — крикнул он. Услышав утвердительный гул, он повернулся и заорал в сторону Сэдлера: — Подносчики, несите ядра.
На скате появилась цепочка подносчиков с раскаленными ядрами. Ядра были пугающе горячи; жар от каждого проносимого мимо ядра — двадцати четырех фунтов раскаленного докрасна железа — окатывал волной. По заведенному порядку ядра начали закатывать в дула пушек. Тут послышались громкие восклицания, и одно из ядер с грохотом упало на каменные плиты орудийной платформы. Оно лежало, ярко светясь. Две пушки стояли незаряженными.
— В чем дело? — спросил Хорнблауэр.
— Простите, сэр…
Хорнблауэр уже шагал к пушкам, посмотреть, что случилось. Над дулом одной из заряженных пушек столбом стоял пар; все три яростно шипели.
— Выкатывайте, наводите и стреляйте, — приказал Хорнблауэр. — А вы что стоите? Откатите это ядро.
— Ядра не входят, сэр, — произнесли сразу несколько голосов, в то время как кто-то пыжовником откатывал упавшее ядро к парапету. Подносчики с двумя другими ядрами ждали, обливаясь потом. Ответ Хорнблауэра потонул в реве одной из пушек — матросы стояли у талей, выкатывая ее, и она выстрелила сама собой. Один из матросов, сидя, кричал от боли — лафет при отдаче ударил его по ноге, и кровь уже текла на каменные плиты. Канониры двух других заряженных орудий даже не стали делать вид, что наводят их: как только пушки были выдвинуты, они крикнули «Разойдись!» и выстрелили.
— Отнесите его вниз, к мистеру Пирсу, — сказал Хорнблауэр, указывая на пострадавшего. — Дайте-ка я гляну на это ядро.
Вернулся Хорнблауэр удрученным и встревоженным.
— В чем дело? — спросил Буш.
— Ядра перекалились, — объяснил Хорнблауэр. — Черт, я об этом не подумал. Они начали плавиться в печи, потеряли форму и потому не проходили в канал. Какой я дурак, что не подумал об этом!
Буш как старший офицер не счел нужным признать, что и сам об этом не подумал. Он промолчал.
— А то, что не потеряло формы, было все равно слишком горячим, — продолжал Хорнблауэр. — Я самый распроклятый дурак из всех проклятых дураков. Я совсем рехнулся. Видели, как пушка выстрелила сама по себе? Теперь матросы напуганы. Они не будут наводить как следует — постараются выпалить побыстрее, чтоб не попасть под отдачу. Господи, я безмозглый сукин сын!
— Легче, легче, — сказал Буш. Его раздирали противоречивые чувства.
Хорнблауэр, в порыве самообвинения молотивший правым кулаком левую руку, был очень комичен, Буш не смог сдержать смеха. Но при этом Буш отлично знал, что Хорнблауэр до сих пор действовал превосходно, действительно превосходно, так быстро освоив технику стрельбы раскаленными ядрами. Более того, нужно сознаться, за время операции Буша неоднократно задевало то, что Хорнблауэр каждый раз смело берет ответственность на себя. Самолюбие его, возможно, страдало еще по одной причине — он завидовал тому, как умело Хорнблауэр поступает в любой обстановке. Чувство недостойное, и Буш с отвращением отбросил бы его, если б осознал. Однако оно делало теперешнее замешательство Хорнблауэра еще более забавным.
— Не принимайте так близко к сердцу, — сказал Буш с широкой улыбкой.
— Но меня бесит, что я такой… — Хорнблауэр оборвал себя на полуслове. Буш видел, как тот собрал все свое самообладание и взял себя в руки, видел, как раздосадован он своей несдержанностью, видел, как маска опытного и невозмутимого воина скрыла бушевавшие в нем чувства.
— Вы поруководите здесь, сэр? — сказал Хорнблауэр, казалось, это говорил другой человек. — Если можно, я спущусь вниз и посмотрю, что там с печкой. Надо будет им не так налегать на мехи.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр. Пришлите сюда боеприпасы, а я поруковожу обстрелом шхуны.
— Есть, сэр. Я пришлю ядра, которые убрали в печь последними. Они не могли еще перегреться, сэр.
Хорнблауэр стремглав побежал по скату, а Буш прошелся вдоль пушек. Принесли и забили свежие заряды, потом сухие пыжи, потом мокрые. Наконец, появились носилки с ядрами.
— Спокойно, спокойно, — сказал Буш. — Они не такие горячие, как предыдущие. Цельтесь тщательно.
Но когда Буш взобрался на парапет и направил подзорную трубу на вторую шхуну, он увидел, что ее капитан изменил намерения. Он взял фок на гитовы и убрал кливер, шлюпки располагались теперь под углом к курсу шхуны и тянули ее нос, как жуки. Они разворачивали ее — шхуна предпочла вернуться в залив, чем идти под градом раскаленных докрасна ядер. Видимо, ее напугал обугленный остов ее товарки.
— Они пустились наутек! — громко сказал Буш. — Стреляйте по ней, ребята, пока можете.
Он увидел, как ядро описало в воздухе дугу, увидел на воде всплески. Он вспомнил, как вчера ядро, пущенное из этих самых пушек, рикошетом отскочило от воды и ударило в борт «Славы». Судя по одному всплеску, сделавшее его ядро могло рикошетом попасть в шхуну.
— Новые заряды! — закричал Буш, повернувшись, чтоб его слышали на пороховом складе. — Банить пушки!
Но к тому времени, как заряды забили в пушки, шхуна полностью развернулась, расправила фок и пошла обратно в бухту. Судя по последним всплескам, она будет вне досягаемости раньше, чем пушки подготовят к следующему залпу.
— Мистер Хорнблауэр!
— Сэр!
— Не присылайте больше ядер.
— Есть, сэр.
Когда Хорнблауэр снова поднялся на батарею, Буш указал на удалявшуюся шхуну.
— Они передумали? — сказал Хорнблауэр. — Да. А те двое что ли стали на якорь?
Пальцы его снова тянулись к единственной подзорной трубе, которую Буш ему и протянул.
— По крайней мере, они не двигаются, — сказал Хорнблауэр, потом повернулся и направил подзорную трубу в сторону моря. — «Слава» повернулась оверштаг. Она поймала ветер. Шесть миль? Семь миль? Через час она обойдет мыс.
Теперь пришел черед Бушу выхватывать подзорную трубу. Разворот марселей не вызывал сомнений. Со «Славы» Буш перевел взгляд на противоположный берег бухты. Испанский флаг над другой батареей то повисал, то лениво похлопывал на легком ветерке, дувшем над побережьем. Буш не заметил нигде никаких приготовлений, и в том, как он сложил подзорную трубу и посмотрел на своего заместителя, чувствовалась некоторая завершенность.
— Все тихо, — сказал он. — Пока не придет «Слава», делать нечего.
— Верно, — согласился Хорнблауэр.
Занятно было наблюдать, как оживление исчезло с его лица. На какое-то мгновение он перестал себя контролировать, и стало видно, как бесконечно он устал.
— Мы можем покормить людей, — сказал Буш. — Я хотел бы навестить раненых. Надо разобраться с этими чертовыми пленными — Уайтинг всех их затолкал в каземат, женщин и мужчин, офицеров и барабанщиков. Бог весть, сколько у нас тут провианта. Это надо проверить. Потом назначим вахту, отпустим подвахтенных, и кто-то из нас сможет отдохнуть.
— Верно, — сказал Хорнблауэр. Как только Буш напомнил ему, что дел еще предстоит много, он вновь принял бесстрастное выражение. — Прикажете мне спуститься вниз и заняться этим, сэр?
XI
Над фортом Самана стояло полуденное солнце. Отражаясь от стен, жар его достигал убийственной силы, и даже в тех уголках, где лежала тень, было нестерпимо жарко. Морской бриз еще не поднялся, и английский военно-морской флаг безвольно повис на флагштоке, до половины закрывая поникший испанский. Однако дисциплина сохранялась. На каждом бастионе стоял под палящим солнцем впередсмотрящий. Судовая полиция, как предписывал устав, размеренным шагом «обходила дозором отведенные для охраны участки с видом бравым и подтянутым»: ружья на плечо, красные мундиры застегнуты на все пуговицы, портупеи строго на месте. Когда один из них доходил до конца своего участка, он останавливался, щелкал каблуками, в три проворных движения ставил ружье к ноге, потом, отведя вперед правую руку и отставив левую ногу, принимал положение «вольно». Однако жара и мухи снова гнали его вперед, он сводил пятки вместе, поднимал ружье на плечо и еще раз проходил тот же маршрут. Возле пушек дремали на жестких камнях орудийные расчеты. Счастливчики устроились в тени пушек, остальные — в узкой полоске тени под парапетом; двое матросов сидели и бодрствовали — они постоянно следили, чтоб не погасли тлевшие в кадке огнепроводные шнуры. Это делалось для того, чтоб при необходимости можно было, не теряя времени, открыть огонь по кораблям в заливе или отразить атаку с суши. За мысом Самана корабль Его Величества «Слава» ждал первых порывов морского бриза, чтоб войти в бухту и связаться со своим наземным десантом.
Возле главного провиантского склада сидел на скамейке лейтенант Буш. Он боролся со сном, проклинал жару, проклинал свое добросердечие, из-за которого позволил младшим офицерам отдохнуть первыми, а обязанности вахтенного офицера взвалил на себя, завидовал храпевшим вокруг морским пехотинцам. Время от времени он вытягивал ноющие от усталости ноги. Он вытер лоб и подумал, не ослабить ли ему шейный платок.
Из-за угла выбежал посыльный.
— Мистер Буш, сэр. Простите, сэр, от батареи за бухтой отошла лодка.
Буш осоловело посмотрел на посыльного.
— Куда направляется?
— Прямо к нам, сэр. На ней флаг — похоже, белый.
— Я пойду посмотрю. Никакой пощады нечестивцам, — сказал Буш и с трудом оторвал себя от скамейки. Все тело его сопротивлялось. Он проковылял по скату и поднялся на батарею. Спустившийся навстречу ему с башни вахтенный унтер-офицер ждал с подзорной трубой в руках. Буш выхватил трубу и посмотрел. Как и сказал посыльный, к ним двигалась шестивесельная лодка, черная на синеве залива. С флагштока свисал флаг, возможно что и белый: не было ветра, чтоб его расправить. Но на лодке всего человек десять, в любом случае, непосредственной опасности она не представляет. Через бухту грести долго. Буш наблюдал, как лодка упорно движется к форту. Низкие обрывы, спускавшиеся к воде с этой стороны Саманского полуострова, переходили недалеко от форта в пологий склон; наискосок через склон шла дорога к пристани, которая, как уже заметил Буш, легко простреливалась из двух пушек, стоявших в правом конце орудийной платформы. Но пока нет необходимости ставить команду к этим пушкам — на атаку не похоже. Словно в подтверждение этим мыслям, порыв ветра расправил на лодке флаг. Он был белый.
Лодка неуклонно двигалась к пристани и наконец подошла к ней. Ярко блеснуло что-то металлическое, и тут же горячий воздух огласился звуками трубы. Высокие и чистые они были отчетливо слышны гарнизону. Из лодки на пристань вылезли двое. Они были в синих с белым мундирах, один — со шпагой на боку, другой — со сверкающей трубой; он снова поднес ее к губам и протрубил. Пронзительный и нежный звук эхом прокатился над обрывами. Дремавшие на припеке птицы с жалобными криками поднялись в воздух — утром их потревожил грохот артиллерийского обстрела, теперь — звуки трубы. Офицер со шпагой развернул белый флаг и вместе с трубачом пошел по крутой дороге вверх к форту. Это — переговоры в соответствии с установленным военным этикетом. Громкие звуки трубы означали, что испанцы не пытаются подкрасться неожиданно, а белый флаг удостоверял их мирные намерения.
Буш, наблюдая за приближающимися испанцами, размышлял, вправе ли он вести переговоры с неприятелем, а так же обдумывал трудности, с которыми эти переговоры столкнутся из-за различия языков.
— Постройте судовую полицию, — сказал он унтер-офицеру, потом обратился к посыльному: — Передайте мистеру Хорнблауэру мои приветствия и попросите его возможно скорее придти сюда.
На дороге снова эхом прокатилась труба. Кое-кто из спящих завозился при этом звуке, остальные устали так сильно, что продолжали спать. Во дворе слышались топот и отрывистые приказы — это строились морские пехотинцы. Белый флаг был уже на краю рва; офицер остановился и посмотрел вверх, а трубач протрубил в последний раз, яростные фанфары разбудили всех, кто еще спал.
— Я здесь, сэр, — доложил Хорнблауэр. Шляпа, которую он держал в руках, была помята, и сам он в потрепанном мундире походил на огородное пугало. Лицо его, хоть и чистое, покрывала густая щетина.
— Вы говорите по-испански? Объясниться с ними можете? — спросил Буш, большим пальцем указывая на парламентариев.
— Ну, сэр… да.
Последнее слово Хорнблауэр произнес как бы против воли. Сперва он хотел потянуть время, а потом ответил четко, по-военному.
— Тогда давайте.
— Есть, сэр.
Хорнблауэр встал на парапет. Увидев его, испанский офицер снял шляпу и изысканно поклонился, Хорнблауэр ответил тем же. Они обменялись несколькими фразами, видимо — вежливыми приветствиями. Потом Хорнблауэр повернулся к Бушу.
— Вы пустите его в форт, сэр? — спросил он. — По его словам, ему много что надо обсудить с вами.
— Нет, — без колебаний ответил Буш. — Не хочу, чтоб он тут вынюхивал.
Буш не знал, что именно может выведать испанец, но подозрительность и осторожность были в его характере.
— Очень хорошо, сэр.
— Вам придется спуститься к нему, мистер Хорнблауэр. Я с морскими пехотинцами прикрою вас отсюда.
— Есть, сэр.
После нового обмена любезностями Хорнблауэр слез с парапета и спустился по скату, в то время как судовая полиция, вызванная Бушем, поднималась по другому. Буш через амбразуру видел, как изменилось лицо испанца, когда в соседних амбразурах появились кивера и красные мундиры морских пехотинцев. Сразу же после этого из-за угла форта появился Хорнблауэр — он перешел ров по узенькой дамбе, идущей от главных ворот. Буш видел, как Хорнблауэр с испанцем вновь сняли шляпы и обменялись поклонами на нелепый европейский манер — неуклюже приседая и сгибаясь. Испанец вытащил бумагу, очевидно, подтверждающую его полномочия, Хорнблауэр просмотрел ее и вернул обратно, потом махнул рукой в сторону Буша — мои, мол, полномочия оттуда. Дальше Буш видел, как испанец что-то взволнованно спрашивает, а Хорнблауэр отвечает. По тому, как Хорнблауэр кивал головой, Буш догадался, что он отвечает положительно, и на какое-то мгновение засомневался, не превышает ли Хорнблауэр свою власть. При этом Буш вовсе не досадовал, что принужден полагаться на кого-то в ведении переговоров. Мысль о том, что он сам мог бы говорить по-испански, была ему совершенно чужда, и он так же мирился с необходимостью полагаться в этом деле на переводчика, как мирился с необходимостью полагаться на канат, чтобы бросить якорь, или на ветер, чтоб доставить судно по назначению.
Он следил за ходом переговоров: наблюдая внимательно, он заметил, что тема их переменилась. В какой-то момент Хорнблауэр указал рукой на залив, испанец, повернувшись посмотрел на «Славу», только что вышедшую из-за мыса. Смотрел он долго и пристально, прежде чем повернулся и продолжил разговор. Оба долго стояли под палящим солнцем — трубач отошел в сторону, чтобы не слышать, — наконец Хорнблауэр повернулся к Бушу.
— Если можно, я вернусь и доложу, сэр, — крикнул он.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр.
Буш спустился во двор, навстречу ему. Хорнблауэр отдал честь и ждал, пока его спросят.
— Его зовут полковник Ортега, — сказал Хорнблауэр на нетерпеливое «Ну?» Буша. — Его полномочия исходят от главнокомандующего Виллануэвы, который, должно быть сразу на той стороне бухты.
— Чего он хочет? — спросил Буш, пытаясь усвоить эту довольно неудобоваримую информацию.
— Во-первых, он хочет знать про пленных, сэр, — сказал Хорнблауэр, — особенно про женщин.
— И вы сказал ему, что они не пострадали.
— Да, сэр. Он очень волновался за них. Я сказал ему, что спрошу вашего разрешения отправить их с ним обратно.
— Ясно, — сказал Буш.
— Я подумал, это облегчит нам дело, сэр. Он еще много чего хотел сказать, и я подумал, что он будет говорить свободней, если я покажусь ему уступчивым.
— Да, — сказал Буш.
— Потом он захотел узнать про остальных пленных, сэр. Про мужчин. Он хотел знать, есть ли убитые, и когда я сказал, что есть, он спросил, кто. Этого я не мог сказать, сэр — я не знал. Но я сказал, что вы, без сомнения, предоставите ему список. Он сказал, у большинства из них жены там, — Хорнблауэр указал рукой на другую сторону бухты, — и они очень переживают.
— Это я сделаю, — сказал Буш.
— Я думаю, он мог бы взять и раненых вместе с женщинами. Нам бы это немного развязало руки, а тем более мы все равно не сможем обеспечить им надлежащего ухода.
— Это я должен сперва обдумать, — сказал Буш.
— Кстати, сэр, можно было бы избавиться от всех пленных. Я думаю, нетрудно будет взамен получить от него обещание, что они не будут сражаться, пока «Слава» находится в этих водах.
— Это мне кажется подозрительным, — сказал Буш; он не доверял иностранцам.
— Я думаю, он сдержит слово, сэр. Он испанский джентльмен. Тогда нам не придется их охранять или кормить. А когда мы оставим это место, что с ними будем делать? Погрузим на «Славу»?
Сотня пленных будет для «Славы» большой обузой: им потребуется двадцать галлонов питьевой воды в день, их придется сторожить круглые сутки. Но Буш не любил, когда его подталкивают к решению, к тому же ему не понравилось, что Хорнблауэр считает само собой разумеющимся то, к чему сам Буш пришел по некотором размышлении.
— Это я тоже должен обдумать, — сказал он.
— Есть еще одно, на что он только намекает, сэр. Он не стал делать каких-либо определенных предложений, а я счел за лучшее его не расспрашивать.
— В чем дело?
Прежде чем ответить, Хорнблауэр сделал паузу, и это само по себе предупредило Буша, что дело деликатное.
— Это гораздо важнее, чем вопрос о пленных, сэр.
— Ну?
— Не исключено, что можно будет договориться о капитуляции, сэр.
— Что это значит?
— Сдача, сэр. Доны очистят весь этот конец острова.
— Господи!
Предложение было ошеломляющее. Буш мысленно пустился по открывающемуся им пути. Это было бы событие международного значения, это могла бы быть выдающаяся победа. Не один абзац в «Вестнике», но целая страница. Наверняка — награды, отличия, возможно даже повышение в звании. И тут Буш в панике отступил, ибо путь, которым он мысленно следовал, вел в пропасть. Чем значительнее успех, тем пристальнее к нему внимание, тем сильнее его будут критиковать те, кто останется недоволен. Буш знал, что политическая ситуация на Санто-Доминго запутанная, хотя никогда не пытался что-нибудь разузнать о ней, тем более ее анализировать. Он знал только самое общее: что на острове столкнулись интересы французов и испанцев, и что взбунтовавшиеся негры, почти уже победившие, сражались и против тех, и против других. Он даже слышал краем уха, что в парламенте существует сильное течение противников рабства, и что они постоянно привлекают внимание к событиям на острове. Мысль о том, что парламент, кабинет и сам король внимательно изучают его донесения, повергла Буша в ужас. Вполне реальная опасность заслонила воображаемые награды. Если переговоры, в которые он вступит, доставят правительству затруднения, его же первого принесут в жертву — никто не пожалеет бедного лейтенанта, без связей, без гроша в кармане. Он вспомнил, как испугался Бакленд при одном намеке на это: секретные приказы, видимо, очень строги на этот счет.
— И не заикайтесь об этом, — сказал Буш.
— Есть, сэр. Значит, если он об этом заговорит, мне его не слушать?
— Ну… — Это уже смахивало на уклонение от своих обязанностей. — В любом случае, это дело Бакленда.
— Есть, сэр. Тогда я могу кое-что предложить, сэр.
— Что еще? — Буш не знал, сердиться ему или радоваться, что у Хорнблауэра опять новое предложение. Но в своих способностях вести переговоры он сомневался, зная, что крючкотворство и лицемерие ему чужды.
— Если вы договоритесь насчет пленных, сэр, это займет какое-то время. Возникнет вопрос о честном слове. Я могу поспорить о том, как оно будет сформулировано. Потом потребуется время, чтоб перевезти пленных. Вы можете настоять, чтоб к причалу подходило не больше одной лодки — это очевидная предосторожность. За это время «Слава» успеет войти в бухту и встанет на якорь вне досягаемости той батареи, сэр. Тогда выход из бухты будет заперт, а мы сохраним связь с донами, так что Бакленд, если захочет, сможет взять руководство переговорами на себя.
— В этом что-то есть, — сказал Буш. Без сомнения, это снимет с него ответственность. Приятно было подумать о том, чтобы протянуть время, пока «Слава» своим присутствием не усилит позиции англичан.
— Так вы уполномочиваете меня вести переговоры о возвращении пленных под честное слово? — спросил Хорнблауэр.
— Да, — неожиданно решился Буш. — Но ни о чем другом, запомните, мистер Хорнблауэр. Ни о чем другом, если вы дорожите своим местом.
— Есть, сэр. И боевые действия временно приостанавливаются на период передачи пленных?
— Да, — неохотно согласился Буш. Это неизбежно вытекало из предыдущего, однако звучало подозрительно, как бы намекая на возможность дальнейших переговоров.
Так день постепенно перешел в вечер. Целый час ушел на препирательства по поводу честного слова, под которое отпускают пленных. К двум часам соглашение еще не было достигнуто. Чуть позже Буш, стоя у главных ворот, наблюдал, как из них толпой выходят женщины, неся узлы со своими пожитками. Лодка не могла взять их всех, пришлось ей сделать второй заход, и только после этого дело дошло до пленных мужчин, начиная с раненных. Тут к радости Буша из-за мыса появилась, наконец, «Слава». С поднявшимся морским бризом она гордо вступила в бухту.
Вот и Хорнблауэр опять, еле переставляет ноги от усталости.
— На «Славе» ничего не знают о прекращении боевых действий, сэр, — сказал он. — Они увидят лодку, полную испанских солдат, и, ясное дело, откроют по ней огонь.
— Как же дать им знать?
— Мы обсудили это с Ортегой, сэр. Он одолжит нам лодку, чтоб мы смогли передать сообщение на «Славу».
Отсутствие сна и крайнее изнеможение взяли верх над терпением Буша. Этой последней капли его обессиленное от усталости сознание уже не вынесло.
— Вы слишком много на себя берете, мистер Хорнблауэр, — сказал он. — Черт возьми, я здесь командую.
— Да, сэр, — ответил Хорнблауэр, вытягиваясь.
Буш смотрел на него и пытался привести свои мысли в порядок после вспышки раздражения. Нельзя отрицать, что «Славу» нужно поставить в известность. Если она откроет огонь, это будет нарушением достигнутого соглашения, одной из сторон которого был он сам.
— Тысяча чертей! — сказал Буш. — Поступайте, как знаете. Кого вы пошлете?
— Я могу отправиться сам, сэр. Тогда я смогу сказать Бакленду все необходимое.
— Вы имеете в виду о… о… — Бушу решительно не хотелось касаться опасной темы.
— О возможности дальнейших переговоров, — бесстрастно произнес Хорнблауэр. — Рано или поздно он должен будет узнать. А пока Ортега здесь…
Смысл был очевиден, а предложение разумно.
— Хорошо. Я думаю, лучше отправиться вам. И запомните мои слова, мистер Хорнблауэр, вы должны четко сказать, что я не уполномочивал вас вести никаких переговоров по тому вопросу, который вы имеете в виду. Никаких. Я тут ни при чем. Вы поняли?
— Есть, сэр.
XII
Три офицера сидели в командирском помещении форта Самана. Действительно, раз Буш теперь командовал фортом, это помещение по-прежнему можно было называть командирским. В углу стояла кровать с сеткой от москитов, в другом конце комнаты сидели на кожаных креслах Бакленд, Буш и Хорнблауэр. Свисавшая с потолочной балки лампа наполняла комнату едким запахом и освещала их потные лица. Было жарче и более душно, чем на судне, но зато здесь, в форте не мучило гнетущее сознание того, что за переборкой лежит безумный капитан.
— Я ни на минуту не сомневался, — сказал Хорнблауэр, — что, когда Виллануэва послал Ортегу сюда начать переговоры о пленных, он велел ему прощупать почву на предмет вывода войск.
— Вы не можете знать это наверняка, — сказал Бакленд.
— Ну, сэр, поставьте себя на место Ортеги. Стали бы вы хотя бы намекать на такое важное дело, если б вас на это не уполномочили? Если б не получили на этот счет конкретных распоряжений?
В этом никто, знавший Бакленда, не усомнился бы, и для него самого это было наиболее убедительно.
— Значит, Виллануэва думал о капитуляции с тех самых пор, как узнал, что мы взяли форт и «Слава» сможет встать на якорь в бухте.
— Полагаю, так, — неохотно согласился Бакленд.
— А раз он готов говорить о капитуляции, он или отъявленный трус, или в серьезной опасности, сэр.
— Ну…
— Нам, для того чтоб вести с ним переговоры, неважно, как на самом деле обстоят дела, реальная это опасность, или мнимая.
— Вы говорите, как сутяжник, — сказал Бакленд. Его пытались логическими рассуждениями принудить к быстрому решению, а он этого не хотел, и, обороняясь, употребил одно из самых оскорбительных слов, которые знал.
— Простите, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Я не хотел проявить непочтение. Я позволил себе разболтаться. Конечно, ваше дело решать, в чем состоит ваш долг, сэр.
Буш заметил, что слово «долг» заставило Бакленда напрячься.
— Ну ладно, как вы думаете, что за всем этим скрывается? — спросил Бакленд. Вопрос был задан для того, чтоб оттянуть время, но он позволил Хорнблауэру дальше излагать свои взгляды.
— Виллануэва уже несколько месяцев удерживает от восставших этот конец острова, сэр. Мы не знаем, какая территория у него осталась, но можем догадаться, что маленькая — возможно, до того хребта на противоположной стороне бухты. Порох… пули… кремни… обувь — всего этого ему наверняка не хватает.
— Судя по тем пленным, которых мы взяли, это верно, — вставил Буш. Он затруднился бы объяснить, что заставило его внести в разговор свою лепту. Возможно, его интересовала истина сама по себе.
— Может и так, — сказал Бакленд.
— И тут появляемся мы, сэр, и отрезаем его от моря. Он не знает, сколько мы тут пробудем. Он не знает, каковы ваши инструкции, сэр.
Хорнблауэр тоже не знает, заметил про себя Буш. Бакленд при упоминании инструкций беспокойно заерзал.
— Это к делу не относится, — сказал он.
— Он видит, что отрезан от моря, а припасы тают. Если дело пойдет так, он вынужден будет сдаться. Он предпочтет начать переговоры сейчас, пока он еще держится и ему есть о чем поторговаться, не дожидаясь последнего момента, когда придется капитулировать безоговорочно, сэр.
— Ясно, — сказал Бакленд.
— И он предпочтет сдаться нам, а не неграм, сэр, — заключил Хорнблауэр.
— Да, конечно, — сказал Буш.
Все хоть немного да слышали о зверствах, творимых восставшими рабами, которые за восемь лет залили остров кровью и выжгли огнем. Все трое некоторое время молчали, обдумывая смысл последнего замечания.
— Ну что ж, очень хорошо, — сказал наконец Бакленд, — Давайте послушаем, что он скажет.
— Привести его сюда, сэр? Он уже давно ждет. Я могу завязать ему глаза.
— Делайте, что хотите, — покорно ответил Бакленд.
При ближайшем рассмотрении, когда с него сняли повязку, полковник Ортега оказался моложе, чем могло показаться издалека. Он был очень строен, и носил свой потрепанный мундир с претензией на элегантность. Мускул на его левой щеке непрерывно подергивался. Бакленд и Буш медленно поднялись. Хорнблауэр представлял офицеров друг другу.
— Полковник Ортега говорит, что не знает английского.
Хорнблауэр лишь слегка нажал на слово «говорит» и лишь слегка задержал взгляд на старших офицерах, но предупреждение было ясно.
— Хорошо, спросите, чего он хочет, — сказал Бакленд.
Были произнесены первые церемонные фразы на испанском; каждый из говоривших, очевидно, прощупывал слабые места противника, пытаясь в то же время скрыть свои. И даже Буш уловил момент, когда кончились общие фразы и начались конкретные предложения. Ортега вел себя так словно делает одолжение; Хорнблауэр — так, как если бы это одолжение его не волновало. Наконец он повернулся Бакленду и заговорил по-английски.
— Он предлагает вполне сносные условия капитуляции — сказал он.
— Ну?
— Пожалуйста, не показывайте ему, что вы думаете сэр. Но он хочет свободного перемещения для гарнизона — военные — штатские — корабли. Пропуска для судов на проход в испанские владения — иными словами, на Кубу или на Пуэрто-Рико, сэр. В обмен он передает нам все остальное нетронутым. Боеприпасы. Батарею на той стороне бухты. Все.
— Но… — Бакленд отчаянно пытался не выдать своих чувств.
— Я не сказал ему ничего существенного, сэр, — произнес Хорнблауэр.
Ортега внимательно наблюдал за их мимикой. Голова его была высоко поднята, плечи расправлены. Он снова заговорил с Хорнблауэром. Голос его звучал страстно, однако, хотя это мало вязалось с его достойной манерой держаться, одну из своих фраз он сопроводил странным жестом: резким движением руки изобразил, что его рвет.
— Он говорит, иначе они будут драться до последнего, — переводил Хорнблауэр. — Он говорит, на испанских солдат можно положиться, они скорее умрут, чем примут бесчестие. Он говорит, больше, чем мы сделали, мы уже не сделаем, это, так сказать, предел наших возможностей, сэр. И что мы не решимся долго остаться на острове, чтобы взять их измором, из-за желтой лихорадки — vomito negro [22], сэр.
В водовороте прошлых дней Буш начисто забыл о желтой лихорадке. Он понял, что при ее упоминании сделал озабоченное лицо, и попытался поскорей изобразить безразличие. Глядя на Бакленда, он увидел на его лице в точности такую же смену выражений.
— Ясно, — сказал Бакленд.
Это было ужасно. Если вспыхнет желтая лихорадка, через неделю на «Славе» не хватит матросов, чтоб управлять парусами.
Ортега вновь разразился страстной речью.
— Он говорит, его солдаты прожили здесь всю жизнь. Они не подхватят желтую лихорадку так легко, как наши. А многие уже ей переболели. Он говорит, он сам ее перенес, сэр…
Буш вспомнил, как выразительно Ортега ударял себя в грудь.
— … И что негры считают нас врагами после того, что случилось на Доминике, сэр, так он говорит. Он может заключить с ними союз против нас. Тогда они смогут послать армию на форт завтра же. Пожалуйста, не показывайте вида, будто вы ему верите, сэр.
— Ко всем чертям, — обессилено сказал Бакленд. Буш про себя гадал, что же случилось на Доминике. В истории — даже в новейшей — он был не силен.
Снова заговорил Ортега.
— Он говорит, это его последние слова, сэр. Он говорит, это благородное предложение, и, по его словам, он не отступит ни на йоту. Теперь, когда вы его выслушали, вы можете отослать его и сказать, что ответ дадите завтра утром.
— Очень хорошо.
Оставалось еще произнести церемонные прощания. Ортега поклонился так вежливо, что пришлось Бакленду и Бушу неохотно подняться и снизойти до ответных поклонов. Хорнблауэр вновь завязал Ортеге глаза и вывел его из комнаты.
— Что вы об этом думаете? — спросил Бакленд у Буша.
— Я хотел бы обмозговать это, сэр, — ответил Буш. Когда вернулся Хорнблауэр, они все еще обсуждали этот вопрос. Прежде чем обратиться к Бакленду, Хорнблауэр глянул на них обоих.
— Я еще понадоблюсь вам этой ночью, сэр?
— Ох, черт возьми, лучше вам остаться. Вы знаете об этих донах больше нас. Что вы об этом думаете?
— Его аргументы довольно убедительны, сэр.
— Я тоже так подумал, — с явным облегчением сказал Бакленд.
— Не можем ли мы их как-нибудь прищучить, сэр? — спросил Буш.
Хотя сам он не мог предложить ничего конкретного, ему не хотелось так легко соглашаться на условия, предложенные иностранцем, пусть и самые заманчивые.
— Мы можем провести судно вглубь бухты, — сказал Бакленд. — Но фарватер опасный — вы это вчера видели.
Господи! Только вчера «Слава» пыталась пробиться в бухту под градом каленых ядер. Бакленд, проведший относительно спокойный день, не заметил ничего странного в этом «вчера».
— Хотя этот форт в наших руках, батарея за бухтой все равно будет нас обстреливать, — продолжал Бакленд.
— Мы наверняка сможем обойти ее, — возразил Буш. — Надо будет держаться ближе к этому берегу.
— Ну обойдем мы ее. Они отверповали свои суда обратно вглубь бухты. Осадка у них на шесть футов меньше, чем у нас. А если они не полные идиоты, они облегчат свои суда, отверпуют их еще дальше на мелководье. Ну и дураки же мы будем, если окажется, что они вне досягаемости, и нам придется выбираться обратно под огнем. Тогда они смогут упереться и не согласиться даже на те условия, которые предлагают сегодня.
При мысли о том, что придется докладывать о двух кровавых неудачах, Бакленд явно запаниковал.
— Понятно, — подавленно ответил Буш.
— Если мы согласимся, — вернулся Бакленд к своей теме, — негры захватят эту часть острова. Тогда каперы не смогут использовать бухту. Кораблей у негров нет, а и были бы, им с ними не справиться. Мы выполним наши приказы. Вы не согласны, мистер Хорнблауэр?
Буш перевел взгляд. Утром Хорнблауэр выглядел усталым, а днем почти не отдохнул. Лицо его осунулось, глаза покраснели.
— Мы могли бы… могли бы прищучить их, сэр, — сказал он.
— Как?
— Опасно вести «Славу» дальше в бухту. Но мы могли бы достать их с полуострова, сэр, если вы прикажете.
— Господи, помилуй! — вырвалось у Буша.
— Что я прикажу? — спросил Бакленд.
— Мы могли бы установить пушку на дальнем конце полуострова, откуда простреливается та часть залива, сэр. Каленые ядра нам не понадобятся — в нашем распоряжении будет целый день, чтоб разнести их в куски, даже если они будут менять стоянку.
— Так мы и сделаем, клянусь Богом, — сказал Бакленд. Лицо его оживилось. — Сможете вы перетащить туда одну из здешних пушек?
— Я думал об этом, сэр, и боюсь, что не сможем. По крайней мере, не сможем быстро. Двадцатичетырехфунтовки по две с половиной тонны каждая. Гарнизонные лафеты. Лошадей у нас нет. Сто человек не перетащат их через эти овраги — там больше четырех миль.
— Тогда к чему весь этот разговор? — спросил Бакленд.
— Нам не придется тащить пушку отсюда, сэр, — сказал Хорнблауэр. — Мы сможем воспользоваться одной из корабельных пушек. Длинной девятифунтовкой, которую мы используем как погонное орудие. У этих девятифунтовок дальность почти такая же, как у двадцатичетырехфунтовок.
— Но как мы ее туда доставим?
Ответ забрезжил перед Бушем раньше, чем Хорнблауэр сказал:
— Отвезем ее на барказе, сэр, с талями и канатами, примерно туда, где вчера высаживались. Обрыв там крутой, и на нем растут большие деревья, за которые можно привязать канат. Мы достаточно легко сможем втянуть туда пушку. Эти девятифунтовки весят всего по тонне.
— Это я знаю, — сухо сказал Бакленд.
Одно дело — предлагать неожиданные решения, и совсем другое — напоминать опытному офицеру о том, что тот прекрасно знает.
— Да, конечно, сэр. Но с вершины обрыва девятифунтовку уже нетрудно будет перетащить через перешеек, и тогда мы сможем держать бухту под обстрелом. Овраги пересекать не придется. Полмили — вверх, но не круто — и дело будет сделано.
— И что потом?
— Их корабли окажутся под огнем. Всего-навсего девятифунтовка, но я думаю, им и этого хватит. За двенадцать часов непрерывного обстрела мы разнесем их в щепки. Может даже быстрее. Я думаю, при необходимости мы могли бы греть ядра, но это ни к чему. Я думаю, сэр, достаточно будет открыть огонь.
— Почему?
— Доны побоятся потерять эти корабли, сэр. Ортега утверждал, что может заключить с неграми перемирие, но это пустое хвастовство, сэр. Дай неграм такую возможность, и они всем им перережут глотки. И я их не виню — простите, сэр.
— Ну?
— Эти корабли для донов — единственный шанс на спасение. Если доны увидят, что мы вот-вот их потопим, они испугаются. Для них это будет значить, что придется сдаваться неграм. Негры перережут всех до единого. А у них женщины. Они лучше сдадутся нам.
— Сдадутся, клянусь Богом, — сказал Буш.
— Вы думаете, они пойдут на уступки?
— Да. То есть я так думаю, сэр. Тогда вы сможете назначить свои условия. Безоговорочная капитуляция для солдат.
— То есть то, с чего мы и начали, — сказал Буш. — Раз им придется сдаваться, они лучше сдадутся нам, чем неграм.
— Чтоб пощадить их гордость, сэр, вы сможете согласиться на некоторые послабления, — продолжал Хорнблауэр. — Позволить, чтоб женщин, если они захотят, отправили на Кубу или на Пуэрто-Рико. Но ничего серьезного. Эти корабли будут нашими призами, сэр.
— Призами, клянусь Богом! — сказал Бакленд.
Призы означали призовые деньги, и Бакленд в качестве командующего офицера получит львиную долю. И не только это — возможно, деньги волновали его меньше всего — но призы, с триумфом приведенные в порт, произведут куда большее впечатление, чем суда, потопленные вдали от глаз начальства. А безусловная капитуляция придаст всему этому завершенность — большего достигнуть уже нельзя.
— Что вы сказали, мистер Буш? — спросил Бакленд.
— Я думаю, стоит попробовать, сэр, — сказал Буш.
Он смирился с Хорнблауэром. Раздражение, вызванное его неутомимой изобретательностью, достигло пресыщения и умерло само собой. В отношении Буша к Хорнблауэру было что-то от покорности судьбе, но присутствовало в нем и восхищение. Буш был великодушен и не стыдился этого. От него не ускользнуло, как ловко Хорнблауэр управляется со старшими, и он по-хорошему завидовал его такту. Буш честно признался себе, что, как ни мало хотелось ему принимать условия Ортеги, он не мог ничего придумать, чтобы их изменить, а Хорнблауэр смог. Хорнблауэр — блестящий молодой офицер, решил про себя Буш. Сам он не претендовал на такое определение. Наконец он перешагнул через свое недоверие к умникам, заставил себя отбросить осторожность и высказался определенно.
— Я считаю, мистер Хорнблауэр заслуживает полного доверия, — сказал Буш.
— Конечно, — ответил Бакленд. Некоторое удивление, прозвучавшее в его голосе, показывало, что сам он так не считает. Чтоб не говорить об этом больше, он переменил тему. — Мы начнем завтра же. Как только матросы позавтракают, я спущу оба барказа. К полудню… в чем дело, мистер Хорнблауэр?
— Ну, сэр…
— Давайте, выкладывайте.
— Завтра утром Ортега явится выслушать наши условия, сэр. Я думаю, он встанет на заре или чуть позже. Он позавтракает. Потом он переговорит с Виллануэвой. Потом он будет идти на веслах через залив. Он будет здесь в восемь склянок. Может, немного позже…
— Какое нам дело, во сколько Ортега завтракает? К чему вся эта чушь?
— Ортега будет здесь в две склянки дополуденной вахты. Если он узнает, что мы не теряли ни минуты, если вы скажете ему, что начисто отметаете его условия, сэр, и более того, если вы покажете ему установленную пушку и скажете: не сдадитесь без всяких условий, мы через час откроем огонь, — впечатление будет гораздо сильнее.
— Это верно, сэр, — сказал Буш.
— В противном случае все будет куда сложнее, сэр. Вам придется либо тянуть время, пока пушку не установят, либо прибегнуть к угрозам. Мне придется сказать ему: если вы не согласитесь, мы начнем поднимать пушку. В обоих случаях, вы дадите ему время, сэр. Он сможет придумать какой-нибудь выход. Погода может испортиться — может даже подняться ураган. Но если он увидит, что мы шутить не намерены, сэр…
— Так с ним и надо обращаться, — вставил Буш.
— Но даже если мы начнем на заре… — начал Бакленд. Произнося эти слова, он увидел другую возможность: — Вы хотите сказать, мы можем начать прямо сейчас?
— У нас впереди вся ночь, сэр. Вы можете спустить на воду оба барказа и погрузить в один из них пушку. Приготовить тросы, стропы и что-то вроде люльки для переноски. Назначить матросов…
— И начать на заре!
— На заре шлюпки могут быть уже за полуостровом. Вы можете послать сюда с корабля матросов со стосаженным линем. Они смогут двинуться по дороге еще до рассвета. Это сэкономит время.
— Так оно и будет, клянусь Богом! — воскликнул Буш. Он без труда представил себе, и как придется втаскивать на обрыв пушку, и какие сложности при этом возникнут.
— На корабле и так не хватает матросов, — сказал Бакленд. — Мне придется задействовать обе вахты.
— Им это не повредит, — заметил Буш. Он не спал уже две ночи кряду и намеревался не спать третью.
— Кого я пошлю? Руководить должен ответственный офицер. И хороший моряк.
— Если хотите, могу я, сэр, — предложил Хорнблауэр.
— Нет. Вы нужны здесь, чтоб разговаривать с Ортегой. Если я пошлю Смита, на судне не останется ни одного лейтенанта.
— Вы можете послать меня, сэр, — сказал Буш. — Тогда вам придется оставить руководство фортом на мистера Хорнблауэра.
— Мм… — сказал Бакленд, — другого выхода я не вижу. Могу я положиться на вас, мистер Хорнблауэр?
— Я приложу все усилия, сэр.
— Надо подумать… — протянул Бакленд.
— Я мог бы вернуться на судно вместе с вами, сэр, в вашей гичке, — сказал Буш.
Бушу никогда прежде не случалось побуждать старшего по званию к действиям, но он быстро учился этому искусству. То, что не так давно все трое были заговорщиками, облегчало дело, а как только лед был сломан, как только Бакленд позволил младшим давать себе советы, это с каждым разом становилось все легче и легче.
— Да, думаю, вам лучше так и сделать, — сказал Бакленд, и Буш тут же вскочил на ноги. Пришлось Бакленду последовать его примеру.
Буш оглядел изрядно помятого Хорнблауэра.
— Теперь послушайте меня, мистер Хорнблауэр, — сказал он. — Вы должны поспать. Вам это необходимо.
— В полночь я сменяю Уайтинга на вахте, сэр, — ответил Хорнблауэр. — Я должен буду сделать обход.
— Что ж, в любом случае, до полуночи еще два часа. Идите и спите. И пусть Уайтинг сменит вас в восемь склянок.
— Есть, сэр.
При одной мысли о вожделенном сне Хорнблауэр зашатался от усталости.
— Вы можете приказать это, сэр, — предложил Буш Бакленду.
— Что это? Ах да, отдохните, пока есть время, мистер Хорнблауэр.
— Есть, сэр.
Буш, следуя за Баклендом по пятам, спустился по крутой дороге к пристани и уселся рядом с ним на кормовое сидение гички.
— Никак я этого Хорнблауэра не раскушу, — не без сварливости произнес Бакленд, когда гичка на веслах шла к стоявшей на якоре «Славе».
— Он хороший офицер, сэр, — рассеянно ответил Буш. Он уже обдумывал, как поднять длинную девятифунтовку на обрыв, мысленно отбирал необходимые приспособления, продумывал необходимые приказы. Чтоб надежно закрепить шлюпки, мало будет кошек, понадобятся два тяжелых якоря. Надо будет подпереть банки, чтоб они выдержали вес пушки. Подвижный блок. Стропы… надежнее всего будет зацепить пушку за цапфы и винград.
Буш не принадлежал к тому типу людей, которые находят удовольствие в теоретических рассуждениях. Спланировать кампанию, мысленно поставить себя на место противника, найти неожиданное решение — все это значительно превосходило его способности. А вот иметь дело с отдельной, конкретной задачей, с веревками, талями — опыт всей жизни укрепил в нем природную к этому склонность.
XIII
— Выбирайте трос, — сказал Буш, стоя на краю обрыва и глядя туда, где далеко внизу покачивался привязанный к бую барказ. Спущенный за кормой якорь удерживал шлюпку на месте. Над головой Буша тянулись почти вертикально два троса, шедшие к бую, черные на фоне атлантической синевы. Поэт увидел бы нечто прекрасно-трагическое в этих паутинках, разрезающих воздух, однако Буш видел только два троса и белый флажок на барказе, означавший, что все готово к подъему. Матросы выбирали слабину, блоки поскрипывали.
— Ну, помалу, — сказал Буш. Работа была слишком ответственная, чтобы доверить ее стоявшему рядом мичману Джеймсу. — Подымай помалу.
Теперь, когда к блокам был приложен вес, они заскрипели по-иному. Пушка оторвалась от банок, и пологий изгиб несущих тросов сменился более угловатой фигурой. Буш в подзорную трубу видел, как пушка шевелится и медленно (это-то он и назвал на морском языке «помалу») поднимается, свисая с подвижного блока, отрывается от барказа. Она, как Буш и представлял себе заранее, висела на стропах, обвязанных вкруг цапф и пропущенных под винград. Так было довольно надежно — если бы стропы вдруг соскользнули, пушка проломила бы дно барказа. Пропущенный через дуло трос удерживал ее, чтоб она не раскачивалась слишком сильно.
— Подымай, — снова сказал Буш, и трос с висящей под ним пушкой пошел вверх. Это был следующий сложный момент — тянуть приходилось почти поперек. Но все держалось крепко.
— Подымай.
Теперь пушка взбиралась по тросу. За кормой она опустилась, едва не задев воду, так как растянулся и провис державший ее канат, но тали продолжали выбираться, и она поднималась над морем, все выше, выше, выше. Матросы тянули трос, шкивы в блоках ритмично жужжали. Встающее солнце освещало людей, на неровном плато их тени, как и тени деревьев, протянулись неимоверно далеко.
— Помалу, — сказал Буш. — Стой.
Пушка достигла края обрыва.
— Подтащите люльку на несколько футов сюда. Заносите. Спускайте. Хорошо. Отцепите тросы.
Восемь футов тусклой бронзы лежало на подстеленной люльке, представлявшей собой множество тесно переплетенных веревок; еще несколько десятков веревок, привязанных в ее центральной части, отходили по сторонам. Все они по отдельности были разложены на земле.
— Сначала мы понесем пушку. Морские пехотинцы беритесь каждый за свою веревку.
Тридцать пехотинцев в красных мундирах, присланные Хорнблауэром из форта, встали у люльки. Унтер-офицеры под присмотром Буша подталкивали их к своим местам.
— Беритесь.
Лучше затратить некоторые усилия в начале и проследить, чтоб все было как следует уравновешено, чем рисковать, что неуправляемая металлическая махина выкатится из люльки, и ее придется с огромным трудом закатывать обратно.
— Теперь, по моей команде, все вместе. Подымай!
Пехотинцы напрягли все силы, и пушка оторвалась от земли.
— Марш! Отставить, сержант.
Сержант начал было отсчитывать шаг, но на неровной земле людям, которые тащат восемьдесят фунтов металла, лучше не пытаться идти в ногу.
— Стой! Опускай!
Пушка переместилась на двадцать ярдов к намеченному Бушем месту.
— Продолжайте, сержант. Пусть несут. Не торопитесь.
Морские пехотинцы — всего-навсего бессловесные животные, даже не машины, они могут устать. Лучше не переоценивать их силы. Но пока они тащат пушку полмили до гребня, матросы успеют поднять из барказа остальные боеприпасы. Это уже гораздо проще. По сравнению с пушкой, лафет был совсем легонький. Несложно было поднять даже сетки, в каждой из которых лежало по двадцать девятифунтовых ядер. Прибойники, банники, пыжовники, на всякий случай всего по два, потом картузы. В каждом из них было всего по полфунта пороха, они казались крошечными в сравнении с восьмифунтовыми зарядами, которые Буш привык видеть на нижней пушечной палубе. Под конец поднять тяжелые бревна, предназначенные для настила, на котором будет установлена пушка. Вещь очень неудобная для переноски, но матросы, по четверо на каждое бревно, взвалили их на плечи и довольно быстро пошли вверх по склону. Они обогнали несчастных пехотинцев, которые, обливаясь потом, поднимали и тащили, поднимали и тащили свою огромную ношу.
Буш постоял немного на краю обрыва, проверяя вместе с Джеймсом боеприпасы. Пальники и огнепроводные шнуры; запальные трубки и фитили; бочонки с водой, правила, молотки, гвозди — все, что нужно, решил он. От того, чтоб ничего не забыть, зависела не только его профессиональная репутация, но и его самоуважение. Он помахал флажком и получил с барказа ответ. Второй барказ отдал швартовы и, подняв якорь, отошел со своим напарником от берега. Им предстояло грести вкруг мыса Самана навстречу «Славе» — на корабле будет отчаянно не хватать матросов, пока не вернутся барказы. Привязанный над головой Буша трос тянулся к бую — его пока оставили на случай, если он еще понадобится. Буш уже не обращал на него внимания. Теперь он мог идти на гребень и готовиться: взглянув на солнце, он удостоверился, что после восхода прошло меньше трех часов.
Он организовал последний отряд носильщиков и двинулся к гребню. Оттуда открывался вид на бухту. Буш поднес к глазу подзорную трубу: три суденышка стояли на якоре — отсюда легко будет дострелить до них. Посмотрев налево, он едва мог различить вдалеке развевающиеся над фортом флаги — сам форт был скрыт от него гребнем. Буш сложил трубу и занялся поисками ровного участка земли, на который можно было бы уложить бревна для орудийной платформы. Те матросы, чья ноша была полегче, собрались вокруг него, оживленно болтая и тыча пальцами. Он рявкнул на них, и они замолчали.
Застучали молотки, прибивая поперечины к брусьям. Только покончили с этим, как полдюжины матросов могучим усилием водрузили на платформу лафет. Они привязали тали и убедились, что катки движутся свободно, потом подложили под них клинья. Появились морские пехотинцы, потные, задыхающиеся под своей чудовищной ношей. Сейчас предстояла самая сложная часть намеченной на утро работы. Буш расставил самых сильных своих людей у веревок и по надежному унтер-офицеру с каждой стороны — следить, чтоб точно сохранялось равновесие.
— Подымайте и несите.
Пушку положили на платформу рядом с лафетом.
— Подымай. Подымай. Еще. Подымай, ребята!
Судорожно глотая воздух, матросы поднимали пушку.
— Держите так! Правая сторона, заходи назад. Левая сторона, за ними. Подымай! Заноси! Так!
Пушка в своей люльке покачивалась над лафетом.
— Теперь на меня! Так! Ниже! Помедленней, черт возьми! Так! Чуть-чуть вперед! Спускайте!
Пушка легла на лафет, но ее цапфы не попали точно гнезда, а казенная часть — на ложе.
— Держите пока! Бэрри! Чэпмен! Правила под цапфы. Поправьте ее.
Тонна металла с дребезжанием скользнула на свое место, цапфы точно вошли в гнезда, казенная часть легла на ложе. Двое матросов принялись развязывать узлы, чтоб вытащить люльку из-под пушки, а Бэрри, помощник артиллериста, уже защелкнул на цапфах горбыли. Теперь пушка снова стала пушкой, живым боевым орудием, а не бездушной металлической болванкой. Ядра горкой сложили на краю платформы.
— Заряды вот сюда! — указал Буш.
Никто в здравом рассудке не положит взрывчатые вещества ближе к пушке, чем это необходимо. Бэрри, стоя на коленях, возился с кремнем и огнивом, выбивая искру, чтобы поджечь трут, а от него — огнепроводный шнур. Буш вытер пот, заливавший лицо и шею. Хотя сам он тяжестей не таскал, сказывалась общая усталость. Он снова посмотрел на солнце, чтобы прикинуть время — отдыхать было некогда.
— Построиться орудийному расчету! — приказал он. — Заряжай и выдвигай!
Он посмотрел в подзорную трубу.
— Цельтесь в шхуну, — сказал он. — Цельтесь тщательно.
Взвизгнули катки: правила поворачивали пушку.
— Пушка наведена, сэр, — доложил канонир.
— Тогда огонь!
Четко и резко громыхнула пушка; по сравнению с оглушительным ревом двадцатичетырехфунтовки звук ее казался пронзительным. Этот грохот должен быть слышен по всей бухте. Даже если первое ядро и не попадет в цель, на кораблях поймут, что попадет второе, или третье. Поспешно наведя подзорные трубы на высокий берег, они увидят плывущий над обрывом пороховой дым и поймут, что обречены. На южном берегу Виллануэва узнает, что пути к бегству перерезаны и для солдат, которыми он командует, и для женщин, которых он обязан защитить. И все же Буш, глядя в подзорную трубу, не увидел, куда упало ядро.
— Заряжайте и стреляйте снова. Цельтесь тщательнее.
Пока они целились, Буш в подзорную трубу разглядывал развевающиеся над фортом флаги. Канонир крикнул, что орудие заряжено. Пушка громыхнула, и Буш вроде бы различил черточку летящего ядра.
— Перелет. Вставьте клинья и уменьшите угол подъема. Еще раз!
Он снова посмотрел на флаги. Они медленно опускались, потом скрылись из виду. Вот они вновь медленно поднялись, затрепетали на верхушке флагштока и опять поползли вниз. Потом они вновь поднялись и замерли. Это был условленный сигнал. Дважды приспущенные флаги означали, что пушку услышали в форте и что все в порядке. Теперь Буш должен был не торопясь закончить серию из десяти выстрелов. Он внимательно наблюдал за каждым ядром; похоже, они попадали. Летящие девятифунтовые железные шары крушили хрупкие надстройки, ломая все на своем пути, поднимая в воздух град щепок.
Когда пушка стреляла в восьмой раз, что-то пролетело в двух ярдах над головой Буша, визжа, как привидение, и приземлилось у него за спиной.
— Что за черт? — спросил Буш.
— Втулка вылетела, сэр, — сказал Бэрри.
— Бога душу… — неподконтрольно, почти в истерике, Буш разразился потоком брани. Вот он, финал дней и ночей неусыпных трудов, горчайший удар, какой только можно вообразить. Победа, казалось, уже в руках, и вот она упущена. Он продолжал страшно браниться, потом пришел в себя: нехорошо, чтоб матросы видели, насколько сбит с толку их офицер. Прекратив ругаться, он взял себя в руки и подошел осмотреть пушку.
Поломка была очевидна. Запальное отверстие — Ахиллесова пята всякой пушки, особенно бронзовой. При каждом выстреле через отверстие вырывается немного горячего газа с остатками несгоревшего пороха, разрушая стенки отверстия, расширяя его. Со временем увеличение размеров отверстия начинает сказываться на качестве стрельбы. Тогда в пушку вставляют «втулку» — конусообразную затычку с высверленным по длине отверстием и с фланцем по краю, которую засовывают в отверстие изнутри пушки, узким концом веред. Дырка в затычке служит новым запальным отверстием, а сама затычка с каждым выстрелом загоняется все прочнее, пока, наконец, сама затычка не начинает разрушаться, пролезая все дальше вверх, по мере того как в яростном жаре взрыва обгорает фланец. В конце концов она вылетает, что и случилось только что.
Буш посмотрел на огромную, дюймовую дыру в казне: если сейчас выстрелить из пушки, через эту дыру вылети половина пороха. Дальность уменьшится по меньшей мере вдвое, и с каждым выстрелом дыра будет увеличиваться.
— Запасная втулка есть? — спросил он.
— Ну, сэр… — Бэрри неторопливо принялся рыться в карманах, перебирая их разнообразное содержимое. При этом он с отсутствующим видом смотрел на небо, а Буш сгорал от нетерпения. — Да, сэр.
Не прошло и полгода, как Бэрри вытащил из кармана бесценную чугунную затычку.
— Ваше счастье, — мрачно произнес Буш. — Вставляйте ее и не тратьте даром время.
— Есть, сэр. Мне придется подогнать ее по размеру. Потом мне надо будет вставить ее на место.
— Кончайте болтать и начинайте работать. Мистер Джеймс!
— Сэр!
— Бегите в форт, — говоря, Буш отошел на несколько шагов от пушки, чтоб матросы его не слышали. — Скажите мистеру Хорнблауэру, что у пушки вылетела втулка. Пройдет не меньше часа, пока мы снова сможем открыть огонь. Скажите ему, что, когда пушка будет готова, я выстрелю три раза. Попросите его подтвердить, что он слышал выстрелы, как прошлый раз.
— Есть, сэр.
В последний момент Буш кое-что вспомнил.
— Мистер Джеймс! Докладывайте так, чтоб никто посторонний вас не услышал. Ни в коем случае не допускайте, чтоб вас услышал этот испанец, как его там. Пожалейте свою задницу.
— Есть, сэр.
— Бегом.
Долго же придется бежать мистеру Джеймсу; Буш приводил его взглядом и повернулся к пушке. Бэрри выбрал из набора инструментов напильник и теперь обтачивал пробку. Буш сел на край платформы: разочарование по поводу вышедшей из строя пушки померкло рядом с тем удовлетворением, которое он испытывал как дипломат. Он был рад, что вспомнил предупредить Джеймса, чтоб тот не посвящал Ортегу в тайну. Матросы и пехотинцы начали болтать и дурачиться — еще немного, и они разбредутся по всему полуострову. Буш поднял голову и прикрикнул:
— Ну-ка молчать! Сержант!
— Сэр?
— Назначьте четырех часовых. Пусть ходят с четырех сторон. Никто не должен ни за чем отходить.
— Есть, сэр.
— Остальным всем сесть. Вы орудийный расчет! Сядьте не болтайте, словно португальские маркитанты в лодке.
Солнце палило, и мерный скрежет напильника навевал сон. Едва Буш замолчал, как усталость и бессонные ночи взяли свое: глаза его закрылись, подбородок опустился на грудь. Через секунду он уже спал, через три проснулся: все плыло у него перед глазами, и он чуть не упал. Буш моргнул: все было какое-то нереальное. Он снова уснул и снова чуть не свалился. Он понял, что отдал бы все в этом мире и в следующем, за то, чтоб тихо прилечь на бочок и погрузиться в сон. Надо было превозмочь искушение — он тут единственный офицер, и могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Выпрямив спину, он осоловело поглядел вокруг, да так, с выпрямленной спиной, и уснул. Оставалось одно. Буш встал, несмотря на сопротивление своего усталого тела, и заходил вдоль платформы, взад и вперед, взад и вперед под палящим солнцем, обливаясь потом, в то время как орудийная прислуга с завидной скоростью погрузилась в сон. Они спали, словно свиньи в хлеву, кто как лег, а напильник Бэрри все так же скрежетал по затычке. Минута тянулась за минутой, солнце поднималось все выше. Бэрри прервался, чтобы примерить — пробку к отверстию, и снова принялся скрести, опять прервался, чтобы почистить напильник. Каждый раз Буш пристально смотрел на него, и каждый раз разочарованно возвращался к мыслям о том, как же ему хочется спать.
— Я подогнал ее по размеру, сэр, — сказал наконец Бэрри.
— Тогда загоните ее на место, черт возьми, — произнес Буш. — Эй, орудийный расчет, просыпайтесь! Вставайте! Эй, просыпайтесь!
Пока Буш пинками расталкивал сонных матросов, Бэрри извлек из кармана кусок шпагата. С бесившей Буша медлительностью он завязал на одном конце петлю и пропустил ее в запальное отверстие. Потом взял пыжовник и, обойдя пушку, присел на корточки у дула, медленно просунул пыжовник в восьмифутовый канал и попытался зацепить им петлю. Пошуровав пыжовником, он потянул его на себя, но шпагат, свисавший из отверстия, не шевельнулся. Наконец Бэрри удалось его зацепить. Он потянул пыжовник, шпагат заскользил через отверстие. Он вытащил пыжовник: из дула свисала петля. Все так же медленно Бэрри развязал петлю, пропустил шпагат в отверстие втулки, а потом привязал к его концу маленький клевант, который вытащил из кармана. Потом он положил затычку в дуло, подошел к казенной части и потянул за шпагат. Пробка загремела по дулу и с громким стуком вошла в отверстие. Даже после этого Бэрри еще несколько минут возился с ней, прилаживая на место. Наконец он удовлетворился результатом и жестом велел канониру придерживать затычку шпагатом. Потом взял прибойник очень осторожно просунул в дуло, ощупывая им канал, наконец, найдя нужное положение, прижал рукоятку прибойника. По его жесту матрос принес молоток и ударил по рукоятке, которую Бэрри прочно держал. С каждым ударом затычка все дальше входила в отверстие, продвигаясь на десятую долю дюйма, пока не оказалась забита туго.
— Готово? — спросил Буш у Бэрри, когда тот жестом отпустил матроса.
— Еще не совсем, сэр.
Бэрри вытащил прибойник и неторопливо подошел к казне. Он посмотрел на затычку, наклоняя голову сначала на один, потом на другой бок, словно терьер, заглядывающий в крысиную нору. Казалось, он удовлетворился, однако он снова пошел к дулу и взялся за пыжовник. Чтоб унять нетерпение, Буш поглядел на горизонт и увидел, что со стороны форта к ним приближается крошечная фигурка. Буш поспешно поднес к глазу подзорную трубу. Это был кто-то в белых штанах, он то бежал, то шел, размахивая руками, очевидно, желая привлечь к себе внимание. Это мог быть Вэйлард; Буш уже почти не сомневался в этом. Тем временем Бэрри снова зацепил шпагат пыжовником и вытащил его наружу. Охотничьим ножом он отрезал клевант и убрал его в карман. Затем снова, словно у него море времени, подошел к казне и вытянул из отверстия шпагат.
— Два выстрела с зарядами по одной третьей завершат дело, сэр, — объявил он. — Тогда она сядет…
— Она может подождать еще несколько секунд, — оборвал его Буш. Приятно было показать этому самодовольному умельцу, что его слова — не божественное откровение.
Вэйлард был уже виден всем. Он то шел, то бежал, спотыкаясь о кочки. Задыхаясь, он добежал до пушки; пот градом катился с его лица.
— Простите, сэр… — начал он. Буш собрался уже обрушиться на него за неподобающий вид, но Вэйлард упредил его. Он одернул сюртук, надел свою дурацкую шапчонку и приосанился, насколько позволяли его разрывающиеся легкие.
— Мистер Хорнблауэр свидетельствует свое почтение, сэр, — сказал он, отдавая честь.
— Ну, мистер Вэйлард?
— Пожалуйста, сэр, не открывайте больше огонь.
Грудь Вэйларда вздымалась, и это было все, что он успел выговорить между двумя вздохами. Он стоял по стойке «смирно», мужественно не обращая внимания на заливающий глаза пот.
— Почему, скажите на милость, мистер Вэйлард?
Даже Буш мог угадать ответ, но вопрос все же задал — этот мальчуган заслужил, чтоб его принимали всерьез.
— Доны согласились на капитуляцию, сэр.
— Хорошо. И эти корабли?..
— Будут нашими призами, сэр.
— Уррра! — завопил Бэрри, вскидывая руки над головой. Пятьсот фунтов Бакленду, пять шиллингов Бэрри, но призовые деньги, это всегда приятно. И это победа: гнездилище каперов разорено, испанский полк сдался в плен, конвои, идущие проливом Мона, будут в безопасности. Чтоб привести донов в чувство, понадобилось всего-навсего установить пушку и обстрелять якорную стоянку.
— Очень хорошо, мистер Вэйлард, спасибо, — сказал Буш.
Так что Вэйлард смог отступить назад и вытереть заливающий глаза пот, а Буш — подумать, какой новый пункт в соглашении о капитуляции оставит его без сна еще на одну ночь.
XIV
Буш стоял на шканцах «Славы» рядом с Баклендом, глядя на форт в подзорную трубу.
— Отряд вышел наружу, сэр, — сказал он, потом, через некоторое время: — Шлюпка отвалила от пристани.
«Слава» качалась на якоре в устье Саманского залива, а рядом покачивались три ее приза. Все четыре судна были под завязку набиты пленными. Матросы были готовы по сигналу со «Славы» отдать паруса.
— Шлюпка отошла достаточно далеко, — сказал Буш. Хотел бы я знать… ах!
Форт взорвался фонтаном дыма, в небо взлетели обломки каменной кладки. Через мгновение прогремел взрыв. Подрывники, покидая форт, подожгли огнепроводный шнур, и теперь две тонны пороха, взорвавшись, сделали свое дело. Крепостной вал и бастионы, сторожевая башня и орудийная платформа — все превратилось в руины. Под крутым склоном, у кромки воды, уже лежало то, что осталось от пушек — цапфы взорваны, дула расколоты, в запальные отверстие забиты клинья. Когда повстанцы вступят в форт, они не смогут восстановить оборону бухты — батарея на косе тоже взорвана.
— Похоже, что все разрушено окончательно, сэр, — сказал Буш.
— Да, — ответил Бакленд. Он в подзорную трубу рассматривал руины, постепенно проступавшие сквозь дым и оседавшую пыль. — Будьте любезны, подготовьтесь выбирать, якорь, как только поднимут шлюпку.
— Есть, сэр, — сказал Буш.
Опустив шлюпку на ростр-блоки, матросы встали к шпилю и с трудом подтащили судно к якорю, затем паруса были отданы, якорь поднят. С обстененным грот-марселем судно немного продвинулось кормой вперед, потом руль положили на борт, матросы выбрали шкоты передних парусов, и судно повернулось. Рулевой поспешно крутанул рукоятки штурвала, обрасопленные марсели надулись ветром, и корабль легко двинулся по волнам, слегка кренясь под ветром и вспенивая море водорезом. Он шел в крутой бейдевинд чтоб пройти на ветре мыс Энганьо. Кто-то на баке закричал «ура!», и через мгновение вся команда уже вопила что есть мочи — «Слава» покидала арену своего торжества. Призы подняли якоря вместе с ней, их команда тоже кричала «ура!». Буш в подзорную трубу различил Хорнблауэра на палубе «Ла Гадитаны», большого приза с полной корабельной оснасткой. Хорнблауэр махал шляпой.
— Я спущусь вниз, сэр, проверю, все ли в порядке, — сказал Буш.
Возле мичманской каюты стояли часовые-пехотинцы с примкнутыми штыками и заряженными ружьями. Изнутри до Буша донесся дикий гомон. Туда загнали пятьдесят женщин и почти столько же детей. Это плохо, но пока корабль не тронется, их придется держать взаперти. Позже можно будет выпустить их на палубу, возможно — партиями, размяться и подышать воздухом. Люки нижней пушечной палубы были закрыты решетками, возле каждой решетки дежурил часовой. Сквозь решетчатые люки шел запах человеческих тел: внизу были заперты четыреста испанских солдат в условиях ненамного лучших, чем на невольничьем судне. Они там всего с рассвета, а вонь уже чувствуется. Надо будет устроить, чтобы мужчины, как и женщины, партиями выходили подышать. Это означало бесконечные хлопоты и предосторожности, Буш и так уже потратил немало времени, чтоб наладить снабжение пленных едой и питьем. Но все емкости для воды были заполнены, и с берега на судно привезли две полных шлюпки ямса. Если ветер, как ожидалось будет дуть постоянно, путь до Кингстона займет меньше недели. Тогда все сложности останутся позади, и пленных можно будет сдать военным властям — наверное, пленные будут рады не меньше Буша.
На палубе Буш снова поглядел на зеленые холмы Санто-Доминго с правого борта. «Слава» шла вдоль них в крутой бейдевинд, здесь же, с подветренной стороны от нее, согласно приказу, Хорнблауэр вел под малыми парусами три приза. Несмотря на то, что дул свежий семиузловый ветер и «Слава» несла все паруса, три суденышка при желании легко могли бы ее обогнать. Способность каперов настигать добычу и уходить от врагов зависела от того, насколько быстро они могут идти против ветра. Хорнблауэр мог бы быстро оставить «Славу» за кормой, но ему было предписано держаться в пределах видимости с подветренной стороны, чтобы «Слава», в случае нападения неприятеля, могла прийти на выручку. Призовые команды были немногочисленны, и, так же, как на «Славе», у Хорнблауэра было задраено внизу столько пленных, сколько он мог охранять.
Как только Бакленд поднялся на шканцы, Буш отдал ему честь.
— С вашего разрешения, сэр, я бы начал выводить пленных, — сказал он.
— Пожалуйста, мистер Буш, делайте, что сочтете нужным.
Женщин — на шканцы, мужчин — на главную палубу. Очень сложно было объяснить им, что они будут гулять по очереди. Те женщины, которых выводили на палубу, вообразили, будто их навсегда разлучают с остальными; их вой никак не вязался с чинным порядком, приличествующим шканцам линейного корабля. А дети и вовсе не понимали, что такое дисциплина, — они с визгом разбегались во все стороны, смущенные матросы ловили их и возвращали матерям. Другие матросы были заняты тем, что носили пленным воду и еду. Буш, разрешая одну за другой валившиеся на него проблемы, счел, что жизнь первого лейтенанта прежде казавшаяся ему недостижимым раем — хуже собачьей.
Помещение для младших офицеров было набито битком — туда загнали тридцать испанских офицеров — от элегантного Виллануэвы до второго помощника с «Гадитаны». Они доставляли Бушу почти столько же хлопот, сколько все остальные пленные, вместе взятые. Они прогуливались на полуюте; с этой командной высоты они пытались переговариваться со своими женами, находившимися на шканцах. Кормить их приходилось из кают-компанейских запасов, не рассчитанных на зверские испанские аппетиты. Буш все больше и больше мечтал о прибытии в Кингстон. У него не было ни времени, ни желания гадать, какой его там ожидает прием. Это было неплохо, ибо его, возможно, ждало не только поощрение за победу на Санто-Доминго, но и расследование по поводу обстоятельств, приведших к отстранению капитана Сойера от командования.
День за днем дул попутный ветер, день за днем неслась «Слава» по синему морю, а левее, с подветренной стороны неслись три ее приза. Пленные, даже женщины, начали понемногу оправляться от морской болезни. Кормить и охранять их вошло в привычку, так что требовало все меньше хлопот. Миновали мыс Беата и взяли прямой курс на Кингстон. Не считая этого, им почти не приходилось заниматься парусами, ибо ветер дул ровно, а ежечасно бросаемый лаг показывал все те же восемь узлов. Каждое утро они наблюдали великолепный восход, каждый вечер бушприт указывал на пылающий закат. Днем ярко светило солнце, и лишь изредка дождевые шквалы ненадолго скрывали небо и море; ночью корабль вздымался и опускался на волнах под усеянным звездами небесным сводом.
Была прелестная темная ночь, когда Буш завершил вечерний обход и явился доложить Бакленду. Часовые расставлены, подвахтенные спят, огни потушены, вахтенные убрали бом-брамсели на случай, если в темноте неожиданно налетит дождевой шквал, курс ост-тень-норд, Карберри несет вахту, призы видны в миле по левому борту. Судовая полиция стоит у капитанской каюты. Все это по освященной временем флотской традиции Буш докладывал Бакленду, а тот выслушивал с освященным временем флотским терпением.
— Спасибо, мистер Буш.
— Спасибо, сэр. Доброй ночи.
— Доброй ночи, мистер Буш.
Каюта Буша выходила на полупалубу, тропическая ночь была жаркой и душной, но Буша это не беспокоило. Оставалось шесть часов для сна — его ждала утренняя вахта — и он был не тот человек, чтоб упустить это время. Он сбросил верхнюю одежду и, стоя в рубашке, последний раз окинул взглядом каюту, прежде чем потушить свет. Штаны и ботинки на рундуке, в случае необходимости их можно будет натянуть за одну секунду. Шпага и пистолеты в штертах на переборке. Посыльный, придя будить его, принесет лампу. Буш задул огонек. Потом он рухнул на койку; лежа на спине, широко раскинул руки и ноги, чтобы пот по возможности испарялся, и закрыл глаза. Благодаря своей счастливой невозмутимости, он вскоре уснул. В полночь он проснулся, дослушал, как меняется вахта, и блаженно сказал себе, что можно спать дальше. Он еще не настолько вспотел, чтоб лежать в койке стало неприятно.
Позже он снова проснулся и, ничего не понимая, уставился в темноту. Слух говорил ему, что не все в порядке. Слышались громкие крики, над головой раздавался топот ног. Может, неожиданно налетел дождевой шквал? Но звуки были какие-то неправильные. Неужели кто-то кричит от боли? Кажется, крики женские. Неужели эти чертовки опять передрались? Снова топот ног, дикие крики. Буш вскочил с койки. Он распахнул дверь каюты и услышал ружейный выстрел. Сомнений не оставалось. Он схватил шпагу и пистолеты. Когда он выскочил из каюты, корабль огласился дикими воплями. Люки казались вратами преисподней: из них валила адская сила, победно крича в полутемном пространстве судна.
Когда Буш выскочил, часовой под фонарем выстрелил из ружья. Фонарь и ружейная вспышка осветили волну человеческих тел, хлынувшую на часового и тут же поглотившую его. Перед Бушем мелькнула женщина, возглавлявшая атаку, красавица-мулатка, жена одного из офицеров с каперских судов: рот ее разверзся в крике, глаза были широко открыты. Буш навел пистолет и выстрелил, но волна уже накатила на него. Он отступил в низкий дверной проем. Руки нападавших ухватили лезвие его шпаги, но он вырвал ее. С силой ударил он незаряженным пистолетом, брыкаясь босыми ногами, чтоб отбиться от ухвативших его рук. Сверху вниз шпагой он колол и колол в наседавшую на него массу. Дважды он ударялся головой о палубный бимс, но ударов не чувствовал. Потом людской поток пронесся мимо него. Дальше впереди раздавались крики, удары и стоны, но вокруг него не осталось никого, кроме нескольких стонущих людей, валявшихся на палубе — его босые ноги скользили в их горячей крови.
Первым делом Буш подумал о Бакленде, но, взглянув в сторону кормы, сразу понял, что ничем не может ему помочь. Раз так, его место на шканцах. Туда он и побежал, сжимая в руке шпагу. У основания сходного трапа тоже вопили испанцы, выше раздавались крики отбивавшихся от них кормовых матросов. Ближе к носу тоже шел бой: звезды освещали белые рубахи отчаянно дерущихся людей. Сам того не замечая, Буш орал вместе со всеми. Несколько человек накинулись на него, и тяжелый кофель-нагель обрушился на его шпагу. Но Буш, обезумевший от битвы, был опасным противником: неимоверная сила сочеталась в нем с быстротой реакции. Он ничего не знал, ни о чем не думал в эти минуты лишь о том, чтоб сразиться с врагом, в одиночку освободить корабль. Пронзив одного из нападавших испанцев, он пришел в себя. Он должен собрать вокруг себя команду, подать пример, сплотить людей в единое целое. Он возвысил голос:
— «Слава»! «Слава»! Эй, «Слава»! Ко мне!
На главной палубе поднялась еще большая суматоха. Жгучая боль обожгла Бушу лопатку, инстинктивно он обернулся и левой рукой схватил кого-то за горло, потом напрягся и со всей силой рывком швырнул его на палубу.
— «Слава»! — закричал он снова.
Послышался топот ног, и к нему подбежали несколько матросов.
— Вперед!
Но его атака наткнулась на стену наседавших с кормы людей. Буша вместе с его маленьким отрядом отбросили назад, через всю палубу, и прижали к фальшборту. Кто-то кричал им в лицо по-испански, толпа все прибывала, раздался выстрел. Вспышка осветила смуглые лица нападавших, осветила штык и ружейное дуло; рядом с Бушем вскрикнул и повалился на палубу матрос. Буш чувствовал, как бьется тот у его ног. Кто-то из испанцев раздобыл огнестрельное оружие — со стоек, или захваченное у пехотинцев — и ухитрился перезарядить его. Если они будут стоять, их всех перестреляют.
— За мной! — крикнул Буш и ринулся вперед. Но испуганные матросы не двинулись с места, и кольцо нападавших отбросило Буша назад. Снова выстрелило ружье, еще один матрос упал. Кто-то громко обратился к ним на испанском. Слов Буш не понял, но догадался, что им предлагают сдаться.
— Не дождетесь, сволочи!
Он едва не рыдал от злости. Он осознал, что его великолепный корабль действительно может достаться неприятелю, и мысль эта ужаснула его. Линейный корабль захвачен и отведен в какой-то кубинский порт — что скажут в Англии? Что скажут на флоте? Жить дальше, чтоб узнать это, ему не хотелось. Его охватило отчаяние. Лучше умереть.
На этот раз он бросился вперед не с разумным призывом к своим людям, но с диким звериным воем: он помешался от ярости и в боевом безумии обрел безумную силу. Он прорвался сквозь кольцо врагов, разя направо и налево, но это удалось ему одному. Он стоял посреди палубы, сзади шел бой.
Но безумие прошло. Буш прислонился к одной из восьмифунтовок главной палубы — можно сказать, почти спрятался за ней, по-прежнему сжимая в руках шпагу, пытаясь заставить свой медлительный рассудок разобраться в ситуации. Воображаемые картины медленно проплывали перед его мысленным взором. Он не сомневался, что кто-то из команды рискнул безопасностью судна ради своей похоти. Торгов не было: ни одна из испанок не продалась в обмен на предательство. Но Буш догадался, что женщины притворялись доступными, и некоторые часовые оставили свои посты, чтобы воспользоваться такой возможностью. Потом пленные медленно просачивались из трюма, офицеры выбирались из мичманской каюты, а затем неожиданно и согласованно напали на команду. Пленные потоком хлынули наружу, смели часовых, захватили оружие. Подвахтенные спали в койках и не смогли оказать сопротивление. Их, словно овец, согнали в кучу возле переборки и поставили возле них вооруженную охрану. Другие отряды захватили офицеров на корме и, вырвавшись на главную палубу, убили или взяли в плен всех, кто там находился. По всему судну должны были оставаться незахваченные матросы и морские пехотинцы, но они безоружны и деморализованы. Когда станет светло, испанцы прочешут судно и всех переловят. Невероятно, чтоб такое могло случиться, но это так. Четыре сотни дисциплинированных людей, которым нечего терять, ведомые смелыми офицерами, способны на многое.
На палубе раздавались приказы — испанские приказы. Когда напали на рулевого, корабль резко привелся к ветру и теперь качался на волнах, то приводясь, то уваливаясь под ветер. На борту есть испанские морские офицеры — с каперов. Они в несколько минут возьмут судно под контроль. Даже с командой из неморяков они обрасопят реи, поставят человека к штурвалу и в бейдевинд двинутся к Ямайскому проливу. А там, всего в дне пути, Сантьяго. Небо слегка побледнело. Наступало утро. Буш крепче сжал рукоятку шпаги. Он провел ладонью по лицу, пытаясь смахнуть паутину, казалось, прилипшую к его глазам.
И тут, рядом с судном, он увидел на фоне неба марсель еще одного корабля, медленно приближающегося к ним: мачты, реи, такелаж. Марсель плавно разворачивался. На «Славе» дико заорали, два судна со скрежетом сошлись бортами. Мучительная пауза, словно перед тем, как волна разобьется о берег. А потом над фальшбортом «Славы» появились головы и плечи матросов, кивера морских пехотинцев, холодный блеск штыков и абордажных сабель. Хорнблауэр, без шляпы, перекинув ногу через фальшборт, спрыгнул на палубу; в руке у него была шпага. По обе стороны от него прыгали остальные. Несмотря на обморочную слабость, Буш понял: Хорнблауэр собрал команду со всех трех судов и на «Гадитане» подошел к «Славе». По расчетам Буша, он мог набрать для атаки тридцать матросов и тридцать морских пехотинцев. Но пока одна часть сознания Буша мыслила ясно и четко, другая была как в тумане, и все перед его глазами разворачивалось с кошмарной медлительностью. Медленно-медленно, как на учениях, атакующие перелезли на палубу. Крики испанцев казались визгом играющих детей. Буш увидел, как англичане навели ружья и выстрелили, но беспорядочные залпы прозвучали в его ушах не громче игрушечных пугачей. Атакующие бежали по палубе. Буш хотел присоединиться к ним, но ноги не слушались. Он лежал на палубе, не в силах подняться.
Он наблюдал жестокую, кровавую битву, такую же беспорядочную, как та, что ей предшествовала. Неизвестно откуда появлялись маленькие отряды и включались в борьбу то с той, то с другой стороны. Вот на палубу хлынули полуголые матросы с Силком во главе. Силк размахивал прибойником. Этим громоздким и мощным оружием он разил направо и налево. Испанцы расступались перед ним. Битва кипела. Испанский солдат попытался бежать, припадая на раненую ногу, его преследовал британский моряк с абордажной пикой. Догнав несчастного, он вонзил пику ему под ребра, и оставил свою жертву слабо подергиваться в луже крови.
На главной палубе никого не осталось, только грудами лежали трупы, однако Буш слышал, что под палубами бой продолжается, раздаются крики, вопли, треск. Потом все, казалось, утихло. Слабость была какая-то неприятная. Бушу ужасно хотелось положить голову на руки и забыться, забыть о своей ответственности, но на горизонте сознания его подстерегали какие-то огромные, кошмарные существа, готовые наброситься на него. Буш их боялся, и в борьбе с ними слабел все сильнее. Голова его опустилась на руки, и он с огромным усилием поднял ее. Второй раз это было еще труднее, но он принуждал себя. Надо было встать и заняться всем тем, что нужно сделать. В его ушах раздался резкий, мучительный голос.
— Мистер Буш здесь, сэр! Он здесь!
Чьи-то руки приподняли его голову. Солнечный свет, хлынувший в глаза, причинял боль. Чтобы спрятаться от него, Буш плотно прикрыл веки.
— Буш! Буш! — Голос у Хорнблауэра был нежный и умоляющий. — Буш, пожалуйста, ответь мне.
Две мягкие руки держали его голову, Буш с трудом разлепил веки и увидел склонившегося над ним Хорнблауэра, но сил говорить у него не было. Он чуть-чуть тряхнул голова и улыбнулся — такое чувство уюта и безопасности исходило из рук Хорнблауэра.
XV
Посыльный, постучав, просунул голову в каюту Буша:
— Мистер Хорнблауэр свидетельствует свое почтение, сэр. Над мысом Москито развевается адмиральский флаг, и мы сейчас начнем салют, сэр.
— Очень хорошо, — сказал Буш.
Лежа на койке, он мысленно следил за всем, что происходит на судне. Сейчас оно лежит на левом галсе, и все паруса, кроме марселей и кливера, взяты на гитовы. Значит, они прошли Пушечную Банку. Буш услышал голос Хорнблауэра:
— Брасы с подветренной стороны! Команде поворачивать судно!
Буш услышал, как заскрипели тросы рулевого привода: руль положили на борт — обходят мыс Порт-Ройал, «Слава» встала на ровный киль — перед этим она шла с небольшим креном… накренилась на левый борт… так слабо, что Буш, лежа на койке, почти не почувствовал этого. Громыхнула первая пушка салюта. Несмотря на то, что Хорнблауэр любезно предупредил его, Буш все-таки был захвачен врасплох и даже вздрогнул от неожиданности. Он обругал себя, решив, что стал слабый и пугливый, как котенок. С интервалами в пять минут гремели выстрелы, Буш заново устраивался в постели. Двигаться ему было непросто, не столько из-за слабости, сколько из-за многочисленных швов, наложенных на его раны. Он был весь прошит, как стеганое одеяло: каждое движение причиняло боль.
Когда салют стих, показалось, что на корабле необычно тихо. Буш насчитал пятнадцать выстрелов; видимо, Ламберт стал вице-адмиралом. Судно скользило к северу по заливу Порт-Ройал. Буш попытался вспомнить, как выглядит Солт Понд Хилл и горы за ним — как же они называются? Лиганея, или что-то в этом роде — никогда не мог он выговорить эти испанские названия. Моряки называли их просто Долгие Горы за фортом Рок.
— Марса-шкоты, — слышался сверху голос Хорнблауэра. — Марса-гитовы!
Значит, корабль приближается к стоянке.
— Руль под ветер!
Повернувшись к ветру, судно потеряет скорость.
— Молчать, на шкафуте!
Буш мог вообразить, как оживленно болтают матросы при входе в гавань — старики рассказывают новичкам о тавернах и притонах Кингстона.
— Отдать якорь!
Ни один моряк, даже такой прозаичный, как Буш, не может без душевного трепета слышать звук скользящего в клюз якорного каната. Звук этот вызвал у Буша смешанные чувства. Это не возвращение домой, это конец одного эпизода, но начало целой серии новых. Ближайшее будущее сулило крупные неприятности. Не смерть и не ранения угрожали Бушу, но он предпочел бы любую опасность предстоящему испытанию. Несмотря на слабость, тело его напряглось, когда он попытался заглянуть в будущее. Буш хотел бы двигаться, чтоб дать выход этому напряжению, по крайней мере, извиваться и ерзать, раз он не может ходить, но со своими пятьюдесятью тремя швами он не мог даже ерзать. Практически наверняка предстоит расследование событий на судне Его Величества «Слава», а возможно, и трибунал — или целая серия трибуналов — по его завершении.
Капитан Сойер мертв. Кто-то из испанцев, опьяненный кровью, ворвавшись в каюту, зарезал несчастного безумца. В аду не найдется пламени достаточно жаркого, чтоб покарать мужчину — или женщину — совершившего подобное злодеяние, хотя в каком-то смысле это было милосердным избавлением несчастной души, так долго мучимой воображаемыми страхами. По иронии судьбы в то же время, как безжалостная рука перерезала глотку безумца, кто-то из вырвавшихся на свободу пленных пощадил Бакленда, лежавшего в койке, и связал его простынями, так что все время кровавой битвы за свое судно тот пролежал беспомощным. Бакленду немало придется объяснять на следствии.
Буш услышал свист дудок и навострил уши, чтоб расслышать приказ.
— Команда гички! Гичку спускать!
Ясное дело, Бакленд отправляется доложить адмиралу. Как раз в тот момент, когда Буш пришел к этому заключению, Бакленд вошел в каюту. Естественно, одет он был крайне тщательно, в безупречно-белые штаны и лучший форменный сюртук. Лицо его было гладко выбрито, а аккуратность, с какою был завязан шейный платок, лишний раз свидетельствовала, что он отнесся к своему туалету весьма серьезно. Но заговорил он не сразу, просто стоял и смотрел на Буша. Его и без того втянутые щеки ввалились от переживаний, остекленевшие глаза смотрели в одну точку губы дрожали. Так может выглядеть человек, идущий на виселицу.
— Вы собираетесь на берег, сэр? — спросил Буш, подождав, чтоб старший заговорил первым.
— Да, — сказал Бакленд.
Кроме треуголки, он держал в руке запечатанные донесения, над которыми немало потрудился. Он попросил Буша помочь ему составить первое, касавшееся отстранения капитана Сойера от командования; второе донесение включало часть, написанную самим Бушем. Оно дышало сознанием своих заслуг и описывало капитуляцию испанцев на Санто-Доминго. Но третье донесение, касавшееся восстания пленных на борту и содержавшее признание, что Бакленда захватили в постели спящим, было составлено уже без Буша.
— Лучше б меня убили, — сказал Бакленд.
— Не говорите так, сэр, — ответил Буш настолько бодро, насколько позволяли его собственные тревоги и слабость.
— Это было бы лучше, — повторил Бакленд.
— Ваша гичка у борта, сэр, — послышался голос Хорнблауэра. — А призы только что стали на якорь у нас за кормой.
Бакленд обратил на него остекленевший взгляд. Хорнблауэр выглядел совсем не так аккуратно, хотя и он, очевидно, потрудился над своим нарядом.
— Спасибо, — ответил Бакленд, потом, после паузы, спросил со страстью: — Скажите мне, мистер Хорнблауэр — это последняя возможность — как случилось, что капитан упал в люк?
— Я решительно ничего не могу вам ответить, сэр, — сказал Хорнблауэр.
Ни в его словах, ни на его бесстрастном лице нельзя было прочесть ни малейшего намека.
— Мистер Хорнблауэр, — взмолился Бакленд, постукивая пальцами по донесениям. — Я хорошо обращался с вами. Вы увидите, что в этих донесениях я отдал вам должное. Я хвалю вас, как только можно, за то, что вы сделали на Санто-Доминго, и за то, как вы взяли на абордаж судно, когда восстали пленные. Как только можно, мистер Хорнблауэр. И вы… вы не…
— Я действительно ничего не могу добавить к тому, что вы уже знаете, сэр, — сказал Хорнблауэр.
— Но что мне говорить, когда меня начнут спрашивать?
— Правду, сэр. Что капитана нашли под люком, и что в ходе расследования не было получено никаких свидетельств, что он упал не случайно.
— Хотел бы я знать… — сказал Бакленд.
— Вы знаете все, что можно узнать, сэр. Простите, сэр, — Хорнблауэр протянул руку и снял кусочек пеньки с отворота его мундира. Потом он продолжил: — Адмирал будет вне себя от радости, когда узнает, что мы выбили донов из Саманы, сэр. Он, небось, поседел, переживая за конвои, идущие проливом Мона. И мы привели три приза. Он получит одну восьмую их стоимости. Не думаете же вы, сэр, что это его возмутит?
— Не думаю, — сказал Бакленд.
— Он видел, как призы вошли вместе с нами — сейчас все на флагманском корабле смотрят на них и говорят о них. Адмирал ждет хороших вестей. Сегодня утром он будет не склонен задавать вопросы. Разве что спросит, хотите вы мадеры или шерри.
Ни за что в жизни Буш не мог догадаться, искренно Хорнблауэр улыбается или нет, но Бакленд явно приободрился.
— Но потом… — сказал Бакленд.
— Потом будет потом. В одном мы можем не сомневаться — адмиралы не любят, чтоб их заставляли ждать, сэр.
— Наверно, мне надо идти, — сказал Бакленд. Проследив за отправлением гички, Хорнблауэр вернулся к Бушу. На этот раз улыбка его точно была искренней: она игриво плясала в уголках рта.
— Не вижу ничего смешного, — сказал Буш. Он поудобнее устроился под простыней. Теперь, когда корабль стоял на якоре, а берег закрывал его от ветра, в каюте стало гораздо жарче. Солнце палило безжалостно, и лучи его почти вертикально падали на палубу, расположенную в ярде над лицом Буша.
— Вы совершенно правы, сэр, — сказал Хорнблауэр, подходя к нему и поправляя простыню. — Ничего смешного.
— Тогда уберите эту дурацкую усмешку, — раздраженно сказал Буш. От жары и волнения голова его снова закружилась.
— Есть, сэр. Могу я что-нибудь еще для вас сделать?
— Нет, — сказал Буш.
— Очень хорошо, сэр. Тогда я займусь делами. Оставшись в каюте один, Буш пожалел, что Хорнблауэра с ним нет. Он хотел бы, насколько позволяла слабость, обсудить ближайшее будущее. Он лежал и гадал, а пот пропитывал его бинты. Бушу никак не удавалось привести мысли в порядок. Он слабо выругался про себя и прислушался, пытаясь понять, что происходит на судне, однако преуспел в этом не больше, чем в прорицании будущего. Он закрыл было глаза, пытаясь заснуть, и тут же открыл их — он начал гадать, о чем говорят сейчас Бакленд с адмиралом Ламбертом
Вошел санитар с подносом, на котором стояли кувшин и стакан. Наполнив стакан, он одной рукой приподнял Бушу голову и поднес стакан к его губам. Почувствовав во рту прохладную влагу, уловив освежающий запах, Буш вдруг понял, что ужасно хочет пить. Он жадно осушил стакан.
— Что это? — спросил он.
— Лимонад, сэр, с почтением от мистера Хорнблауэра.
— От мистера Хорнблауэра?
— Да, сэр. К нам подошла маркитантская лодка, мистер Хорнблауэр купил лимонов и велел мне выжать их для вас.
— Передайте мистеру Хорнблауэру мое спасибо.
— Есть, сэр. Еще стакан, сэр?
— Да.
Ему стало лучше. Через некоторое время он услышал целую серию необъяснимых звуков: топот башмаков по палубе, приказы, плеск весел рядом с кораблем. Потом у дверей его каюты послышались шаги. Вошел доктор Клайв и с ним незнакомец — тощий седой человечек с прищуренными голубыми глазками.
— Меня зовут Сэнки, я врач флотского берегового госпиталя, — объявил он. — Я отвезу вас туда, где вам будет гораздо удобнее.
— Я не хочу покидать судно, — сказал Буш.
— Служа на флоте, — произнес Сэнки с профессиональной жизнерадостностью, — вы должны были приучиться к тому, что, как правило, приходится поступать против своих желаний.
Он снял простыню и оценивающе разглядывал замотанное бинтами тело Буша.
— Простите некоторую бесцеремонность, — сказал он все с той же мерзкой жизнерадостностью, — но я должен выписать на вас расписку в получении. Полагаю, лейтенант, вы никогда не выписывали расписку на получение судовых припасов, не ознакомившись предварительно с их состоянием.
— Идите к черту! — сказал Буш.
— Раздражительность. — Сэнки взглянул на Клайва. — Боюсь, вы не прописывали ему достаточно слабительного.
Он взялся за Буша и с помощью Клайва ловко повернул его лицом вниз.
— Даго изрядно вас покромсали, сэр, — продолжал Сэнки, обращаясь к беззащитной спине Буша. — Девять ран, насколько я понимаю.
— И пятьдесят три шва, — добавил Клайв.
— В «Вестнике» это будет выглядеть неплохо, — Сэнки хохотнул и экспромтом выдал цитату: — «Лейтенант э… Буш в ходе героической обороны получил не менее девяти ран, но я счастлив сообщить, что он быстро идет на поправку».
Буш попытался повернуть голову и рявкнуть что-нибудь подходящее к случаю, но шея была одна из самых больных его мест. В результате он пробормотал нечто невразумительное, и, пока его рычания не стихли, на спину его не переворачивали.
— А теперь мы быстренько унесем нашего ангелочка, — сказал Сэнки. — Носильщики, заходите.
На главной палубе Буш чуть не ослеп от солнечного света. Сэнки подошел, чтоб натянуть простыню ему на глаза.
— Отставить! — сказал Буш, угадав намерение врача. В голосе его сохранилось достаточно командирской твердости, и Сэнки помедлил. — Я хочу видеть!
Теперь стало понятно, что за топот он слышал внизу. На шкафуте выстроился один из Вест-Индских полков: все солдаты стояли по стойке «смирно», все с примкнутыми штыками. Пленных испанцев выводили из люков, чтоб отправить на берег в стоящих у борта лихтерах. Буш узнал Ортегу. Тот хромал, опираясь на плечи двух человек. Одна штанина была обрезана, бедро замотано бинтами. Бинты и другая штанина почернели от запекшейся крови.
— Да уж, головорезы, — сказал Сэнки. — А теперь, когда вы вдоволь на них налюбовались, мы спустим вас в лодку.
Со шканцев поспешно подошел Хорнблауэр и встал на колени рядом с носилками.
— Все в порядке, сэр? — озабоченно спросил он.
— Да, спасибо, — сказал Буш.
— Я прикажу собрать ваши вещи и отправить их следом за вами, сэр.
— Спасибо.
— Поосторожней со стропами, — прикрикнул Хорнблауэр на матросов, цеплявших тали к носилкам.
— Сэр! Сэр! — Мичман Джеймс приплясывал рядом с Хорнблауэром, стараясь привлечь его внимание. — К нам направляется лодка с капитаном на борту.
Новость требовала, чтоб ей занялись немедленно.
— Всего вам наилучшего, сэр, — сказал Хорнблауэр. — До скорой встречи.
Он повернулся. Буш не обиделся на это короткое прощание: прибывающего на борт капитана надлежало встречать соответственно его чину. Мало того, Бушу самому ужасно хотелось знать, зачем этот капитан пожаловал.
— Пошел тали! — приказал Сэнки.
— Отставить! — сказал Буш и в ответ на вопросительный взгляд Сэнки добавил: — Минуточку подождите.
— Я сам не прочь узнать, что происходит, — заметил Сэнки.
По палубе засвистели дудки. Подбежали фалрепные, солдаты повернулись лицом к входному порту, морские пехотинцы выстроились рядом с ними. Сверкая золотым галуном, капитан поднялся на палубу. Хорнблауэр отдал честь.
— Вы — мистер Хорнблауэр, в настоящее время старший лейтенант на борту этого судна?
— Да, сэр. Лейтенант Горацио Хорнблауэр, к вашим услугам.
— Меня зовут Когсхил. — Капитан вытащил бумагу, развернул ее и прочел. — «Приказ сэра Ричарда Ламберта, вице-адмирала Синего Флага [23], рыцаря ордена Бани, командующего Его Величества судами на Ямайке, капитану Джеймсу Эдварду Когсхилу, Его Величества фрегата «Решительный». Сим предписываю вам немедленно прибыть на борт судна Его Величества «Слава», находящегося в заливе Порт-Ройал, и принять под командование pro tempore вышеупомянутое судно «Слава».
Когсхил снова сложил бумагу. Принять под командование королевское судно, даже временно, дело серьезное, и осуществлять его надо в соответствии с принятым ритуалом. Ни один приказ, отданный Когсхилом, не будет иметь законной силы до прочтения им вслух документа, дающего ему право отдавать приказы. Теперь, «огласив себя», он обладал необъятной властью капитана на борту судна — мог назначать и снимать уорент-офицеров, брать под стражу и наказывать кошками — и все это благодаря властным полномочиям, переданным королем в Совете через Лордов Адмиралтейства и сэра Ричарда Ламберта.
— Добро пожаловать на борт, сэр, — сказал Хорнблауэр, снова отдавая честь.
— Очень интересно, — сказал Сэнки, усаживаюсь рядом с носилками, после того, как Буша спустили в госпитальную шлюпку. — Давайте, рулевой. Я знал, что Когсхил любимец адмирала. Такое повышение — на линейный корабль с двадцативосьмипушечного фрегата. Большой шаг для нашего друга Джеймса Эдварда. Сэр Ричард не терял времени зря.
— В приказе говорится, это только… только временно, — сказал Буш. Он не способен был достаточно уверенно выговорить слова «pro tempore».
— У адмирала будет вдоволь времени составить приказ о постоянном назначении по всей форме, — ответил Сэнки. — С этого момента жалование Когсхила увеличилось с десяти шиллингов до двух фунтов в день.
Негры-гребцы налегали на весла, и госпитальная лодка скользила по сверкающей воде. Сэнки повернулся и посмотрел на эскадру, стоявшую на якоре в отдалении — трехмачтовое судно и пара фрегатов.
— Вот «Решительный», — показал он. — Когсхилу повезло, что его судно оказалось здесь в нужный момент. Теперь адмирал сможет щедро раздавать повышения. Вы на «Славе» потеряли двух лейтенантов?
— Да, — сказал Буш.
Робертса разорвало ядром на барказе в ходе первой атаки на Саману, а Смит погиб на своем посту, защищая шканцы во время восстания пленных.
— Капитан и два лейтенанта, — задумчиво сказал Сэнки. — Насколько я понял, капитан Сойер некоторое время был не в себе?
— Да.
— И все-таки они убили его.
— Да.
— Цепочка случайностей. Вашему первому лейтенанту было бы лучше разделить его участь.
Буш ничего на это не ответил, хотя подумал о том же. Бакленда связали в постели, и ему никогда этого не искупить.
— Думаю, — рассуждал Сэнки, — повышения ему не видать. Не повезло ему, ведь он бы мог продвинуться в результате ваших успехов на Санто-Доминго, с которыми я еще вас не поздравил. Мои поздравления.
— Спасибо, — сказал Буш.
— Блестящая победа. Интересно, что теперь сделает сэр Ричард, да будет чтимо его имя, с этими тремя вакансиями. Когсхила на «Славу». Значит, на «Решительный» надо будет назначить капитан-лейтенанта. Несказанная радость получить капитанский чин! У нас четыре капитан-лейтенанта — кто из них войдет в жемчужные врата? Вы ведь бывали здесь прежде?
— Три года уже не был, — ответил Буш.
— Тогда вам вряд ли известно, кто из офицеров какое положение занимает в глазах сэра Ричарда. Значит, лейтенант должен стать капитан-лейтенантом. Нет сомнений, кто это будет.
Сэнки удостоил Буша взглядом, и тот задал вопрос которого от него ждали.
— Кто?
— Даттон. Первый лейтенант флагмана. Вы его знаете?
— Кажется, да. Такой долговязый, со шрамом на щеке?
— Да. Сэр Ричард полагает, что солнце всходит и заходит по его слову. И я думаю, лейтенант Даттон — скоро он будет капитан-лейтенант Даттон — того же мнения.
Бушу нечего было на это сказать, а если б и было, он все равно промолчал бы. Совершенно ясно, что доктор Сэнки — легкомысленный старый сплетник и запросто может выболтать все, что ему скажут. Буш просто кивнул, насколько позволяли израненная шея и лежачее положение, ожидая, пока Сэнки продолжит свой монолог,
— Значит, Даттон станет капитан-лейтенантом. Это означает три лейтенантские вакансии. Сэр Ричард сможет сделать приятное трем своим друзьям, назначив их сыновей лейтенантами. При условии, надо заметить, что у сэра Ричарда есть хотя бы три друга.
— Весла! Баковый! — сказал рулевой. Они подходили к причалу. Шлюпка пришвартовалась, Сэнки выбрался из нее и руководил выгрузкой носилок. Ровным шагом чернокожие носильщики двинулись по дороге к госпиталю. Буш окунулся в воздух острова, как в горячую ванну.
— Давайте разберемся, — сказал Сэнки, шагая рядом с носилками. — Мы только что назначили трех мичманов лейтенантами. Значит, есть три вакантных уорент-офицерских места. Но погодите — ведь у вас на «Славе» были убитые?
— Много, — сказал Буш. Немало мичманов и штурманских помощников отдали свои жизни, защищая судно.
— Естественно. Этого следовало ожидать. Значит, вакансий гораздо больше, чем три. И значит, можно будет сделать приятное множеству вольноопределяющихся, волонтеров, всех этих несчастных, служащих без жалования, в надежде на случайное продвижение. Из чистилища, в котором они ничто, в ад, где они будут уорент-офицерами. Дорога славы… не буду ставить под сомнения ваши литературные познания, напоминая вам, что сказал поэт.
Буш не имел ни малейшего представления, что сказал поэт, но не собирался в этом признаваться.
— Вот мы и пришли, — сказал Сэнки. — Я провожу вас в вашу каюту.
Оказавшись после ослепительного солнца в темном помещении, Буш сначала ничего не видел. Белые коридоры, длинное полутемное помещение, разгороженное ширмами на крошечные комнатки. Он вдруг почувствовал смертельную усталость. Единственное, что ему хотелось, это закрыть глаза я уснуть. Процедура перекладывания из носилок в постель чуть его не доконала. На болтовню Сэнки он уже не обращал внимания. Когда, наконец, над постелью натянули полог от москитов и Буш остался один, ему показалось, что он на гребне длинной, глянцевитой, зеленой волны, и что он скользит с нее вниз, вниз, вниз… Это было почти приятно.
Когда он скатился к подножию волны, ему пришлось взбираться на нее снова, восстанавливая силы, ночь, день и еще ночь. За это время он узнал госпитальную жизнь — шумы, стоны из-за ширм, приглушенное и не очень приглушенное рычание сумасшедших в дальнем конце беленого коридора, утренние и вечерние обходы. К концу второго дня он начал с аппетитом прислушиваться к звукам, предшествовавшим раздаче еды.
— Вы счастливчик, — заметил Сэнки, осматривая его прошитое тело. — Все раны резаные, ни одной достаточно глубокой колотой. Это противоречит всему моему профессиональному опыту. Обычно даго орудуют ножами более толково. Только посмотрите на эту рану.
Рана, о которой шла речь, протянулась от плеча Буша к его позвоночнику, так что Сэнки вряд ли вкладывал в свои слова буквальный смысл.
— Не меньше восьми дюймов в длину, — продолжал Сэнки, — но глубиной меньше двух, хотя, я полагаю, лопатка задета. Четыре дюйма острием были бы куда действенней. Вот эта, соседняя рана — единственная, демонстрирующая желание добраться до глубины артерий. Тот, кто ее нанес, явно собирался колоть. Но колол он сверху вниз, и рваные края раны указывают, что острие скользнуло по ребрам, рассекло несколько волокон latissimus dorsi, но, в конце концов, образовало простой порез. Ученический удар. Человеческие ребра открыты для удара снизу, удар сверху они не пропускают, и идущий сверху нож, как в этом случае, без толку скользит по ребрам.
— Я рад, что это так, — сказал Буш.
— И все раны хорошо заживают, — продолжал Сэнки. — Признаков омертвения нет.
Буш вдруг понял, что Сэнки водит носом у самого его тела: гангрена прежде всего проявляется запахом.
— Хорошая чистая резаная рана, — сказал Сэнки, — быстро зашитая и перевязанная, чаще всего заживляется первичным натяжением. Гораздо чаще, чем нет. А у вас по большинству чистые резаные раны, как я уже говорил. Ваши почетные шрамы, мистер Буш, через несколько лет станут почти незаметны. Останутся тонкие белые линии, чей идущий крест-накрест рисунок вряд ли испортит ваш античный торс.
— Хорошо, — сказал Буш. Он не совсем понял, какой у него торс, но не собирался просить у Сэнки, чтоб тот объяснил все эти анатомические термины.
Не успел Сэнки уйти, как уже вернулся с посетителем.
— Капитан Когсхил пришел проведать вас, — сказал доктор. — Вот он, сэр.
Когсхил посмотрел на лежащего Буша.
— Доктор Сэнки порадовал меня, что вы быстро поправляетесь, — сказал он.
— Я думаю, это так, сэр.
— Адмирал назначил следственную комиссию, и я вхожу в ее состав. Естественно, потребуются ваши показания, мистер Буш, и я должен узнать, когда вы будете в состоянии дать их.
Буш почувствовал беспокойство. Следственная комиссия почти так же пугала его, как трибунал, к которому она могла привести. Несмотря на то, что совесть его была абсолютно чиста, Буш предпочел бы… охотно предпочел бы вести судно под шквальным ветром вдоль подветренного берега, чем отвечать на вопросы, путаться в юридических формальностях, выносить свои поступки на обсуждение, при котором они вполне могут быть превратно истолкованы. Но раз эту пилюлю придется проглотить, надо зажать нос и глотать, как бы ни было противно.
— Я готов в любое время, сэр.
— Завтра я снимаю сутуры, сэр, — вмешался Сэнки. — Вы сами видите, мистер Буш еще очень слаб. От этих ран у него полнейшая анемия.
— Что вы этим хотите сказать?
— Я хочу сказать, что он обескровлен. А процедура снятия сутур…
— Швов, что ли?
— Швов, сэр. Процедура снятия сутур отнимет у мистера Буша много сил. Но если следственная комиссия позволит ему давать показания, сидя в кресле…
— Позволит.
— Тогда через три дня он сможет отвечать на любые вопросы.
— В пятницу, значит?
— Да, сэр. Не раньше. Я хотел бы, чтоб это было позднее.
— Собрать здесь комиссию, — с холодной вежливостью пояснил Когсхил, — не просто, ибо все суда большую часть времени отсутствуют. Следующая пятница нас устроит.
— Есть, сэр, — сказал Сэнки.
Буш, так долго сносивший болтовню Сэнки, с некоторым удовлетворением наблюдал, как тот бросил свои выкрутасы, обращаясь к столь высокопоставленному лицу, как капитан.
— Очень хорошо, — сказал Когсхил и поклонился Бушу. — Желаю вам скорейшего выздоровления.
— Спасибо, сэр, — сказал Буш.
Даже лежа в постели, он инстинктивно попытался вернуть поклон, но, стоило ему начать сгибаться, заболели раны и не дали ему выставить себя смешным. Когда Когсхил вышел, у Буша осталось время подумать о будущем; оно тревожило его даже за обедом, но санитар, пришедший убрать посуду, впустил еще одного посетителя, при виде которого все мрачные мысли мгновенно улетучились. В дверях стоял Хорнблауэр с корзиной в руке. Лицо Буша осветилось.
— Как ваше здоровье, сэр? — спросил Хорнблауэр. Оба с удовольствием пожали друг другу руки.
— Я вас увидел, и мне сразу стало лучше, — искренно сказал Буш.
— Я первый раз на берегу, — сказал Хорнблауэр. — Можете догадаться, как я был занят.
Буш охотно поверил — он легко мог вообразить, сколько хлопот свалилось на Хорнблауэра. «Славу» надо было загрузить порохом и снарядами, провиантом и водой, вычистить судно после пленных, убрать следы недавних боев, выполнить все формальности, связанные с передачей трофеев, с раненными, с больными, с личным имуществом убитых. И Буш горячо желал выслушать все подробности, словно домохозяйка, которой болезнь не позволяет следить за домом. Он закидал Хорнблауэра вопросами, и профессиональный разговор некоторое время не давал Хорнблауэру показать корзину, которую он принес.
— Папайя, — сказал он. — Манго. Ананас. Это — второй ананас, который я вижу в жизни.
— Спасибо. Вы очень добры, — ответил Буш. Но ему было совершенно невозможно и в малой мере проявить чувства, которые вызвали у него эти дары — после дней одинокого лежания в госпитале он узнал, что кому-то до него есть дело, что кто-то по крайней мере подумал о нем. Неловкие слова, которые он произнес, ничего этого не выражали: только человек тонкий и сочувствующий мог угадать что за ними скрывается. Но Хорнблауэр спас его от дальнейшего смущения, быстро сменив разговор.
— Адмирал взял «Гадитану» в эскадру, — объявил он.
— Вот как, клянусь Богом!
— Да. Восемнадцать пушек — шести— и девятифунтовые. Она будет считаться военным шлюпом.
— Значит, он должен будет назначить на нее капитан-лейтенанта.
— Да.
— Клянусь Богом! — сказал Буш.
Какой-то удачливый лейтенант получит повышение. Это мог бы быть Бакленд — еще может, если оставят без внимания тот факт, что его связали спящим в постели.
— Ламберт дал ей новое имя — «Возмездие».
— Неплохое имя.
— Да.
На мгновение наступила тишина. Каждый из них, со своей точки зрения, заново переживал ужасные минуты, когда «Гадитана» взяла «Славу» на абордаж и испанцы падали под безжалостными ударами.
— Про следственную комиссию вы, конечно, знаете, — спросил Буш. Мысль об этом закономерно вытекала из предыдущих.
— Да. А вы как узнали?
— Только что заходил Когсхил, предупредил, что я буду давать показания.
— Ясно.
Опять наступила тишина, более напряженная, чем прошлый раз: оба думали о предстоящем испытании. Хорнблауэр сознательно прервал ее.
— Я собирался сказать вам, — произнес он, — что мне пришлось заменить на «Славе» тросы рулевого привода. Оба старых износились — слишком большая нагрузка. Боюсь, они идут под слишком острым углом.
Это вызвало технический разговор, который Хорнблауэр поддерживал, пока ни пришло время уходить.
XVI
Следственная комиссия была обставлена совсем не так торжественно и пугающе, как трибунал. Ей не предшествовал пушечный выстрел, капитаны, составляющие комиссию, были в повседневной форме, а свидетели давали показания не под присягой. О последнем обстоятельстве Буш забыл и вспомнил, лишь когда его вызвали.
— Пожалуйста, сядьте, мистер Буш, — сказал председательствующий. — Насколько мне известно, вы все еще слишком слабы от ран.
Буш проковылял к указанному ему креслу, — еле-еле добрался до него и сел. В большой каюте «Славы» (когда-то здесь лежал, дрожа и рыдая от страха, капитан Сойер) было удушающе жарко. Перед председателем лежали судовой и вахтенный журналы, а в том, что он держал в руках, Буш узнал свое собственное донесение, адресованное Бакленду и описывающие нападение на Саману.
— Ваше донесение делает вам честь, мистер Буш, — сказал председатель. — Из него следует, что вы взяли штурмом форт, потеряв убитыми всего шесть человек, хотя он был окружен рвом, бруствером и крепостным валом и охранялся гарнизоном из семидесяти человек и двадцатичетырехфунтовыми орудиями.
— Мы напали на них неожиданно, сэр, — сказал Буш.
— Это и делает вам честь.
Вряд ли атака на форт Самана была для гарнизона большей неожиданностью, чем для Буша эти слова: он готовился к чему-то гораздо более неприятному. Буш взглянул на Бакленда, которого вызвали прежде. Бакленд был бледен и несчастен. Но Буш должен был сказать одну вещь прежде, чем мысль о Бакленде отвлекла его.
— Это заслуга лейтенанта Хорнблауэра, — сказал он. — План был его.
— Это вы весьма благородно изложили в вашем донесении. Могу сразу сказать, что, по мнению нашей следственной комиссии, все обстоятельства, касающиеся атаки на Саману и последующей капитуляции, отвечают лучшим традициям флота.
— Спасибо, сэр.
— Переходим к следующему. К попытке пленных захватить «Славу». Вы в это время исполняли обязанности первого лейтенанта судна, мистер Буш?
— Да, сэр.
Отвечая на вопросы, Буш шаг за шагом проходил события той ночи. Под руководством Бакленда он нес ответственность за организацию охраны и питания пленных. Пятьдесят женщин — жены пленных — находились под охраной в мичманской каюте. Да, трудно было следить за ними так же тщательно, как за мужчинами. Да, он прошел с обходом после отбоя. Да, он услышал шум. И так далее. «И вас нашли среди убитых, без сознания от полученных ран?»
— Да, сэр.
Молодой капитан со свежим лицом, сидевший в конце стола, задал вопрос:
— И все это время, до самой своей гибели, капитан Сойер был заперт в каюте?
Председатель вмешался.
— Капитан Хибберт, мистер Бакленд уже просветил нас касательно нездоровья капитана Сойера.
Во взгляде, который председатель устремил на капитана Хибберта, чувствовалось раздражение. Вдруг перед Бушем забрезжил свет. У Сойера остались жена, дети, друзья, которым нисколько не хотелось привлекать внимание к тому, что он умер сумасшедшим. Председатель комиссии, видимо, действовал под строгим приказом замять эту сторону дела. Теперь, когда Сойер отдал жизнь за отечество, председатель будет приветствовать вопросы такого рода не больше, чем сам Буш. Вряд ли и Бакленда очень настойчиво об этом расспрашивали. Его несчастный вид, вероятно, проистекал от того, что ему пришлось описывать свою бесславную роль при захвате судна.
— Я полагаю, джентльмены, ни у кого из вас больше нет вопросов к мистеру Бушу? — спросил председатель. После этого задавать вопросы было уже невозможно. — Позовите мистера Хорнблауэра.
Хорнблауэр поклонился следственной комиссии. У него было бесстрастное выражение лица, которое, как знал теперь Буш, скрывало бушевавшие в нем чувства. Хорнблауэру, как и Бушу, задали несколько вопросов о Самане.
— Нам сказали, — заметил председатель, — что атака на форт и установка пушки на перешейке были вашей инициативой?
— Не понимаю, почему вам так сказали, сэр. Всю ответственность нес мистер Бакленд.
— Не буду настаивать, мистер Хорнблауэр. Я думаю, все мы поняли. Давайте послушаем, как вы отбили «Славу». Что привлекло ваше внимание?
Потребовались долгие и настойчивые расспросы, чтоб вытянуть из Хорнблауэра эту историю. Он услышал пару ружейных выстрелов, забеспокоился, увидел, что «Слава» привелась к ветру, и понял, что произошло нечто серьезное. Тогда он собрал команды с призов и взял «Славу» на абордаж.
— Вы не боялись потерять призы, мистер Хорнблауэр?
— Лучше потерять призы, чем корабль. Кроме того…
— Что кроме того, мистер Хорнблауэр?
— Я приказал перерубить все шкоты и фалы на призах, прежде чем оставить их, сэр. Чтоб заменить их, испанцам потребовалось время, так что мы легко захватили призы обратно.
— Похоже, вы все продумали, мистер Хорнблауэр, — сказал председатель. Послышался одобрительный гул. — И вы очень быстро провели контратаку на «Славу». Вы не стали выжидать, чтоб оценить размеры опасности? Ведь вы не знали — может быть, попытка захвата судна уже подавлена?
— В таком случае не произошло бы ничего страшного, сэр, кроме ущерба, нанесенного такелажу призов. Но если пленные захватили судно, атаковать надо было немедленно, пока они не организовали оборону.
— Мы поняли. Спасибо, мистер Хорнблауэр.
Следствие подошло к концу. Карберри еще не оправился от ран и не мог давать показания, Уайтинга не было в живых. Комиссия совещалась не больше минуты, прежде чем объявить свои выводы.
— Мнение данной комиссии таково, — объявил председатель. — Среди пленных испанцев следует провести тщательное расследование с целью установить, кто убил капитана Сойера. Если убийца жив, он предстанет перед судом. Дальнейшие действия в отношении оставшихся в живых офицеров судна Его Величества «Слава» не представляются нам целесообразными.
Это значило, что трибунала не будет. Буш облегченно улыбнулся и постарался встретиться взглядом с Хорнблауэром. Однако улыбка его встретила холодный прием. Буш попытался спрятать улыбку и принять вид человека, настолько безупречного, что весть об отмене трибунала не вызвала у него облегчения. А при взгляде на Бакленда его душевный подъем сменился жалостью. Бакленд был на грани отчаяния, его честолюбивым устремлениям положен конец. После капитуляции Саманы он мог лелеять надежду на повышение: на его счету были значительные достижения, а поскольку капитан негоден к службе, для Бакленда было весьма вероятно получить чин капитан-лейтенанта, может быть — даже капитана. То, что его связали в постели спящим, означало крушение любых честолюбивых чаяний. Этого ему не забудут, и факт будут помнить долго после того, как забудутся обстоятельства. Он обречен оставаться стареющим лейтенантом.
Буш виновато вспомнил, что сам лишь по счастливой случайности проснулся вовремя. Раны его мучительны, но они сослужили ему неоценимую службу, они отвлекли внимание от его собственной ответственности. Он сражался, пока не потерял сознание, и это, возможно, делает ему честь, но Бакленд сделал бы то же самое, сложись обстоятельства иначе. Однако Бакленд проклят, а сам он прошел через испытание во всяком случае ничего не потеряв. Буш чувствовал алогичность всего этого, хотя оказался бы в большом затруднении, заставь его выразить свои мысли словами. В любом случае, логическое мышление мало применимо к теме репутаций и повышений. За долгие годы Буш все больше и больше утверждался во мнении, что служба тяжела и неблагодарна, а удача в ней еще более капризна, чем в других жизненных сферах. Везенье приходит на флоте так же непредсказуемо, как смерть выбирает свои жертвы на людной палубе под неприятельским бортовым залпом. Буш был фаталистом, и сейчас у него было не то настроение, чтоб предаваться глубокомысленным размышлениям.
— А, мистер Буш, — сказал капитан Когсхил, — рад видеть вас на ногах. Надеюсь, вы останетесь на борту и пообедаете со мной. Я рассчитываю заручиться присутствием остальных лейтенантов.
— С огромным удовольствием, сэр, — сказал Буш. Любой лейтенант ответил бы так на приглашение своего капитана.
— Тогда через пятнадцать минут? Отлично.
Капитаны, составлявшие следственную комиссию, покидали судно строго по старшинству. Свист дудок эхом отдавался по палубе. Капитаны один за другим небрежно салютовали в ответ на оказанные почести. Все они по очереди спускались через входной порт в блеске золотого галуна и эполетов, эти счастливчики, достигшие крайней степени блаженства — капитанского чина; нарядные гички отваливали к стоявшим на якоре кораблям.
— Вы обедаете на борту, сэр? — спросил Хорнблауэр у Буша.
— Да.
На палубе их корабля «сэр» звучало вполне естественно, так же как естественно оно было отброшено, когда Хорнблауэр навещал друга в госпитале на берегу. Хорнблауэр отдал честь Бакленду.
— Можно мне оставить палубу на Харта, сэр? Меня пригласили обедать в каюту.
— Очень хорошо, мистер Хорнблауэр. — Бакленд выдавил улыбку, — Скоро у нас будут два новых лейтенанта и вы перестанете быть младшим.
— Я не огорчусь, сэр.
Эти люди, столько пережившие вместе, цеплялись за тривиальности, чтоб поддержать разговор, боясь, как бы более серьезные темы не подняли свои уродливые головы.
— Пора идти, — сказал Бакленд.
Капитан Когсхил оказался радушным хозяином. Теперь в большой каюте стояли цветы — видимо, на время разбирательства их спрятали в спальной каюте, чтоб не нарушать серьезности происходящего. Иллюминаторы были широко открыты, и в каюту проникал слабый ветерок.
— Перед вами салат из сухопутного краба, мистер Хорнблауэр. Сухопутный краб, вскормленный кокосовыми орехами. Некоторые предпочитают его молочной свинине. Может, вы положите его желающим?
Буфетчик внес дымящееся жаркое и поставил на стол.
— Седло молодого барашка, — сказал капитан. — Баранам не сладко приходится на этом острове, и, боюсь, жаркое может оказаться несъедобным. Но может вы по крайности попробуете его? Мистер Бакленд, вы разрежете? Видите, джентльмены, у меня осталось еще несколько настоящих картофелин — ямс быстро приедается. Мистер Хорнблауэр, вина?
— С удовольствием, сэр.
— И мистер Буш — за ваше скорейшее выздоровление, сэр.
Буш жадно осушил бокал. Когда он оставлял госпиталь, Сэнки предупредил его, что злоупотребление спиртными напитками может вызвать воспаление ран, но так приятно было лить вино в горло и чувствовать, как теплеет в желудке. Обед продолжался.
— Те из вас, джентльмены, кто служил здесь прежде, должно быть, знакомы с этим кушаньем, — сказал капитан, оценивающе глядя на поставленное перед ним дымящееся блюдо, — Вест-Индский перечник — боюсь, не такой хороший, как в Тринидаде. Мистер Хорнблауэр, попробуете в первый раз? Войдите!
Последние слова были ответом на стук в дверь. Вошел шикарно разодетый мичман. Его изящная форма и элегантный вид сразу указывали на принадлежность к классу морских офицеров, получающих из дома значительное содержание, а может, и располагающих собственными средствами. Без сомнения, это отпрыск знатного рода, отслуживающий положенный срок мичманом, пока протекция и деньги не вознесут его по служебной лестнице.
— Меня послал адмирал, сэр.
Конечно. Буш, от вина сделавшийся проницательным, сразу понял, что человек в такой одежде и с такими манерами принадлежит к адмиральскому окружению.
— И что вы должны сообщить? — спросил Когсхил.
— Адмирал шлет свои приветствия и хотел бы видеть мистера Хорнблауэра на борту флагмана, как только это будет удобно.
— А обед еще только начался! — заметил Когсхил, глядя на Хорнблауэра.
Но если адмирал просит сделать что-либо, как только это будет удобно, означает, что делать надо немедленно, удобно это или не удобно. Очень вероятно, что дело какое-нибудь пустяковое.
— С вашего разрешения, сэр, я пойду, — сказал Хорнблауэр. Он взглянул на Бакленда. — Можно мне взять шлюпку, сэр?
— Простите, сэр, — вмешался мичман. — Адмирал сказал, что шлюпка, которая доставила меня сюда, отвезет вас на флагман.
— Это упрощает дело, — сказал Когсхил. — Идите, мистер Хорнблауэр. Мы оставим часть перечника до вашего возвращения.
— Спасибо, сэр, — сказал Хорнблауэр, вставая.
Как только он вышел, капитан задал неизбежный вопрос:
— Зачем адмиралу мог понадобиться Хорнблауэр?
Он поглядел на собравшихся и не получил ответа. Тем не менее, Буш увидел, что лицо Бакленда напряжено. Казалось, в своем несчастье Бакленд что-то предчувствует.
— Ладно, со временем мы узнаем, — сказал Когсхил. — Вино рядом с вами, мистер Бакленд. Не дайте ему выдохнуться.
Обед продолжался. Перечник обжег Бушу рот и обдал жаром желудок, так что вино, которым он его запил, было вдвойне приятно. Когда унесли сыр, а за ним и скатерть, буфетчик подал фрукты и орехи на серебряных блюдах.
— Портвейн, — сказал капитан Когсхил. — 79-го года. Хороший год. Про этот коньяк я ничего не знаю, что естественно в наше время.
Коньяк мог быть только из Франции, контрабандный, вероятно, приобретенный путем торговли с неприятелем.
— Но здесь, — продолжал капитан, — отличный немецкий джин. Я купил его на распродаже призов после того, как мы взяли Сент-Эвстасиус. А вот еще немецкий напиток — из Куросао, и если он на ваш вкус не слишком отдает апельсинами, он может вам понравиться. Шведский шнапс — горло дерет, но отличная вещь — это после захвата Сабы. Говорят, что умный не станет мешать виноград с зерном, но, насколько я понимаю, шнапс делают из картофеля, значит, он под запрет не попадает. Мистер Бакленд?
— Мне шнапса, — сказал Бакленд. Язык его немного заплетался.
— Мистер Буш?
— Я буду пить то же, что и вы, сэр.
Это было самое простое решение.
— Тогда пусть будет коньяк. Джентльмены, за то, чтоб Бони [24] черти сбондили.
Они выпили. Коньяк приятно согревал внутренности. Буш ощутил блаженную расслабленность, а два тоста спустя ему стало так хорошо, как не было с самого отплытия «Славы» из Плимута.
— Войдите! — сказал капитан.
Дверь медленно отворилась, в дверях стоял Хорнблауэр. Лицо его было напряжено — это Буш видел ясно, хотя фигура Хорнблауэра слегка плыла у него перед глазами (так выглядели предметы через воздух, нагретый над раскаленными ядрами в форте Самана), а черты лица были какие-то смазанные.
— Заходите, заходите, — сказал капитан. — Тосты только начались. Садитесь на прежнее место. Героям коньяк, подставляйте стакан, как сказал мудрый Джонсон. Мистер Буш!
— Н-неприятельской кровью з-залит океан. П-призы в изобилии, б-берег багрян. И с-славой бессмертной наш флот осиян. Ик, — сказал Буш, неимоверно гордясь, что помнил этот тост и смог при случае произнести.
— Пейте, пейте, мистер Хорнблауэр. — Мы уже далеко от вас оторвались. Погоня в кильватер — долгая погоня.
Хорнблауэр снова поднес бокал к губам.
— Мистер Бакленд!
— Каждый счастлив и… счастлив и… счастлив и… и… пьян, — сказал Бакленд, вспомнив-таки последнее слово. Лицо у него было красное, как свекла, и Бушу казалось, что оно, словно садящееся солнце, наполняет всю каюту — очень забавно.
— Вы ведь вернулись от адмирала, мистер Хорнблауэр — вдруг вспомнил капитан.
— Да, сэр.
Короткий ответ явно не вязался с атмосферой всеобщего благодушия. Буш отчетливо ощутил это и отметил про себя наступившую паузу.
— Все в порядке? — спросил капитан наконец, как бы извиняясь, что лезет в чужие дела, принужденный к этому наступившей тишиной.
— Да, сэр. — Хорнблауэр вертел бокал длинными нервными пальцами; Бушу казалось, что каждый палец длиной в фут. — Он назначил меня капитан-лейтенантом на «Возмездие».
Хорнблауэр сказал это тихо, но его слова в тишине каюты произвели эффект пистолетного выстрела.
— Господи Боже мой! — воскликнул капитан. — Вот и тост. За нового капитан-лейтенанта! Трижды ура в его честь!
Буш от души крикнул «ура!»
— Хорнблауэр, старина! — сказал он. — Хорнблауэр, старина!
Буш несказанно обрадовался этой новости. Он наклонился и похлопал Хорнблауэра по плечу. Он знал, что его лицо — одна сплошная улыбка, и потому склонил голову набок и лег локтем на стол, чтоб Хорнблауэр мог насладиться ей в полной мере.
Бакленд со стуком поставил бокал на стол.
— Будьте вы прокляты! — сказал он. — Будьте вы прокляты!
— Полегче! — поспешно произнес капитан. — Давайте нальем бокалы. До краев, мистер Бакленд. За нашу Родину! Великая Англия! Владычица волн!
Гнев Бакленда утонул в новом потоке вина, а позже печаль одолела его, и он тихо зарыдал, сидя за столом, и слезы катились по его щекам. Но Буш был слишком счастлив, чтоб омрачаться горестями Бакленда. Он всегда вспоминал этот обед как один из лучших, на которых ему случалось присутствовать. Он даже помнил улыбку Хорнблауэра в конце обеда.
— Мы не можем отправить вас в госпиталь сегодня, — сказал Хорнблауэр. — Лучше вам эту ночь поспать в своей койке. Позвольте мне отвести вас туда.
Это было очень здорово. Буш двумя руками обхватил Хорнблауэра за плечи и пошел, волоча ноги. Неважно, что ноги не слушались, ведь у него была поддержка. Хорнблауэр — лучший человек в мире, что Буш и объявил, исполнив «Горацио — парень, что надо», нетвердой походкой идя по коридору. Хорнблауэр опустил его в качающуюся койку и широко улыбнулся. Бушу пришлось уцепиться за края койки: он немного удивился, что судно, стоящее на якоре, так сильно качает.
XVII
Так Хорнблауэр оставил «Славу». Он получил вожделенное повышение, и теперь у него было много дел: надо было подготовить «Возмездие» к плаванию и организовать небольшую, только что набранную команду. Буш иногда видел его и смог уже на трезвую голову поздравить с эполетом. Эполет на левом плече был отличительным признаком капитан-лейтенанта, одного из тех счастливцев, для кого боцманматы свистят в дудки, когда он поднимается на борт, и кто может с надеждой глядеть в будущее, ожидая назначения капитаном. Буш называл его «сэр», и даже в первый раз это не показалось ему неестественным.
За последние несколько недель Буш узнал много такого, чего не замечал за все годы своей службы. Эти годы прошли в море, среди морских опасностей, среди постоянно меняющихся ветра и погоды, больших глубин и мелей. Он служил на линейных кораблях, где на неделю в море приходилось лишь несколько минут боя, и постепенно утвердился в мысли, что главное требование к флотскому офицеру — опыт практического судовождения. Разбираться в бесчисленных деталях управления судном, не только уметь вести его под парусами, но и знать все мелкие, однако важные хитрости, касательно тросов и канатов, помп и солонины, сухой гнили и Свода Законов Военного Времени — вот и все, что нужно. Но теперь он узнал, что не менее важны и другие качества: смелая и в то же время осторожная инициатива, мужество не только телесное, но и душевное; тактичное умение заставить и начальство, и подчиненных делать, что считаешь нужным, изобретательность и сообразительность. Военный флот должен воевать, и командовать им должны воины.
И хотя осознание всего этого примирило Буша с возвышением Хорнблауэра, по иронии судьбы он немедленно погрузился с головой в мелкие дела самого низменного свойства. Он вступил в борьбу с миром насекомых: пленные испанцы за шесть дней пребывания на борту заразили судно всевозможными паразитами. Блохи, вши и клопы расплодились повсюду; на деревянном судне, набитом людьми, да к тому же в тропиках, они благоденствовали. Пришлось обрить головы и прожарить койки. В отчаянной попытке одолеть клопов заново красили древесину — и каждый раз безуспешно — через два дня клопы появлялись вновь. Даже тараканы и крысы, всегда обитавшие на судне, казалось, размножились и стали вездесущими.
По несчастному стечению обстоятельств пик его озлобления совпал с выплатой призовых денег за захваченные в Самане суда. Сто фунтов, которые надо потратить, двухдневный отпуск, предоставленный ему Когсхилом, и Хорнблауэр свободен в это же самое время. Эти два безумных дня Хорнблауэр с Бушем посвятили тому, чтобы потратить по сто фунтов на сомнительные удовольствия Кингстона. Два диких дня и две диких ночи, после которых Буш вернулся на «Славу» помятый и шатающийся, мечтая поскорее оказаться в море и прийти в себя. А когда он вернулся из первого плавания под командованием Когсхила, Хорнблауэр пришел попрощаться.
— Я отплываю завтра утром с береговым бризом, — сказал он.
— Куда, сэр?
— В Англию, — сказал Хорнблауэр.
Буш присвистнул. Некоторые в эскадре не видели Англии лет по десять.
— Я вернусь, — сказал Хорнблауэр. — Конвой в Даунс. Депеши Адмиралтейскому совету. Забрать ответ и проследовать назад. Обычный тур.
Действительно, это был обычный тур для военного шлюпа. «Возмездие» с его восемнадцатью пушками и дисциплинированной командой могло сразиться почти с любым капером, при своей скорости и маневренности оно могло охранять торговые суда лучше, чем линейный корабль или даже фрегаты, сопровождавшие более крупные конвои.
— Ваше назначение будет утверждено, сэр, — сказал Буш, кидая взгляд на Хорнблауэров эполет.
— Надеюсь, что так, — сказал Хорнблауэр.
Утвердить пожалованное главнокомандующим назначение было чистой формальностью.
— Если только они не заключат мир, — заметил Хорнблауэр.
— Это исключено, сэр, — сказал Буш.
Судя по ухмылке Хорнблауэра, он тоже не верил в возможность мира, хотя доставленные из Англии двухмесячной давности газеты и намекали туманно на какие-то намечающиеся будто бы переговоры. Пока Бонапарт, неумный, честолюбивый и неразборчивый в средствах стоит у власти, пока ни один из спорных вопросов между двумя странами не разрешен, никто из военных не поверит, что переговоры могут привести даже к перемирию, не то что к постоянному миру.
— Удачи в любом случае, сэр, — сказал Буш, и эти слова не были простой формальностью.
Они пожали руки и расстались. О чувствах Буша к Хорнблауэру говорит то, что ранним серым утром следующего дня он выкатился из койки и поднялся на палубу посмотреть, как «Возмездие», похожее под своими марселями на призрак, с лотовым на русленях обогнуло мыс, подгоняемое береговым бризом.
Буш проводил корабль взглядом: жизнь на флоте несет с собой много разлук. Сейчас нужно было воевать с клопами.
Одиннадцать недель спустя эскадра лавировала против пассата в проливе Мона. Ламберт привел ее сюда с двоякой целью, которую преследует любой адмирал — тренировать корабли и охранять важный конвой на одном из самых опасных отрезков его путешествия. Холмы Санто-Доминго были скрыты сейчас за горизонтом к западу, но столовая возвышенность Моны виднелась впереди. С такого расстояния она казалась скучной и однообразной. С правого борта видна была маленькая сестренка Моны, Монита, обнаруживающая сильное семейное сходство.
Дозорный фрегат, шедший впереди, подал сигнал.
— Вы слишком медлительны, мистер Трюскот, — заорал Буш на сигнального мичмана. С ними иначе нельзя.
— «Вижу парус на норд-осте», — прочел сигнальный мичман, держа у глаза подзорную трубу.
Это могло означать что угодно — от авангарда французской эскадры, вырвавшейся из Бреста, до торгового судна.
Сигнал пошел вниз и тут же появился новый.
— «Вижу дружественный парус на норд-осте», — прочитал Трюскот.
Тут налетевший дождевой шквал скрыл горизонт, и «Славе» пришлось немедленно спуститься под ветер. Дождь барабанил по палубе кренящегося корабля, потом ветер резко переменился, вышло солнце, шквал миновал. Буш занялся тем, чтобы вернуть «Славу» на ее место, ровно в двух кабельтовых за кормой идущего впереди судна. Все три корабля составляли кильватерную колонну, «Слава» — последняя, флагман — первый. Теперь парус был уже виден на горизонте. В подзорную трубу Буш сразу различил, что это военный шлюп. Он подумал было, уж не «Возмездие» ли так быстро обернулось, но со второго взгляда стало ясно, что это не оно. Трюскот прочел номер и посмотрел в списке.
— «Клара», военный шлюп, капитан Форд, — объявил он.
Буш знал, что «Клара» отплыла в Англию с депешами за три недели до «Возмездия».
— «Клара» флагу», — продолжал Трюскот, — «Имею депеши».
Она быстро приближалась.
По фалам флагмана побежали цепочки черных шаров которые наверху превратились во флажки.
— «Всем кораблям», — читал Трюскот с заметным волнением в голосе. Это означало, что сейчас «Слава» получит приказ. — «Лечь в дрейф».
— Грот-марса-брасы! — закричал Буш. — Мистер Эббот! Мое почтение капитану, и эскадра ложится в дрейф.
Эскадра привелась к ветру и мягко покачивалась на волнах. Буш наблюдал, как шлюпка с «Клары», приплясывая, двинулась к флагману.
— Пусть команда остается у брасов, мистер Буш, — сказал капитан Когсхил. — Я думаю, мы двинемся, как только вручат депеши.
Но Когсхил ошибся. Буш видел в подзорную трубу, как офицер с «Клары» поднялся на борт флагмана, но минуты шли за минутами, а флагман так и лежал в дрейфе, эскадра все так же покачивалась на волнах. Вот по фалам флагмана вновь побежали цепочки черных шаров.
— «Всем кораблям», — прочел Трюскот. — «Капитанам явиться на борт флагмана».
— Гичку к спуску! — заорал Буш.
1. Встреча «Славы» и «Клары»
Новость, из-за которой адмирал пожелал немедленно лично увидеться с капитанами должна быть важной или, по меньшей мере, необычной. Может, французский флот прорвал блокаду, может, Северный Союз опять показал норов. Может, возобновилась болезнь короля. Это может быть что угодно, ясно только, что это не пустяк. Ламберт не стал бы без причины терять драгоценное время, позволяя всей эскадре дрейфовать к подветренному берегу. Наконец ветер донес пронзительный свист дудок на флагмане. Буш поспешил поднести к глазу подзорную трубу.
— Один спускается, — сказал он.
Гички одна за другой отошли от флагмана, и теперь оба лейтенанта видели приближающуюся к ним шлюпку и своего капитана на корме. Бакленд пошел встретить его. Когсхил коснулся треуголки, вид у него был ошарашенный.
— Мир, — сказал он.
Ветер донес до них крики «ура» с флагмана — видимо, там новость объявили команде, и только эти крики и придавали хоть какую-то реальность словам капитана.
— Мир, сэр? — переспросил Бакленд.
— Да, мир. Предварительные условия подписаны. В следующем месяце послы встретятся в Париже и обговорят условия, но это мир. Все военные действия прекращаются — должны прекратиться во всех частях света сразу по прибытии новостей.
— Мир! — повторил Буш.
Девять лет планету сотрясала война, суда горели и люди истекали кровью от Манилы до Панамы, на востоке и на западе. Бушу трудно было поверить, что теперь он будет жить в мире, где люди не палят друг по другу из пушек. Следующие слова Когсхила продолжили его последнюю мысль.
— Государственные корабли Французской, Батавской и Итальянской Республик надлежит приветствовать салютом, как иностранные военные суда.
Бакленд присвистнул. Значит, Англия признала революционные республики, с которыми так долго сражалась. Еще вчера произнести слово «республика» было чуть ли не изменой. Теперь капитан мимоходом употребил его в официальном сообщении.
— А что будет с нами, сэр? — спросил Бакленд.
— Это мы узнаем со временем, — ответил Когсхил. — Но флот будет сокращен до размеров мирного времени. Это значит, что девять кораблей из десяти спишут команду.
— О, Господи, — сказал Бакленд.
На корабле впереди них кричали «ура!»
— Общий сбор, — сказал Когсхил. — Надо сообщить новость.
Матросы «Славы» обрадовались, услышав новость. Они так же неудержимо кричали «ура!», как матросы двух других кораблей. Для них это означало близкий конец жестокой дисциплины и невероятных тягот. Свобода, возвращение домой. Буш глядел вниз на море восторженных лиц и размышлял, что же означает эта новость для него. Свободу, может быть; но она означала жизнь на половинное лейтенантское жалованье. Вот этого он никогда прежде не испытывал: в ранней юности поступив на флот мичманом (мирный флот он почти не помнил), Буш за девять лет войны лишь дважды был в коротком отпуске. Он был не слишком уверен, что его привлекают новые перспективы, открывающиеся в будущем. Он глянул в сторону флагмана и заорал на сигнального мичмана.
— Мистер Трюскот! Вы что, сигналов не видите?! Занимайтесь своим делом, не то вам худо будет, мир там или не мир.
Несчастный Трюскот поднес трубу к глазам.
— «Всем кораблям», — прочел он. — «Построиться в кильватерную колонну на левом галсе».
Буш взглядом спросил у капитана разрешения приступать.
— Команду к брасам! — закричал Буш. — Обрасопить грот-марсель! Живей, живей, лентяи! Мистер Коп, где ваши глаза? Еще разок нажать на грота-брасы с наветренной стороны! Господи! Помалу! Стой!
— «Всем кораблям», — читал Трюскот в подзорную трубу. «Слава» набирала скорость и пристраивалась в кильватер идущего впереди судна. — «Последовательно поворачиваться оверштаг».
— К повороту! — закричал Буш.
Он следил, как движется идущее впереди судно. У него оставалось еще время — прикрикнуть на вахтенных, недостаточно быстро встававших на свои места.
— Лентяи неповоротливые! Кое-кто из вас скоро попляшет на решетчатом люке!
Идущее впереди судно закончило поворот, и «Слава» приближалась к его белому следу.
— К повороту! — кричал Буш. — Шкоты передних парусов! Руль под ветер!
«Слава» тяжеловесно развернулась и легла на правый галс.
— «Курс зюйд-вест-тень-вест», — прочел Трюскот следующий сигнал.
Зюйд-вест-тень-вест. Адмирал взял курс на Порт-Ройал. Буш мог догадаться, что это первый шаг к сокращению флота. Солнце было теплое и приятное. «Слава» шла на фордевинд по синему-синему Карибскому морю. Она идет хорошо, можно пока не заполаскивать крюйсель. Это — хорошая жизнь. Буш не мог заставить себя поверить, что скоро она кончится. Он попытался представить себе зимний день в Англии, зимний день, когда нечего делать. Нет корабля, чтоб его вести. Половинное жалование. Сестры Буша получают половину его жалования, значит, ему не на что будет жить, не только нечего делать. Холодный зимний день. Нет, он просто не мог себе этого представить, и бросил даже пытаться.
XVIII
Был холодный зимний день в Портсмуте. Мороз пробирал до костей, и вдоль улицы, на которую Буш вышел из ворот дока, свистел пронизывающий восточный ветер. Буш поднял воротник бушлата поверх кашне, сунул руки в карманы и, склонив голову, зашагал против ветра; глаза его слезились, нос подтекал, восточный ветер, казалось, проникал под ребра, заставляя болеть многочисленные шрамы. Проходя мимо «Конской головы» он нарочно смотрел в другую сторону. Он знал, что там тепло и весело. Там сидят счастливые офицеры, у которых есть призовые деньги; неимоверно счастливые офицеры, нашедшие себе место в мирном флоте — они болтают друг с другом и выпивают вместе. Вина Буш себе позволить не мог. Он с вожделением подумал о кружке пива, но тут же отбросил эту мысль, хотя искушение было велико. В кармане у него лежало половинное жалование за месяц — он шел от уполномоченного по делам оплаты, выдавшего ему деньги, — но надо было растянуть это жалование на четыре с половиной недели, и Буш знал, что пиво ему не по карману.
Конечно, он пытался устроиться шкипером на торговое судно, но это было так же безнадежно, как устроиться лейтенантом. Начав жизнь мичманом и проведя все сознательные годы на военной службе, Буш мало что знал о накладных или укладке груза. Торговые моряки искренне презирали военных, говоря, что на военном судне сто человек делают работу, с которой на торговом справляются шесть. А по мере того, как все новые суда списывали команду, освобождались все новые партии штурманских помощников, обученные торговой службе и завербованные с нее. Они тоже искали работу по старой специальности, усиливая и без того суровую конкуренцию.
Кто-то вышел из боковой улочки и пошел впереди против ветра — флотский офицер. Долговязая фигура, прыгающая походка — Буш узнал Хорнблауэра.
— Сэр! Сэр! — позвал он, и Хорнблауэр обернулся. Мелькнувшее было на его лице раздражение мгновенно исчезло, когда он узнал Буша.
— Рад видеть вас, — сказал он, протягивая руку.
— Рад видеть вас, сэр, — сказал Буш.
— Не называйте меня «сэр», — произнес Хорнблауэр.
— Нет, сэр? Как… почему?..
Хорнблауэр был без шинели и на его левом плече — куда Буш машинально посмотрел — отсутствовал капитан-лейтенантский эполет. Буш увидел старые следы на ткани там, где он когда-то прикреплялся.
— Я не капитан-лейтенант, — сказал Хорнблауэр. — Они не утвердили мое назначение.
— Господи!
Лицо Хорнблауэра было неестественно бледным — Буш привык видеть его сильно загорелым, — щеки втянулись, но в глазах было все то же непроницаемое выражение, которое Буш так хорошо помнил.
— Предварительные условия мира подписали в тот самый день, когда я привел «Возмездие» в Плимут, — сказал Хорнблауэр.
— Чертовское невезение! — воскликнул Буш. Лейтенанты всю свою жизнь ждут счастливого стечения обстоятельств, которое принесло бы им повышение, и большая часть их ждет понапрасну. Более чем вероятно, что Хорнблауэр будет ждать понапрасну всю оставшуюся жизнь.
— Вы подавали прошение о месте лейтенанта? — спросил Буш.
— Да. Вы, наверно, тоже?
— Да.
Больше тут говорить было не о чем. Мирный флот брал на службу лишь десятую часть офицеров, служивших во время войны: чтобы получить место, надо было иметь большой стаж или влиятельных друзей.
— Я провел месяц в Лондоне, — продолжал Хорнблауэр. — Возле Адмиралтейства и возле Министерства Флота постоянно стоит толпа.
— Не удивительно, — заметил Буш.
Из-за угла со свистом налетел ветер.
— Господи, как же холодно! — сказал Буш. Он лихорадочно соображал, как бы им продолжить разговор под крышей. Если они пойдут в «Конскую голову», ему придется заплатить за две кружки пива и Хорнблауэру сделать то же.
— Я сейчас иду в «Длинные Комнаты», — сказал Хорнблауэр. — Идемте со мной — или вы заняты?
— Нет. Я не занят, — ответил Буш. — Но…
— А, с этим все в порядке, — сказал Хорнблауэр. — Идем.
Буша успокоило, как уверенно Хорнблауэр говорит про «Длинные Комнаты», о которых сам он знал только понаслышке. Туда ходили флотские и армейские офицеры, у которых водились большие деньги. Буш немало слышал о том, что там играют по крупной и какое шикарное угощение подает владелец. Если Хорнблауэр так легко упоминает «Длинные Комнаты», значит дела его не так плохи, как кажется с первого взгляда. Они перешли улицу, Хорнблауэр открыл дверь и пропустил Буша вперед. Перед ними было длинное, обшитое дубом помещение. Утренний полумрак освещали свечи, в очаге жарко пылал огонь. В центре стояли несколько карточных столов и стулья — все было готово к игре. Углы комнаты были уютно обставлены для отдыха. Слуга в зеленом бязевом фартуке, прибиравший в комнате, подошел, чтобы взять у них шляпы и шинель у Буша.
— Доброе утро, сэр, — сказал он.
— Доброе утро, Дженкинс, — ответил Хорнблауэр. Он торопливо бросился к огню и стал возле него, согреваясь. Буш заметил, что зубы его стучат.
— Плохо в такой день без бушлата, — заметил Буш.
— Да, — согласился Хорнблауэр.
Ответил он слишком коротко, и тут же стало ясно, что это не просто подтверждение сказанного Бушем. Только тут Буш понял, что не эксцентричность и не забывчивость выгнали Хорнблауэра на мороз без бушлата. Он внимательно посмотрел на Хорнблауэра и даже задал бы бестактный вопрос, но в этот момент отворилась внутренняя дверь. Вышел толстый, приземистый, но невероятно элегантный джентльмен; одет он был по моде и только волосы носил длинные, с косичкой и напудренные, в стиле прошлого поколения. Проницательными темными глазами он посмотрел на двух офицеров.
— Доброе утро, маркиз, — сказал Хорнблауэр. — Имею удовольствие представить: мсье маркиз де Сан-Круа — лейтенант Буш.
Маркиз изящно поклонился, Буш попытался сделать то же самое. Он почувствовал, что, несмотря на столь любезный поклон, маркиз внимательно его разглядывает. С таким выражением лейтенант разглядывает новобранца или фермер выбирает свинью на рынке — Буш догадался, что маркиз прикидывает, будет ли от него, Буша, прок за карточным столом. Он вдруг застеснялся своего поношенного мундира. Очевидно, маркиз пришел к тому же заключению, что и Буш, и, тем не менее, начал разговор.
— Сильный ветер, — сказал он.
— Да, — ответил Буш.
— В Ла-Манше сейчас не сладко, — продолжил маркиз, вежливо затрагивая профессиональную тему.
— Еще бы, — согласился Буш.
— И ни одно судно не подойдет с запада.
— Можете в этом не сомневаться.
Маркиз превосходно говорил по-английски. Он повернулся к Хорнблауэру.
— Вы видели мистера Трюлава в последнее время?
— Нет, — ответил Хорнблауэр. — Но я видел мистера Уилсона.
Имена Трюлава и Уилсона были Бушу знакомы — то были самые богатые призовые агенты в Англии: по крайней мере четверть флота передавало их фирме для продажи свои трофеи. Маркиз опять повернулся к Бушу.
— Надеюсь, вам везло с призовыми деньгами, мистер Буш? — спросил он.
— Нет, к сожалению, — ответил Буш.
Свои сто фунтов он за два дня прокутил в Кингстоне.
— Они ворочают сказочными суммами, просто сказочными. Я слышал, команда «Карадока» разделила между собой семьдесят тысяч фунтов.
— Очень вероятно, — сказал Буш. Он слышал о кораблях, захваченных «Карадоком» в Бискайском заливе.
— Но пока ветер не переменится, им, беднягам, придется подождать своих денег. Их не списывают, но отправляют на Мальту сменить гарнизон. Их ждут со дня на день.
Для штатского и эмигранта маркиз весьма похвально разбирался в делах флота. И он был последовательно вежлив, как показала его завершающая фраза.
— Располагайтесь как дома, мистер Буш, — сказал он. — А теперь, надеюсь, вы простите меня, мне надо заняться делами.
Он удалил через завешенную занавесом дверь, оставив Буша и Хорнблауэра глядеть друг на друга.
— Странный тип, — сказал Буш.
— Не такой странный, если узнать его поближе, — ответил Хорнблауэр.
Он отогрелся и щеки его слегка порозовели.
— Что вы тут делаете? — спросил Буш. Любопытство взяло верх над вежливостью.
— Играю в вист, — ответил Хорнблауэр.
— В вист?
Буш знал о висте только, что это медленная игра для интеллектуалов. Сам он предпочитал азартные игры, не требующие большого ума.
— Многие флотские играют здесь в вист, — сказал Хорнблауэр. — Я всегда готов сесть четвертым.
— Но я слышал…
Буш слышал, что в «Длинных Комнатах» играют в другие игры — в кости, в двадцать одно, даже в рулетку.
— По крупной играют там. — Хорнблауэр махнул рукой в сторону занавеса. — Я остаюсь здесь.
— Это умно, — сказал Буш. Но он чувствовал, что Хорнблауэр чего-то не договаривает. Бушем двигало не простое любопытство. Теплые чувства, которые он испытывал к Хорнблауэру, заставили его продолжать расспросы.
— Вы выигрываете? — спросил он.
— Часто, — сказал Хорнблауэр. — На жизнь хватает.
— Но ведь вы получаете половинное жалование? — настаивал Буш,
Перед этим напором Хорнблауэр сдался.
— Нет, — ответил он. — Мне не положено.
— Как не положено? — Буш даже немного повысил голос. — Но ведь вы лейтенант.
— Но я был капитан-лейтенантом. Я три месяца получал полное жалование, а потом Адмиралтейство отказалось утвердить мое назначение.
— И вам приостановили выплату?
— Да. Пока я не погашу перерасход. — Хорнблауэр улыбался почти естественно. — Два месяца я уже прожил. Еще пять, и я начну получать половинное жалование.
— Господи! — сказал Буш.
Половинное жалование означало постоянную экономию, но на него по крайней мере можно жить. У Хорнблауэра не было даже этого. Теперь Буш знал, почему Хорнблауэр без бушлата. На Буша волной накатил гнев. Перед его внутренним взором встала картина; он видел ее так же ясно, как видел сейчас эту уютную комнату. Он видел, как Хорнблауэр, со шпагой в руке, прыгает на палубу «Славы», как бросается он в бой с превосходящими силами противника, бой, который мог окончиться победой или смертью. Хорнблауэр, который неустанно трудился, добиваясь успеха, и, наконец, поставил на карту свою жизнь — этот Хорнблауэр, стуча зубами, греется у огня, а какой-то лягушатник, владелец игорного дома с манерами учителя танцев из милости позволяет ему это.
— Наглость какая, — сказал Буш — и предложил Хорнблауэру свои деньги. Он сделал это, хотя знал, что ему придется голодать, а его сестрам хоть не голодать, но и есть не досыта.
Однако Хорнблауэр покачал головой.
— Спасибо, — сказал он. — Я никогда этого не забуду. Но я не могу принять ваших денег. Вы знаете, что я не могу. Но я всегда буду вам благодарен. И не только за это. Мир посветлел для меня от ваших слов.
Несмотря на отказ, Буш повторил свое предложение и даже пытался настаивать, но Хорнблауэр был непреклонен. Может быть из-за того, что Буш так сильно расстроился, Хорнблауэр, чтоб его ободрить, сообщил еще кое-что.
— Все не так плохо, как кажется, — сказал он. — Вы не поняли, я ведь получаю постоянное жалование от нашего друга маркиза.
— Этого я не знал, — заметил Буш.
— Полгинеи в неделю, — объяснил Хорнблауэр. — Десять шиллингов и шесть пенсов каждое субботнее утро независимо от погоды.
— И что вы должны за это делать? — спросил Буш. Сам он получал в два раза больше.
— Играть в вист, — объяснил Хорнблауэр. — И больше ничего. С полудня до двух часов ночи я должен быть здесь и играть с любыми тремя, которым понадобится четвертый.
— Ясно, — сказал Буш.
— Маркиз также любезно пускает меня в эти комнаты бесплатно. Мне не приходится платить членский взнос. Не приходится платить за карточный стол. И я оставляю себе выигрыши.
— И платите проигрыши?
Хорнблауэр пожал плечами.
— Естественно. Но я проигрываю не так часто. Причина понятна. Те игроки в вист, кому трудно заполучить партнеров, кого остальные избегают — естественно, плохие игроки. Как ни странно, им очень хочется играть. И когда маркиз видит, что майор Джонс, адмирал Смит и мистер Робинсон ищут четвертого, а все остальные делают вид, что страшно заняты, он ловит мой взгляд и смотрит на меня укоризненно, знаете, как жена смотрит на мужа, который слишком громко говорит за обедом. Я встаю и предлагаю сесть четвертым. Как ни странно, им лестно играть с Хорнблауэром, хотя это стоит им денег.
— Ясно, — сказал Буш и вспомнил, как Хорнблауэр стоял у печи в форте Самана, готовясь обстрелять испанских каперов калеными ядрами.
— Естественно, эта жизнь тоже не сахар, — продолжал Хорнблауэр: начав говорить, он должен был теперь выговориться. — Часа через четыре игра с плохими партнерами начинает раздражать. Я не сомневаюсь, что, когда я попаду в ад, меня в наказание за грехи заставят играть с партнером, который не обращает внимания на мой ренонс. Но в таком случае я играю роббер-другой с хорошими игроками. Бывают моменты, когда я лучше проиграю хорошему игроку, чем выиграю у плохого.
— Вот и я про то же. — Буш вернулся к старой теме. — Как насчет проигрышей?
Опыт Буша-картежника состоял в основном из проигрышей и сейчас, принужденный экономить, он помнил былую слабость.
— Я с ними справляюсь. — Хорнблауэр коснулся нагрудного кармана. — Здесь у меня десять фунтов. Резервный полк. Я могу выдержать серию последовательных проигрышей. Если резерв истощается, приходится идти на жертвы, чтоб его восполнить.
Идти на жертвы значит отказывать себе в еде, мрачно подумал Буш. Он выглядел таким убитым, что Хорнблауэр поспешил его успокоить.
— Через пять месяцев, — сказал он, — я начну получать половинное жалование. А до тех пор… кто знает. Какой-нибудь капитан может взять меня в море.
— Это верно, — ответил Буш.
Это было верно в том смысле, что возможность такая существовала. Иногда корабли заново набирали команду. Капитану может понадобиться лейтенант, капитан может пригласить Хорнблауэра на вакантное место. Но любого капитана осаждают безработные друзья, а при этом Адмиралтейство осаждают лейтенанты с большим стажем — или лейтенанты с большими связями — и капитан скорее всего прислушается к рекомендациям высокого начальства.
Дверь открылась и вошли несколько человек.
— Сейчас начнут собираться посетители, — сказал Хорнблауэр, улыбаясь Бушу. — Познакомьтесь с моими друзьями.
Красные армейские, синие флотские мундиры, коричневые сюртуки штатских. Представив Буша, Хорнблауэр подвинулся, пропуская гостей к огню. Все столпились у камина, наклоняясь вперед, так что полы их сюртуков разошлись. Но восклицания насчет холода и первые вежливые фразы быстро смолкли.
— Вист? — спросил кто-то из новоприбывших.
— Не для меня. Не для нас, — объявил другой, старший из офицеров в красных мундирах. — У двадцать девятого пехотного есть дельце поважнее. У нас постоянная договоренность с нашим другом маркизом в соседней комнате. Идемте, майор, посмотрим, сможем ли мы на этот раз угадать число очков.
— Тогда вы составите нам компанию, мистер Хорнблауэр? Как насчет вашего друга, мистера Буша?
— Я не играю, — сказал Буш.
— С удовольствием, — ответил Хорнблауэр. — Я знаю, мистер Буш, вы меня простите. Здесь на столе несколько номеров «Военно-морских хроник». На последней странице письмо, которое может привлечь ваш интерес. И еще одна заметка, которую вы можете счесть важной.
Буш догадался, о каком письме идет речь, раньше, чем взял в руки журнал, но все равно найдя его, испытал радостный шок, увидев свое имя напечатанным — «Честь имею, и т. д. У. Буш».
«Военно-морские хроники» в эти мирные дни не знали чем заполнить свои страницы, и потому перепечатывали старые депеши. «Копия письма вице-адмирала сэра Ричарда Ламберта Эвану Непину, эсквайру, секретарю Адмиралтейского совета». Краткое сопроводительное письмо Ламберта, за ним донесения. Вот первое — Буш со странным чувством вспомнил, как помогал Бакленду составлять его на идущей к западу «Славе» за день до восстания пленных. Это было донесение Бакленда о взятии Саманы. Для Буша самая важная строчка была: «…наилучшим образом под руководством лейтенанта Уильяма Буша, чье донесение я прилагаю». А вот и его собственный литературный труд:
Его Величества судно «Слава»
по пути от Санто-Доминго,
9 января 1802 года.
Сэр, имею честь сообщить вам…
Перечитывая свои слова, Буш заново переживал события прошлого года: эти строчки дались ему с огромным трудом, хотя, составляя их, он справлялся с чужими донесениями, подыскивая нужные обороты.
«Не могу закончить это донесение, не упомянув мужественное поведение и весьма полезные предложения лейтенанта Горацио Хорнблауэра, моего заместителя, которому мы в значительной степени обязаны своим успехом».
А теперь Хорнблауэр играет в карты с капитаном и двумя подрядчиками.
Буш просматривал страницы «Военно-морских хроник». Вот письмо из Плимута, ежемесячный отчет обо всем, происшедшем в порту. «Поступили приказы следующим судам списать команду…», «Из Гибралтара прибыли „Ла Диана“, 44 и „Тамара“, 38, для списания команды и постановки на прикол», «Цезарь», 80, отплыл в Портсмут для списания команды…», «Вчера была большая распродажа корабельных припасов с нескольких военных судов». Флот сокращается с каждым днем, и с каждого списавшего команду судна поступает новая партия безработных лейтенантов. «Сегодня вечером в сильное волнение перевернулась рыбачья лодка. В результате этого несчастного случая утонули два усердных рыбака, отцы больших семейств». И это «Военно-морские хроники», чьи страницы когда-то украшали вести о Ниле и Кампердауне, теперь они сообщают о несчастных случаях с усердными рыбаками. Буш был слишком занят своими мыслями, чтоб посочувствовать их большим семействам.
В конце снова сообщалась об утопленниках — упомянутое имя привлекло внимание Буша, и он с участившимся пульсом прочел абзац.
Вчера ночью ялик с Его Величества тендера «Быстроходный», находящегося на таможенной службе, возвращаясь в тумане с сообщениями на берег, был брошен приливной волной на якорный канат торгового судна, стоящего на якоре возле Рыбачьего Носа, и перевернулся. В результате утонули два матроса и мистер Генри Вэйлард, мичман. Мистер Вэйлард был многообещающим молодым офицером, назначенным на «Быстроходный» после того, как отслужил волонтером на «Славе».
Буш прочел абзац и глубоко задумался. Он произвел на него такое впечатление, что все остальное Буш прочитал, не вникая в смысл. Закрыв журнал, он с удивлением обнаружил, что надо поторапливаться, если он хочет успеть на почтовую карету в Чичестер.
В «Комнатах» собралось уже порядочно народу; двери то и дело открывались, впуская новых посетителей. Кое с кем из флотских офицеров Буш был шапочно знаком. Все они, прежде чем садиться играть, шли прямо к огню. Хорнблауэр встал: видимо, роббер закончился. Воспользовавшись случаем, Буш поймал его взгляд и показал, что собирается уходить. Хорнблауэр подошел к нему. Они с сожалением пожали друг другу руки.
— Когда мы встретимся снова? — спросил Хорнблауэр.
— Я каждый месяц приезжаю за половинным жалованием, — сказал Буш. — Я обычно провожу здесь ночь из-за почтовой кареты. Может, нам удастся пообедать?..
— Вы всегда найдете меня здесь, — сказал Хорнблауэр. — Но… вам есть где остановиться?
— Я останавливаюсь, где придется, — ответил Буш. Оба знали: это значит, что он останавливается, где дешевле.
— Я снимаю комнату на Хайбери-стрит. Я запишу вам адрес. — Хорнблауэр повернулся к стоявшему в углу столику, записал на бумажке адрес и вручил Бушу. — Может, вы разделите со мной комнату, когда приедете в следующий раз. Хозяйка у меня суровая. Она, конечно, заломит с вас за койку, но даже так…
— … будет дешевле, — закончил Буш, убирая бумажку в карман. Он широко улыбнулся, чтобы скрыть чувства побудившие его сказать: — Я хоть побольше с вами пообщаюсь.
— Да, конечно, — ответил Хорнблауэр. Ничего не значащие слова.
Бесшумно подошел Дженкинс, держа в руках бушлат. Что-то в поведении Дженкинса подсказало Бушу, что джентльмены, которым он подает пальто в «Длинных Комнатах», дают ему на чай шиллинг. Буш сначала решил про себя, что скорее умрет, чем расстанется с шиллингом, потом переменил решение. Может быть, если он не даст Дженкинсу шиллинга, это придется сделать Хорнблауэру. Он полез в карман и вытащил монетку,
— Спасибо, сэр, — сказал Дженкинс. Он стоял близко, и Буш выжидал, не зная, как сформулировать свой вопрос.
— Как же не повезло молодому Вэйларду, — сказал он задумчиво.
— Да, — согласился Хорнблауэр.
— Как вы думаете, — с отчаянной решимостью спросил Буш, — он имел какое-то отношение к тому, что капитан свалился в люк?
— Не берусь сказать, — ответил Хорнблауэр. — Я слишком мало об этом знаю.
— Но… — начал Буш и тут же себя одернул. По лицу Хорнблауэра он понял, что дальше спрашивать бесполезно.
В комнату вошел маркиз и ненавязчиво оглядывал ее. Буш заметил, что от его взгляда не ускользнули ни несколько не играющих посетителей, ни Хорнблауэр, без дела болтающий у двери. Маркиз бросил на Хорнблауэра многозначительный взгляд, и Буш вдруг запаниковал.
— До свидания, — поспешно сказал он. Пронизывающий северо-восточный ветер, встретивший его на улице, был не более жесток, чем весь остальной мир.
XIX
Низенькая женщина с мрачным лицом открыла дверь на стук Буша и, когда тот спросил Хорнблауэра, посмотрела на него еще мрачнее.
— На самом верху, — сказала она наконец и оставила Буша самого искать дорогу.
Хорнблауэр искренне обрадовался. Лицо его осветилось улыбкой, пожав Бушу руку, он провел его в комнату. То была мансарда с круто скошенным потолком: в ней стояли кровать, ночной столик и один деревянный стул. Больше ничего беглый взгляд Буша не обнаружил.
— Как ваши дела? — спросил Буш, садясь на предложенный стул. Хорнблауэр сел на кровать.
— Неплохо, — ответил Хорнблауэр. Помедлил он виновато перед ответом, или нет? В любом случае, он быстро задал контрвопрос: — А ваши?
— Так себе, — ответил Буш.
Они немного поболтали. Хорнблауэр расспрашивал про домик в Чичестере, где жил с сестрами Буш.
— Надо позаботиться о вашей постели, — сказал Хорнблауэр. — Я спущусь и позову миссис Мейсон.
— Я пойду с вами.
Жизнь у миссис Мейсон была тяжелая, это ясно; она долго обдумывала предложение, прежде чем согласилась.
— Шиллинг за постель, — сказала она. — Мне мыло для стирки простынь дороже станет.
— Ладно, — согласился Буш.
Он увидел протянутую руку миссис Мейсон и вложил в нее шиллинг — можно не сомневаться, что миссис Мейсон твердо решила заранее получить плату с Хорнблауэрова приятеля. Хорнблауэр, увидев ее жест, полез в карман, но Буш его опередил.
— И вы будете болтать всю ночь, — сказала миссис Мейсон. — Извольте не беспокоить других джентльменов. И погасите свет, когда будете болтать, не то сала сожжете больше, чем на шиллинг.
— Хорошо, — сказал Хорнблауэр.
— Мария! Мария! — позвала миссис Мейсон. На крик из глубины дома вышла молодая — нет, не очень молодая женщина.
— Да, мама.
Мария выслушала наставления миссис Мейсон, как соорудить временную постель в комнате мистера Хорнблауэра.
— Да, мама.
— Вы сегодня не в школе, Мария? — любезно спросил Хорнблауэр.
— Нет, сэр. — На ее некрасивом лице появилась улыбка — она явно обрадовалась, что к ней обращаются.
— День восстановления монархии? Нет еще. И не день рождения короля. Почему же нет занятий?
— Свинка, сэр, — сказала Мария. — У них у всех свинка, кроме Джонни Бристоу.
— Это согласуется со всем, что я слышал о Джонни Бристоу, — заметил Хорнблауэр.
— Да, сэр. — Мария снова улыбнулась. Ей явно льстило что Хорнблауэр не только шутит с ней, но и помнит, что она рассказывала об учениках.
Вернувшись в мансарду, Хорнблауэр и Буш продолжили разговор. Теперь они беседовали о более серьезных вещах. Их занимало положение дел в Европе.
— Этот Бонапарт, — сказал Буш, — какой-то неуемный.
— Верно сказано, — согласился Хорнблауэр.
— Чего ему не хватает? В 96-ом — я служил тогда на «Превосходном» в Средиземноморском флоте (тогда меня и произвели в лейтенанты) — он был простым генералом. Помню, первый раз я услышал это имя во время блокады Тулона. Тогда был его поход на Египет. Теперь он первый консул — так он себя называет?
— Да. Но теперь он Наполеон, а не Бонапарт. Пожизненный первый консул.
— Смешное имя. Я бы себе такого не выбрал.
— Лейтенант Наполеон Буш, — сказал Хорнблауэр. — Это бы неплохо звучало.
Они посмеялись над этим нелепым сочетанием.
— В «Военно-морских хрониках» пишут, что он на этом не остановится, — продолжал Хорнблауэр. — Ходят разговоры, что скоро он объявит себя императором.
— Императором!
Даже Буш уловил дополнительный оттенок в этом титуле, его претензию на мировое господство.
— Он что, сумасшедший? — спросил Буш.
— Если так, то он самый опасный безумец в Европе.
— Не верю я ему в этом мальтийском деле. Вот ни столечко не верю, — выразительно сказал Буш. — Попомните мои слова, скоро мы снова с ним схлестнемся. Мы его так отделаем, что он век этого не забудет. Раньше или позже. Так продолжаться не может.
— Я думаю, вы совершенно правы, — сказал Хорнблауэр. — И скорее раньше, чем позже.
— Тогда… — начал Буш.
Он не мог говорить и думать одновременно, особенно теперь, когда мысли его пришли в такое смятение. Война с Францией означала, что флот будет расширен до прежних размеров, угроза вторжения и необходимость охранять торговые корабли заставит взять на действительную службу любое суденышко, способное держаться на воде и нести хотя бы одну пушку. Значит, прощай половинное жалованье: он снова будет ступать по палубе, вести судно под парусами. Снова тяготы, опасности, заботы, однообразие — все, что несет с собой война. Мысли потоком проносились в его сознании, кружились водоворотом, в котором хорошее сменялось плохим, поочередно ускользая от внимания.
— Война штука грязная, — мрачно сказал Хорнблауэр. — Вспомните.
— Я думаю, вы правы, — ответил Буш, не было необходимости уточнять. Все равно замечание было неожиданное. Хорнблауэр улыбнулся, снимая напряжение.
— Ладно, — сказал он. — Бони может называть себя императором, если хочет. Я же должен отрабатывать свои полгинеи в «Длинных Комнатах».
Буш хотел воспользоваться случаем и спросить Хорнблауэра, как идут его дела, но ему помешал раздавшийся шум, затем стук в дверь.
— Вот и ваша постель, — сказал Хорнблауэр, вставая, чтобы открыть дверь.
Мария втащила вещи и улыбнулась.
— Сюда или сюда? — спросила она.
Хорнблауэр посмотрел на Буша.
— Без разницы, — сказал Буш.
— Тогда сюда, к стене.
— Дайте я помогу, — сказал Хорнблауэр.
— Ой, нет. Пожалуйста, сэр, я сама.
Внимание смутило Марию — и Буш видел, что при ее коренастой фигуре она в помощи не нуждается. Чтобы скрыть смущение, Мария принялась убирать подушки в наволочки.
— Надеюсь, у вас уже была свинка, Мария? — спросил Хорнблауэр.
— О да, сэр. В детстве, на обоих ушах.
От работы и смущения щеки ее раскраснелись. Короткими, но ловкими пальцами она расстелила простыню. Тут она остановилась — ей почудилось, что в вопросе Хорнблауэра был еще один смысл.
— Вам нечего беспокоиться, сэр. Я не заражу вас, даже если вы сами и не болели.
— Я об этом не думал, — сказал Хорнблауэр.
— Ой, сэр, — ответила Мария, с математической точностью расправляя простыню. Она постелила одеяло и только после этого снова посмотрела на Хорнблауэра. — Вы прямо сейчас выходите?
— Да. Я должен был уже выйти.
— Дайте мне на минуточку ваш сюртук, сэр. Я его почищу.
— Нет. Я не позволю вам хлопотать из-за меня, Мария.
— Какие хлопоты, сэр. Разве это хлопоты? Пожалуйста, позвольте мне. Он так выглядит…
— Он выглядит ужасно, — сказал Хорнблауэр, оглядывая свой сюртук. — Лекарства от старости еще не придумали.
— Пожалуйста, дайте мне его, сэр. Внизу есть нашатырный спирт. Увидите, он поможет.
— Но…
— Ну пожалуйста, сэр.
Хорнблауэр неохотно расстегнул пуговицу.
— Я вернусь через две минуты, — сказала Мария, поспешно подходя к нему. Она протянула руку к следующей пуговице, но быстрые нервные пальцы Хорнблауэра опередили ее. Он стянул сюртук, она взяла его у него из рук.
— Вы сами залатали эту рубашку, — укоризненно сказала Мария.
— Да, залатал.
Хорнблауэр, уличенный в ношении ветхой рубашки, немного смутился. Мария изучала заплатку.
— Если бы вы меня попросили, сэр, я бы вам зашила.
— И гораздо лучше, без сомнения.
— Я совсем не это хотела вам сказать. Не годится, чтоб вы латали свои рубашки.
— Чьи же я должен тогда латать?
Мария хихикнула.
— Мне за вами не угнаться, — сказала она. — Теперь подождите здесь и поговорите с лейтенантом, пока я почищу сюртук.
Она стремглав выбежала из комнаты и застучала каблуками по лестнице. Хорнблауэр виновато посмотрел на Буша.
— Как это ни странно, — сказал он, — но приятно сознавать, что кому-то есть до тебя дело. Что в этом приятного — тема для философа.
— Наверно, — сказал Буш. Он привык, что сестры постоянно его опекают, и принимал это как должное. Он услышал, что церковные часы пробили четверть, и мысли его вернулись к делам.
— Вы сейчас в «Длинные Комнаты»? — спросил он.
— Да. А вы, полагаю, в док? Ежемесячный визит к уполномоченному по делам оплаты? Если хотите, до «Длинных Комнат» пойдем вместе. Как только Мария вернет мне сюртук.
— Я так и собирался, — сказал Буш.
Вскоре Мария опять постучала в дверь.
— Готово, — сказала она, держа сюртук. — Он теперь совсем свежий.
Но что-то в ней переменилось. Она казалась чуть-чуть напуганной.
— Что с вами, Мария? — спросил Хорнблауэр, чуткий к смене настроений.
— Ничего. Со мной ничего, — сказала Мария и тут же переменила тему. — Надевайте сюртук, не то опоздаете.
На Хайбери-стрит Буш задал давно тревоживший его вопрос — везет ли Хорнблауэру в «Комнатах»?
Хорнблауэр смутился.
— Не так, как хотелось бы, — ответил он.
— То есть плохо.
— Довольно плохо. Если у меня короли, у противника оказываются тузы, готовые на убийство монарха. А если у меня тузы, то с королей идет противник, сидящий за мной, и его короли, рискнув выбраться из укрытия, преодолевают все опасности и берут взятки. В достаточно длинной последовательности игр шансы математически выравниваются. Но периоды, когда они отклоняются не в ту сторону, угнетают.
— Ясно, — сказал Буш, хотя ему было совсем не ясно. Но одно он понял: Хорнблауэр проигрывает. Он знал Хорнблауэра. Если Хорнблауэр говорит так беспечно, значит, он озабочен сильнее, чем хотел бы показать.
Они дошли до «Длинных Комнат» и остановились у дверей.
— Зайдете за мной на обратном пути? — спросил Хорнблауэр, — На Боад-стрит есть харчевня, там подают дежурное блюдо за четыре пенса. С пудингом шесть пенсов. Хотите попробовать?
— Да, конечно. Спасибо. Удачи, — сказал Буш и помедлил, прежде чем добавить. — Будьте осторожны.
— Я буду осторожен, — сказал Хорнблауэр и вошел в дверь.
Погода была совсем не такая, как в прошлый приезд Буша. Тогда стоял мороз, теперь в воздухе чувствовалось приближение весны. По дороге Буш увидел слева залив — мутная вода поблескивала в солнечном свете. В гавань с приливом входил шлюп, с плоской, без надстроек, палубой подгоняемый легкими порывами норд-оста. Наверно, депеши из Галифакса. Или деньги для Гибралтарского гарнизона. А может, подкрепление таможенным тендерам, у которых сейчас столько хлопот с хлынувшим после заключения мира потоком контрабанды. Как бы то ни было, там на борту счастливые лейтенанты — под ногами у них палуба, а в кают-компании ждет обед. Везет же некоторым. Буш ответил на приветствие привратника и вошел в док.
Вышел он уже после полудня и пошел к «Длинным Комнатам». Хорнблауэр сидел за столом в углу и улыбнулся при виде Буша. Свечи освещали его лицо. Буш нашел последние «Военно-морские хроники» и устроился читать. За его спиной несколько армейских и флотских офицеров приглушенными голосами обсуждали, как же трудно жить на одной планете с Бонапартом. В разговоре упоминались Мальта и Генуя, Санто-Доминго и испанские партизаны.
— Попомните мои слова, — сказал один, ударяя кулаком по ладони, — скоро опять будет война.
Послышался согласный гул.
— Воевать будем до победного, — добавил другой. — Уж если он доведет нас до крайности, мы не остановимся, пока не повесим мистера Наполеона Бонапарта на ближайшем дереве.
Все согласно зашумели. Это было похоже на звериный рык.
— Джентльмены, — сказал один из сидевших с Хорнблауэром игроков, оборачиваясь через плечо. — Не сочтете ли вы для себя удобным продолжить вашу беседу в дальнем конце комнаты. Этот конец предназначен для самой научной и сложной из всех игр.
Слова эти были произнесены приятным тенором, но говоривший, очевидно, не сомневался, что его немедленно послушаются.
Буш присмотрелся и узнал говорившего, хотя видел его последний раз лет шесть назад. Это был адмирал лорд Парри, ставший пэром после Кампердауна, теперь он один из членов Адмиралтейского совета, один из тех, кто может возвысить или погубить флотского офицера. Грива снежно-белых кудрей окаймляла лысину и гладкое старческое лицо; мягкая речь не вязалась с прозвищем «Старый Кащей», данным ему нижней палубой давным-давно во времена Американской войны. Хорнблауэр вращается в высоких кругах. Буш наблюдал, как Парри белой худощавой рукой подснимает Хорнблауэру колоду. Судя по цвету кожи, он, как и Хорнблауэр, давно не был в море. Хорнблауэр сдал, и игра продолжалась в парализующей тишине. Карты почти беззвучно падали на зеленое сукно, и каждая взятка складывалась на место с легким, почти неслышным стуком. Цепочка взяток перед Парри вытягивалась в длинную змею, бесшумно, как переползающая через камень змея, она свернулась и снова вытянулась. Партия закончилась, карты смешали.
— Малый шлем, — сказал Парри, и игроки в молчании занялись своими мелками. Два тихих слова прозвучали так же отчетливо, как две склянки полуденной вахты. Хорнблауэр подснял колоду, и следующий за ним игрок раздал карты; игра продолжалась все в той же медлительной тишине. Буш не видел в ней ничего завораживающего. Сам он предпочел бы игру, где можно горевать о проигрыше и шумно радоваться выигрышу, желательно, чтоб выигравшего, определяла одна карта, а не все пятьдесят две. Нет, он не прав. Было в этом свое ядовитое очарование. Опиум? Нет. Эта молчаливая игра походила на тихий звон скрещиваемых шпаг, так не похожий на грохот ударяющий друг о друга абордажных сабель, но такой же смертоносный. Шпага, пронзающая легкие, убивает так же — нет, вернее, чем абордажная сабля.
— Короткий роббер, — заметил Парри. Молчание было нарушено, карты в беспорядке лежали на столе.
— Да, милорд, — сказал Хорнблауэр.
Буш, все примечавший внимательным взглядом, заметил, как Хорнблауэр запустил руку в нагрудный карман и вытащил тонкую пачку однофунтовых бумажек. Буш заметил также, что, когда он расплатился, в карман вернулась одна-единственная бумажка.
— Фортуна необычайно жестока к вам, — заметил Парри, пряча выигрыш. — Те два раза, что вы сдавали, вскрытый вами козырь оказывался у вас единственным. Не припомню случая, чтоб сдающему дважды подряд доставался единственный козырь.
— Если играть достаточно долго, милорд, — сказал Хорнблауэр, — может выпасть любая мыслимая комбинация карт.
Он говорил с вежливым безразличием, которое заставило Буша на минуту подумать, что, может, проигрыш не так и велик. Тут он вспомнил одинокую бумажку, которую Хорнблауэр сунул в карман.
— И все же редко приходится наблюдать такое устойчивое невезенье, — сказал Парри. — При том, что играете вы превосходно, мистер… простите, пожалуйста, но ваша фамилия ускользнула от меня, когда нас представляли.
— Хорнблауэр, — сказал Хорнблауэр.
— Ах да, конечно. Почему-то ваша фамилия мне знакома.
Буш быстро взглянул на Хорнблауэра. Никогда не было у того такой прекрасной возможности напомнить члену Адмиралтейского совета, что его не утвердили в звании капитан-лейтенанта.
— Когда я был мичманом, милорд, — сказал Хорнблауэр, — меня укачало на якорной стоянке в Спитхеде. Я полагаю, об этом говорили.
— Похоже, я слышал о вас по какому-то другому поводу, — ответил Парри. — Но мы отвлеклись от того, что я собирался сказать. Я собирался выразить сожаление, что не могу немедленно дать вам реванш, хотя был бы счастлив случаю вновь наблюдать вашу игру.
— Вы слишком добры, — сказал Хорнблауэр, и Буш сморгнул. Он моргал с тех самых пор, как Хорнблауэр сознательно упустил такую блестящую возможность. В последних словах чувствовалась ироничная горечь, и Буш боялся, как бы адмирал ее ни заметил. Но к счастью, адмирал знал Хорнблауэра не так хорошо, как Буш.
— К сожалению, — сказал Парри, — я обедаю с адмиралом Ламбертом.
Это совпадение заставило Хорнблауэра на минуту стать человеком.
— С адмиралом Ламбертом, милорд?
— Да. Вы его знаете?
— Я имел честь служить под его началом на Ямайке. Вот мистер Буш, он командовал десантом со «Славы», добившимся капитуляции Санто-Доминго.
— Очень приятно, мистер Буш, — сказал Парри. Было очевидно, что если ему и приятно, то не чрезмерно. Член Адмиралтейского совета может почувствовать неловкость, когда ему представляют безработного лейтенанта с выдающимся послужным списком. Парри, не теряя времени, повернулся к Хорнблауэру.
— Я хотел бы, — сказал он, — убедить адмирала Ламберта вернуться сюда со мной после обеда, чтобы мы могли предложить вам реванш. Найдем мы вас здесь в таком случае?
— Сочту за честь, милорд. — Хорнблауэр поклонился, но Буш заметил, что он машинально потянулся пальцами к почти опустевшему нагрудному карману.
— Тогда не будете ли вы так любезны заключить предварительную договоренность? За адмирала Ламберта я ручаться не могу, но приложу все усилия, чтоб его убедить.
— Я обедаю с мистером Бушем, милорд. Но я последний, кто будет возражать.
— Значит мы, насколько можно, условились?
— Да, милорд.
Парри удалился в сопровождении флаг-адъютанта (тот сидел за столом четвертым) с достоинством и торжественностью, которые пристали пэру, адмиралу и члену Адмиралтейского совета. Хорнблауэр широко улыбнулся Бушу.
— Как вы думаете, не пора ли и нам пообедать? — спросил он.
— Пора, — ответил Буш.
Харчевню на Боад-стрит держал одноногий моряк. Помогал ему сын-подросток. Два лейтенанта уселись на дубовые скамьи у низкого дубового стола, поставили ноги в опилки и заказали обед.
— Эль? — спросил мальчик.
— Нет. Эля не надо, — сказал Хорнблауэр.
Поведение мальчика недвусмысленно показывало, что он думает о флотских джентльменах, которые едят четырехпенсовое дежурное блюдо и ничем его не запивают. Он швырнул на стол тарелки с едой: вареное мясо (мяса было немного), картошка, морковка, пастернак, перловка и пол-ложки горохового пудинга — все это плавало в жидкой подливке.
— Но голод утоляет, — сказал Хорнблауэр.
Может так оно и было, но Хорнблауэр, судя по всему, уже давно не утолял голод. Он начал есть с напускным безразличием, но с каждой ложкой аппетит его рос, а выдержка ослабевала. С невероятной быстротой он опорожнил тарелку, начисто вытер ее хлебом и съел хлеб. Буш и сам ел не медленно, и для него оказалось неожиданностью, что Хорнблауэр съел все подчистую, а его тарелка только наполовину пуста. Хорнблауэр нервно засмеялся.
— Когда ешь один, появляются дурные привычки, — сказал он. Неловкое объяснение — он был явно смущен.
Чтобы исправить впечатление, Хорнблауэр с величественным видом откинулся на спинку скамьи и в довершение картины сунул руки в боковые карманы сюртука. Вдруг он изменился в лице. Щеки, и без того не пышущие румянцем, побелели совсем. В глазах появился испуг, даже ужас. Буш встревожился: он решил, что у Хорнблауэра удар, и только после этой первой мысли связал перемену в лице своего друга с тем, что тот сунул руки в карманы. Но даже человек, обнаруживший в кармане змею, не придет в такой дикий ужас.
— В чем дело? — спросил Буш. — Бога ради…
Хорнблауэр медленно вытащил из кармана правую руку. Некоторое время он держал ее зажатой, потом медленно-медленно, неохотно, как человек, боящийся своей судьбы, разогнул пальцы. Ничего страшного — на ладони у него лежала серебряная монетка.
— Не из-за чего переживать, — сказал Буш в полном изумлении. — Я и сам был бы не прочь найти в кармане полкроны.
— Но… но… — запинался Хорнблауэр.
Буш начал о чем-то догадываться.
— Сегодня утром ее здесь не было, — сказал Хорнблауэр и улыбнулся прежней горькой улыбкой. — Я слишком хорошо знаю, какие монеты у меня в кармане.
— Еще бы, — согласился Буш, но даже теперь, припомнив утренние события и сделав очевидные умозаключения, он не понимал, из-за чего Хорнблауэр так разволновался. — Это та баба тебе подложила?
— Да, Мария, — сказал Хорнблауэр. — Это ее деньги. Для этого она и взяла чистить мой сюртук.
— Добрая душа, — заметил Буш.
— О, Господи, — простонал Хорнблауэр. — Но я не могу… не могу…
— Но почему же нет? — Буш искренне недоумевал.
— Нет, — сказал Хорнблауэр. — Это… это… Лучше б она этого не делала. Бедная девушка.
— «Бедная девушка», черт возьми! — воскликнул Буш. — Она просто хотела сделать вам приятное.
Хорнблауэр некоторое время глядел на него, ничего не говоря, потом безнадежно махнул рукой, словно поняв, что никогда не заставит Буша взглянуть на дело со своей точки зрения.
— Думать вы можете, что хотите, — упрямо сказал Буш, не собираясь сдаваться, — но незачем вести себя так, словно только что высадились французы, из-за того, что девушка сунула вам в карман полкроны.
— Как же вы не понимаете… — начал Хорнблауэр и бросил всякие попытки объясниться. Под изумленным взглядом Буша он взял себя в руки. Страдание исчезло с его лица, сменившись прежним непроницаемым выражением, как если бы Хорнблауэр опустил на лицо забрало.
— Очень хорошо, — сказал он. — Мы используем эти полкроны в полной мере, клянусь Богом!
Он постучал по столу.
— Эй!
— Да, сэр.
— Пинту вина. Пусть кто-нибудь сбегает и купит ее немедленно. Пинту вина — портвейна.
— Да, сэр.
— Какой сегодня пудинг?
— На нутряном жире с коринкой.
— Хорошо. Давайте пудинг. Обоим. И полейте его вареньем.
Чего Буш не ожидал, так это, что Хорнблауэр отодвинет тарелку с большим недоеденным ломтем пудинга. И он лишь разок куснул сыр, даже не распробовав его вкус. Хорнблауэр поднял стакан, Буш последовал его примеру.
— За прелестную леди, — сказал Хорнблауэр. Они выпили, и Хорнблауэр беспечно подмигнул Бушу. Это Буша обеспокоило, и он сказал себе, что устал от Хорнблауэровых вспышек. Он решил сменить тему, гордясь, как тактично ему это удалось.
— За успешный вечер, — сказал он, в свою очередь поднимая стакан.
— Своевременный тост, — заметил Хорнблауэр.
— Вы можете еще играть? — спросил Буш.
— Естественно.
— И выдержите еще ряд проигрышей?
— Еще роббер я проиграть могу, — ответил Хорнблауэр.
— Ох.
— С другой стороны, если я выиграю первый, я смогу позволить себе два проигрыша. А если я выиграю первый и второй, я спокойно могу проиграть следующие три.
— Ох.
Это звучало не слишком обнадеживающе, а сверкающие глаза на каменном лице и вовсе выводили Буша из равновесия. Он заерзал и решил снова переменить разговор.
— «Гастингс» снова берут на действительную службу, — сказал он. — Вы слышали?
— Да. Три лейтенанта, все трое выбраны два месяца тому назад.
— Боюсь, что так.
— Но придет и наше время, — сказал Хорнблауэр. — Выпьем за это.
— Как вы думаете, приведет Парри Ламберта в «Длинные Комнаты»? — спросил Буш, отрывая от губ стакан.
— Не сомневаюсь, — ответил Хорнблауэр. Он снова забеспокоился.
— Мне скоро надо будет возвращаться, — сказал он. — Парри может поторопить Ламберта.
— Наверно, — согласился Буш, собираясь вставать.
— Если вы хотите, можете со мной не ходить, — заметил Хорнблауэр. — Вам, наверно, скучно сидеть там без дела.
— Ни за что на свете не откажусь, — сказал Буш.
XX
В «Длинных Комнатах» было людно. Почти за каждым столом во внешней комнате сосредоточено играли в серьезные игры, а из-за занавеса, отделявшего внутреннюю комнату, доносился беспрестанный гул — там играли шумно и азартно. Но для Буша, в тревоге стоявшего у огня, обмениваясь время от времени рассеянными репликами с подходившими и отходившими людьми, существовал лишь один стол, тот, за которым сидел Хорнблауэр в чрезвычайно изысканном обществе. Он играл с двумя адмиралами и полковником от инфантерии. Последний был толстый мужчина с лицом почти таким же красным, как его мундир. Его Парри привел вместе с Ламбертом. Флаг-адъютант, прежде игравший с Парри, был отодвинут теперь на роль наблюдателя и стоял рядом с Бушем, время от времени отпуская невразумительные замечания по ходу игры. Маркиз несколько раз заглядывал в комнату. Буш заметил, что он с одобрением останавливается взглядом на том же самом столе. Неважно, хотят ли играть другие, неважно, что правила комнаты позволяли любому из посетителей подсесть к столу по завершении роббера: компания, включавшая двух адмиралов и одного полковника, могла делать, что ей заблагорассудится.
К невероятному облегчению Буша Хорнблауэр выиграл первый роббер, хотя Буш, не понимая игры, не знал, кто выиграл, пока не смешали карты и не начали расплачиваться. Он увидел, как Хорнблауэр убирает деньги в нагрудный карман.
— Как было бы приятно, — сказал адмирал Парри, — если бы мы вернулись к прежним деньгам, правда? Если бы страна отказалась от этих грязных бумажек и восстановили старые добрые золотые гинеи?
— Да уж, — сказал полковник.
— Портовые акулы, — заметил Ламберт, — поджидают каждое судно, идущее из-за границы. Двадцать три шиллинга и шесть пенсов дают они за гинею, и можете быть уверены, она стоит больше.
Парри что-то вынул из кармана и положил на стол.
— Видите, Бони восстановил французские деньги, — сказал он. — Теперь это называется наполеонодор, поскольку он пожизненный почетный консул. Монета в двадцать франков — раньше мы звали ее луидор.
— «Наполеон, первый консул», — прочел полковник, с любопытством разглядывая монету, прежде чем положить ее на стол. — «Французская республика».
— Сплошное лицемерие, — заметил Парри. — Со времен Нерона не было худшей тирании.
— Мы ему покажем, — сказал Ламберт.
— Аминь, — заключил Парри и спрятал монету в карман. — Но мы отвлеклись от дела. Боюсь, это моя вина. Давайте снимем. А, на этот раз, полковник, вы мой партнер. Изволите сесть напротив меня? Забыл поблагодарить вас, мистер Хорнблауэр, вы — великолепный партнер.
— Вы слишком добры, милорд, — сказал Хорнблауэр, садясь на стул справа от адмирала.
Следующий роббер прошел в молчании.
— Я рад, что карты в конце концов смилостивились над вами, мистер Хорнблауэр, — сказал Парри. — Хотя наши онеры и уменьшили ваш выигрыш. Пятнадцать шиллингов, насколько я понимаю?
— Спасибо, — сказал Хорнблауэр, забирая деньги. Буш вспомнил, как Хорнблауэр говорил, что сможет проиграть три роббера, если выиграет два.
— По мне ставки чертовски малы, — сказал полковник. — Может увеличим?
— Это решать обществу, — ответил Парри. — Я сам ничего не имею против. Полкроны вместо шиллинга? Давайте спросим мистера Хорнблауэра.
Буш с новой тревогой взглянул на друга.
— Как вам будет угодно, милорд, — сказал Хорнблауэр с напускным безразличием.
— Сэр Ричард?
— Не возражаю, — ответил Ламберт.
— Значит, полкроны взятка, — сказал Парри. — Слуга, новую колоду, пожалуйста.
Буш лихорадочно пересчитывал в уме, сколько проигрышей может позволить себе Хорнблауэр. Ставки почти утроились и будет плохо, если Хорнблауэр проиграет хотя бы один роббер.
— Снова мы с вами, мистер Хорнблауэр, — сказал Парри, глядя на карты. — Вы хотите остаться на прежнем месте?
— Мне безразлично, милорд.
— А мне нет, — сказал Парри. — Я еще не настолько стар, чтоб отказаться менять место в соответствии с выпавшей картой. Наши философы еще не доказали, что это вульгарный предрассудок.
Он поднялся со стула и сел напротив Хорнблауэра. Игра началась по новой, и Буш наблюдал с возросшей тревогой. Сначала обе стороны по очереди взяли нечетную взятку, потом он три раза подряд видел, как Хорнблауэр складывает перед собой большую часть взяток. Потом он потерял счет, но, наконец, с облегчением увидел, что роббер закончен, а у полковника всего две взятки.
— Превосходно, — сказал Парри. — Отличный роббер, мистер Хорнблауэр. Я рад, что вы решились взять козырем моего червового валета. Вам нелегко было на это решиться, но вы поступили совершенно правильно.
— И лишили меня захода, который я мог бы неплохо использовать, — заметил Ламберт. — Наши противники играли превосходно, полковник.
— Да, — согласился полковник без особого энтузиазма. — А мне дважды не приходило ни туза, ни короля, что позволило нашим противникам сыграть превосходно. Вы можете дать мне сдачи, мистер Хорнблауэр?
Полковник протянул Хорнблауэру пятифунтовую бумажку, которую тот убрал в нагрудный карман.
— По крайней мере, полковник, — сказал Парри, снимая колоду, — в этот раз вам снова достался в партнеры мистер Хорнблауэр.
Буш заметил, что стоящий рядом с ним флаг-адъютант наблюдает с растущим интересом.
— На нечетную взятку, клянусь Богом! — воскликнул он, когда вышли последние карты.
— Еле-еле проскочили, партнер. — К полковнику вернулось хорошее настроение. — Я надеялся, что вы придержите эту даму, но не был уверен.
— Фортуна к нам благоволила, — сказал Хорнблауэр.
Флаг-адъютант взглянул на Буша. По-видимому, он считал, что полковник, памятуя прежнюю игру Хорнблауэра, мог бы в нем не сомневаться. Теперь, когда он привлек внимание Буша к этому обстоятельству, тот решил, что и Хорнблауэр думает также — это можно было уловить в его голосе — но благоразумно не высказывает.
— Я проиграл роббер в пять фунтов десять шиллингов и выиграл в пятнадцать шиллингов, — сказал полковник, получая от Ламберта деньги. — Кто хотел бы увеличить ставки?
К чести двух адмиралов оба без слов посмотрели на Хорнблауэра.
— Как джентльменам угодно, — произнес Хорнблауэр.
— В таком случае я за, — сказал Парри.
— Тогда пять шиллингов взятка, — объявил полковник, — С такими ставками стоит играть.
— Играть всегда стоит, — возразил Парри.
— Да, милорд, — согласился полковник, но к прежним ставкам вернуться не предложил.
Теперь ставки были действительно серьезные. Буш подсчитал, что очень неудачный роббер может обойтись Хорнблауэру в двадцать фунтов, а дальнейшие расчеты привели его к выводу, что вряд ли у Хорнблауэра в нагрудном кармане больше двадцати фунтов. К его облегчению, Хорнблауэр и Ламберт легко выиграли следующий роббер.
— Удивительно приятный вечер, — сказал Ламберт, с улыбкой глядя на пригоршню полковничьих денег в своей руке. — Я не имею в виду меркантильную сторону.
— Приятный и поучительный, — согласился Парри, расплачиваясь с Хорнблауэром.
Игра шла все в том же молчании, лишь изредка прерываемом короткими замечаниями игроков между робберами. Один роббер Хорнблауэр проиграл, но, к счастью, он уже мог себе это позволить. Тем более роббер этот был дешевый, и Хорнблауэр тут же выиграл следующий, вернув больше, чем потерял. Выигрыш его рос, практически не убывая. Было поздно, Буш устал, но игроки не проявляли ни малейших признаков утомления, а флаг-адъютант стоял с тем философски-обреченным терпением, которое приобрел на нынешней своей должности; он знал, что никоим образом не может повлиять на решение своего адмирала, когда тому отправляться спать. Остальные посетители постепенно разошлись; позднее приоткрылся занавес, из-за него толпой вывалились игроки, одни шумные, другие притихшие. Появился маркиз. Он молча и невозмутимо наблюдал, как играются последние робберы, следил за тем, чтоб со свеч вовремя снимали нагар, чтоб без задержки приносили новые свечи, чтоб в нужный момент свежая колода оказалась наготове. Парри первый взглянул на часы.
— Полчетвертого, — заметил он. — Может быть, джентльмены…
— Слишком поздно ложиться спать, милорд, — ответил полковник. — Вы же знаете, нам с сэром Ричардом завтра рано вставать.
— Мои приказы отданы, — произнес Ламберт.
— И мои, — сказал полковник.
Буш отупел от долгого стояния в духоте, но ему показалось, что он уловил укоризненный взгляд, который Парри бросил на говоривших. Буш тщетно гадал, что за приказы отдали Ламберт с полковником, и почему Парри так не хочет, чтоб эти приказы упоминались. В голосе и поведении Парри чувствовался легчайший намек на поспешность, легчайший намек на желание сменить тему.
— Очень хорошо, значит, мы можем сыграть еще один роббер, если мистер Хорнблауэр не возражает.
— Ничуть, милорд.
Хорнблауэр был абсолютно невозмутим: если он и заметил что-то необычное в предыдущем разговоре, он этого не показывал. Хотя, возможно, он устал — Буш заподозрил это по той самой его невозмутимости. Буш теперь знал, что Хорнблауэр старательно скрывает человеческие слабости, как другие скрывают недостойное происхождение.
Хорнблауэру снова достался в партнеры полковник, и все в комнате почувствовали, что последний роббер играется еще более напряженно, чем предыдущие. Ни слова не произносилось между раздачами: подсчитывали, собирали взятки и снова сдавали в гробовом молчании. Счет был почти равный. Каждая взятка могла оказаться решающей, так что роббер тянулся медленно и мучительно. Флаг-адъютант и маркиз считали про себя, и, когда Ламберт взял последнюю взятку, шумно выдохнули. Полковник так разволновался, что нарушил молчание.
— Голова к голове, разрази меня гром, — сказал он. — Сейчас все решится.
Укором ему было каменное молчание, которым остальные встретили его слова. Парри просто взял карты, лежавшие справа от полковника, и дал Хорнблауэру подснять. Потом раздал, перевернул карту, показывая козыри — это был бубновый король. Полковник зашел. Некоторое время, упустив лишь одну взятку, Ламберт и Парри шли напролом. Шесть взяток лежало перед Парри и только одна перед Хорнблауэром. Еще одна взятка из оставшихся шести — и два адмирала выиграют роббер. Шансы пять к одному. Буш смирился с тем, что его друг проиграет последний роббер. Но следующую взятку взял полковник. Хорнблауэр пошел с бубнового туза, и тут же, не дожидаясь, пока остальные снесут, выложил последние три карты — бубновые дама и валет лежали у всех на виду.
— Роббер! — воскликнул полковник. — Мы выиграли, партнер! Я думал, мы проиграем.
Парри горестно оплакивал своего павшего короля.
— Я согласен, вы должны были пойти с туза, мистер Хорнблауэр, — сказал он, — но я был бы крайне вам обязан, если б вы сказали, откуда знали с такой точностью, что король у меня бланковый? Ведь оставались еще две бубны. Можно попросить вас, чтоб вы открыли секрет?
Хорнблауэр поднял бровь, удивляясь, что у него спрашивают такую очевидную вещь.
— Известно было, что у вас король, — сказал он. — Но ведь известно было, что у вас есть три трефы. Поскольку у вас оставалось всего четыре карты, ясно, что король не мог не быть бланковым.
— Превосходное объяснение, — сказал Парри. — Оно только подтверждает мое убеждение, что вы — великолепный игрок, мистер Хорнблауэр.
— Спасибо, милорд.
Загадочная улыбка Парри выражала дружелюбие. Если бы предыдущее поведение Хорнблауэра не завоевало еще симпатии Парри, это сделало бы последнее объяснение.
— Я запомню ваше имя, мистер Хорнблауэр, — сказал он. — Сэр Ричард уже объяснил, почему оно мне знакомо. Прискорбно, что политика экономии, навязанная Адмиралтейству Кабинетом, привела к тому, что вы не были утверждены в звании капитан-лейтенанта.
— Я думал, я один жалею об этом, милорд.
Буш снова заморгал: сейчас Хорнблауэру время заискивать перед высоким начальством, а не оскорблять его нескрываемой горечью. Такая встреча с Парри — невероятное везение, за которое любой флотский офицер на половинном жаловании не задумываясь отдал бы два пальца. Однако, взглянув на говоривших, Буш успокоился. Хорнблауэр улыбался с заразительным легкомыслием, Парри улыбался в ответ. То ли горечь ответа ускользнула от Парри, то ли она существовала только в воображении Буша.
— Я совершенно забыл, что я должен вам еще тридцать пять шиллингов, — вспомнил вдруг Парри. — Простите великодушно. Так, с денежными долгами я расквитался, за полученный опыт остаюсь у вас в долгу.
Хорнблауэр убрал в карман толстую пачку купюр.
— Надеюсь, вы поостережетесь грабителей по дороге домой, мистер Хорнблауэр, — сказал Парри, провожая пачку взглядом.
— Мистер Буш пойдет домой вместе со мной, милорд. Ни один грабитель не решится на него напасть.
— Этой ночью можно не бояться грабителей, — вмешался полковник.
Он многозначительно ухмыльнулся, двое других на мгновение нахмурились, услышав такое, на их взгляд, неосторожное высказывание, но полковник указал рукой на часы, и лица их тут же прояснились.
— Наши приказы вступают в силу в четыре, милорд, — сказал Ламберт.
— А теперь полпятого. Превосходно. В этот момент вошел флаг-адъютант — он выскользнул на улицу, когда доиграли последний роббер.
— Экипаж у дверей, милорд, — сказал он.
— Спасибо. Спокойной ночи, джентльмены.
Все пошли к дверям, на улице стоял экипаж. Два адмирала, полковник и флаг-адъютант забрались в него. Хорнблауэр и Буш взглядами проводили экипаж.
— Что это за приказы, которые вступают в силу в четыре? — спросил Буш.
Небо над крышами домов начинало светлеть.
— Бог их знает, — ответил Хорнблауэр. Они шли к углу Хайбери-стрит.
— Много вы выиграли?
— Больше сорока фунтов. Что-то около сорока пяти, — ответил Хорнблауэр.
— Неплохо.
— Да. Шансы всегда со временем выравниваются. — Голос его звучал на удивление вяло. Хорнблауэр прошел несколько шагов и вдруг взорвался: — Господи, если бы это случилось на прошлой неделе! Даже вчера!
— Но почему?
— Девушка. Бедная девушка.
— О, Господи! — сказал Буш. Он совершенно забыл и про Марию, и про ее полкроны. Ему было странно, что Хорнблауэр не забыл. — Зачем тревожиться о таких пустяках?
— Не знаю, — сказал Хорнблауэр и прошел еще два шага. — Но тревожусь.
Буш не успел обдумать это странное признание: он услышал звук, заставивший его в волнении ухватить Хорнблауэра за локоть.
— Послушайте!
Впереди, на тихой улочке, слышалась тяжелая, военная поступь. Звуки приближались. Брезжащий предутренний свет отражался от медных пуговиц и белых перевязей. Это военный патруль с ружьями на плечо. Рядом шел сержант с нашивками и короткой пикой.
— Что за черт… — начал Буш.
— Стой! — скомандовал солдатам сержант, потом обратился к Хорнблауэру с Бушем. — Могу я спросить у джентльменов, кто они такие?
— Мы флотские офицеры.
В свете своего фонаря сержант сразу не разглядел. Теперь он вытянулся по стойке «смирно».
— Спасибо, сэр, — сказал он.
— Что делает ваш патруль, сержант? — спросил Буш.
— У меня приказ, сэр, — ответил сержант. — Прошу прощения, сэр. Левой — марш!
Патруль зашагал дальше, и сержант, проходя мимо, отсалютовал пикой.
— Что это значит, во имя всего святого! — дивился Буш. — Не мог же Бони неожиданно высадиться. Тогда бы все колокола звонили. Можно подумать, идет вербовка, настоящая вербовка. Но не может же этого быть!
— Смотрите! — сказал Хорнблауэр.
По улице двигался еще один отряд, но не в красных мундирах и без военной выправки. Клетчатые рубахи, синие штаны; впереди шагал мичман с белыми нашивками на воротнике и с кортиком на боку.
— Это и впрямь вербовочный отряд! — воскликнул Буш. — Посмотрите на их дубинки!
Каждый моряк держал в руке дубинку,
— Мичман! — резко сказал Хорнблауэр. — Что все это такое?
Мичман остановился, услышав командирский голос и увидев мундиры.
— Приказы, сэр, — начал он, потом, осознав, что наступает день и можно больше не таиться, тем более перед флотскими, продолжил: — Вербовочный отряд, сэр. Нам приказано завербовать всех моряков, которых мы встретим. Патруль на каждой дороге.
— Ясно. Но из-за чего вербовка?
— Не знаю, сэр. Приказ.
Наверно, он и сам больше не знал.
— Очень хорошо. Продолжайте.
— Вербовка, разрази меня гром! — воскликнул Буш. — Что-то стряслось.
— Я думаю, вы правы, — сказал Хорнблауэр.
Они свернули на Хайбери-стрит и подходили к дому миссис Мейсон.
— А вот и первые результаты, — заметил Хорнблауэр. Они остановились у входа, наблюдая, как мимо них проходит не меньше сотни людей под конвоем двух десятков моряков с дубинками, возглавляемых мичманом. Часть завербованных ошалело молчала, другие что-то громко выкрикивали — шум наверняка перебудил всю улицу, все завербованные хотя бы одну руку держали в карманах, а те, кто не жестикулировал — обе.
— Как в старые времена, — ухмыльнулся Буш. — Им перерезали пояса.
Раз пояса перерезаны, приходится держать руки в карманах, не то штаны спадут. В спадающих штанах далеко не убежишь.
— Первоклассные моряки, — сказал Буш, оценивая их профессиональным взглядом.
— Не повезло им, — заметил Хорнблауэр.
— Не повезло? — удивился Буш.
Разве быку не везет, когда он превращается в бифштекс? Или гинее, когда она переходит из рук в руки? Такова жизнь. Для торгового моряка оказаться в военном флоте столь же естественно, как поседеть, если он доживет до старости. А единственный способ его заполучить — напасть ночью, вытащить из постели, от кружки пива в таверне или из борделя, и в несколько секунд превратить из свободного человека, зарабатывающего на жизнь, как ему вздумается, в завербованного, не могущего по своей воле ступить на берег без риска быть поротым на всех кораблях флота подряд. Буш не больше сочувствовал завербованным, чем жалел сменяющийся ночью день.
Хорнблауэр по-прежнему смотрел на вербовочный отряд и на рекрутов.
— Возможно, это война, — медленно выговорил он.
— Война! — воскликнул Буш.
— Мы узнаем, когда придет почта, — сказал Хорнблауэр. — Полагаю, Парри мог бы сообщить нам, если б захотел.
— Но… война! — повторил Буш.
Толпа двигалась в сторону дока, шум затихал, и Хорнблауэр повернулся к двери, вынимая из кармана массивный ключ. Войдя в дом, они увидели на лестнице Марию с незажженной свечой в руке. Мария была в длинном пальто поверх ночной рубашки, видимо, чепец она надевала в спешке, ибо из-под него выбивались папильотки.
— Вы целы! — выдохнула она.
— Конечно, мы целы, Мария, — ответил Хорнблауэр. — Что, по-вашему, могло с нами статься?
— На улице такой шум, — сказала Мария. — Я выглянула. Это что, вербовочный отряд?
— Он самый, — ответил Буш.
— Это… это война?
— Очень может быть.
— Ох, — Мария была убита. — Ох!
— Не стоит беспокоиться, мисс Мария, — сказал Буш. — Бони не скоро сможет привести свои плоскодонные посудины в Спитхед.
— Не в этом дело, — ответила Мария. Она смотрела только на Хорнблауэра, забыв о существовании Буша.
— Вы нас оставите! — сказала она.
— Если потребуется, я буду исполнять свой долг, Мария, — сказал Хорнблауэр.
Мрачная фигура поднялась по лестнице из подвального этажа — миссис Мейсон. Она была без чепца, так что каждый мог созерцать ее папильотки.
— Этим шумом вы перебудите других моих джентльменов, — сказала она.
— Мама, они думают, будет война, — воскликнула Мария.
— Может, это не так и плохо, если некоторые заплатят, что задолжали.
— Я сделаю это сию же минуту, — запальчиво произнес Хорнблауэр. — Сколько я вам должен, мистер Мейсон?
— Пожалуйста, мама, пожалуйста, — вмешалась Мария.
— Заткнитесь, мисс, — отрезала миссис Мейсон. — Только из-за тебя я давным-давно не выгнала этого молодого щеголя.
— Мама!
— «Я заплачу, сколько должен» — он говорит, что твой лорд. А у самого в сундуке ни одной рубашки. Да и сундук его давно был бы в ломбарде, если б не я.
— Раз я сказал, что я заплачу, значит я заплачу, миссис Мейсон, — с невероятным достоинством объявил Хорнблауэр.
— Давайте-ка посмотрим, какие у вас такие деньги, — настаивала миссис Мейсон, ни мало не убежденная. — Двадцать семь шиллингов и шесть пенсов.
Хорнблауэр извлек из кармана штанов пригоршню серебра. Но этого оказалось мало, пришлось ему вытащить банкноту из нагрудного кармана. При этом стало видно, что их там еще много.
— Вот как! — сказала миссис Мейсон. Она смотрела на деньги в своей руке, словно это чистое золото, и на ее лице боролись противоречивые чувства.
— Я думаю так же предупредить вас, что съезжаю, — резко объявил Хорнблауэр.
— О нет! — воскликнула Мария.
— У вас такая хорошая комната, — сказала миссис Мейсон. — Не станете же вы от меня съезжать из-за нескольких поспешных слов?
— Пожалуйста, не оставляйте нас, — взмолилась Мария. Хорнблауэр был в полном замешательстве. Бушу трудно было не улыбнуться, глядя на него. Человек, который не потерял головы, играя по крупной с двумя адмиралами, человек, который дал бортовой залп, вытащивший «Славу» из глины под огнем каленых ядер — оказался совершенно беспомощным перед двумя женщинами. Заплатить по счету и съехать было бы эффектным жестом — если понадобится, заплатить за неделю вперед, как принято в таких случаях — и отрясти прах с ног. Но с другой стороны, тут ему позволяли жить в долг, и съехать, как только появились деньги, было бы черной неблагодарностью. Оставаться же в доме, где знают его секреты, тоже малоприятно. Хорнблауэр, стыдящийся любого проявления человеческих слабостей, вряд ли будет чувствовать себя уютно с людьми, знающими, что он был настолько по-человечески слаб, чтоб оказаться в долгах. Буш ощущал все, что переживал Хорнблауэр в этот момент, его добрые чувства и его озлобление, И он любил Хорнблауэра даже смеясь над ним, уважал, даже сознавая его слабости.
— Когда джентльмены ужинали? — спросила миссис Мейсон.
— Я не помню, чтобы мы ужинали, — ответил Хорнблауэр, взглянув на Буша.
— Так вы голодные! Давайте-ка я приготовлю вам завтрак. Как насчет парочки толстых отбивных каждому?
— Отлично, — сказал Хорнблауэр.
— Сейчас вы пойдете наверх, — объявила миссис Мейсон, — а я пошлю вам служанку с горячей водой для бритья. Когда вы спуститесь вниз, завтрак будет готов. Мария, беги, разведи огонь.
В мансарде Хорнблауэр со странной веселостью посмотрел на Буша.
— Ваша постель за шиллинг стоит нетронутой. По моей вине вы за всю ночь не сомкнули глаз. Прошу простить меня.
— Это не первая моя бессонная ночь, — ответил Буш. Он не спал в ту ночь, когда они штурмовали Саману, часто в плохую погоду ему приходилось проводить на палубе по двадцать четыре часа кряду. А проживя месяц с сестрами в Чичестерском домике, не имея других дел кроме прополки сада и пытаясь по этой причине спать по двенадцать часов в сутки, он находил приятными разнообразные волнения сегодняшней ночи. Он сел на кровать, а Хорнблауэр заходил по комнате.
— Если будет война, вам частенько придется бодрствовать по ночам, — сказал Хорнблауэр.
Буш пожал плечами.
Стук в дверь возвестил о приходе служанки. В каждой руке она несла по кружке с горячей водой. На ней было большое, не по размеру, донельзя заношенное платье, доставшееся, видимо, от миссис Мейсон или Марии; волосы ее были всклокочены, но и она смотрела на Хорнблауэра круглыми глазами. Эти круглые глаза были слишком велики для ее тощего личика, и они следили за ходящим по комнате Хорнблауэром, ни разу не обратившись на Буша. Ясно, что Хорнблауэр был таким же героем для этого четырнадцатилетнего заморыша, как и для Марии.
— Спасибо, Сьюзи, — сказал Хорнблауэр.
Сьюзи неловко присела и выбежала из комнаты, бросив последний взгляд на Хорнблауэра.
Тот указал рукой на тазик и на горячую воду.
— Вначале вы, — сказал Буш.
Хорнблауэр, стащив сюртук и рубашку, приступил к бритью. Он скреб покрытые щетиной щеки, наклоняя голову то на одну, то на другую сторону. Говорить не хотелось. Хорнблауэр в молчании умылся, вылил воду в помойное ведро и отошел, пуская Буша побриться.
— Пользуйтесь случаем, — сказал Хорнблауэр. — Больше пинты пресной воды в неделю вы для бритья не получите.
— Ну и что? — ответил Буш.
Он побрился, тщательно поправил бритву и убрал вместе с остальными туалетными принадлежностями. Шрамы белели на его ребрах. Закончив одеваться, он взглянул на Хорнблауэра.
— Отбивные, — сказал тот. — Толстые отбивные. Идемте.
В столовой было накрыто на несколько человек, однако никто еще не спускался — очевидно, другие постояльцы миссис Мейсон завтракали позже.
— Одну минуточку, сэр, — сказала Сьюзи, просовывая голову в дверь, и тут же побежала на кухню.
Она вернулась с подносом, Хорнблауэр отодвинул стул попытался помочь ей, но она остановила его оскорбленным возгласом и исхитрилась благополучно поставить поднос на роковой стол, ничего не опрокинув.
— Я вам подам, сэр, — сказала она.
Сьюзи забегала между двумя столами, словно юнга с сезнями вдоль выбираемого каната. Кофейник, поджаренный хлеб, масло, джем, сахар, молоко, горчица, горячие тарелки и, наконец, большое блюдо, которое она водрузила перед Хорнблауэром. Сьюзи сняла крышку: там лежали отбивные, чей дивный аромат, до того скрываемый, заполнил комнату.
— Ах! — сказал Хорнблауэр, беря ложку с вилкой и собираясь раскладывать. — А ты завтракала, Сьюзи?
— Я, сэр? Нет, сэр. Нет еще, сэр.
Хорнблауэр остановился с ложкой в руке, переводя взгляд с отбивных на Сьюзи и обратно. Потом он положил ложку и запустил правую руку в карман штанов.
— Ты никак не можешь получить одну из этих отбивных? — спросил он.
— Я, сэр? Конечно нет, сэр.
— Тогда вот тебе полкроны.
— Полкроны, сэр!
Это было больше, чем дневная плата рабочего.
— За это я хочу, чтоб ты мне кое-что пообещала, Сьюзи.
— Сэр… сэр?..
Сьюзи держала руки за спиной.
— Бери деньги и пообещай мне, что при первой возможности, как только миссис Мейсон тебя отпустит, ты купишь себе что-нибудь поесть. Наполнишь свой маленький несчастный желудочек. Оладьи, гороховый пудинг, свиные ножки — все, что тебе захочется. Обещай мне.
— Но, сэр…
Полкроны и возможность наесться от души — этого попросту не может быть.
— Бери, — строго сказал Хорнблауэр.
— Да, сэр.
Сьюзи зажала монету в худеньком кулачке.
— Не забудь, что ты обещала.
— Да, сэр, спасибо, сэр.
— Теперь спрячь ее и быстренько выметайся.
— Да, сэр.
Она выбежала из комнаты, и Хорнблауэр снова принялся раскладывать отбивные.
— Теперь я смогу позавтракать с удовольствием, — смущенно сказал он.
— Не сомневаюсь, — ответил Буш, намазывая маслом хлеб и накладывая на тарелку горчицу. Привычка есть говядину с горчицей сразу выдавала в нем моряка, но он делал это, не задумываясь. Когда перед тобой стоит отличная еда, думать незачем, и он ел в молчании. Только когда Хорнблауэр заговорил, Буш понял, что тот мог расценить его молчание как осуждение.
— Полкроны, — оправдывался Хорнблауэр, — для разных людей означает разное. Вчера…
— Вы совершенно правы. — Буш из вежливости заполнил наступившую паузу и только подняв глаза обнаружил, почему Хорнблауэр замолчал.
В дверях стояла Мария. Шляпка, перчатки и шаль показывали, что она собирается выходить, вероятно, за покупками, раз школа, где она преподает, временно закрыта.
— Я… я… заглянула посмотреть, не нужно ли вам чего, — сказала она. Голос ее дрожал, то ли оттого, что она услышала последние слова Хорнблауэра, то ли по какой-то другой причине.
— Спасибо. Все просто превосходно, — пробормотал Хорнблауэр.
— Пожалуйста, не вставайте, — поспешно и даже как-то враждебно произнесла Мария, когда Хорнблауэр с Бушем начали подниматься со стульев. Глаза ее были влажны. Напряжение разрядил стук в наружную дверь. Мария побежала открывать. Они услышали мужской голос. Вернулась Мария, за ней возвышался капрал морской пехоты.
— Лейтенант Хорнблауэр? — спросил он.
— Это я.
— От адмирала, сэр.
Капрал держал в руке письмо и сложенную газету. Пришлось ждать, пока Хорнблауэру найдут карандаш, чтобы расписаться в получении. Щелкнув каблуками, капрал удалился. Хорнблауэр стоял с письмом в одной руке и с газетой в другой.
— Откройте… пожалуйста, откройте, — сказала Мария.
Хорнблауэр сломал печать и развернул письмо. Он прочел его, потом перечел, кивая, словно письмо подтверждало некую прежде сформулированную им теорию.
— Как видите, иногда полезно играть в вист, — сказал он. Он вручил Бушу письмо; улыбка его была какая-то кривая.
«Сэр (прочел Буш),
С радостью пользуюсь случаем прежде официального уведомления сообщить вам, что вы утверждены в звании капитан-лейтенанта и вскоре будете назначены на военный шлюп».
— Клянусь Богом, сэр! — воскликнул Буш. — Поздравляю! Во второй раз, сэр. Вы это заслужили, я и прежде так говорил.
— Спасибо, — сказал Хорнблауэр. — Дочитывайте.
«Прибытие в это время почтовой кареты из Лондона (говорилось во втором абзаце) позволяет мне известить вас об изменившейся ситуации, избегая в этом письме излишнего многословия. Из прилагающегося номера „Сан“ вы узнаете, почему в течение нашего столь приятного вечера сохранялись условия военной секретности, вследствие чего нет надобности извиняться перед вами, что я вас тогда не просветил.
Остаюсь
Ваш покорный слуга ПАРРИ»
К тому времени, как Буш дочитал письмо, Хорнблауэр развернул газету на нужном месте, которое и показал Бушу.
«Послание Его Величества
Палата общин, 8 марта 1803 года
Министр финансов зачитал следующее послание Его Величества.
Его Величество считает необходимым уведомить Палату Общин, что поелику в портах Франции и Голландии наблюдаются активные военные приготовления, он счел нужным принять дополнительные меры к обеспечению безопасности своих владений.
Георг R».[25]
Этого Бушу было достаточно. Бони с его плоскодонными посудинами и армией, размещенной по всему побережью Ла-Манша, встретил своевременный и достойный отпор. Ночная вербовка, задуманная и проведенная в полной тайне, которую Буш целиком и полностью одобрил (он возглавлял в свое время немало вербовочных отрядов, и знал, как быстро моряки разбегаются при первом намеке на вербовку), обеспечит команду для судов, которые, в свою очередь обеспечат безопасность Англии. Кораблей в достатке, в каждом английском порту, а офицеров — Буш слишком хорошо знал, сколько свободных офицеров. Стоит флоту выйти в море, и Англия посмеется над любым предательским нападением, которое замыслил Бонапарт.
— Хоть раз они сделали то, что нужно, клянусь Богом, — воскликнул Буш, хлопая по газете.
— Но в чем дело? — спросила Мария. Она молча переводила взор с одного офицера на другого, пытаясь прочесть выражения их лиц. Буш вспомнил, что она заморгала, когда он разразился поздравлениями.
— Через неделю будет война, — сказал Хорнблауэр. — Бони не стерпит смелого ответа.
— Ох, — сказала Мария. — А вы… что же вы?
— Я назначен капитан-лейтенантом, — сказал Хорнблауэр, — и скоро мне дадут военный шлюп.
— Ох, — снова сказала Мария.
Секунду или две она мучительно пыталась совладать с собой, потом не выдержала. Голова ее клонилась все ниже и ниже, наконец, она закрыла лицо руками в перчатках и отвернулась от мужчин. Теперь они видели под шалью лишь ее вздрагивающие от рыданий плечи.
— Мария, — мягко позвал Хорнблауэр. — Мария, не надо, пожалуйста.
Мария повернула к ним зареванное лицо в скособоченной шляпке.
— Я н-н-никогда вас больше не увижу, — рыдала она. — Я была так счастлива с этой с-с-свинкой в школе, я думала, буду стелить вам постель и убирать вашу комнату. И тут это все.
— Но, Мария, — выговорил Хорнблауэр, беспомощно похлопывая рукой об руку. — Мой долг…
— Лучше б я умерла! Да, лучше б я умерла! — сказала Мария. Слезы текли по ее щекам и падали на шаль, глаза безнадежно смотрели в одну точку, большой рот скривился.
Этого Буш вынести не мог. Он любил симпатичных, пухленьких девушек. То, что он видел сейчас, раздражало его непомерно — может, оно оскорбляло его эстетическое чувство, как ни мало вероятно, чтоб Буш таким чувством обладал. Может его просто злила женская истерика, но если так, злила она его сверх всякой меры. Он чувствовал, что если ему придется еще минуту выносить этот рев, у него расколется голова.
— Пошли отсюда, — сказал он Хорнблауэру.
Ответом ему был изумленный взгляд. Хорнблауэру не приходило в голову, что он может сбежать в ситуации, за которую, в силу своего характера, был склонен винить самого себя. Буш прекрасно знал, что Марии надо дать время, и она успокоится. Он знал, что женщины, желающие себе смерти, чувствуют себя как огурчики на следующий же день, стоит другому мужчине потрепать их по подбородку. В любом случае он не понимал, зачем Хорнблауэру беспокоиться из-за того, в чем виновата сама Мария.
— Ох, — Мария шагнула вперед и оперлась руками на стол, где стояли остывший кофейник и тарелка с недоеденными отбивными. Она подняла голову и снова заголосила.
— Бога ради… — начал Буш с отвращением. Он обернулся к Хорнблауэру: — Пошли.
Только на лестнице Буш обнаружил, что Хорнблауэр не идет за ним, и не пойдет. И Буш не собирался его вытаскивать. Хотя Буш не бросил бы друга в беде, хотя с радостью отправился бы в шлюпке спасать чужую жизнь, хотя и стоял бы плечом к плечу с Хорнблауэром в самом опасном бою и дал бы себя изрубить за него в куски — несмотря на все это он не мог вернуться назад и спасти товарища. Если Хорнблауэр решил сделать глупость, его не остановишь. И, чтоб успокоить свою совесть, он сказал себе, что, может, Хорнблауэр и не сделает этой глупости.
В мансарде Буш сложил ночную рубашку и туалетные принадлежности. Методически перекладывая бритву, гребень и щетку, проверяя, чтоб ничего не забыть, он немного успокоил разошедшиеся нервы. Перспектива близкого возвращения на службу и близких боевых действий встала перед ним во всей своей восхитительной определенности, отгоняя прочь всякое раздражение. Он начал беззвучно напевать про себя. Стоит еще раз зайти в док — можно даже заглянуть в «Конскую Голову» обсудить потрясающие утренние новости: и то и другое разумно, если он хочет поскорее получить место на корабле. Держа шляпу в руке, он сунул свой маленький сверток под мышку и последний раз окинул взглядом комнату, убедиться, что ничего не забыл. Закрывая дверь мансарды, он все так же мурлыкал себе под нос. На лестнице, у входа в гостиную, он замер, держа одну ногу на весу, не потому что не знал, входить ему или нет, а сомневаясь, что же ему сказать, войдя.
Мария больше не плакала. Она улыбалась, хотя ее шляпка по-прежнему была скособочена. Хорнблауэр тоже улыбался: может он радовался, что не слышит больше рыданий Марии. Он посмотрел на Буша и удивился, увидев шляпу и сверток.
— Я снимаюсь с якоря, — сказал Буш. — Должен поблагодарить вас за гостеприимство, сэр.
— Но… — начал Хорнблауэр. — Зачем же прямо сейчас?
Буш снова говорил «сэр». Они столько пережили вместе, и так хорошо друг друга знали. Теперь приближается война, и Хорнблауэр для Буша старший по званию. Буш объяснил, что хочет успеть на почтовую карету до Чичестера, и Хорнблауэр кивнул.
— Пакуйте свой рундук, — сказал он. — Скоро он вам понадобится.
Буш прочистил горло, готовясь произнести заготовленные формальные слова.
— Я не высказал надлежащим образом мои поздравления, — торжественно произнес он. — Я хотел сказать, что адмиралтейство, назначая вас капитан-лейтенантом, не могло бы сделать лучшего выбора.
— Вы слишком добры, — ответил Хорнблауэр.
— Я уверена, мистер Буш совершенно прав, — сказала Мария.
Она взглянула на Хорнблауэра с обожанием, а он на нее — с безграничной добротой. В ее обожании уже обозначилось что-то собственническое, а в его доброте, возможно, что-то вроде тоски.
Примечания
1
здесь и далее – смотрите приложенный файл «Краткий морской словарь» (прим.OCRщика)
(обратно)2
Прием, когда игрок перебивает выложенные не высшей, а средней картой из имеющихся на руках (здесь и далее примечания переводчика).
(обратно)3
«Славное первое июля» – сражение между британскими и французскими военными кораблями 25 апреля – 1 июля 1794, закончившееся победой англичан.
(обратно)4
Пушка, стреляющая девятифунтовыми ядрами.
(обратно)5
Революционный Конвент запретил работорговлю. Однако решающую роль сыграл не этот, не поддержанный властями на местах запрет, а британская блокада французских колоний. Тогда многие французские работорговцы стали пиратами или каперами.
(обратно)6
Когда матросов пороли кошками, их привязывали к решетчатому люку.
(обратно)7
Дэви Джонс – в морском фольклоре – дьявол, морской бес.
(обратно)8
Пер. П. Антокольского
(обратно)9
Боадицея – королева в древней Британии. После того, как ее обесчестили римляне, разъезжала в колеснице, призывая соотечественников к отмщению.
(обратно)10
Саламинское сражение – битва между греками и персами в 480 г. до н.э. Триремы греков таранили персидские суда с флангов и выиграли битву.
(обратно)11
Клайв, Роберт (1725–1774) – генерал, основатель британской империи в Индии. Когда в 1756 бенгальцы захватили Калукутту и сажали в яму пленных англичан, Клайв быстрой и решительной операцией отбил город.
(обратно)12
Неожиданным нападением. – Фр.
(обратно)13
Pro tempore – временно (лат.)
(обратно)14
Касба – крепость(арабск.) .
(обратно)15
Эффенди – господин. (арабск.)
(обратно)16
Джон Джервис, впоследствии граф Сент-Винсент (1735–1823) – выдающийся английский флотоводец.
(обратно)17
14 февраля. В этот день у мыса Сан-Висенти произошло сражение британского флота под командованием Джона Джервиса с испанским, закончившееся победой британцев.
(обратно)18
Старейший театр в Лондоне.
(обратно)19
Мануэль де Годой (1767–1851) – министр испанского короля Карла IV и фаворит королевы Марии-Луизы. Поддерживал линию на союз с Францией, за примирение с которой и был пожалован титулом князя Миротворца.
(обратно)20
Движение за предоставление католикам равных прав с англиканами.
(обратно)21
Кат — тяга, которою якорь, показавшийся при подъеме его из-под воды, подымается на крамбол.
(обратно)22
Черная рвота (лат.)
(обратно)23
В британском флоте адмиралы делились на три категории — белого, синего и красного флага.
(обратно)24
Презрительное прозвище Бонапарта у англичан.
(обратно)25
R — Rex (лат.) — король.
(обратно)
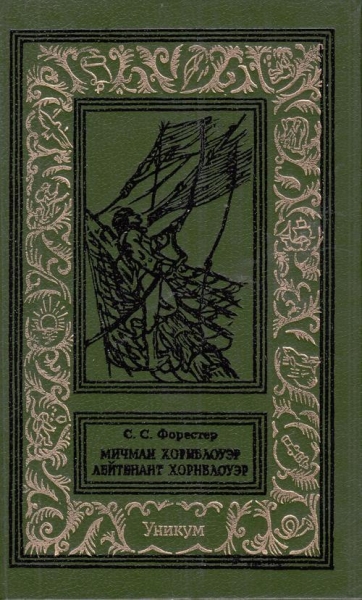




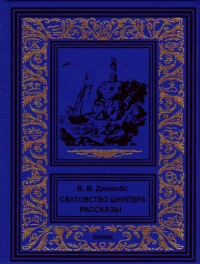
Комментарии к книге «Мичман Хорнблоуэр. Лейтенант Хорнблоуэр», Сесил Скотт Форестер
Всего 0 комментариев