Рассказы капитана 2-го ранга В.Л. Кирдяги, слышанные от него во время «Великого сиденья»
НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ
Эти рассказы Василия Лукича записаны мною в весьма своеобразной обстановке.
Летом 193* года мне довелось провести порядочно времени на подводной лодке, бывшей в автономном плаванье. Автономное плаванье — это особый вид боевой тренировки: вам дают полный запас горючего, боеприпасов, питьевой воды и консервов и предлагают возможно дольше продержаться в родном море, позабыв, что оно — родное. За время долгого автономного плаванья лодка должна выполнить ряд боевых заданий — прокрасться в назначенный район, провести блокаду порта, атаковать указанные корабли, скрываться от преследования, форсировать минное заграждение — словом, сделать добрый десяток тех больших и малых дел, которыми приведется ей заняться во время войны. И, как во время войны, все это надо суметь проделать, не пополняя запасов, — то есть так, как это и будет на самом деле в том чужом, враждебном ей море, куда пошлет ее в свое время боевой приказ.
Однажды, в силу сложившейся обстановки, лодка была принуждена временно исчезнуть из надводного мира на некоторый неназываемый, но весьма длительный срок. Нужно было дождаться здесь появления эскадры, но так, чтобы ни малейшего подозрения о присутствии в данном проходе лодки не возникло там, наверху, где светило солнце, всходила в свое время луна и где, вероятно, дул приятнейший ветерок, которому, по нашему мнению, природа отпустила кислород с безобразной расточительностью. Мы согласились бы и на половину, с одним только условием: чтоб он был не в баллонах, которые приходилось считать и беречь.
Все, что в лодке могло издавать шум, было остановлено, и когда на электрической плитке урчал, закипая, чайник, командир и на него посматривал с укоризной: нас могли обнаружить чуткие уши гидрофонов. Распорядок дня был в корне изменен: из работ и занятий были выбраны лишь те, кои отличались бесшумностью и минимумом телодвижений, и львиная доля суток была отведена на сон, так как, когда подводник спит, он потребляет меньше кислорода и выделяет меньше углекислоты. А в нашем положении для уничтожения ее приходилось обязательно дожидаться прохода над головой какого-либо корабля, чтобы под шум его винтов безбоязненно включить приборы регенерации воздуха. Освещение было безжалостно сокращено — берегли энергию аккумуляторов. Формой одежды со временем пришлось объявить перманентный ноль — одни трусы, ибо в лодке стало препорядочно жарко.
Вот в этой обстановке и возникла особая форма «Тысячи и одной ночи», причем нагрузку Шехеразады добровольно взял на себя Василий Лукич Кирдяга.
Как-то само собой случилось, что однажды в неопределенное время суток (которое наверху могло быть и рассветом, и сумерками, и жарким полднем) в кормовом отсеке раздался взрыв. И хотя он никак не угрожал целости корпуса лодки, ибо это был просто взрыв хохота, командир лодки поспешил к месту происшествия, чтобы строгим внушением прекратить этот демаскирующий шум. Но к моменту своего прихода в кормовой отсек он снова застал там полную тишину и увидел, что подводники, усевшись на койках по пяти человек в ряд, слушают Василия Лукича, рассказывающего очередной суффикс.
Слово «суффикс» имело на лодке разнообразное и глубокое значение. Слово это перекочевало на лодку с общеобразовательных курсов, где тайны родного языка преподавала краснофлотцам сама жена командира. Когда столкнулись с этим термином, решительно у всех учеников заело в понимании странной силы двух-трех букв. Суффикс стал предметом горячих вечерних споров, и многие признавались, что значительно легче понять процесс зарядки аккумуляторов или причину потопления торпеды, чем разобраться в этих суффиксах, которые переворачивают весь смысл слова и которые надо вдобавок уметь находить где-то в самой корме слова, между корнем и окончанием. Теоретическое исследование всем понятного и родного языка надолго застопорилось, причиняя одинаковые мученья ученикам и преподавательнице, которой дома по вечерам командир строго ставил на вид недостаточную четкость ее определений и неуменье разъяснить показом.
Поэтому понятно, что суффиксом стали называться на лодке различные таинственные неполадки в механизмах, требующие для своей расшифровки значительного напряжения мысли, а также и затруднительные эпизоды личной жизни. Суффикс мог случиться и в дизеле, и в антенне, и в торпедном аппарате, и в котле у кока, и при погружении, и во взаимоотношениях со старшиной, с портом, а также с женой или иной подругой жизни.
Василий Лукич был фигурой в своем роде замечательной. Бывший балтийский матрос, которого гражданская война сделала комиссаром, он проплавал на всех возможных типах кораблей, а на склоне лет окончил параллельные классы и перешел в командный состав. Теперь он был капитаном второго ранга и славился как самый зоркий и придирчивый член комиссии по приемке от заводов новых кораблей. Еще в те годы, когда мы вместе служили на линкоре — где он был помощником комиссара, а я старшим штурманом, — он уже был известен как неутомимый рассказчик, и мы подолгу засиживались в кают-компании, если Василия Лукича удавалось «завести».
На лодку он буквально свалился с неба: незадолго до того «великого сиденья», о котором идет речь, командир лодки получил радио с приказанием принять на поход капитана второго ранга Кирдягу для различных испытаний новых механизмов, и вскоре самолет (единственный, от которого мы не ушли на глубину) сел рядом с лодкой. Доставленный нашей шлюпкой на борт, Василий Лукич, явившись по форме командиру, дополнительно сообщил, что в смысле снабжения его следует рассматривать как пленного, захваченного с потопленного транспорта, и в силу этого выделить ему хотя бы скудный паек, но что папиросы он предусмотрительно захватил и даже рад будет поделиться. Командир вздохнул, ибо на лодке это был уже второй сверхкомплектный «пленный» (первым был я), но встретил Василия Лукича со всей приветливостью.
За обедом Василий Лукич осведомился, не мешает ли нам плавать «сумасшедший порошок», и после долгого перерыва я вновь с удовольствием выслушал очередной рассказ Василия Лукича.
Оказалось, что в начале кампании Василий Лукич на этой же лодке ходил в море, чтобы испытать на практике присланное на отзыв изобретение, которое якобы давало лодке возможность надежно укрыться в воде от самолетов. Это был порошок ядовитого сине-зеленого цвета, который следовало подсыпать в балластные цистерны. По мысли изобретателя, достаточно было продуть одну такую цистерну, чтобы укрыться на глубине от зоркого взгляда летчика непроницаемой завесой цвета морской воды, но лишенной ее предательской прозрачности.
Порошок с великим уважением засыпали в цистерну номер два. Василий Лукич взбодрился на самолет, лодка нырнула и проделала все, что полагалось в инструкции изобретателя, потом всплыла — и Василий Лукич вылез из самолета в крайнем гневе. Порошок, и точно, окрасил воду вокруг лодки. Но то ли изобретателю никогда не приводилось видеть натурального моря и он доверился изображениям его в живописи, то ли просто он не подогнал колеру и малость перехватил синьки, но с самолета увидели в прозрачной глубине инородное темное яйцо огромных размеров.
Остатки порошка тотчас же выкинули, выкрасив при этом в необыкновенный цвет, на удивление рыбам, препорядочный кусок моря. Василий Лукич отослал с летчиком исчерпывающий отзыв, а неудачный состав прозвали на лодке «сумасшедшим порошком» и долго потом ругали его создателя: лодка никак не могла оправиться от пережитого потрясения и время от времени при погружении выпускала из цистерны номер два тонкий ядовито-зеленый хвост, отнюдь не способствующий маскировке. Чувствуя себя виноватым, Василий Лукич посоветовал навалить в цистерну соды и прополоскать рядом энергичных продуваний, чем добился наконец того, что вода из нее возвращалась почти нормального цвета. Однако когда через некоторое время Василий Лукич вновь вышел в море на этой лодке уже для других целей, командир, всплыв, вызвал его на мостик и с мрачной укоризной указал на цветистый шлейф, тянувшийся за винтами. Василий Лукич горестно плюнул за борт и тут же пометил в записной книжке — спросить у изобретателя, какую именно чертовщину он намешал в краску, что она дает знать о себе не всегда, а, как показали наблюдения корабельного состава, только перед общефлотским выходным днем.
Влипнув нечаянно в наше «великое сиденье», Василий Лукич нашел для себя порядочно занятий. Всегда веселый и бодрый, он неугомонно лазал по лодке, интересуясь, как ведут себя в этих необычных условиях некоторые полезные в подводном хозяйстве приборы, и одновременно зорко наблюдал за людьми, ибо «великое сиденье» и тут производило свое действие.
Очень жаль, что терпение нельзя принимать в порту вместе с горючим и боеприпасами, так как количество его в человеке все-таки ограничено. Кошке, например, его отпущено во много раз больше: взгляните, как сидит она часами у мышиной норки без движения, почти без дыхания, не сводя зеленоватых своих глаз с заветной щели, откуда, по ее расчетам, когда-нибудь должна выскочить мышь. Ей совершенно неизвестно, когда это произойдет, но она сидит и сидит — сидит как бы равнодушно, небрежно, но в полной готовности к мгновенному точному прыжку. И ведь поди ж ты — обязательно досидится!
Такой же кошкой притаилась на дне некоторого прохода и наша лодка, выжидая того момента, когда можно будет выпустить острые когти торпед и наверняка ухватить препорядочную добычу. Только у нас, как и у всех людей, терпения было гораздо меньше, чем у кошки, и дополнительный запас его приходилось вырабатывать в себе путем значительного напряжения воли. Все в лодке отлично понимали, что при всплытии нам ничто не грозит, войны никакой нет и что в любой момент мы можем продуть цистерны и вернуться в нормальный мир, где светит солнце, где дышат чистым воздухом и где пресную воду можно пить в любом количестве и даже (как смутно подсказывала память) мыться ею. Но так же отчетливо все в лодке понимали и то, что, всплыв до того события, которого мы здесь выжидали, мы отнимем всякий смысл у «великого сиденья» и лишим родину убедительного доказательства того, что советские подводники скорее дождутся, пока, перержавев, стальной корпус лодки даст течь, чем всплывут, не выполнив задания, — что они не раз и доказали потом в бурных и холодных водах Ботнического залива.
Однако эскадра не появлялась, и сильно затянувшееся выжидание не могло не отразиться на человеческих характерах.
Это «великое сиденье» было ни с чем не сравнимо. Достаточно сказать, что за время его лодка поставила неслыханный рекорд пребывания под водой; время от времени командир решал всплыть в определенный срок, если эскадра не появится, но намеченный срок подходил, держаться под водой оказывалось еще вполне возможно — и всплытие снова откладывалось. Но все же столь длительное вынужденное бездействие начало сказываться на людях.
Кое-кто стал проявлять повышенную раздражительность, доказывая этим, что нервы его слегка подпорчены; шахматный турнир, затеявшийся было между кормовым и носовым отсеками, сорвался на первом же туре из-за какого-то вздорного пустяка, и гроссмейстер — главный старшина-моторист — и «король эфира» (он же главный старшина-радист) перестали разговаривать друг с другом на частные, не касающиеся службы темы. Кое-кто, наоборот, перехватив сна в количестве большем, чем это безопасно для человеческого организма, явно начинал утрачивать остроту рефлексов и в краткие часы бодрствования бродил по лодке, как сонная муха, натыкаясь головой на штоки клапанов и даже не подымая при этом руки к ушибленному лбу. Это уж никуда не годилось, ибо подводник при всех обстоятельствах должен быть в полной собранности душевных и физических сил, чтобы быстро, точно и умно выполнить то, чего потребует от него положение лодки.
Поэтому та освежающая психическая ванна, к которой прибегнул Василий Лукич, пришлась как нельзя более кстати, и командир вполне одобрил его инициативу, предупредив, впрочем, чтобы смеялись аккуратно, без демаскирующего шума и без лишних телодвижений в рассуждении углекислоты.
Я попытался восстановить здесь некоторые из рассказов Василия Лукича. Ввиду того что композиция его рассказов определялась или темой, которую он избирал для данного разговора, или воспоминаниями о различных суффиксах (времен главным образом зари строительства Красного флота) и потому отличалась некоторой хаотичностью — некоторые из его рассказов я выделил в самостоятельные, хотя все они в живом изложении Василия Лукича тесно переплетались друг с другом, представление о чем может дать первая запись — о загадках техники.
Записи свои я показал Василию Лукичу. Узнав, что я собираюсь их публиковать, Василий Лукич встревожился.
— Брось ты это дело, — сказал он зловеще. — Тут же одни суффиксы, и коли по ним судить, мы на флоте только чудили, и больше ничего… Конечно, за двадцать с лишним лет всякое бывало, но не все же в литературу тащить!.. Что-то, брат, не то получается, и я тебе по дружбе говорю: не советую…
Но все же я публикую эти рассказы. Может быть, Василий Лукич в них кое-что и подбавил для красного словца. Но, как он не раз говорил сам, иной кстати рассказанный суффикс так порой ляжет в память, что при какой-либо неполадке в механизме или в человеке может вполне успешно заменить собой учебное пособие, ибо не каждому захочется, чтобы про него пошел потом рассказ по флоту.
ЗАГАДКИ ТЕХНИКИ
Вот лежим мы с вами на грунте тихо, спокойно, и, как говорится, над нами не каплет. Все понимаем, что к чему, и никаких особенных суффиксов не предвидится. А когда проводишь испытания новой лодки, может случиться всякое. В позапрошлом году мы раз на такую глубину провалились, что удивительно, как это корпус выдержал. Вот уж, точно, посматривали на заклепки: не каплет ли над нами… И все вышло, прямо сказать, из-за пустяка. Вот я вам расскажу, вы, наверное, смеяться будете, а нам тогда не до смеха было.
Техника, конечно, великая вещь. Но пока все приборы не проверишь, пока не убедишься в каждом, эта техника иной раз показывает такие свечки, что только руками разведешь: с чего, мол, такие чудеса и какие принимать меры? И сообразить все надо очень быстро, и очень важно в каждом ненормальном явлении найти вызвавшую его причину, иначе ни о каком накоплении опыта нечего и думать. А обстановка иной раз так и тянет тебя по ложному следу, да если, не дай бог, рядом еще какой догадчик окажется, тогда уж вовсе можно запутаться. А догадчики, знаете, очень большое влияние оказывают своим психическим воздействием, а оно при всякой технической загадке огромную роль играет. Вот у меня был случай, когда я поддался такому психическому воздействию и потерял здравый смысл… И хоть ничего особенного не произошло, но до сих пор краснею, как это я сразу не сообразил, в чем дело.
СУФФИКС ПЕРВЫЙ. ЗАМЫКАНИЕ НА КОРПУС
Не помню, в двадцать шестом, что ли, году пошел с нами на линкоре для ознакомления предзавкома шефского завода, монтер по специальности. Отманеврировали мы свое, легли курсом на Лужскую губу, на мостике вахта осталась, а мы с командиром спустились поесть. Вдруг ни с того ни с сего — колокола громкого боя… Все обед побросали, лупят полным ходом на свои боевые места, а звонки все гудят, да как-то непонятно — ни боевая, ни водяная, ни пожарная, а полная гибель по всем статьям, вплоть до газовой.
Тут у меня под ложечкой засосало: где, думаю, мой предзавкома? Мы его в кормовой штурманской рубке поселили, рядом с боевой. Кинулся я прямо туда, прибежал первым — и точно: стоит он в кормовой боевой рубке, держит возле уха телефонную трубку прямой артиллерийской связи, давит кнопку колоколов громкого боя и еще сердится:
— Алло! Станция! Чего вы заснули?.. Безобразие, а еще военный корабль… Станция!
Прекратил я это занятие, выговариваю ему, а он оправдывается: решил мне по телефону позвонить, скоро ли обед, а артиллерийский телефон, конечно, выключен и сигнала не дает. Так он и дошел своим умом, что надо кнопку рядом подавить. Нашел — и обрадовался… Дал я отбой, а за обедом командир ему так строго говорит:
— Вы, товарищ, на корабле, пожалуйста, ничего не трогайте. Тут у нас такие кнопки есть, что, может, все пушки враз стрелять начнут, понятно?
Ну, тот сконфуженно ответил, что понятно, я перевел разговор на другую тему — все-таки гость! — и замял этот вопрос.
Пришли в губу, стали на якорь, команду до спуска флага на берег отпустили, а мы с ним сидим в каюте и о делах разговариваем. У меня мечта была из него по шефской линии духовой оркестр для линкора выжать. Начали торговаться, а тут смеркаться стало. Я и попроси его — поверните, мол, выключатель, вон рядом с вами на переборке. Он потянулся было, потом руку отдернул.
— Нет, — говорит, — Василий Лукич, я командиру обещал ничего не трогать. Опять не за то возьмусь.
Я ему объясняю, что командир пошутил и что это просто обыкновенный выключатель, он же должен понимать, раз сам монтер. Он головой покачал, потянулся к выключателю, щелкнул — и вдруг как бахнет у нас над головой орудийный выстрел… Он даже побелел.
— Вот видите, — говорит, — я же знал… не дай бог кого убил…
Я, конечно, засмеялся.
— Что вы, — говорю, — дорогой товарищ, как это можно из каюты артиллерийским огнем управлять! Правда, у нас техника, но не до такой же степени. Щелкните еще разок и удостоверьтесь, что это просто случайное совпадение.
— Какое уж там, — говорит, — совпадение! Я же монтер и выключатель чувствую: как я ток включил — аккурат там и бабахнуло. Очевидно, провод где-нибудь на короткую замкнулся, это у вас непорядок.
Ах, так, думаю, ты еще квалификацию показываешь и на корабль тень наводишь? Ладно, я тебя накажу…
— Что ж, — говорю, — если вы так в своем выводе уверены, давайте спорить: я еще раз выключатель поверну, и, если ничего не выстрелит, вы мне турецкий барабан и большую трубу к оркестру подкинете.
Встал я с кресла, а он на меня смотрит прямо с ужасом, что выйдет, а меня смех разбирает — вот ведь, думаю, до чего человека напугали, простого выключателя боится. Повернул я выключатель, свет потух, и, конечно, больше никаких последствий не произошло.
— Вы, — говорю, — ставите в связь два совершенно различных явления, и эта дурная взаимосвязь приводит вас к ложному выводу. Выключатели у нас, как и всякие выключатели, зажигают только свет. Что же насчет короткого замыкания, то на корабле такого безобразия никто не допустит. Будьте любезны, пишите в список барабан и трубу.
Ну, раз дело до лишнего барабана дошло, он разгорячился. Смотрит в свои подсчеты (а в каюте, заметьте, опять сумрак, поскольку я свет погасил), в горячке потянулся к настольной лампе и повернул выключатель. И, подумайте, как бахнет опять над головой! Даже на столе зазвенело, а гость мой весь трясется.
— Видите, — говорит, — опять та же история!.. Василий Лукич, вызовите ремонтную бригаду, у вас вся каюта на корпус включилась, смотрите, что происходит…
Ну, я вижу, у него в психике складывается превратное мнение о военном корабле, но объяснить ему такое повторное явление сам затрудняюсь. Конечно, какое-то дурацкое совпадение, но почему бы пушке стрелять? Время к вечеру, учений никаких нет. И чтобы не запутаться в объяснениях, решил узнать, в чем дело.
— Сейчас, — говорю, — выясним. Позвоню на вахту и спрошу, почему стреляют.
Потянулся к звонку, а он меня за руку ухватил, и в глазах прямо мольба:
— Василий Лукич, ну его к святым, этот звонок! Давайте лучше сами выйдем и разузнаем, куда стреляли, может, в соседний корабль попали…
Тут я уж прямо рассердился, откинул его руку и нажал звонок. И что бы вы думали — только я кнопки коснулся, как бахнет пушка и в третий раз!.. Тогда уже я сам оторопел. В чем, думаю дело? Может, и в самом деле вся каюта на корпус включилась, но почему же именно на орудие действует? Да на корабле вообще одна пушка постоянно заряжена для сигнала «человек за бортом», так та на носовой башне, а стреляет из моей каюты кормовая зенитка…
И, знаете, такое на меня психическое воздействие этот монтер оказал своей ложной взаимосвязью явлений что я всякое здравое рассуждение потерял, и одно у меня в голове гвоздит: к каким же это проводам моя каюта переключилась, что прямо в замок орудия угадало?
Тут явился на звонок рассыльный с вахты. И, представьте, взглянул я на него — и точно наваждение с меня какое-то сняло: чего же, думаю, я путаюсь? Ведь команда-то у нас на берегу, а время к спуску флага. Вот и дают три отвальные пушки, к шлюпкам идти… Всегда мы в губе это делаем.
Но поскольку рассыльный дожидается и сказать ему что-то надо, я и говорю:
— Передайте на вахту, что так не сигнальные пушки дают, а по уткам стреляют: что это за нерегулярные интервалы между выстрелами?
Вот ведь до чего мне это психическое воздействие голову затуркало! При всякой такой игре природы и техники очень вредно поддаваться чужому авторитету, надо обязательно своей головой думать.
Ну, этот предзавкома, конечно, не авторитет, тут просто получилось наслоение недоразумений, а вот когда столкнешься с верой в чью-то непогрешимую репутацию, тогда можно тысячи догадок перебрать, а настоящей причины петрушки так и не сыщешь.
СУФФИКС ВТОРОЙ. БАЛТАЗАРОВЫ НУЛИ
Вот вышли мы в двадцать втором году из Петрограда на эсминце на пробу машин после зимнего ремонта и в Кронштадте застряли: надо было девиацию компасов уничтожить(1). А в те времена судовым штурманам этой несложной операции не доверяли — все, мол, молодые, того и гляди вместе с девиацией и самый компас уничтожат — и держали для этой цели в порту специального старичка Балтазара Гансовича. Штурмана на него прямо молились и так его и звали: компасный бог. Съехал за ним штурман на берег, оказывается, у него очередь, как у зубного врача, — начало кампании, каждому лестно поскорей компасы в порядок привести. Штурман поглядел, пациенты все знакомые, вместе классы весной кончали, договорился по-приятельски, кораблей пять в очереди обставил, но все же только на завтра после обеда удалось записаться. А у нас на борту полно рабочих с завода, сердятся: мы, говорят, не нанимались неделю в море болтаться, будьте любезны идти на пробу согласно контракту.
Я попробовал штурману на самолюбие повлиять.
— Как же, — говорю, — так? Класс кончили, вполне квалифицированный специалист, а зовете дядю с берега… Может, сами рискнете?
— Что вы, товарищ комиссар, — говорит штурман, и в глазах этакий священный трепет, — да меня Балтазар Гансович со свету сживет, если я к компасам притронусь! Это уж его святое дело — девиация. Хорошо, если доверит с путевым побаловаться, и то под своим руководством. Нет уж, вы меня на такое дело не подбивайте…
А Балтазар этот самый за уничтожение девиации сдельно от порта получал, поштучно с компаса, и хотел было я штурману рассказать, как в деревне один чудак цельную зиму кормился — по всем избам на граммофоне играл, пока кто-то не догадался сам ручку завести, когда тот заснул. Но вижу — примет мой штурман эту притчу за святотатство, и смолчал.
Ну, привез он к обеду Балтазара с его чемоданчиком, погонял нас тот по рейду, поколдовал с компасами, потом удалился к штурману в каюту, потребовал чаю и побольше сахару и через полчаса выложил нам таблицы девиации на все три компаса, аккуратно так выписанные, на специальных бланочках, чернилами — и на любом курсе все нули или четвертушки градуса. Словом, изничтожил девиацию целиком и полностью, как это компасному богу и положено, и смылся на очередной визит. Штурман Балтазаровы нулики, как икону, в рамочку — и поплыли, благословясь.
Вышли с рейда, легли на Кронштадтский створ, начали ход прибавлять, а я смотрю назад, на створ, — за кормой маяки все время разъезжаются. Я командиру намек — что это, мол, мы все со створа сползаем?
— Я и то удивляюсь, — говорит командир, — уводит нас курс вправо. Наверное, штурман с поправками запутался, минус за плюс принял. Молодой еще, Пойду сам проверю.
Проверил — нет, все в порядке, а маяки никак створиться не желают. А рядом, заметьте, мины, их еще тогда не вытралили, да тут еще механички обрадовались, завернули на пробу самый полный: летит эсминец птицей, и каждый градус курса может боком выйти — того и гляди, с фарватера выскочишь. А у штурмана политико-моральное состояние вовсе исчезло: стоит у карты весь мокрый и все с Балтазаровыми нулями мучается — в уме их складывает, и карандашом и чертежом, а курс у него со створом никак не сходится. Тогда я командиру опять намек — немыслимо, мол, таким ходом лупить, когда курс не заладился, этак и взорваться недолго, мины-то — вон они. Надо, мол, что-то придумать. Он и говорит штурману:
— Плюньте вы на путевой компас, вы, наверное, с ним чего-то намудрили, зря это вас Балтазар Гансович помогать допустил. Ложитесь на курс по главному, на нем он сам уничтожал, вернее будет.
Сбавили мы ход, и счастливо. Потому что залез наш штурман к главному компасу, сверился с ним и командует рулевому:
— Еще вправо девять градусов по компасу!
Покатился эсминец вправо, а у меня в глазах круги пошли: этим курсом мы через десять минут мины целовать начнем! Пришлось и на главный компас плюнуть. Повернули мы обратно, благо створ еще виден, и давай по створу взад-назад ходить, машины испытывать.
А командир со штурманом все вокруг компасов бьются и догадываются, почему девиация с Балтазаровыми нуликами не сходится. Все случаи в памяти перебрали: и как электрик у компаса отвертку забыл, и как на каком-то эсминце магниты слабо закрепили и они от хода поползли вниз, и как в шестнадцатом году в Черном море особая девиация появилась, связанная с солнечным светом: днем компас как компас, а свечереет — начинает год рождения бабушки показывать, потому что рядом с ним, не подумав, электропроводку протянули. Для верности и у нас осмотрелись: проверили, как магниты стоят, и отвертку поискали, и пробки вывинтили, чтоб на мостике току не было — нет, врут компасы по-прежнему.
Тогда командир говорит штурману:
— Знаете что, отойдите-ка вы от компаса: у вас полный рот золотых зубов, может, они просто позолочены, а внутри сталь.
А у штурмана и точно — семнадцать зубов за счет республики вставлены, поскольку он их в гражданской войне в цинге порастерял. Штурман даже обиделся, но от компаса отошел. А тот все погоду показывает.
Тогда новая версия у них возникла: может быть, корабль машинами растрясло и у него магнитное состояние в корне изменилось — как то бывает после артиллерийской стрельбы, — и теперь вся девиация насмарку, и придется снова Балтазара приглашать. А когда они в своих догадках добрались до земного магнетизма, — мол, может, за зиму склонение в Финском заливе переменило свой знак? — я уж не утерпел.
— Оставьте вы, — говорю, — земной шар в покое, с чего это старик такими делами заниматься будет? Не проще ли, — говорю, — предположить, что Балтазар у нас что-нибудь начудил? Уж больно быстро он с компасами справился…
Боже ж ты мой, что тут поднялось! Штурман только руками развел, а командир минут на десять завелся: как, мол, так — начудил? Кто? Балтазар Гансович? Да это ж признанный авторитет, да он… — и пошел и пошел. Я только рукой махнул, понял, что посягнул на репутацию, а репутация не маленькая — сам компасный бог… Вижу, мне их не сагитировать, ну, думаю, ладно: слава богу, по створу утюжим, маяки-то на глазах, дело верное, а в гавани разберемся.
И разобрались. Оказывается, Балтазар Гансович у нас девиацию не по нашим данным вычислял, а по данным того миноносца, которого он первым в то утро отгрохал: спутался старичок в спешке — и то сказать, он за день-то со своим чемоданчиком кораблей пять-шесть посетит, не мудрено и запариться.
Впрочем, этот эпизод зари Красного флота обернулся в прямую пользу для роста кадров: у штурмана нашего с этого дела в психологии сдвиг произошел. Пришел он ко мне с этой новостью, от злости и от стыда весь в пятнах, и просит:
— Уговорите вы, товарищ комиссар, командира, пусть разрешит мне самому девиацию уничтожить. Мои компасы, мне и отвечать. Не боги, — говорит, — горшки обжигают, зря меня, что ли, учили?
— Что ж, — отвечаю, — дело хорошее, уговорю. Только насчет горшков и другая пословица есть: рассердилась баба на старика и все горшки побила. Вы, — говорю, — сперва стравите несколько атмосфер, успокойтесь, тогда и побеседуем…
Ну, присмотрелся к нему, вижу, как будто парень твердый: поговорил с командиром, и вышел наш эсминец на девиацию без Балтазара. И что же — хоть штурман Балтазаровых нуликов не достиг, но с его таблицей мы исправно до самых стрельб плавали, а там уже у него аккуратнее вышло. И пошла о нем по флоту слава, как о Колумбе каком, и глядя на нас, и другие командиры своих штурманов к их прямому делу допустили, и скоро на тех, кто Балтазара на корабль позовет, на флоте пальцем показывать стали.
Но эти все занятные суффиксы я рассказывал кстати, раз уже мы коснулись таинственных капризов техники. Эта тема, знаете, такая, что ее чуть тронь — и стопу не будет! Как у того буксира Кронштадтского порта, у которого внезапно стопорный клапан отказал, не слыхали?
Была у нас такая древняя постройка — черт его знает какого года и завода! — на нем, наверное, еще петровской эскадре солонину доставляли. Подходил он раз к стенке, дал полный назад, чтобы не стукнуться, — и так и пошел писать круги по Средней гавани: нет стопа, и все тут! Тарахтит в нем эта его мясорубка, к кулисе заднего хода и не подступиться, а пар перекрыть нечем. Мы ему со стенки кричим: «Бросай якорь!», а шкипер весь в мыле и руками машет — на стенке якорь, красится! — и только штурвалом орудует, чтобы кого из кораблей не стукнуть. Потом, однако, приловчился, установил посередине гавани постоянную циркуляцию — и отдыхает, а буксир задним ходом по часовой стрелке крутится, как земной шар. Думали пристрелить эту посуду, да потом подсчитали, что угля до вечера только хватит, и оставили крутиться: циркулируй, мол, раз у тебя в машине такой недосмотр!..
Но, впрочем, я опять отвлекся, а по лодке вроде кофейком запахло, пора рассказать то, что обещался.
СУФФИКС ТРЕТИЙ. В ОБЪЯТИЯХ СПРУТА
В позапрошлом году принимали мы новую лодку, ну такую игрушечку, что комиссии, собственно, только птички в акте ставить. Провели надводные испытания, погрузились, начали подводные. Ну, тут, сами знаете, дело серьезное. Хоть и красавица, хоть и нашей постройки, а все же состояние напряженное. За каждой мелочью — глаз да глаз: мало ли что она по молодости может выкинуть! Ну, все идет хорошо, лодка ведет себя вполне нормально, все сдает на «отлично», и остались самые пустяки.
Начали мы отрабатывать срочное погружение. Ныряли, ныряли, даже ноги притомились, — шутка ли в наших годах вверх-вниз по трапу мотаться! А Федор Акимыч — почтенный такой член комиссии, пожилой инженер, — предвидя это, выбрал себе наблюдение за кое-каким новым прибором в боевой рубке. Так там и оставался на погружении, только посмеивается, как мы мимо него в центральный пост и наверх носимся. Вот опять посыпались мы мимо него с мостика вниз, командир последним, люк за собой в рубку, как полагается, задраил, и пошли опять на глубину.
Стоим с часами, смотрим на глубомер, ждем, когда он сорок метров покажет. А боцман, надо сказать, на той лодке был прямо артист своего дела: на глубину не идет, а пикирует, как истребитель, — задерет корму на весь пузырек и чешет вниз, стрелка глубомера так и бежит. Вижу, подходит он к заданной глубине, выровнял лодку, — а стрелка все ползет: сорок метров, сорок пять… Он уже рули на всплытие переложил, а глубомер к пятидесяти подходит. Тут командир ему ходом помог, дал валам полные обороты, рули забрали, корма села, — должна бы лодка кверху пойти, — а глубомер к шестидесяти ползет.
Так, думаю, все нормально: в пресную воду попали. В Черном море ведь не как в Балтике: бывает, что удифферентуешься в точности, лодка сама заданную глубину держит, так что и рулей трогать не надо, — и вдруг ни с того ни с сего как ахнет вниз, будто в яму. Только поспевай продуваться, а то до самого грунта падать будешь. А там, знаете, грунт-то порой за полтора километра лежит. Пока дойдешь, того гляди, и раздавит… Очень неприятное занятие.
Притихли все в центральном посту, я на командира посматриваю. Мешать ему и лезть со своими советами никто, конечно, себе не позволит, но, чувствую, пора бы ему на рули плюнуть и продуть среднюю, — валимся мы куда-то к черту в зубы, а грунт-то здесь далековато…
Однако у него еще хватило выдержки рулями попробовать удержаться — и правильно: продуть цистерны недолго, но тогда выскочишь наверх, как чертик из шкатулки, — неаккуратно, и можно какой-нибудь кораблик нечаянно в дно стукнуть…
Только с рулями у него тоже ничего не вышло.
Застопорил он моторы, чтобы, если на грунт кинет, винтов не обломать, приказал продуть среднюю. Ждет, на глубомер смотрит. И мы смотрим. А глубомер все вниз ползет, и довольно быстро. И чувствую, у командира в голове все его подводное хозяйство ворошится — соображает, что к чему, и, как все мы, не может концов найти. Такие минуты очень надолго запоминаются: все надо мыслью окинуть, сотни причин перебрать и к решению прийти. Потом на бережку вспомнишь и весь вспотеешь, а здесь потеть некогда — решать надо.
Дал он глубомеру дойти до восьмидесяти метров — да как начал продуваться всеми цистернами, только зашумело кругом, и трюмные едва успевают команды выполнять. Вот, думаю, и правильно: хочет лодке толчок посильнее дать, — ее ведь, как коня, уздой надо кверху поддернуть, когда споткнется. Смотрю на глубомер, — ага, вижу, почувствовал! Замерла стрелка, дрожит на восьмидесяти, вот-вот вверх ринется, — при таком продувании мы пробкой должны наверх взлететь, ей только поспевай за лодкой!
Слышу, продувание к концу подходит, а стрелка все у восьмидесяти подрагивает. Непонятно.
Докладывают: все цистерны продуты, — а стрелка как рванется вниз, дошла до ограничителя: уперлась в него и даже выгнулась, будто еще большую глубину показать хочет… А куда уж дальше — все допустимые нормы мы перекатили, на такую глубину попали, что только и посматривай, как корпус — не потек ли? А нас этак встряхнуло, качнуло, поставило на ровный киль, и лодка замерла. И глубомер замер.
Переглянулись. Вот это, думаем, штука. Что за притча — все цистерны продуты, а мы на грунте припухаем, да еще на такой немыслимой глубине?
Приказал командир в отсеках осмотреться, не текут ли заклепки. И то сказать, над нами такой слой воды, что думать о нем не хочется, даже будто он на грудь давит. Отошел я к одному члену комиссии, опытному очень подводнику, и мы тихонько, чтоб командира своими догадками не путать, обмениваемся мнениями. Может быть, у нас клапана пропускать начали, и как воздух в цистерны прикроют, так опять туда водяной балласт набирается? А при такой плотности воды много ли в цистерны принять надо, чтобы затонуть? Однако слышим, командиру докладывают, что все цистерны сухие. Видимо, ему эта догадка в голову пришла — приказал проверить.
Что же это, думаем, за петрушка, и долго ли мы тут ночевать будем?
Вдруг этот член комиссии призадумался, наклонился ко мне и тихонько говорит:
— Василий Лукич, а ведь может быть порядочная неприятность. Подумайте: лодка совсем пустая, а ее на грунте что-то держит… Знаете, что может держать?
Ну, я ему для подбодрения духа говорю:
— Знаю. Гигантский спрут, обитатель неведомых глубин Ухватил нас щупальцами и в данный момент рассматривает: сейчас нас схарчить или на черный день оставить? Я это где-то читал, вполне реальный случай.
— Вы, — говорит, — Василий Лукич, все шутите. Спрут не спрут, а помните, как я под скалу угадал?
Как он сказал мне это, у меня гайки отдаваться начали: это тебе не роман, а святая действительность… Прилег он как-то на грунт на лодке переночевать, а его полегоньку течением за ночь и подпихнуло под нависшую скалу. Так и заползла туда лодка, как кошка под диван. Утром начал всплывать, а скала его и придерживает. Вдосталь намучился, на палубе кой-чего ободрал об этот потолок. Но у него это хоть на человеческой глубине получилось, а если мы в такую историю влипли, когда у нас глубомер собрался ограничитель ломать, то, пожалуй, пока выберемся, все швы разойдутся, и начнем мы принимать соленую воду в желудки…
Пораскинул я, однако, мозгами — нет, думаю, не может того быть: какая же скала, когда, по толчку судя, мы на пушистый ил улеглись, уж очень толчок был аккуратный, а в иле какие же скалы?
И опять загадка эта встала передо мной во весь свой неприятный рост. Рассматриваю глубомер — никогда еще такой петрушки не видел: гнется стрелка на ограничителе, и все тут. На какой же, думаю, мы глубине, что ее так давит? Вот нечаянно и доказали, что лодка любую глубину выдержит: прямо удивительно, как корпус цел, а в рубке, наверное, уже иллюминаторы выдавило.
И как вспомнил я про рубку, прямо жаром меня обдало: там же Федор Акимыч наш запертый сидит! Я к командиру подошел и ему негромко сообщаю свои опасения. Он даже в лице изменился. Сразу было к люку пошел, но я его удержал. Все равно, говорю, если стекла там раздавило, его вытаскивать поздно, а нам потом люка не закрыть будет. Справьтесь, говорю, сперва по переговорной трубе, отзовется — тогда люк откроем.
Вывинчивает он пробку, я смотрю со страхом: пойдет из трубы вода или нет? Нет, не идет. Ну, думаю, вовремя я о старике вспомнил. Командир его окликнул. «Вы, — говорит, — не беспокойтесь, мы сейчас люк откроем и вас в лодку заберем». А из трубы спокойный такой голос:
— Давно пора, я и то удивляюсь, минут пять уж как всплыли, а вы чего-то ждете.
Мы так и ахнули. Как так всплыли? Кинулись к перископу — и точно: солнышко на полный ход светит, штилевая вода кругом, и чайки летают.
Командир постучал пальцем по глубомеру, повернулся к нам и говорит:
— Прошу членов комиссии установить причину такого неслыханного безобразия: почему глубомер врал в таких масштабах? Я, — говорит, — и акта не подпишу, пока не доищетесь, и люка не открою, и обедать вам не дам.
Повернулся и ушел к себе в каюту совершенно обозленный. И правда, из-за такой ерунды досталось ему пережить немало.
Ну, пришла наша очередь попотеть. Бились, бились, потом доискались: оказалось, один из рабочих перед последним погружением решил проверить краник продувания глубомера — и не прикрыл его как надо. Вот и начал воздух в глубомер просачиваться и свою поправку на глубину вводить. Надул его, как воздушный шар, хорошо еще, что ограничитель выдержал, а то провалились бы мы до центра земли и так бы там лежали и думали: чего это нас держит?
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
Начальника штаба красной стороны чрезвычайно интересовала банка Чертова Плешь: на весь ход маневров она могла повлиять решающим образом.
Была осень 1922 года. Финский залив едва начал освобождаться от мин, которыми его исправно заваливали шесть лет подряд и наши и вражеские заградители. По сторонам только что протраленных фарватеров покачивались в мутной воде мины — чей почтенный возраст никак не отразился, однако, на их способности взрываться, — и корабли могли ходить лишь по узким коридорам, как трамваи по рельсам: ни вправо, ни влево от осевой линии вех. Чертова Плешь находилась как раз на углу «Большой Лужской» (как в просторечье именовался один из фарватеров) и «Копорского переулка», что вел к месту вероятной высадки десанта синей стороны.
Следовательно, здесь, где неминуемо пойдут синие корабли, и надо было выставить заграждение, то есть скрытно послать к Чертовой Плеши какой-нибудь корабль, погрузив на него вместо мин посредника. Посредник должен был убедиться, что корабль поутюжил воду именно в том месте, где было нарисовано на карте условное заграждение, и дать об этом радио посреднику синей стороны, чтобы тот при проходе Чертовой Плеши поздравил командира десантного отряда с этой приятной неожиданностью и подсчитал, какие его корабли условно взорвались на этих условных минах.
— Все это хорошо, но кого послать? — в раздумье сказал командующий красной стороной, когда его начальник штаба доложил ему этот план. — Миноносцев у нас и для дозора едва хватит… Если тральщик… так у них такой ход, что его за сутки высылать надо, а синие еще в гавани… Увидят — догадаются… Тут надо что-нибудь такое… — И командующий повертел пальцами, показывая, что именно надо.
— Я именно об этом и думал, — ответил начальник штаба. — Разрешите просить штаб руководства включить в состав красной стороны «Сахар».
— «Сахар»?.. Какой «Сахар», из гробов, что ли? Это же и есть тральщик…
— Бывший тральщик, — сказал начальник штаба, гордясь своей выдумкой. — Он теперь в порту, посыльным судном… Выйдет из гавани потихоньку, будто с провизией на маяки, никому и в голову не придет, что да нем мины. Они же условные…
— Ну, «Сахар» так «Сахар», — решил командующий. — Разработайте план и дайте ему все документы.
Так забытый богом и людьми корабль был втянут в большую игру маневров, и его командир Ян Янович Пийчик, которого война сделала из шкипера прапорщиком по адмиралтейству, а революция, отняв этот малозначительный чин, оставила на «Сахаре» командиром, предстал перед начальником штаба красной стороны. Впрочем, обнаружив за этим пышным титулом того самого Андрея Андреевича, который все прошлое лето плавал на «Сахаре» дивизионным штурманом, Пийчик несколько успокоился.
— Операция должна быть неожиданной… сто один, сто два, — закончил Андрей Андреевич и вновь послюнил палец. — Надеюсь, Ян Яныч, вы, примете меры… сто пять… чтобы никто не догадывался о цели похода… Сто десять листов плана операции и четыре кальки заграждения. Распишитесь.
Пийчик с тоской посмотрел на увесистый результат оперативной мысли штаба.
— Андрей-дреич, — сказал он с внезапной решимостью, — я лучше не возьму. Дайте только кальку, куда там мины кидать. Прочесть все равно не поспею, а у вас сохраннее будет…
— Нет уж, берите, Ян Яныч, зря, что ли, люди две ночи писали, — сказал Андрей Андреевич, пододвигая расписку.
— Так куда мне, извините, «Исторический и гидрологический обзор банки Чертова Плешь»? А он сорок страниц тянет…
— Прошу вас, товарищ командир, воздержаться от неуместной критики штаба, — официально сказал штурман и добавил своим голосом: — Да расписывайтесь, Ян Яныч, и валитесь на корабль. Через час сниматься надо, а то до рассвета не дотилипаете. Машины готовы?
— Готовы, — печально сказал Пийчик. — Ну, давайте… только вряд ли читать буду…
Он поставил принципиальную кляксу протеста на закорючке над «и» и взял фуражку.
— Да, постойте! У вас, я помню, в надстройке две лишние каюты были?
— Андрей-дреич! — Пийчик вытянул вперед руки, отвращая неотвратимое.
— Вот вторую и приготовьте для кинорежиссера. Таковому не препятствовать наблюдать боевые действия.
Пийчик собрался ответить, но, прочитав во взгляде начальника железную решимость, покорно завернул все сто десять листов и четыре кальки в газету и вышел на палубу, полный мрачных предчувствий.
Придерживая локтем роковой сверток, Пийчик осторожно спустился в неверную зыбкость парусинки, изображающей собой его капитанский вельбот. Сидевший в ней старшина-рулевой Тюкин, который никому не уступал права возить Ян Яныча, оживился и бодро ударил веслами, отчего утлая ладья заскрипела и отчаянно завертелась на месте, ибо, по малости водоизмещения, руля на ней не полагалось. Глядя на это мотанье вправо и влево, Пийчик с тоской вспомнил про ожидающие его зигзаги и курсовые углы — маневры малопонятные, но утомительные — и, опустив голову, тяжко вздохнул. Парусинка качнулась.
— Ян Яныч, вы дышите поаккуратнее, — сердито сказал Тюкин, восстанавливая равновесие. — Этак и перекинуться недолго.
— Тяжело мне на сердце, товарищ Тюкин, — сказал Пийчик, — не жизнь, а компот. Слава богу, все войны покончили… Так нет — опять развоевались, маневры придумали… Ну, большие корабли — им и карты в руки, а мы — какие ж мы вояки? Провизию возить — это точно, приучены. А тут на-кося — локсодромии-мордодромии…
Последнее слово Пийчик выдумал тут же из отвращения к странным и ненужным вещам, которые ему вздумало навязывать начальство на десятом году безмятежного плаванья на буксирах, транспортах и тральщиках. Весной его вызывали в Петроград на курсы переподготовки командного состава, отчего у Пийчика целый месяц стоял в голове непрерывный гул.
За огромным телом линейного корабля показался «Сахар», притулившийся к угольной стенке. Пийчик окинул его взором и, расценив вверенный ему корабль с новой точки зрения, опять вздохнул, на этот раз осторожнее.
— Дожили, — сказал он огорченно, — пожалуйте воевать на таком комоде…
«Сахар», и точно, напоминал комод или, вернее, — коробку из-под гильз. Ни носа, ни кормы не наблюдалось: были взамен их четырехугольные окончания, впрочем, спереди несколько завостренные к тому месту, где у порядочного корабля бывает форштевень. Дымовая труба, тонкая и длинная, торчала, как воткнутая в коробку шутником гильзовая машинка между двумя палочками от той же машинки — мачтами. Пегий фальшборт совершенной бандеролью опоясывал все сооружение.
Такая странная конструкция была выдумана во время империалистической войны для траления Рижского залива из соображений минимальной осадки. Кто-то получил немалые деньги, кого-то собирались отдать под суд, но так и не отдали — по забывчивости или, может быть, по причине военной тайны. Однако шестнадцать таких построек, стяжав себе наименование «гробов», всю войну самоотверженно вылавливали мины, пока одни не взорвались, другие не утонули самостоятельно на слишком крупной для них волне или не развалились и пока не остался в строю гробов разных — один, под названием «Сахар».
Название это обусловливалось обилием выстроенных тральщиков и скудостью предметов минно-трального обихода. Комиссия крестных отцов Морского генерального штаба, перебрав «Ударники», «Минрепы», «Тралы», «Капсюли», «Грузы» и даже «Вешки» и «Взрывы», над шестнадцатым крестником призадумалась. Но, по чистой случайности, адмирал Шалтаев-Аккерманский, беседуя вполголоса с другим членом комиссии, довольно явственно произнес слово «сахар», относя его, впрочем, к отложению в почках. Однако слово это было понято как предложенное название, и, подумав, комиссия решила, что поскольку в мины заграждения вставляется сахар, то слово это, кроме адмиральского недуга, может иметь еще и военное значение специально трального уклона, а следовательно, и поднять дух экипажа нового корабля. А потому циркуляром Главного морского штаба за номером…
— Куда! Ну куда его несет!.. — вскричал Пийчик, угрожая секретным свертком и опуская свободную ладонь в воду, дабы, орудуя ею взамен руля, отвернуть от гудящего катера, вылетевшего из-за кормы линейного корабля. Катер, пронзительно вскрикнув сиреной, забурлил винтом и, дав полный назад, остановился в двух метрах от парусинки. Над кареткой показался ослепительный чехол фуражки и затем недовольное лицо с начальственной складкой губ. Лицо скользнуло взглядом по обдерганной и залатанной парусинке и остановило холодный взор на растерянной улыбке Пийчика.
— Не улыбаться вам, товарищ командир, а плакать надо, — сказало лицо. — Если вы со шлюпкой управиться не можете, что же вы будете делать с кораблем, если такой будет доверен вам в командование? Стыдитесь.
Из каретки высунулась голова в круглых очках и щуплое тельце в клетчатой ковбойке.
— Что это было? Как называется? — спросила голова.
— Вовремя предотвращенная авария. Полный ход! — сказало лицо и махнуло рукой старшине, показав при этом левый рукав, где над четырьмя красными нашивками блестел вышитый золотом якорь, свидетельствующий, что владелец рукава проходит курс наук в Военно-морской академии. Увидев эту эмблему, навсегда связанную в его памяти с курсами переподготовки, Пийчик неожиданно для самого себя привстал на шлюпке, дойдя, очевидно, до точки.
— Вы бы лучше своего старшину обучили, как корабли обходить! — вскрикнул он, обличительно указуя секретным свертком на корму линкора. — По солнцу, товарищ академик, по солнцу у нас на флоте ходят! Конечно, в академии таким мелочам не учат, это вам не локсодромии-мордодромии… Весла на воду!
Парусинка скрипнула, катер забурлил, и оба плавучих средства разошлись, унося в разные стороны одинаковое взаимное неудовольствие своих пассажиров.
Неприятности продолжились сразу же, как Пийчик вошел на корабль. Артельщик, выслушав основное приказание — включить двух гостей на порцию, и дополнительное — чтобы суп был что надо, — хмуро доложил, что дал бы бог своих прокормить, так как подводу забрал один из эсминцев и провизия не доставлена, и что он вообще просит его от этой собачьей должности освободить. Помощник Пийчика Гужевой (он же штурман, он же бессменный вахтенный начальник) сообщил, что курить нечего, и радиовахту вести будет затруднительно, ибо старшина-радист застрял в Петрограде с товаром для судовой лавочки, а одному радисту ловить разные волны невозможно. Выслушивая его, Пийчик складывал вчетверо план операции и, с трудом запихнув его в секретную шкатулку, решительно произнес:
— Без табаку — паршиво. А радист пусть пострадает. Все страдать будем, что же он — святой?
Гужевой почесал живот и вздохнул.
— Я вот, Ян Яныч, насчет кают опасаюсь: писаря и баталера выселить недолго, но последствия с одной приборки никак не уничтожишь.
Пийчик собрался выругаться, но в светлом люке показалось испуганное лицо вахтенного.
— Ян Яныч! К нам катер штабной идет!
— Ну, началось, господи благослови, чертова кукла, — сказал Пийчик и двинулся к трапу. — Да приучи ты их, горлопанов, с докладами вниз спускаться — не на барже живем!
— Так оно же скорее — в люк крикнуть, — удивился Гужевой и полез по трапу вслед за командиром.
К борту уже подходил катер. Боцман, раскорякой нагнувшись в кубрик, длительно переругивался с кем-то насчет штормтрапа. Подтягивая синие рабочие штаны, Гужевой, надув яблоками щеки, пронзительно засвистел в свисток, отчего вся свободная команда, вместо того чтобы стать «смирно», побежала на корму — смотреть, кто приехал. Из каретки катера показался ослепительный чехол фуражки и недовольное лицо с начальственной складкой губ, а с другого борта высунулась голова в очках и щуплое тельце в клетчатой ковбойке. Пийчик обмер.
— Что это было? Как называется? — спросила голова.
— Сигнал «захождение», отдание почестей, — снисходительно пояснило лицо. — Сейчас нас встретит вахтенный начальник и будет рапортовать.
Однако, так как штормтрапа не нашли вовсе, то приезжающих пришлось выгружать вручную, отчего весь ритуал встречи был нарушен. Будучи поставлено на палубе на обе ноги, лицо осмотрелось вокруг и обратилось к Гужевому:
— Я назначен к вам посредником и хотел бы видеть командира корабля.
Пийчик проглотил слюну, одернул китель и, споткнувшись о приезжий чемодан, вышел вперед.
— А… это вы? — сказал посредник и, сухо поздоровавшись, проследовал в приготовленную ему каюту.
Ветер дул прямо в корму и был сырым и плотным. Сырой и плотной была и окружавшая «Сахар» темнота, в которой он скрипел и вздрагивал, выполняя предначертания штаба. Пийчик сидел на жестком диване в походной рубке и, слушая тарахтение рулевой машинки, думал свою невеселую думу.
Он только что вернулся из каюты, где посредник битый час добивался от него, какие он предпримет действия, если у Чертовой Плеши окажется противник. Пийчик потел и моргал глазами, и кончился разговор неприятностью. Посредник сообщил, что, кроме оперативной оценки, он вынужден будет доложить по начальству и об общем состоянии посыльного судна: и что кормят черт знает чем, и что рулевые стоят на штурвале в каких-то залатанных кацавейках, и что радио не смогли передать в течение часа, и что кинорежиссер был введен в заблуждение насчет нравственности, будучи вселен в каюту, где переборки намертво заклеены голыми открытками. Выслушивая неприятное, Пийчик относил все это на счет неудачного своего поведения при встрече с катером. Наконец посредник отпустил его, попросив разбудить, когда «Сахар» придет на траверз Бабушкина маяка (где следовало ворочать на Чертову Плешь), дабы, придя на мостик, оценить его, Пийчикову, способность воевать.
Все это перебирал в памяти Пийчик, рассматривая спину рулевого: тот, и точно, был одет черт знает во что, Кинорежиссер, распространяя запах резинового макинтоша и хорошего табака, шуршал рядом записной книжкой, ибо его жажда впечатлений равнялась Пийчиковой жажде курить. Гужевой — на этот раз в роли штурмана — шагал циркулем по карте, освещенной обернутой в синюю бумагу переносной лампой (что вполне заменяло боевое освещение).
— Сволочи, — сказал он вдруг и встряхнул часы. — Ян Яныч, они все останавливаются. Я этак с прокладки собьюсь.
— Скажи, чтоб из радиорубки принесли, обойдутся и без часов, а то заплывем куда-либо, — сказал Пийчик.
— Нету там. Они без стекла были, я их в ремонт сдал.
— Ну и дурак, — отозвался Пийчик. — Что ж, что без стекла? Зато ходили… А теперь как? Всегда от тебя неприятность.
— Возьмите мои, — встрепенулся кинорежиссер и снял с руки золотой браслет. — Часы прекрасные, и я буду очень рад.
Пийчик посмотрел на него сбоку.
— Давайте. — И, подумав, добавил: — У вас, может, и папиросы есть?
Папиросы нашлись, и их теплый дым растопил ледок отношений. Кинорежиссер осмелел.
— Скажите, капитан, отчего мы все время виляем? Это маневрирование? Как это называется?
«Сахар» действительно рыскал вправо и влево. Пийчик вздохнул и, ответив, что корабль идет зигзагом по причине подлодок, подошел к рулевому.
— Пенкин, — предостерегающе шепнул он, — я тебе засну!
— Так, Ян же Янович, — тоже шепотом ответил рулевой, — руля не слушает: ходу вовсе нет…
— Скажите, капитан, а какая у нас скорость? — подняв очки от записной книжки, вновь спросил гость.
Гужевой открыл уже рот, чтобы ответить своей обычной остротой, что было шесть узлов в час — в первый, а во втором и трех не натянули, но Пийчик его предупредил:
— Сколько положено: полный ход двенадцать узлов(2) — сказал он твердо и, приложив губы к переговорной трубе, возможно тише спросил: — В машине!.. Что у вас там опять?
Скорость корабля выражается относительной мерой — узлами, означающими скорость в морских милях в час. Тросик лага, выпускаемый на ходу с кормы, разбивался узелками на расстоянии по 1/120 мили (50 футов). Сосчитав число узелков, пробежавших за полминуты — 1/120 часа, можно прямо узнать скорость в морских милях в час. Отсюда следует, что выражение «30 узлов в час» явно бессмысленно: получится, что корабль вместо приличного хода в 55 километров в час тащится по 1500 футов (470 метров) в час, что и невероятно и обидно.
Гужевой хотел сказать, что в первом часу похода еще удавалось держать скорость в шесть узлов, а во втором и того не получилось. Пийчик хорошо сделал, что его остановил, ибо острота его все равно не была бы оценена гостем. Но тот, оперируя записной книжкой, мог бы потом утверждать, что сам слышал, как моряки говорят: «Столько-то узлов в час». А это выражение и так уже часто встречается в морских романах.
Загробный голос ответил:
— Пару нет. Вентиляторы стали.
— Так какого же вы черта… — начал было Пийчик, но, посмотрев на кинорежиссера, отошел от трубы.
— Фрол Саввич, я в машину пройду, тут мне разговаривать несвободно, — сказал он и взялся за ручку двери. — Правь по курсу да маяк не прозевай…
Кинорежиссер оживился:
— Можно, капитан, с вами? Что-нибудь случилось?
Папироса была уже выкурена, и Пийчик хмуро отрезал:
— Нельзя, секретно. — И вышел из рубки.
Но не успел Гужевой удивиться, отчего киночасы показывают на сорок минут вперед, как Пийчик вернулся в рубку, имея крайне встревоженный вид.
— Я пошутил, товарищ, — сказал он гостю необычайно мягким тоном. — Идите машину посмотреть: там, знаете, всякие лошадиные силы, эксцентрики разные, колесики… Очень интересно… Вот вас вахтенный проводит… Вахтенный!
Когда дверь за кинорежиссером закрылась, Пийчик подошел к карте и дернул Гужевого за рукав.
— Что же ты, окаянный человек, наделал? Где наше место, ну, где?
Гужевой деловито пошагал циркулем и ткнул пальцем за две мили до поворота на Чертову Плешь.
— Вот тут, — сказал он уверенно, но, взглянув на Пийчика, докончил менее бодрым тоном: — Минут через двадцать Бабушкин маяк откроется…
— Бабушка твоя откроется, а не маяк! А это что?
И Пийчик распахнул дверь. Далеко за кормой в темноте подмигнул красный свет — раз, другой, третий, — и снова на горизонт села сентябрьская ночь. Гужевой почесал живот и вздохнул.
— Не может того быть, Ян Яныч, чтобы маяк уже за кормой был… Нам до поворота еще верный час идти, У нас же ход не боле чем три узла…
— А ветер, штурман ты несчастный, ветер-то в корму? — вскричал Пийчик. — В такую погоду у нас от ветра больше ходу, чем от машин… Да и часы у тебя врали… Ну, что я посреднику скажу?
— Назад надо ворочать, — решительно сказал Гужевой. — Он же спит. Не все ли ему равно, с оста или с веста к повороту подойдем…
— Лево на борт, обратный курс, — сказал в отчаянье Пийчик и уронил голову на руки.
«Сахар» вздрогнул раз, вздрогнул другой — и вдруг ухнул правым бортом вниз, после чего начал валяться с боку на бок, поворачивая на волне. Захлопали двери, застонали переборки, и посредник скатился со скользкого диванчика на палубу, пребольно стукнувшись при этом левой коленкой. Такое пробуждение дало ему понять, что «Сахар» повернул на юг, к Чертовой Плеши. Он методически собрал свои блокноты, рассыпавшиеся по каюте, и, выключив огонь, вышел на мостик. В рубке он никого не нашел, кроме рулевого, который, к его удивлению, держал обратный курс. Посредник вышел на мостик и окликнул командира. Пийчик отозвался откуда-то сверху, где в темноте можно было предполагать главный компас.
— В чем дело, отчего вы повернули обратно? — спросил посредник.
В темноте наверху послышался шепот, из которого выделились слова «неудобно» Пийчика и решительное «черт с ним» — Гужевого. Потом голос Пийчика неуверенно ответил:
— Миноносцы.
— Где вы их видите? — изумился посредник и попытался нашарить рукой трап наверх, но, занозив палец о деревянную обшивку рубки, сунул его в рот и замолчал.
— Там, — ответил голос Пийчика.
— Где «там»? Мне же не видно, куда вы показываете. На норде? На зюйде?
— На норде, — сказал Пийчик с натугой, словно отвечая по подсказке незнакомый урок.
— Не понимаю, как они могли там очутиться. Там же непротраленный район, — раздраженно сказал посредник. — Сойдите в рубку и покажите наше место.
Темнота вновь зашепталась, потом две пары ног прогремели по трапу, и голос Пийчика сказал уже в непосредственной близости:
— Видите ли… подходя к повороту, я заметил факелы из труб. Вот и пришлось пройти точку поворота, не меняя курса, чтоб выяснить обстановку… Пройдя две мили, я повернул обратно, думал, вот теперь-то прорвусь на Чертову Плешь. Гляжу — опять факелы… Аккурат, когда вы поднялись на мостик…
— Странно, — сказал посредник, припоминая план синей стороны, в котором ни одного слова не говорилось о посылке миноносцев к Чертовой Плеши. — Странно… но, конечно, возможно. И сколько, вы считаете, там миноносцев?
— Три, — ответил Пийчик и подумал: «Что мне — жалко?»
— Каково же ваше решение в связи с изменением обстановки? — задал проклятый вопрос посредник.
— Вот на карту взгляну и сейчас вам отвечу. Только вы в рубку не входите, а то потом глаза ослепнут, — сказал Пийчик и уверенно пошел в рубку.
Но когда он закрыл дверь, вся уверенность его исчезла.
— Наврал, — коротко сообщил он Гужевому. — Теперь все от тебя зависит: есть у тебя место — иду к Чертовой Плеши, нет места — хоть топись.
— Топись, — мрачно ответил Гужевой, — нет у меня места. Через полчаса будет, надо поближе к маяку подойти.
— Полчаса! — вскричал Пийчик. — Что же я ему полчаса врать буду?
— Что хочешь, то и ври. Ты командир — твоя и воля.
— А ты штурман! Давай место, не могу я без точного места на банку идти! Маневры маневрами, а камушки-то не условные!
— Да что я, рожу тебе место? — вскипел Гужевой, и кто знает, что произошло бы в рубке, если бы дверь не открылась и не вошел посредник, преследуя Пийчика, как совесть убийцу.
— Не вижу я эсминцев, и не должно их там быть, — сказал он, глядя на карту. — Ну, покажите, где ваше место?
Гужевой, приняв озабоченный вид, вышел из рубки. Пийчик проводил его взглядом, исполненным злобы и отчаяния, и положил на карту ладонь:
— Тут.
— Ну, а точнее?
Пийчик медленно убрал один за другим пальцы, оставив на курсе указательный, который в масштабе карты покрыл добрые две мили. «Сахар» и в самом деле был где-то в этом районе.
— Зачем же вы так далеко прошли от поворота? — недоумевающе сказал посредник. — Вы рискуете не успеть до рассвета окончить постановку… Ну, и какое у вас решение?
— Я решил… — нерешительно начал Пийчик, но вдруг заметил в стекле рубки приплюснутый добела нос Гужевого и страшно выпученные глаза, которые пытались подмигивать.
— Вот оценю обстановку и сейчас вам отвечу, — докончил он растерянно и быстро вышел на мостик.
— Ну, куда я от него убегу? — с отчаянием спросил он Гужевого. — Что тут случилось, Фрол Саввич?
— Труба твое дело, Иван-царевич, — прошептал Гужевой. — Никакого места не будет. Видимости нет.
Пийчик взглянул в сторону маяка и долгую минуту со стесненным сердцем ждал его вспышки. Наконец мутно-красным глазом подмигнул далекий огонь, закрываясь плотной сырой мглой. Ветер слабел, и надежда, что маяк откроется, слабела вместе с ним.
— Приехали, — упавшим голосом пробормотал Пийчик.
Дверь рубки открылась, и, чувствуя приближение посредника, он застонал. Видимо, терпение того истощилось, потому что в голосе его звучало неприкрытое раздражение:
— Ну… Осмотрелись, товарищ командир корабля? Сообщите ваше решение.
Пийчик взглянул в темноту и тоном человека, которому нечего больше терять, ответил:
— Не могу я вам сказать своего решения.
— Иначе говоря, — язвительно предположил посредник, — вы не пришли ни к какому решению?
— Нет, как же можно… Пришел… Только я потом вам скажу.
— Вы обязаны поставить меня в известность, если решение вы приняли, — сказал посредник наставительно — Как же я оценю ваши действия, если не знаю замысла?
— Ну, не могу я вам сейчас сказать, ей-богу же, не могу, — искренне простонал Пийчик и добавил: — Мне самому неприятно, что так выходит…
— Значит, операция сорвана?
— Это как желаете, — покорно ответил Пийчик.
— Я укажу на разборе маневров, что она сорвана по вашей вине, — сухо сказал посредник. — Что же, я ухожу. Мне, вероятно, больше нечего делать на мостике?
— Верно, идите, — обрадовался Пийчик. — Если что будет, я пошлю доложить, а чего вам тут мерзнуть?.. Фрол Саввич, распорядитесь товарищу посреднику чайку прислать!
— Благодарю вас, — негодующе поклонился в темноту посредник и, оскорбленный в лучших чувствах, направился в каюту писать рапорт начальнику академии.
Подумать только: кто мог ожидать, что его — слушателя последнего курса, кому по окончании академии прочили кафедру военно-морского искусства, — вдруг грубо сунут посредником на такую беспомощную посудину? Подписывая его командировку на эти первые после гражданской войны маневры, начальник академии со всей значительностью подчеркнул всю важность его миссии. В самом деле, эта странная война, в которой все шло шиворот-навыворот, в которой все заветы стратегии и тактики были чудовищно искажены, наконец, слава богу, кончилась. Пришло время, когда можно было внушать плавающему составу забытые им вечные и неизменные принципы, на которых зиждется морская победа. И, перебираясь на штабном катере в Кронштадт (в котором ему как-то не довелось побывать за все время войны), будущий руководитель кафедры с удовольствием представлял себе, какие широкие горизонты он откроет командующему той стороны, где он будет начальником штаба или, в крайнем случае, — начальником оперативного отдела. Но, очевидно, в штабе руководства совершенно упустили из виду ту огромную пользу, которую он мог бы принести флоту: по прибытии он обнаружил, что вся оперативная разработка была поручена тем же командирам, которые всю гражданскую войну провели в полном забвении (или в незнании?) основ военно-морского искусства.
Блокнот, который он мимоходом взял со стола в штабе руководства, оказался из отличной бумаги, плотной и глянцевитой, по которой отточенный карандаш скользил с особой охотой. Жизнь, видимо, начинала постепенно налаживаться во всем, начиная от первых ростков частной торговли и кончая возрождением академической мысли: бумага была ничуть не хуже той, на которой в шестнадцатом году он писал свою первую статью в «Морской сборник», открывшую ему впоследствии дорогу в академию. Качество бумаги и оскорбленная наука, взаимно сложившись, порождали изумительный по силе логики и эрудиции рапорт. В нем посыльное судно «Сахар» еще на первом листе было неразличимо смешано с пищей воробьев и уже было забыто, ибо не этим незначительным объектом могла интересоваться пробужденная мысль академика.
Рапорт подвергал жестокой критике самый план постановки заграждения. Доказывалось, что план был разработан штабом красной стороны с наивной кустарщиной, без глубокого анализа всех вариантов возможных действий противника, с путаной формулировкой решения, с небрежной документацией. Особо возмутительным был «Исторический и гидрологический обзор банки Чертова Плешь», где были допущены грубая неграмотность в определении господствующих на ней ветров и вопиющие ошибки в оценке стратегического значения этой банки для петровского галерного флота. Затем оказалось уместным (с дозволительной в официальном документе долей иронии!) показать на примере Пийчика уровень знаний современного командного состава вообще и намекнуть, как губительно доверять даже незначительную операцию командиру, не имеющему академического образования. Тут в голове мелькнула интереснейшая мысль, и, написав заглавие посвященного ей пункта одиннадцатого — «Некоторые соображения по вопросу о влиянии индивидуальности командующего операцией на общий ход выполнения таковой», — будущий руководитель кафедры пожалел, что не догадался сразу же подложить копирку, ибо мысли, излагаемые в рапорте, превращали его в готовый конспект лекции по курсу военно-морского искусства.
Между тем тот, кто своим поведением вызвал к жизни этот замечательный образец глубокого академического анализа, то есть сам Пийчик, молча стоял на мостике, вперив глаза в сырую и плотную темноту, и ждал.
Чего?.. Маяка?.. Гибели?.. Или встречного корабля, чтобы спросить у него семафором его место?
Ужасна судьба корабля, потерявшего свое место в море! Еще ужаснее состояние его капитана: впиваясь судорожно стиснутыми руками в поручни, он всматривается в темноту, обвиняя себя в преступной небрежности, с тоской в душе вспоминая дорогие лица жены и детей, оставленных на далеком берегу… С дрожью ждет он страшного удара о подводный камень, и каждый гребень волны, белеющий во мраке, чудится ему зловещим прибоем у береговых скал, который превратит в обломки его корабль… Ежеминутно готов он крикнуть громовым голосом роковой приказ «руби грот-мачту!», чтобы, испытав и это последнее отчаянное средство к спасению, остаться со скрещенными на груди руками на мостике корабля, уходящего в бездну…(3) И если даст ему судьба пережить эту страшную ночь, то утром соплаватели с молчаливым уважением отведут взоры от его поседевшей за эту ночь головы…
Нет, напрасно тому, кто сам не терял свое место в море, угадывать, что творится в душе такого капитана, какие чувства терзают его сердце, какие мысли мучают его изнемогающий ум…
— Ведь вот же до чего курить охота, чертова кукла, — сказал Пийчик, оборачиваясь к окну рубки. — Поищи-ка, Фрол Саввич, может, где в столе завалялось…
— Смотрел уж, Ян Яныч, — мрачно ответил Гужевой. — Все как есть скурили. Доплавались… ни места, ни табаку…
— Плохо, — печально вздохнул Пийчик — Я без табаку думать не могу.
— А чего думать-то? — флегматично возразил Гужевой. — Скоро светать начнет. Неужели не обнаружим себя, где мы есть?.. В крайнем случае и напрямик домой дойдем. На нас воды везде хватит, эка штука…
— Да я не о том, — помолчав, сказал Пийчик. — Я думаю, как бы нам на Чертову Плешь повернуть? Ну, мили на две ошибемся… Авось ничего.
Гужевой с явным беспокойством высунулся из окна.
— Что ты, Ян Яныч, как можно без точного места на банку идти? — неодобрительно сказал он. — Повернуть недолго, но коли не угадаем — там камушки, сам знаешь… Выдумали петрушку с этими маневрами, а нам в трибунал?
Пийчик снова вздохнул.
— Петрушка — оно конечно… А ворочать нам все одно надо. Все ж таки такое дело нам доверили — надо оправдать… Засмеют, Фрол Саввич. Вот тебе, скажут, и «Сахар»! Не зря его капусту возить поставили… И перед Андрей Андреичем неудобно: вспомнил о нас человек, надеясь, как на путных, а мы — на-кося…
Это рассуждение чрезвычайно не понравилось Гужевому, который не имел никаких причин обижаться на капусту. Наоборот, разжалование из тральщика в портовое посыльное судно избавило «Сахар» и самого Гужевого от утомительного хождения с тралом по минным полям, чем без продыху занимались весь прошлый год, и нынешняя спокойная жизнь была более подходящей. Упоминание же об Андрее Андреевиче вызвало в нем только неприятные воспоминания о некоторых ошибках по штурманской части, ядовито подмечавшихся последним. Поэтому мотивировки Ян Яныча никак не убедили Гужевого в необходимости искать ночью, без места, окаянную Чертову Плешь.
Но, хорошо зная своего капитана, спорить с которым, если уже он что заберет себе в голову, было занятием пустым, он дипломатично промолчал, надеясь, что вздорную мысль о постановке этого дурацкого заграждения скоро выдует из капитанской головы ночным ветерком.
Но Ян Яныч, еще постояв, повздыхав и подумав, вошел в рубку и склонился над картой.
На ней прямым пунктиром, отмеченным частоколом вех, тянулся Большой корабельный фарватер, от которого у злополучного Бабушкина маяка ответвлялась на юг длинная «Большая Лужская». В конце ее, в кокетливом ожерелье разнообразных вех — крестовых, нордовых, зюйдовых и иных — чернела Чертова Плешь, и у одной из этих вех волей штаба было намечено то проклятое заграждение, от которого зависела победа красной стороны, честь посыльного судна «Сахар» и настроение Гужевого, который все с большим беспокойством ожидал, что наконец решит Пийчик. Неужто в самом деле пойдет на камни?
И пока Пийчик припоминал, как был виден в момент рокового поворота Бабушкин маяк, и прикидывал ход и ветер, тщетно пытаясь догадаться, в какой точке карты может находиться «Сахар», — в тревожном взоре Гужевого, устремленном на Чертову Плешь, грозящую неминуемым трибуналом, медлительно засветилась мысль.
— Ян Яныч, — сказал он, сам удивляясь своей догадке. — Так она ж крестовая!
— Кто?
— Да веха у Чертовой Плеши, от которой мины кидать.
— А что мне с того — легче? — горько сказал Пийчик. — Где ее теперь сыщешь? Заплыл ты, брат, черт тебя знает куда, а я расхлебывай. Тебе, Фрол Саввич, не корабли водить, а…
И Пийчик высказал такое предположение, что Тюкин, сменивший на штурвале рулевого, фыркнул и покрутил носом. Но Гужевой, счастливый своей находкой, ничуть не обиделся на предложенную ему профессию и хитро улыбнулся.
— А зачем нам ее искать? Мы же по Кронштадтскому проспекту идем, а тут вех — что посеяно! И все — крестовые… Подойдем к любой, покажем посреднику — вот, мол, вам вторая крестовая у Чертовой Плеши, как в аптеке! И валяй, благословясь, — все равно ведь на бумаге… Ему в темноте не видать, а на карте я тебе полный пейзаж нарисую: и где шли, и где поворачивали, и моменты проставлю…
Пийчик повернулся к нему, и лицо его на миг просветлело. Но, подумав, он огорченно покачал головой.
— Да не найдешь ты вехи. Днем бы увидали. А ночью — где их увидишь?
— Ян Яныч, — оскорбленно сказал Гужевой. — Мы же обратным курсом идем, а компас у меня работает, как часы… То есть не как часы… — поправился он, вспомнив, — часы меня, Ян Яныч, подвели, это точно… Я из-за часов и поворот проскочил… А компас — уж будь покоен! Туда по вехам шли впритирочку, значит, и обратно они у нас рядышком…
Видимо, перспектива одним ударом закончить эту нудную операцию соблазнила и Пийчика, потому что, постояв над картой и повздыхав, он решительно поднял голову.
— Ищи веху. Но смотри, Фрол Саввич, коли не найдешь!
Чуть заметно светало, и веху действительно можно было приметить. Минут десять оба стояли на крыльях мостика, потом Гужевой радостно вскрикнул:
— Веха, Ян Яныч, ей-богу, веха! Крестовая!.. Стопори машины! Я сейчас карту разрисую — буди посредника!
— Обожди, — сказал Пийчик. — Иди в рубку, малый ход дай… Да не телеграфом — голосом скажи: опять, не дай бог, тот на звонки вылезет… Товарищ Тюкин, вон слева веха, подворачивайте полегоньку!
«Сахар» медленно подошел к крестовой вехе, и Пийчик включил «прожектор». Этим пышным именем на «Сахаре» называлась обыкновенная стосвечовая лампа, приспособленная к автомобильной фаре для освещения пристаней. Однако света ее оказалось вполне достаточно, чтобы на дощечке, прибитой к штоку вехи, разобрать номер восемнадцатый. Пийчик выключил «прожектор» и быстро вошел в рубку.
— Ну, ты, штурман господа бога, вот тебе и место! — сказал он торжествующе. — Считай на карте восемнадцатую веху, им на этом колене от Бьоркского тупика счет идет, забыл, что ли, как сами их ставили?.. Ну-ка, покажи… Эк куда заплыл! Подкинь, сколько отсюдова до Чертовой Плеши… — Он нагнулся к переговорной трубе. — В машине! Полный ход! Да глядите у меня с вентиляторами, чтоб самый парадный ход был, а то дам я вам жизни! В боевую операцию идем, понятно?..
Гужевой, пошагав по карте циркулем, почесал живот.
— Все одно, Ян Яныч, не получается. Не поспеем: и самым парадным полтора часа ходу, а скоро светает.
— Полтора? — удивился Пийчик. — Ты как же считал?
— Как полагается: по Кронштадтскому проспекту и по «Большой Лужской».
— А кто тебя учил по фарватерам считать? — сердито сказал Пийчик. — Ты мне тут локсодромии-мордодромии не разводи! Напрямик считай — с этой вехи до той. Срезай угол, что мы, линкор, что ли?
Гужевой вздохнул.
— Да неаккуратно напрямки-то, Ян Яныч… Вот же тут — восемь-бе…
— Хоть десять-ве! Раз боевое задание, по-боевому и действуй, и брось ты эту привычку с командиром корабля пререкаться! — оборвал его Пийчик и повернулся к штурвалу. — Как, товарищ Тюкин, оцениваете мое решение? Пройдем?
— А чего же не пройти, — спокойно отозвался Тюкин, — до самой смерти ничего не будет. Воевать так воевать. Без обмана рабоче-крестьянского флота.
— Слыхал, Фрол Саввич? Ну и давай курс. Тут не более как полчаса идти… Вахтенный! Доложи товарищу посреднику, он в боцманской каюте спит: повернули, мол, к месту постановки…
Так на самом интересном месте был оборван документ, столь много обещавший, и посредник, недовольный и раздраженный, появился в рубке.
— Ну что же, пришли к решению, товарищ командир корабля? — спросил он с явной насмешкой. — Докладывайте ваше решение… Посмотрим…
Пийчик откашлялся.
— Обстановка, — начал Пийчик, с трудом припоминая, как учили его выражаться на курсах переподготовки, — обстановка сложилась таковой, что противник, надо понимать, упорно блокирует поворот на Чертову Плешь, сами видели… Так… Теперь — решение… Я, значит, решил… форсировать это самое… в целях обхода противника и сокращения времени… — Он крякнул и быстро докончил, ткнув циркулем в восемнадцатую веху: — Словом, прямо отсюда повернул на место постановки и иду этим курсом. Аккурат вовремя будем.
— Что ж, — благосклонно сказал посредник, — решение инициативное. Хотя все-таки в наличии противника у поворота я сомневаюсь. Покажите карту… Значит, вы наблюдали миноносцы на норде… Где ваше место?
Он нагнулся над картой, и вдруг глаза его округлились. Проложенный от восемнадцатой вехи курс действительно срезал угол между протраленными фарватерами, но сразу же за вехой проходил по неправильному четырехугольнику, заштрихованному на карте красными чернилами, где Гужевым со всей старательностью было выведено: «Опасный район № VIII-Б».
— Позвольте, — сказал посредник, слегка заикаясь. — Позвольте… Вы же идете на заграждение. И не условное!
— Так оно ж не наше. Оно белогвардейское, — сказал Пийчик с удивительной логикой, которую посредник никак не смог оценить.
— Позвольте, — опять сказал он. — Какая же разница, наше или белогвардейское? Ведь это же мины! И боевые!
— Ну как, какая разница? — в свою очередь, поразился Пийчик. — Беляки меньше чем на четырнадцать футов не ставили, это уже как святое дело. На наших заграждениях ходить — оно действительно когда как: наши против ихних тральщиков нет-нет, а ставили минку фута на три-четыре. А по чужому я жену прокачу… конечно, в тихую погоду, — добавил он, заметив то странное выражение, с которым смотрел на него посредник. — Ну, да и сейчас волна небольшая, так что вы не беспокойтесь, все будет аккуратно.
— Позвольте, — в третий раз сказал посредник прилипшее к языку слово. — Вы просто сошли с ума, или… Лево на борт! — вдруг властно повернулся он к Тюкину.
— Нет, теперь уж вы позвольте, — с неожиданной твердостью в голосе сказал Пийчик. — Где это видано — при живом командире рулем командовать?
В этот момент волна приподняла «Сахар», после чего он довольно глубоко ухнул в воду, и посреднику показалось, что сейчас раздастся взрыв. Очевидно, это ожидание отразилось и на его лице, потому что Пийчик вдруг изменил тон.
— Да вы не беспокойтесь, — сказал он мягко, как труднобольному, — прошлый год, когда тралили, мы всю дорогу только по минам и ходили — и ничего. У нас осадка вполне пригодная. А тут всего полчасика и потерпеть…
Но посредник, овладев собой, подошел к нему с видом надменным и решительным.
— Как представитель штаба руководства, — сказал он холодно, — я приказываю вам немедленно повернуть. Район запрещен для плавания, потрудитесь выполнять операцию по разрешенным фарватерам. Вы действуете вне всяких правил.
— Так какие же правила, когда боевое задание? — искренне удивился Пийчик.
— Так это же маневры! — с отчаянием воскликнул посредник. — Понимаете — маневры!
— Вот и я говорю — маневры, — подтвердил Пийчик. — Раз маневры, значит, вроде как война… Какие уж там фарватеры.
— Да поймите вы, — сказал посредник, вытирая со лба пот, — заграждение вы ставите условно, ведете огонь — условно, если гибнете — тоже условно… А вы хотите…
— Коли все условно, нечего было нас и посылать, — раздраженно перебил Пийчик. — А то людей беспокоят, корабль в море гонят, табаку вот даже дождаться не дали… Нет уж, коли ставить, так ставить, решаю по-боевому — и точка, — сказал он жестко и потом добавил с откровенной насмешкой: — А коли все условно, товарищ посредник, так дайте радио, что заграждение я уже поставил: считаю условно, что у меня ход был двадцать узлов, условно я к Чертовой Плеши давно смотался, — и разрешите идти в базу…
Посредник посмотрел на него, как на стену, которую голыми руками прошибить невозможно. Доказывать, действовать логикой было некогда — «Сахар» шел по минному полю и ежеминутно мог взлететь на воздух… Ну, правда, ходил же он над минами, когда тралил, — и ничего… Но там — траление, необходимость, а тут из-за какой-то дурацкой операции, выдуманной штабом… Четырнадцать футов, а волна? Волна и на пятнадцать посадит… Все это походило на сонный кошмар, мысли путались, не то чтобы испуг, так просто — непривычка ходить по минным полям… В конце концов не собирается же этот сумасшедший взорваться… Может быть, и в самом деле…
Тут «Сахар» опять ухнул с волны довольно глубоко, и посреднику с необыкновенной отчетливостью стало ясно, что надо немедленно найти какой-то выход из положения, заставить этого упрямого тупицу повернуть обратно. И тогда в спутанных его мыслях мелькнуло слово, которого все эти смутные годы он избегал и побаивался, и, пожалуй, впервые он подумал об этом слове без иронии и тайного презрения.
— Комиссар… — сказал он с тем глубоким чувством надежды и веры, какое вкладывали в это слово матросы. — Где ваш комиссар?
— А комиссара у нас нет, — ответил Пийчик, как бы извиняясь. — Как из тральщиков разжаловали, так и комиссара не стало. А секретарь ячейки вот. Побеседуйте. Только с ним согласовано.
Он показал на рулевого Тюкина и деликатно вышел из рубки. Гужевой вышел вслед за ним.
— Ишь заколбасил, — сказал Гужевой. — И комиссара припомнил, как привернуло… Ян Яныч, может, подойти к какой-нибудь вехе? Он сейчас на все согласится, по всей видимости — доспел…
— Отстань ты, Фрол Саввич, — сурово отозвался Пийчик. — Сказали тебе, не ему обман выйдет, а рабоче-крестьянскому флоту. Нет в тебе твердости характера.
— Да нет, я шучу, — сказал Гужевой и вздохнул. — Я вот думаю, Ян Яныч, — и чего человек разоряется? Хожено тут, перехожено… Сидят на берегу, а потом удивляются… Ему бы разок потралить, да в волну…
— Это тебе не локсодромии-мордодромии, — с жестоким удовлетворением сказал Пийчик и, подумав, добавил: — Операторы-сепараторы, туды их к черту в подкладку… Давай боевую тревогу.
— Тревогу? — переспросил Гужевой, и по тону его Пийчик понял, что он чешет живот, что делал во всех затруднительных случаях. — А чем давать, Ян Яныч? У нас же звонок неисправен.
Пийчик внезапно рассвирепел.
— Вот и воюй с тобой, обломом! — вскрикнул он. — Послал бог помощничка! Звонки не работают, часы скисли, рулевые черт знает в каких кацавейках на вахту выходят! Обожди, вернемся, я из тебя пыль повыбью! На первый раз пойдете, товарищ помощник, на трое суток на губу за замеченные мной безобразия на вверенном мне корабле!
— Ян Яныч! — поразился Гужевой. — Что с тобой, сшалел ты, что ли?
— Еще двое суток за такой разговор с командиром корабля! Давайте боевую тревогу, товарищ помощник! Чем хочешь, тем и давай, хоть в ведро бей!
Гужевой, подобрав живот, скатился по трапу вниз, и палубу «Сахара» огласили различные команды, прерываемые пронзительным свистком:
— Все наверх! Боевая тревога! Боцман, буди команду! Кто там у люка? Петрягин, скидавай всех с коек! Духом чтоб на местах были!
Тем временем и в Тюкине посредник нашел такое же упорство, как и в Пийчике. Тюкин сообщил, что Ян Яныч командир вполне боевой, и раз он считает, что на минное поле идти нужно, стало быть, и нужно идти. Тем более что в прошлом году «Сахар» только и делал, что ходил по минным полям, и что ничего особенного он, Тюкин, в этом не видит.
В этих долгих разговорах — взорвется здесь «Сахар» или не взорвется — заграждение было благополучно пройдено, а «Сахар» так и не взорвался. Наоборот, дойдя до заветной крестовой вехи Чертовой Плеши, он сам поставил на погибель синим условное заграждение, вынудив этим посредника дать радио, после чего тот ушел опять в свою каюту.
Но пережитое им на мостике так отвлекло его от спокойного течения мыслей, что, взглянув на недоконченный рапорт, он лег на койку чтобы сном подкрепить нервы. Однако и этого не удалось: едва смежил он очи, как по всему кораблю раздался оглушительный трезвон, и он выскочил из каюты, сбив с ног выбежавшего на шум кинорежиссера.
— Что это было? Как называется? — спросил тот.
Но посредник довольно грубо ответил, что сам не знает, и поспешил на мостик выяснить, в чем дело, благословляя судьбу, что режиссер не присутствовал в рубке при проходе минного поля. И зачем вообще посылают на маневры посторонних?..
На мостике выяснилось, что Гужевой, пристыженный выговором Пийчика, после окончания постановки занялся звонком боевой тревоги, самолично наладил его и теперь решил опробовать. Только после этого посредник наконец заснул, не подозревая, что его ждут новые боевые действия Пийчика, вошедшего во вкус маневров.
Трезвон несколько примирил Пийчика с помощником — было видно, что внушение подействовало на флегматичную его натуру. Он даже снял с Гужевого гауптвахту после того, как тот поклялся страшной клятвой, что с завтрашнего дня на «Сахаре» будет все фасон, как на линкоре: и медяшку будут драить, и команда снимет кацавейки, и в кубриках перестанут курить, и что сам он, Гужевой, лично сходит в инструментальную камеру за часами.
Уже рассветало, но мгла по-прежнему не поднималась над водой, и все вешки — осевые и поворотные — выплывали из нее навстречу «Сахару», который исправно шел по фарватерам, отсчитывая время по киночасам. Возле поворота на Кронштадтский проспект Пийчик, всмотревшись вперед, вдруг глухо скомандовал: «Право на борт» и поставил телеграф на «стоп». «Сахар» вильнул в сторону и плавно закачался: слева, саженях в сорока, чуть проступал во мгле силуэт огромного корабля. Гужевой вгляделся в него.
— «Ща», — сказал он радостно, — ей-богу, «Ща»!.. На якоре стоит, должно, мглы забоялись… Тоже воевать заставили транспортюгу! Ян Яныч, подойдем, табаку попросим…
— Не ори, — шепотом сказал Пийчик. — Он тебе покажет табаку… На-ка ключ, сбегай в каюту, там в секретной шкатулке состав сторон. Тащи сюда, я так прочесть и не поспел.
— Нечего и смотреть, Ян Яныч, — жарко зашептал ему в ухо Гужевой. — У нас во флигеле ихний механик живет, жаловался, что в работу забрали, — синий десант высаживать.
Пийчик выпрямился. Дух Сенявина и Нахимова осенил его рыжеватую голову.
— Коли так, — шепнул он, сжимая Гужевое плечо, — то буди комендора, он под пушкой спит.
— Ян Яныч, — сказал Гужевой, невольно заражаясь его воинственностью, — я лучше звонок дам, все враз вскочат…
— Иди ты со своим звонком, там же услышат!.. Буди, говорю, комендора…
Гужевой исчез. На баке послышалась сдержанная возня, приглушенный звон холостого патрона, и замок орудия щелкнул.
— Готово, что ли? — зашептал Пийчик, перевесившись с мостика и с трудом сдерживая волю к победе. — Да не тяните вы, черти, экая рыбина попалась… Готово?
— Готово, — донесся шепот Гужевого.
— Залп! — громко скомандовал Пийчик. — Буди посредника! Боевая тревога! Стреляй дальше!
Орудие тявкнуло раз и два, гремучий перезвон боевой тревоги потряс весь «Сахар», команда повскакала с коек. Посредник, с блокнотом и часами в руке, бежал к рубке, и Пийчик еще издали кричал ему.
— Запишите, открыл огонь! Стреляю из всех орудий беглым огнем по транспорту! Курсовой угол девяносто градусов! Ход — стоп!
На серой громаде «Ща» вспыхнул луч прожектора и жалобно хлопнула салютная пушчонка.
— Прозевали! — торжествующе кричал Пийчик, мигая своим «прожектором», что обозначало ведение непрерывного артиллерийского огня. — Поздно, милые! Вы уже покойнички, будьте спокойны!
Кинорежиссер, проклиная себя за несвоевременный сон, подбежал к Пийчику.
— Что это было? Как называется? — спросил он, раскрывая записную книжку.
— Ночная атака на принципе внезапности дайте папиросу, — без запятых ответил Пийчик и повернулся к посреднику: — Считаю транспорт утопленным. Он не успел открыть огня, а я уже двадцать снарядов выпустил.
— Транспорт? — ехидно спросил посредник. — А где вы видите транспорт?
— Как где? — удивился Пийчик. — Так вот же «Ща» стоит, как миленький!
Посредник окинул его уничтожающим взглядом, в котором ему удалось выразить почти все чувства, накипевшие в его душе за этот поход.
— Если бы вы дали себе труд ознакомиться с маневренными документами, товарищ командир корабля, — медленно и со вкусом начал он, — то вы бы знали, что перед вами не транспорт, а линейный корабль типа «Айрон Дьюк», и, учитывая его броню и калибр его орудий, вероятно, постарались бы пройти незамеченным, а не кидаться в эту бессмысленную атаку. Таким образом, утоплен не он, а вы. Будьте любезны поднять «глаголь» и можете возвращаться на базу, — мстительно закончил он и, взяв под руку кинорежиссера, ушел с мостика.
Пийчик ошеломленно посмотрел ему вслед, потом плюнул за борт и повернулся к Гужевому.
— И всегда ты, Фрол Саввич, напутаешь, — горько сказал он. — Говорил тебе — тащи состав сторон… Механик, механик… Живешь сплетнями, а дела не знаешь…
— Да кто же его знал, Ян Яныч, — смущенно забормотал Гужевой, но Пийчик гневно махнул на него рукой.
— Подымай «глаголь», отвоевались… Локсодромии-мордодромии проклятые… Живого корабля не признать… Линкор… «Айрон Дьюк», чертов крюк… Право на борт!
Холодная осенняя заря наконец встала над Финским заливом, осветив унылым светом серые волны и покачивающийся в них «Сахар». На долгом пути его в базу встречались ему и синие и красные корабли. Но синие по нему не стреляли, а красные не подзывали к борту, чтобы дать поручение или снабдить табаком: на фок-мачте «Сахара» трепетал треугольный флаг — роковой «глаголь», означающий, что данный корабль давно утоплен и что он — только обман зрения, некий призрак, подобный кораблю Летучего Голландца, с той только разницей, что корабль Голландца не существовал, но был видим, «Сахар» же существовал, но был невидим.
И на мостике его с той же печатью скорби на челе, которая отмечала легендарного капитана, сидел Пийчик, страдая без папирос и размышляя о странностях маневров. Ведь вот как получилось: по настоящим минам прошли, а от какой-то бумажки погибли.
Эти печальные его думы были прерваны появлением радиста, протягивавшего ему бланк радиограммы.
— А чего ты еще принимаешь? — хмуро сказал Пийчик. — Закрывай лавочку и ложись спать: утопленники мы, нечего нам слушать… Ну, чего там пишут?
Он развернул бланк и прочел. «Обстановка на 12.00. На рассвете противник пытался высадить десант в районе… Линкор типа „Айрон Дьюк“, потопив артиллерийским огнем посыльное судно „Сахар“, вслед за тем подорвался на нашем заграждении у банки Чертова Плешь… Торпедной атакой…»
Дальше Пийчик не читал и отдал бланк радисту. Слабое подобие улыбки проскользнуло по его условно мертвому лицу.
— Снеси посреднику, — сказал он, — разбуди, пусть распишется… Да поспрошай у ребят, не осталось ли у кого махорки, — черт знает до чего курить хочется…
ДВЕ ЯИЧНИЦЫ
Штаб бригады линейных кораблей был необыкновенно изобретателен, но академичен. Такая репутация создалась в результате жесткого соревнования флагманских артиллериста и штурмана в области выдумок.
Если первому удавалось провести в жизнь какую-либо необычайную «Инструкцию для стрельбы из зенитных орудий по подводным лодкам», то второй отлучал себя от шахмат, пока не склонял командира бригады к организации на линкорах метеорологической службы в масштабе первоклассных европейских станций. Эта благородная борьба двух организационных талантов, уподобляясь действию двух взаимно догоняющих поршней, толкала медлительный и осторожный ум командира бригады на рискованные эксперименты.
Накалившиеся за день борта излучали свое душное, пахнущее краской тепло внутрь флагманского салона, и потому тела обоих специалистов утонули в креслах до крайнего предела, оставив над ними лишь две папиросы, как перископы погрузившихся лодок. Но что значит жара для живого ума, обуреваемого новой идеей? Артиллерийский перископ втянулся в кресло, и взамен его вылетело облачко правильно наведенного залпа.
— Пуф, — сказал артиллерист, — знаешь, старик все-таки согласился пострелять по невидимой цели.
Залп, очевидно, дал накрытие, потому что штурманский перископ мгновенно скрылся, и из кресла потянулась длительная дымовая завеса, долженствующая своим спокойствием скрыть нешуточное волнение штурмана, чье самолюбие было уколото.
— Да? — сказал он с небрежным спокойствием. — Опять по болоту?
— Необыкновенно остроумный метод! — восторженно продолжал артиллерист. — Подумай только — наводим по «Посыльному», а стреляем по «Принцессе»…
— Очень интересно, — сказал штурман без всякого проявления интереса и подумал с завистью: «Вот ведь что выдумал, черт».
Артиллерист в порыве чувств положил ему руку на колено и проникновенно сказал:
— Товарищ дорогой, ты уж присмотри сам за маневрированием: вся штука в том, чтобы корабль шел точно по окружности. Нужна прямо бешеная точность.
— Ты, может быть, за своими артиллеристами приглядишь, Андрей Иванович, — сказал штурман сухо и снял с колена артиллерийскую руку. — Штурманам не привыкать к твоим дурацким маневрированиям.
Торжество рождает добродушие, и флагарт, не обижаясь, указал невежливо снятой рукой на шахматы:
— Вставлю?
— Спасибо. Мне некогда, — ответил флагштур, поднимаясь. — Надо поработать. У меня тоже есть новая идея.
Но в каюте была совершенная баня, и политико-моральное состояние, подорванное успехом соперника, разложилось окончательно. В голову лез всякий трудно осуществимый вздор, вроде опыта буксировки линкора баркасами со штормовым вооружением или маневрирования без руля, машин и компаса.
«Принцесса Адель» знала лучшие дни. В 1895 году, когда она впервые вошла в Купеческую гавань прямым рейсом из Мессины, она даже была встречена владельцем, главой фирмы «Братья Елисеевы», помахавшим ей платочком с борта катера, предоставленного ему капитаном над портом. В те дни «Принцесса» была стройной и благоуханной, что вполне соответствовало ее титулу.
Благоухала же она свежим ароматом апельсинов и лимонов, привозимых ею для названной фирмы из Италии четырежды в год. Запах этот пропитал все ее существо и побеждал глухую вонь пропотевшего кубрика, вонючую гарь машинного масла и даже корабельного кота и исчезал лишь в каюте боцмана, сраженный духом водки, огуречного рассола и полтавской махорки; боцман вечером пил, утром опохмелялся, в промежутках же дымил махоркой и называл «Принцессу» Щукиным двором(4), а не пароходом.
С годами «Принцесса» начала дурнеть. Зловещие морщины появились на обшивке, шпангоуты схватили жестокий ревматизм и в шторм стонали. С каждым годом все труднее удавалось закрывать бесцеремонные глаза агентов Ллойда разноцветными бумажками франков или стерлингов на очередном осмотре для получения регистра. Когда расходы эти увеличились вчетверо, «Братья Елисеевы» призадумались: ремонт или слом?
Но, к счастью для «Принцессы», приключилась мировая война. Последняя, причинившая, как известно, значительные разрушения немалому числу кораблей, для «Принцессы», напротив, обернулась в прямую пользу: глава фирмы, справедливо учитывая ветхость «Принцессы» и длительный, очевидно, перерыв сообщения с лимонной Мессиной, в порыве патриотического чувства пожертвовал «Принцессу» морскому министерству на предмет скорейшего одоления врага, чем произвел немалый шум в столице и за что без задержки ему очистился орден св. Станислава второй степени, а «Принцессе» — капитальный ремонт. Тридцать же тысяч рублей, как бы по реквизиции, были вручены фирме морским министерством без излишнего шума.
«Принцесса Адель», сменив апельсины на уголь, а титул на скромное имя «Фита», честно и непоколебимо воевала три с половиной года, развозя уголь вдогонку за неугомонными миноносцами, по прошествии же этого времени заснула на период гражданской войны, медленно подгнивая деревом и ржавея железом. Когда люди закончили наконец беспокойные военные хлопоты и обратились к «Принцессе» для целей мирных, «Принцесса», она же «Фита», к употреблению годной не оказалась и была отведена на кладбище в угол Угольной гавани.
Жестокий ум флагманского артиллериста штаба бригады линейных кораблей возродил ее для новой страшной жизни: в «Принцессу» напихали старых пробковых матрасов, заспанных до дыр, насыпали в бортовые отсеки песка, выкрасили для лучшей видимости борт и натянули между мачтами парусину. В таком виде бывшую гордость фирмы вытащили из гавани и поставили посреди моря на мель. Для хранения же парусины, пробки и дерева в штурманской рубке поселили собаку Савоську и деда Андрона, объявив ему, что провизия будет доставляться раз в неделю и что перед каждой стрельбой за ними будет приходить катер, чтобы отвозить их подальше от снарядов.
В «Принцессу» стали стрелять все, кому не лень, и борта ее изукрасились множеством дыр, забиваемых дедом Андроном после стрельбы досками.
Комиссар бригады, привыкший к всплескам артиллерийской мысли, смотрел в корень вещей и потому ткнул карандашом в чертеж стрельбы с сомнением:
— Какая же она невидимая, когда щит как на ладони?
— Необходимая условность, — ответил флагарт. — Не могу же я в море гору насыпать, чтоб через нее стрелять! Цель, и точно, видимая, но стрельба будет происходить совершенно как бы по невидимой. На щит будет смотреть только командование — судового артиллериста загоним в центральный пост, пусть управляет по приборам, а комендоры будут наводить не по «Принцессе», а по «Посыльному»; вот тут его на якоре поставим.
— Спасибо, — сказал комиссар. — Я не согласен в живой корабль целиться, ну вас с вашим способом.
— Товарищ комиссар, — голос флагарта приобрел ноты вкрадчивые и убедительные, — прицелы же будут смещены от оси орудий на угол в тридцать градусов: прицел смотрит в «Посыльного», а орудие стреляет в «Принцессу». А корабль пойдет вот по этой окружности. Круг, как видите, проведен через три точки: корабль, цель и вспомогательная точка наводки, в данном случае — «Посыльный». Нам известно, что все углы, опирающиеся на одну и ту же дугу окружности и имеющие вершину на той же окружности, между собою равны. Следовательно, если мы дадим прицелам угол, равный углу между «Посыльным» и «Принцессой», то где бы мы ни были на окружности, целясь в «Посыльного», мы будем стрелять в «Принцессу». Это же простая геометрия.
— Геометрия — наука абстрактная, а снаряды — вещь конкретная, — хмуро сказал комиссар. — Если да если… А если вы влепите в «Посыльного», то запахнет не геометрией…
— Какая уж тут геометрия, сплошной трибунал, — удовлетворенно подсказал флагманский штурман.
Флагарт покосился на него взъяренным взглядом и пошевелил подбородком в воротнике кителя.
— Это невозможно, — ответил он комиссару твердо. — Самое худшее, что может произойти, — это если корабль пойдет не по заданной окружности, а по какой-нибудь изобаре(5). Штурмана у нас нынче свихнулись на метеорологии, и если они плавают так, как предсказывают погоду, тогда уж я не знаю, куда снаряды упадут. Во всяком случае, не в «Посыльного». Я на него готов сына посадить.
— Сын — это ваше частное дело, дорогой товарищ, — сказал комиссар недовольно. — Это романтика, а я требую гарантии.
— Андрей Иванович однажды гарантировал, — ядовито заметил флагштур, отмщая метеорологию, — а за быка все же платить пришлось…
Бык, и точно, был разделен на килограммы шестидюймовым снарядом при опытной стрельбе по болоту: снаряд взял левее болота по причине опечатки в таблицах. Флагарт нагнул голову, подобно упомянутому быку при жизни, и горло его издало звук, похожий на ревун перед сокрушительным залпом. Но командир бригады прервал завязавшийся междуведомственный бой протянутой над чертежом стрельбы рукой.
— С одной стороны, — сказал он, повернув руку ладонью вверх, — нельзя не признаться, что стрельба малопривычная, даже, может быть, совершенно новая. Но, с другой стороны, — здесь он повернул руку ладонью вниз, — с другой стороны, нельзя не сознаться, что метод этот изучить интересно, даже, может быть, необходимо. Французский флот этим методом стреляет давно и очень успешно, о чем даже печаталось в «Морском сборнике»…
Флагман посмотрел по очереди на всех собеседников и сказал, ставя в конце совещания точку:
— Стрелять будет «Низвержение». Пристрелку начнет кормовая башня.
Башенный командир Затемяшенный был женат всего полтора месяца, в течение которых приезжал домой три раза — когда на сутки, когда всего на вечер. У Жены были необычайно хрупкие плечи, и когда они жалобно вздрагивали в рыданиях — это было совершенно непереносимо. Плакала же она с начала семейной жизни три раза, по числу отъездов Феденьки.
Поэтому нет ничего удивительного, что в этот июльский вечер хрупкие плечи и великая жалость юного сердца временно выключили из сознания Затемяшенного тяжкий контур линкора и вверенную ему кормовую башню. В двадцать три года июльские вечера темны и медлительны, а ночи — стремительны и солнечны. Когда метафорическое солнце любви превратилось в реальное, изучаемое космографией, часы показывали шесть — час, означенный в корабельном расписании словом «побудка», и едва хватило времени добежать до первого прямого парохода.
Помощник командира «Низвержения», конечно, не стал бы вдаваться в лирические причины запоздания с берега командира четвертой башни. Поэтому Затемяшенный, возрождая рыцарские времена, ни словом не упомянул про хрупкость плеч и солнце любви. К чему?..
— Явитесь к старшему артиллеристу, он вас с фонарем искал, а о прочем побеседуем позже, когда придете проситься на берег, — неприветливо сказал помощник командира, весь поглощенный неравной борьбой второй роты с восьмидюймовым тросом: линкор собирался вытягиваться из гавани, и у борта уже шипели и плевались буксиры.
Башенный командир Затемяшенный, зная по опыту, что перед стрельбой старший артиллерист находится в повышенно нервозном состоянии, предпочел его не беспокоить, отложив неприятный разговор до окончания стрельбы. Поэтому, не щадя молодой энергии и выходных брюк, он тут же полез в узкое горло кормовой башни и опытным взглядом окинул свое смертоносное хозяйство.
Сковорода начала нагреваться, и кусок масла, дрогнув и теряя очертания, пополз к краю, ибо корабль имел небольшой крен на левый борт. Дед Андрон, склонившись над хронометрическим ящиком, выпрямился, и на старом синем бархате ящика, как крупный жемчуг в футляре, матово просиял десяток яиц.
Сковорода зашипела, и штурманская рубка «Принцессы Адель» наполнилась запахом жареного, отчего свернувшаяся у дедовой койки Савоська чихнула и проснулась, зевнув и щелкнув зубами.
Дед, сложив морщинистый кулак в трубочку, нацелился яйцом на солнце (яйца были давнишней покупки). Солнце недавно простилось с морем и висело на небе чисто вымытым и потому ослепительным кругом. Первые два яйца оно пронизало розовым светом, ручаясь за их доброкачественность, отчего оба они, щелкая и ворча, очутились на сковороде. В третьем же лучи зацепились за непроницаемое пятно — и, собственно, отсюда и начинается история о двух яичницах.
— Тухлое, — неодобрительно сказал дед, и собака подняла ухо. — Тоже кооператоры, чтоб их вымочило…
И он в сердцах пустил яйцом за борт, повернувшись при этом к открытой двери рубки. Яйцо, подгоняемое легкой утренней рябью, поплыло курсом вест, доказывая свою тухлость, а старик, приставив ладонь козырьком, остался у двери, подозрительно всматриваясь в действия внезапно обнаруженного им линейного корабля.
Линкор, пуская в недвижный воздух два толстых столба дыма, быстро удалялся от «Принцессы». Дед Андрон вообще недолюбливал линкоры по причине крупности их снарядов, дыры от которых требовали большого количества досок. Этот же особенно не понравился ему тем, что палуба его, как он успел заметить, была безлюдна, а башни пошевеливали орудиями, как пианист, разминающий перед игрой пальцы.
— Эй, Савоська, — сказал тревожно старик, — смотри, что делают, ироды! Неужто палить собираются?
Собака, посмотрев на хозяина, облизнулась и выразительно махнула хвостом на «буржуйку» с шипящей сковородой. На линкоре, удалившемся меж тем на порядочное расстояние, пополз на фок-мачту красный с косицами флаг, обозначающий, что линкор собирается заняться неприятным делом и потому для проходящих судов небезопасен. Дед ринулся вон из рубки.
— Что вы делаете, черти окаянные! — завопил он не своим голосом. — Заявление подам, не посмотрю, что флагман!
Желто-красный блеск ударил вдоль кормовой башни, и старик скатился вниз по трапу много скорее, чем в молодые годы по вантам на царском смотру. Собака выскочила за ним из рубки, но тут же взвизгнула и пустилась за стариком, так как воздух раскололся и мощный рев двенадцатидюймового залпа плотно треснул, ухнул и раскатился по небесам, встряхнув собачьи внутренности и зазвенев сковородкой. Яйца же в бархатном покое ящика остались невредимыми, ибо ящик, снабженный пружинами, был построен для хронометров, механизм коих, как известно, хрупкостью превосходит яичный.
Штаб бригады линкоров, как сказано выше, был необыкновенно изобретателен, но мало распорядителен. Поэтому снятие деда Андрона с «Принцессы» перед этой эффектной стрельбой флагманский артиллерист доверил флаг-секретарю, который, по заносчивости нрава, подобное мелкое поручение счел для себя просто унизительным и передоверил его штабному писарю. Последний позвонил об этом в охрану порта, справедливо полагая, что раз речь идет о каком-то стороже, то его участью должно интересоваться именно управление охраны.
Дальнейшая судьба этого распоряжения затерялась в телефонных проводах, но, как показывают события, катер на «Принцессу» не пришел, и дед Андрон, собиравшийся заняться делом мирным и созидательным, был поставлен лицом к лицу с линейным кораблем, кружившим вокруг «Принцессы» с целями воинственными и разрушительными.
Сковорода начала нагреваться, и кусок масла, дрогнув и теряя очертания, пополз к краю, так как корабль имел небольшой крен на левый борт. Посыльное судно «Посыльный», кроме того что употреблялось на разнообразные беспокойные нужды, имело еще один существенный недостаток: маленький камбуз. Поэтому командир Ичиков давно уже приобрел примус и по утрам жарил яичницу в кают-компании собственноручно, достигнув в этом деле большого искусства.
В текущее превосходное утро, установив свой корабль на якоре в заданной штабом бригады точке и приказав команде иметь отдых, командир Ичиков, дождавшись нужного нагрева сковороды, выбрал три яйца покрупнее и обследовал их на свет, сложив кулак трубочкой. Яйца оказались свежими, и яичница обещала быть первоклассной.
— Товарищ командир, — загнусила переговорная труба голосом вахтенного, — «Низвержение» повернуло на норд!
— Хорошо, — благодушно сказал Ичиков и, ударив ножом по яйцу, осторожно расцепил ногтями его половинки болтуньи он не любил и желток выливал целым.
— Товарищ командир, — проскрипела труба, — на «Низвержении» боевая тревога!
— Очень хорошо, не препятствовать, — сказал Ичиков, углубляясь в выливание второго яйца; это вылилось не так удачно, и желток пустил какой-то полуостров.
— Товарищ командир, — заунывно продолжала труба, — на «Низвержении» боевой до места!
— Да ладно, знаю, — рассеянно ответил Ичиков, стараясь не повторить ошибки, но третье яйцо вылилось целехоньким желтком и погасило собой шипенье сковороды. Яичница начала густеть, и пора было ее солить.
Едва ступив ногой на скользкое дно трюма, дед Андрон тотчас же промолвил:
— Вот ведь гадина, огонь забыл, старая орясина!..
Забытая дедом в поспешном бегстве «буржуйка», которая в близком соседстве с досками топилась на корабле, ожидавшем в борт крупный снаряд, могла и в самом деле вызвать гибельные последствия учебной стрельбы.
В ответ на восклицание деда в трюм шлепнулась Савоська, сорвавшись с трех последних ступенек, ибо, как известно, спуск по трапу собакам сильно затруднен наличием у них двух лишних ног. Шлепнувшись же, Савоська завизжала нервно и длительно.
— Молчи, дура, — сказал дед в темноту, — чего скулишь, не тебе ведь за пожар отвечать.
Вслед за этим обоснованным замечанием дед Андрон вступил в короткую борьбу с самим собой, противопоставляя чувству самосохранения чувство ответственности. Что ж из того, что за все стрельбы ни один снаряд не угадал в рубку? А теперь, как нарочно, возьмет да попадет, опрокинет «буржуйку», займутся доски, и пойдет полыхать по всему пароходу…
— Тьфу, будь оно неладно, мать честная, — сказал дед в расстройстве. — Вылазить, что ль?
А как вылезешь, когда снаряды валятся? Пока добежишь, пока зальешь — ударит в темечко, и будьте здоровы…
— Чисто, брат, Цусима, ей-богу, — сказал дед, томясь в сомнении, — тоже, как фалы перебило, на мачту выслали, под снаряды…
Тут деду померещилось, что «буржуйка» уже опрокинулась на хромую ногу и повалила угольями на доски… Цусима забурлила мутными давними волнами в старом военном сердце и героическим потоком своим увлекла деда Андрона на первую ступеньку трапа.
Белый день ослепительно сверкнул в глаза, когда дед, пригнувшись и поглядывая на далекий линкор, пустился от люка к рубке. Но еще ослепительнее и ярче блеснула в глаза желтая вспышка на корме линкора и на бегу остановила деда в томительном и подсасывающем ожидании. Ухая и свистя, прогромыхал в воздухе снаряд, но всплеска от него около «Принцессы» не встало. Дед Андрон оглянулся вокруг и, найдя на воде белый оседающий фонтан, подумал, покачал головой и пошел в рубку.
— Чудаки, — сказал он недоумевающе. — Ну и смелый народ пошел, чтоб им повылазило!
Яйца на сковороде уже слились в глянцевый желто-белый блин, и дед, ухватив тряпкой сковороду, сдвинул ее на приготовленную досочку.
— Чудаки, — сказал он еще раз, поглядывая на море и разломив кусок хлеба.
Так была изготовлена одна яичница.
Вторая же яичница, начавшая румяниться на «Посыльном», была испорчена уже тем, что командир Ичиков ее пересолил. Случилась же эта несвойственная ему оплошность по причинам достаточно уважительным.
Когда Ичиков, набрав на конец ножа соли, начал кругообразно водить им над сковородкой, кают-компания подскочила, и сковорода, скосившись на примусе, готова была упасть. Командир Ичиков совершил одновременно две ошибки: первую — уронив нож с чрезмерной порцией соли в готовую яичницу, и вторую — ухватив голыми пальцами край сковороды, пытаясь удержать ее от падения. Сперва зашипели пальцы, а потом и сам Ичиков, болтая ими в воздухе, а над головой взвыла переговорная труба:
— Снаряд под кормой! — После чего раздался топот многих ног и короткая брань Ичикова, ринувшегося на высоты командного мостика.
— Пошел шпиль! — закричал Ичиков, упершись животом в телеграф и настойчиво требуя от машины полного хода.
Машина, и точно, завернула с места самый полный, отчего «Посыльный» рванулся вперед. Но, натянув тугую якорную цепь, посыльное судно тут же остановилось, скосив, — казалось, форштевень к левому клюзу, подобно лошади, которую подвыпивший возница одновременно нахлестывает кнутом и затягивает вожжами. Воздух разорвался над головой с пренеприятным треском, и неподалеку ахнул в воду второй снаряд.
— Пошел же шпиль, в самом деле! — крикнул Ичиков вне себя.
Но шпиль так и не пошел, а пошло само посыльное судно, освобожденное от якоря ударом топора по стальному тросу, который на «Посыльном» именовался якорной цепью. Поступок этот, покрывший славой боцмана Наколокина, был подготовлен забывчивостью кока, который имел привычку разрубать мясо на баке, почему топор лежал рядом со шпилем.
— Фу, — сказал Ичиков, — что они, с ума сошли или ослепли?
Труба «Посыльного», уходившего небывалым ходом от заданной штабом бригады небезопасной точки, дымила густо и старательно. Но не меньший дым и чад стояли в кают-компании, где предоставленная событиями самой себе, чадила и дымила сгоревшая до углей яичница командира Ичикова.
Когда «Низвержение самодержавия» искусством флагманского штурмана начало чертить по воде гигантскую окружность, утверждая законы геометрии, и на стеньгу взвился до места боевой флаг — комиссар и флагман одновременно вздохнули с видом людей, открывших клетку со львами и выжидающих, что из этого проистечет.
Флагманский артиллерист совершенным именинником разглядывал в узкую прорезь боевой рубки якобы невидимую «Принцессу», ожидая первого пристрелочного залпа кормовой башни. Артиллерист же «Низвержения», погребенный на самом дне корабля в центральном посту, угадывал по разнообразным стрелкам, дискам и приборам направление и расстояние до действительно невидимой ему «Принцессы». Комендоры, оседлав сиденья у прицелов, пошевеливали башнями, удерживая крестовины прицелов на трубе «Посыльного», орудия же, задрав в небо свои холодные еще дула, исправно угрожали «Принцессе», как в том удостоверились флагман и комиссар, взглянув перед уходом в боевую рубку на доступные с мостика для обозрения три носовые башни.
И лишь в четвертой башне, скрытой от недоверчивого взора начальства пирамидой кормовой надстройки, и прицелы и орудия с завидной согласованностью смотрели на маленького «Посыльного».
Последнее обстоятельство показалось горизонтальному наводчику левого орудия, готового к залпу, неестественным, и он впал в сомнение.
— Товарищ старшина, — сказал он негромко, не отрывая глаз от прицела и вращая башню чуть заметным, но непрерывным движением руки, — спросите главстаршину, туда ли наводим. Это же «Посыльный».
Сомнение тревожной волной пробежало по башне от старшины к главстаршине и, как о скалу, разбилось о непоколебимый авторитет башенного командира Затемяшенного.
— Наводить, куда приказано, — сказал он твердо, и наводчик, покачав головой, положил вертикальную нить прицела на трубу «Посыльного», предопределяя этим путь снаряда, ожидающего в канале орудия, ось которого с точностью совпадала с оптической осью прицела.
Однако собственные сомнения Затемяшенного, возникшие еще до вопроса наводчика, всколыхнулись, и сердце его упало. «Черт его знает, что-то неладно», — подумал он и пожалел, что избежал неприятного разговора со старшим артиллеристом.
— В центральном! — крикнул он в телефон, стараясь не выказывать волнения. — Спросите старарта, нет ли ошибки: кормовая башня наводит по «Посыльному».
В телефонную трубку донеслось щелканье приборов центрального поста и недовольный голос старшего артиллериста, отвечающий телефонисту: «Пусть глупостей не спрашивают, ясно, что в „Посыльного“»… У Затемяшенного отлегло: очевидно, стрельба будет на недолетах, когда из центрального поста дают нарочно меньший прицел.
Но сомнение, ликвидированное в кормовой башне, переметнулось в боевую рубку, ужалило флагмана и повлекло его к телефону.
— Четвертая, — сказал он озабоченно. — Проверьте, как у вас прицелы стоят!
— В порядке, — бодро ответил голос Затемяшенного, — сам проверял. Лично.
— Есть, есть, — невесело сказал флагман и отошел к амбразуре рубки.
Рубку встряхнуло — кормовая башня дала залп, — и все бинокли поднялись к глазам, исключая бинокль командира «Низвержения»: последний, загнанный штабом в щель между машинным телеграфом и спиной рулевого, мог только обозревать затылок флагманского артиллериста, чем он и занимался с нескрываемой желчностью, — вот ведь какую кашу заварил.
— Очевидно, перелет… Не вижу, куда упал, — сказал флагарт, опуская бинокль после длительного молчания. И, погрузив лицо в широкий раструб переговорной трубы в центральный пост, он вступил с артиллеристом «Низвержения» в узкоспециальный разговор о вире, вилке, кабельтовых и прочих профессиональных понятиях. Комиссар тем временем решительно шагнул к двери.
— Я на мостике буду, — сказал он флагману, — здесь ни черта не видно, и вообще это не стрельба, а… Стоп все! Вы с ума сошли! — вдруг закричал он, кидаясь к рубке, но одновременно снизу но переговорной трубе глухо донеслась команда судового артиллериста:
— Залп!
— Отставить залп! — бесполезно крикнул вниз флагарт, чуя нехорошее.
Но снаряд, как и слово, — не воробей: вылетит — не поймаешь. Покинув длинный ствол левого орудия кормовой башни, он гудел и громыхал в ясном небе, по необъяснимой причине направляясь к посыльному судну «Посыльный».
— Кажется, стрельбу кончили? Прямо руль, курс сто двадцать, — сказал удовлетворенно флагманский штурман и добавил, ни к кому не обращаясь: — Что бык? Бык — пустяки. Бык — не посыльное судно.
Письмо:
«Милая Клюшка. Я страшно занят, не огорчайся, я не смогу приехать еще около месяца. Идем в поход… (зачеркнуто). Мне тут выпала нагрузка по… (зачеркнуто). Я немного заболел… (зачеркнуто, дальше написано твердым почерком человека, отыскавшего наконец форму для мысли). Командир дал мне очень ответственную секретную работу, сама понимаешь, подробностей писать не могу, но ты не вздумай, пожалуйста, хлопотать пропуск и приезжать сама, я все равно не сумею вырваться на берег, загружен на все сто процентов. Но ты не волнуйся, все идет хорошо, и я тебя часто вспоминаю, милая Клюшенька, ты у меня… (дальше лирично и несдержанно до подписи).
Твой навсегда Федюка».
Другое письмо:
«…и, пожалуйста, зайди к Клюшке и подтверди, что я страшно занят, я не хочу ей писать, а то она будет реветь, а я не могу, если она ревет. Ври крепче, да не запутайся.
Главное, что в конечном итоге все это вышло из-за нее, и, если все рассказать, ей будет неприятно, и она будет себя винить, что тогда я не поехал вовремя. А кто же знал, что они выдумали такую нечеловеческую стрельбу, раз я опоздал и не был на собрании комсостава, где командир объяснял? Думал, стрельба нормальная. Главное, я тогда обрадовался, что в башне никого нет, были только два ученика-электрика, а я как осмотрел прицелы, так и ахнул: вижу, что сворочены градусов на тридцать в сторону, вот, думаю, хорошо, что вовремя заметил, еще ученикам на вид поставил. А они говорят: утром приходил старший артиллерист, за вами посылал, ждал, ждал, потом говорит: ладно, появится, дам ему жизни, — и свернул прицелы на сторону. Я и подумал, что проверяет мою бдительность, и, понимаешь, сам тихонько давай согласовывать по собору, чтоб никто не знал, что у меня в башне заведение, — дурак, и больше ничего. А командир, когда потом мне хвост наламывал, спрашивал: „Тов. Затемяшенный, чем у вас голова набита? Когда вы получили приказание наводить по ‹Посыльному›, неужели не могли сообразить, что ненормальность и будете сейчас крыть ‹Посыльного›“? А главное, я правильно удивился, почему же стреляют в „Посыльного“, а потом догадался, что, наверное, стрельба на недолетах, как, помнишь, раз стреляли, и сам флагарт тут, он же видит. Хотел сделать лучше, а вышло — чуть не угробили „Посыльного“, и теперь мне такой срам на весь РККФ, хоть стреляйся, да жалко Клюшки, выходит, что недослужишь — бьют и переслужишь — бьют. Пока прощай, пожалуйста, пересылай мне Клюшкины письма прямо сюда, я буду отвечать. Жму руку.
С артиллерийским приветом твой товарищ
Ф. Затемяшенный.
21 июля 1926 года, гарнизонная гауптвахта».
БЕШЕНАЯ КАРЬЕРА
Должен вас заранее предупредить, что за достоверность этой истории я ручаться не могу, так как сам свидетелем ее не был.
К чужому рассказу я привык относиться недоверчиво: когда человек рассказывает какой-нибудь поразивший его случай, он обязательно кой-чего добавит для усиления эффекта — не то чтобы соврет, но, так сказать, допустит художественный вымысел. От этого удержаться трудно, это уж я по себе знаю.
Но, впрочем, историйка эта похожа на правду, потому что в те годы комсостав как-то не очень согласованно ездил в Петроград, в особенности глубокой осенью, когда походы закончены. И на этой почве порой происходили разные ненормальности, иногда тяжело отражавшиеся на ни в чем не повинных людях. Вот так и случилось, что штурмана Трука Андрея Петровича за короткий срок вознесло на такую служебную высоту, что это сильно на него повлияло, — и, как я полагаю, скорей всего от внезапности.
Разумная постепенность — это великое дело. Исподволь человека ко всему приучить можно. Как, например, с глубины водолаза подымают? Метр-два в минуту — и больше ни-ни. А вынь его сразу метров с пятидесяти — лопнет ваш водолаз изнутри от внезапности, и все тут.
Может быть, если бы в прохождении службы штурмана Трука была разумная постепенность, ничего бы и не случилось. Правда, тогда и рассказывать о нем было бы нечего, потому что ничем он не выдавался, и коли б не этот случай, так и стерлось бы его имя в списках Управления комплектования.
Служил потихоньку Андрей Петрович на линейном корабле в должности старшего штурмана. Вот не могу вам объяснить, почему в те годы так выходило, что коли заведут на корабле переплетную или сапожную мастерскую, обязательно ее в заведование старшему штурману дадут. То ли считалось, что у него времени больше, чем, скажем, у старшего артиллериста, то ли думали, что раз у штурмана таблицы логарифмов, то самое святое дело ему баланс судовой лавочки подводить, — только ни разу я не видел, чтобы этими побочными заведованиями загружали химиков, минеров или, упаси боже, артиллеристов, Словом, служил старший штурман Трук на линейном корабле по прямой своей специальности, то есть судовой лавкой заведовал, дознания производил, шефов ездил встречать, в свободное же время привлекался к внешкольной работе — самодеятельный спектакль ставил или антирелигиозные лекции читал, поскольку зимой корабль на якоре и работы штурману все равно никакой нет. Был он сам человеком тихим, скромным, и если доводилось ему приказывать, то и приказывал он с приятной застенчивостью: «Из правой бухты, пожалуйста, вон!»
И вот такой человек потерпел от стечения обстоятельств и от внезапности.
Началось все это с аппендицита — объявился под осень у старшего помощника. А надо сказать, в те годы болезнь эту рассматривали как дар божий или благословение судьбы: операция сама по себе пустяковая, минут на двадцать, но большую пользу принести может, если к ней иметь правильный подход. Во-первых, после припадка необходимы диета и режим, а это в переводе на русский язык значит — месяца полтора припухать дома или в госпитале, а то и в санатории, как кто сумеет. А уж после операции два месяца отпуска с комиссии не сорвать — прямо в глаза смеяться станут. Очень эта болезнь была в почете, это нынче она как-то унижена, — резанут тебе живот между двумя погружениями, и все тут, — а тогда к ней совсем иначе относились. Словом, был на корабле старший помощник командира — и исчез с горизонта, остался один неработоспособный червеобразный отросток, каковую должность (я хочу сказать, должность старшего помощника) и пришлось временно исправлять старшему штурману Андрею Петровичу Труку.
Но в этой новой должности он ничуть не загордился, с лица только несколько спал, хлопот прибавилось. Походил это он так денек-другой — второй случай: зовет его в каюту командир линкора и на кресло указывает.
— Присядьте, — говорит, — Андрей Петрович. Так и так, должен я по долгу службы отбыть на две недели для прохождения курса газовой техники при Военно-морской академии. И, поскольку она находится в городе Петрограде, придется вам, как старшему моему помощнику, принять на себя командование кораблем. Но вы не смущайтесь, делать сейчас особенно нечего, да в крайнем случае вам командир бригады поможет, раз он у нас на корабле флаг держит. Прошу вас, распишитесь.
Расписался штурман Трук в книге приказов и вышел из каюты, несколько сгорбившись. И то сказать — двадцать три тысячи тонн кому хочешь могут спинку согнуть, особенно с непривычки. Однако он и этим не загордился, только грусть какая-то в глазах появилась, сам же скромный по-прежнему и тихий.
Командовал он так линейным кораблем еще денек, до пятницы. А надо вам сказать, что пятница в те времена была особым днем: вообще-то увольнение в Петроград разрешалось с субботы после обеда, но обычно все, кто мог, в пятницу сматывались. Считалось, что с утра субботы можно выполнить в Петрограде служебные дела, так уж, мол, вроде бы заодно. И вот в пятницу сразу после обеда заходит к нему флаг-секретарь командира бригады линейных кораблей и тоже книгу приказов кладет.
— Как вы, — говорит, — в настоящий момент будете командиром флагманского линкора, то пожалуйте новый чин на себя принять. Распишитесь.
Прочел Трук книгу приказов по бригаде, помолчал немного и, вздохнув, промолвил:
— Что ж, я готов. Извольте. Только, — говорит, — как-то странно получается: чины на меня, будто клопы, лезут, а разряд содержания, заметьте, все одиннадцатый.
— Насчет разряда, — отвечает флаг-секретарь, — командир бригады не распространялся. И, по-моему, это просто несообразный вопрос, тем более что вам доверяют бригаду линкоров только до понедельника, поскольку флагман отбывает для произнесения речи на конференции работников Губмедснабторга, которые являются шефами штаба. И не задерживайте меня, Андрей Петрович: я тоже человек, а катер вот-вот отойдет.
Проводил штурман Трук катер с комбригом и штабом и пошел в кают-компанию.
В кают-компании же нормальный вечерний отдых: трюмный механик одним пальцем правой руки дуэт из «Сильвы» играет, левой же всеми пятью в басах неизвестное — называется аккомпанемент; со столов чрезвычайный стук идет — не то клепальщики работают, не то рожь молотят, но, впрочем, ничего особенного, просто играют в распространенную игру под названием домино, или «козел»; вентиляция же вовсе всех кроет, и голоса человеческого, в особенности жалобного, во всем этом не слышно.
Попробовал он поискать сочувствия у приятеля своего, башенного командира Матвеева, а тот весельчак такой был и на все смотрел крайне легко.
— Это, — говорит, — пустяки, бригада-то линкоров! Как бы на тебя, Андрей Петрович, весь флот не навалили, все может статься.
Трук на него руками замахал и пошел к себе в каюту, в одиночестве бремя власти переживать. Но переживал он недолго: через часик зазвонил у него телефон. Трук трубку взял без всякой властности, наоборот, с некоторым недоумением и вроде как с растерянностью, из трубки же малознакомый голос:
— Кто это говорит?
— Старший помощник командира.
— А я просил командира.
— Это и есть командир, — говорит Трук.
— Виноват, мне командир бригады нужен.
— Это же и есть командир бригады, временно, то есть врид, — отвечает Трук.
— Соединяю с помначраспротдела штаба флота, не отходите от трубки.
— Хорошо, — говорит Трук, — соединяйте, какая разница.
И, произнеся это совершенно безразличным тоном, стал в рассеянности таракана пальцем придерживать, который по любопытству вылез из аппарата к разговору (сидел бы уж внутри!). А из трубки такой типичный штабной голос, не привыкший к возражениям:
— Говорит помощник начальника распорядительного отдела штаба флота такой-то. Вследствие того, что начальник штаба флота временно остался за командующего, так как последний вчера отбыл в город Петроград на торжественный выпуск барабанщиков музыкантской школы и поскольку первый отбыл сейчас по встретившейся надобности в город Петроград, в управление торгового порта, для выяснения, какой толщины ожидается этой зимой ледяной покров Балтийского моря, то, учитывая, что вы командир бригады линейных кораблей того же моря, вам, по приказанию начальника штаба, надлежит вступить в командование таковым на срок двое суток.
— Ничего не понимаю, — говорит Трук печально и таракана поднажал, у того усики на лоб полезли. — Каковым это таковым?
— То есть как не понимаете? Вот вы теперь командующий флотом, только и всего. До понедельника.
— Позвольте, — говорит Трук, приходя во взволнованность, а таракану податься некуда. — Как это так — командующий?.. Я же не в самом деле командую бригадой линейных кораблей, а исключительно по стечению обстоятельств. Кроме того, за что же я? Есть и другие флагмана — бригады эсминцев, например, или учебного отряда… Нельзя же так, в самом деле, не разузнавши…
— Ничем, к сожалению, вам помочь не могу, — отвечает холодным тоном помначраспротдела. — Приказ есть приказ, начальник штаба его перед отъездом подписал, и я менять не могу, А перечисленные вами флагмана все, может, уже в Петрограде, потому пятница.
И трубкой — шварк.
Тут Трук таракана вовсе раздавил и впервые в жизни заговорил властным голосом в повешенный на той стороне линии телефон:
— Послушайте, вы… помначраспротак вас и этак! Никакой я не командир бригады, и нашивок у меня две с половиной, и разряд по тарифной сетке одиннадцатый, а вы — комфлот!.. Я буду жаловаться, я, может, до прокурора дойду! Что это за разные штучки?..
А служба связи со всей вежливостью:
— Кончили?
— Кончил, — говорит Трук, — кажется, кончил, дальше некуда, разве за начальника морских сил республики останусь, да счастье мое — Москва далеко…
И пошел, пошатываясь, в кают-компанию пожаловаться приятелям на свою бешеную карьеру, увидел Матвеева и головой покачал:
— Прав ты был. Вот я и флотом командую. До понедельника.
А тот жестоко хохочет, и все кругом от смеха по диванам валяются. Трук вовсе обиделся и пошел спать, чаю не пивши.
Только спал он тревожно и во сне все вздрагивал, потому что по всем линиям ему кошмары снились. То по командирской линии приснилось, будто из Москвы инспекторский смотр приехал, а весь комсостав откомандирован на курсы физической культуры. То по линии старшего помощника, что пришел приказ ввести в расписание занятий по четвергам с четырнадцати часов маникюр для всех, не исключая кочегаров, а помощнику чтоб раздобывать лаку и присматривать. То по линии комфлота, — будто пришлось созвать совещание флагманов, флагмана поприезжали, а на поверку оказалось, все штурмана — вриды, и вместо совещания все на свою штурманскую судьбу жалуются и просят освободить. А под утро приснилось, что эсминец «3 июля» утонул. И ведь так отчетливо приснилось, — будто стоял, стоял «3 июля» у стенки — и вдруг пошел на дно Средней гавани, пуская из труб пузыри. А на стенке народ волнуется, и прокурор статью ищет в отношении бездействия власти. Тут Трук вскочил с койки и как был, с голыми ногами, в кресло прыгнул и стал ручку вертеть:
— Дайте мне дежурного по штабу морских сил!
И, утратив всю свою скромность, закричал громовым голосом, привыкшим перекрикивать гул сражений.
— Бегите, — кричит, — немедленно на стенку и лично удостоверьтесь, не утонул ли там эсминец «3 июля»!
— Во-первых, — отвечает дежурный по штабу с наивозможной ядовитостью, потому что Труков звонок его разбудил, — во-первых, ни в июле, ни в августе, ни в сентябре у нас утонувших эсминцев не числится, а во-вторых, позвольте узнать, кто это интересуется?
— Старший штурман вверенного мне корабля, — в гневе по забывчивости говорит Трук. — И вы мне календарь не вычитывайте, я спрашиваю про эсминец «3 июля», который, возможно, затонул в гавани.
— Во-первых, — говорит дежурный с новой ядовитостью, — во-первых, я вовсе флагманский юрисконсульт и к штурманам никакого касательства не имею, звоните своему флагштурману. Во-вторых, как же это живой миноносец в гавани утонет? Это совершенно невероятно. А в-третьих, мне в конце концов в телефонную трубку не видно, кто это там так расприказывался?
— Врид командующего флотом, врид начальника штаба флота, врид командира бригады линкоров, врид командира корабля и помощник его тоже врид. А у телефона старший штурман Трук.
— Здравствуйте, Андрей Петрович, — говорит юрисконсульт. — Чего это у вас ночью столько народу собралось?
— Здравствуйте. Народу же никакого нет, и все это один я — Трук. И я вас попрошу, вы к моему голосу привыкните, потому что я, может, всю ночь распоряжаться буду. Итак, выполняйте мой словесный приказ.
И, не слушая, чего ему там дежурный по штабу говорит, трубку повесил и пошел в беспокойстве на палубу — сам посмотреть, ибо уже рассвело. Глядит — кораблей видимо-невидимо, а сколько их — не поймешь. Может, и вправду кто утонул. Дай, думает, по трубам сосчитаю, все ли в целости. Стал считать и сбился, потому что с мостика сигнальщик перевесился и докладывает:
— Товарищ вахтенный начальник, эсминец «Внушительный» просит разрешения войти в гавань!
А Труков линкор, как флагманский, старшим на рейде был, и вахтенный начальник равнодушно отвечает:
— Поднять «добро», не препятствовать!
Но Трук его перебил и даже руку простер в знак предостережения.
— Нет, — сказал, как отрезал, — возможно, где-либо в гавани «3 июля» на дне лежит, еще напорется. Пусть походит в море до выяснения.
Командир же «Внушительного» глазам не поверил: подняли флаг «аз», что означает — «нет, не имею, не согласен».
— Как, — говорит, — не согласен, когда мне в гавань надо? Это же небывалый случай, подымите еще раз.
Вновь сигнал подняли, и вновь «аз» получили. А на третий — командир «Внушительного» плюнул и говорит:
— Право на борт, они там с ума посходили, у меня и хлеб кончился. Ладно, — говорит, — уйду вот к черту в море, пока угля хватит, а потом сами наплачутся.
И пошел рассекать стальной грудью свинцовые волны Финского залива, а завхозу приказал сухари и консервы неприкосновенного запаса доставать.
Между тем флаг подняли, и начался служебный день. Трука в каюту увели: подписывать. Сидит в каюте, а кругом народ столпившись. Ничего, справляется. Сперва печати путал — куда судовую, куда бригадную, но после наладился: бригадную — штабному писарю дал, корабельную — своему писарю Елизару Матвеевичу.
— Стукайте, — говорит, — где надо, а то я собьюсь.
Сидит и дела вершит, а старшему баталеру пресс-папье доверил. Вначале полностью подписывал — слева «врид», справа «Трук», потом по букве сбавлять стал для скорости: «ври» — «Тру», «вр» — «Тр», а на втором часе просто палочки ставить стал: слева палочку и справа палочку, печать — тук, пресс-папье — шлеп, полный конвейер. Однако к концу у него в голове помутилось, открыл рот, что рыба на песке, и глаза — как у рыбы той же, мутные и со слезой: еще дышит, но распоряжаться уже не может, потому что вся властность у него через эти подписи вышла.
Но к данному моменту остался при нем только старший судовой писарь Елизар Матвеевич с книгой приказов по кораблю — человек почтенный и заслуженный, тринадцатый год в писарях ходил и многое за эти годы повидал. Смотрит на него и сочувствует.
— Вы, — говорит, — Андрей Петрович, большую ошибку допустили, что все вперемежку подписывали. В подобных случаях для здоровья гораздо безопаснее расчленить свои функции. Вам бы штабные дела следовало в салоне вершить, судовые — в командирской каюте, а разную мелочь, боцмана там или содержателя, в помощниковой каюте выслушивать. У нас в восемнадцатом году на «Забияке» командир эсминца, бывший старший лейтенант Красильников, цельную зиму вот так же за начальника дивизиона страдал, и очень хорошо получалось, потому что организованность была. Он по штабным делам в своей каюте ни за что говорить не станет: у меня здесь, говорит, иная психика. А у нас всю зиму узкое место было — погрузка угля на «Оку», она все четыре эсминца отапливала, а команды некомплект, и все командиры эсминцев за каждого человека торговались. Вот подвезут уголь, доложат Красильникову, он сейчас в каюту начальника дивизиона, и меня туда кличет. Продиктует телефонограмму — выслать на погрузку со всех эсминцев по десяти военморов, подпишет и уйдет к себе. Я телефонограммы разошлю, и ему тоже принесу, как командиру «Забияки», докладываю. Он прочтет и рассердится: «Что они в штабе тем думают? Мне и шестерых не набрать, пишите ответ», — и продиктует поядовитее. Подпишет — я ее в штабной входящий перепишу, иду в каюту начальника дивизиона, там опять Красильникову докладываю: вот, мол, ответ с «Забияки». Он прочитает, подумает, иной раз сбавит, а иной раз повторную телефонограмму шлет — выполнить, и никаких. А раз так рассердился, что написал приказ — командира «Забияки» на трое суток без берега, и что ж бы вы думали: отсидел, еще приятелям жаловался, что начальник дивизиона прижимает! Правда, потом выяснилось, что он в уме поврежден был от перемен в истории государства, но способ нашел очень облегчающий службу, если до крайности, конечно, не доводить…
А Трук выслушал и только рукой махнул — не поможет, мол, и по каютам ходить. Вдруг телефон зазвонил. Опять говорит неизвестный голос из штаба флота: тут, мол, из Москвы пакет экстренный на имя комфлота и в нем загадка лежит, как тому Ивану-царевичу, которому давали нагрузку за ночь золотой дворец отгрохать с отоплением и освещением, — немедленно сообщить данные о потребности на предстоящую летнюю кампанию угля, нефти и смазочных материалов для всего флота с приложением оперативных обоснований, и чтоб все к вечеру было выслано, потому что в понедельник утром доклад.
Трук прямо побледнел.
— Есть, есть, — отвечает, — сейчас распоряжусь…
А сам повесил трубку и с отчаянием говорит:
— Так и знал! Что же я в субботу с таким предписанием делать стану? Что у них, в Москве, календарей нет, что ли?..
Елизар Матвеевич, подумав, дал совет — выслать ориентировочно, по догадке, и присовокупить, что точный расчет высылается дополнительно, — это, говорит, тоже хорошо помогает, главное в таких случаях — быстро ответить. Но Трук голову на руки уронил и не решается, а тут телефон опять зазвонил, требуют из штаба флота командира линкора к разговору, а в каюту боцман зашел — приборка субботняя закончилась, так будет ли осмотр? И еще писарь штабной просится — оказалось, три бумажки в горячке пропустили, и старшина-рулевой ввалился, часы требует, пора время проверять, — словом, полный комплект. Елизар Матвеевич всем в грудки уперся и полегоньку выставил в дверь, а сам остался, думает, может, чем помогу. Трук в телефон говорит:
— Слушаю, врид командира линкора, — а сам весь трясется.
По телефону же дежурный по штабу (уже не юрисконсульт, а комендант штаба, сменились) обижается:
— Что это у вас на мостике произошло? От командира «Внушительного» радио получено, что его в гавань не пустили сигналом с вашего корабля и он стал на якорь в бухте Уединенной и просит буксиры, поскольку топливо кончилось. Очень прошу вас разобраться в данном случае и наложить на виновного строгое взыскание.
— Есть, есть, — говорит Трук, — наложу. Даже с удовольствием. До свидания, сейчас распоряжусь.
Положил он трубку и с таким просветлением на лице спрашивает Елизара Матвеевича:
— Посмотрите-ка в книге приказов по кораблю, какой последний номер был?
Елизар Матвеевич с гордостью отвечает:
— Мне и смотреть нечего, я все приказы текущего года помню: номер четыреста семьдесят шестой…
— Вот и хорошо, — говорит Трук с отчаянной решимостью и начал в портфель какую-то ерунду складывать: зубную щетку, мыло, папиросы. — Пишите, Елизар Матвеевич, телефонограмму: «Командиру бригады эсминцев…» Или, впрочем, нет, — там штурмана все знакомые, еще нечаянно в кого из приятелей угадаешь. Лучше так пишите: «Командиру учебного отряда. Отбывая сего числа для срочного выполнения приказа № 477, предлагаю вам вступить во временное исполнение должности командующего флотом. С получением сего немедленно озаботьтесь назначением временно исполняющих должности начальника штаба флота, командира бригады линкоров, командира линкора „N“, старшего помощника командира и старшего штурмана того же линкора, поскольку все перечисленные лица отбывают вместе со мной для выполнения приказа № 477. Подпись: врид командующего флотом Трук».
— Ну вот, — говорит, — теперь и дышать как-то легче!.. Давайте сюда вашу книгу приказов, Елизар Матвеевич!
Сел к столу и твердой рукой сам написал следующие исторические строки:
«Приказ
по линейному кораблю „N“ № 477
За недопустимую халатность в организации сигнальной службы, выразившуюся в поднятии флага „аз“ вместо флага „добро“, арестовываю старшего штурмана вверенного мне корабля военного моряка Трука Андрея Петровича на трое суток с содержанием при гарнизонной гауптвахте.
Вр.и.д. командира линкора Трук».
Промокнул он это, полюбовался, потом написал на полях, где положено: «Читал. А.Трук», и с повеселевшим видом обратился к Елизару Матвеевичу.
— Напишите, — говорит, — скоренько записку об арестовании и дайте башенному командиру Матвееву подписать во исполнение приказа по кораблю. Только поскорее, Елизар Матвеевич, а то, не дай бог, еще что-нибудь случится.
Елизар Матвеевич с сочувствием спрашивает:
— Может, катерок прикажете подать штабной или, в крайнем случае, наш, как командиру корабля?
— Нет, — говорит, — я лучше пешком пройдусь, погода вполне хорошая, а у меня нынче голова устала от этих беспокойств.
Взял портфель и пошел наверх, совершенно счастливый.
А башенный командир Матвеев, как увидел записку об арестовании, побледнел, фуражку схватил и за Труком кинулся. Нагнал его на стенке и кается:
— Андрей Петрович, иди ты на вверенный тебе корабль, ничего там особого нет! Никакой ты не комфлот, это мы тебя на пушку взяли… И за помначраспротдела я звонил с соседнего линкора, и о пакете экстренном из Москвы тоже я… Хотели тебя попугать маленько, да кто же знал, что у тебя такие нервы слабые…
Но Трук на него посмотрел ясным взором и отвечает:
— Нет, Иван Сергеевич, я уж лучше на губу пойду до понедельника. Там спокойнее.
Едва-едва его обратно втроем увели, и все время возле него кто-либо на вахте стоял до самого утра понедельника, потому что при каждом телефонном звонке Трук вздрагивал и с места срывался — на стенку бежать.
А в понедельник утром башенный командир Матвеев сложил в портфель зубную щетку и папиросы и пошел на гауптвахту. Только не на трое суток, а на все двадцать, так как командир бригады полную власть к нему применил.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Самый поразительный случай за годы моей политработы был, пожалуй, в тысяча девятьсот двадцать втором году на учебном судне.
Вот много говорится об индивидуальном подходе к людям, что, мол, всех под одну гребенку равнять нельзя и в воспитательной работе обязательно надо учитывать особые свойства самого человека. Так вот, в первые годы моего комиссарства я раз с отчаяния такой индивидуальный подход загнул, что теперь вспомню — и сам удивляюсь.
Однако результаты оказались выше всех ожиданий, и сохранил я для Красного флота одного очень ценного человека.
Был тогда у нас на учебном корабле вторым помощником командира Помпей Ефимович Карасев. Собственно, настоящее его имя было Помпий, но в семнадцатом году, пользуясь гражданскими правами, он это имя во всех документах переделал на Помпея и даже соответственно перенес день своего ангела с седьмого июля на двадцать третье декабря. Пояснил он это тем, что имя Помпий очень смахивает на пожарную помпу, чем при царском режиме ему порядком надоедали корабельные шутники, а Помпей много благозвучнее и даже имеет флотский оттенок, потому что, как услышал он это на лекции в гельсингфорсском матросском клубе, некий римский воевода Помпей одержал морскую победу, и следственно, тоже был военным моряком.
Должность второго помощника командира в те годы мало чем отличалась от должности главного боцмана — как говорится, свайки, драйки, мушкеля, шлюпки, тросы, шкентеля, — и поскольку боцман у нас, по мнению Помпея, был слабоват, он сам круглые сутки катался по кораблю шариком на коротеньких своих ножках, подмечал неполадки и «военно-морской кабак» и по поводу этого беспрерывно извергал сквернословие, весьма, надо признаться, затейливое. Так же подавал и команды на аврале: в команде, скажем, пять слов, а у него — пятнадцать, и остальные десять все посторонние. Прямо удивляешься, откуда что берется… Правда, плавал он к тому времени более двадцати лет и на этом же корабле с девятьсот восьмого года в боцманах ходил. До того он к этому диалекту привык, что иначе ни на какую тему говорить не мог, и раз я просто поразился, в каких случаях он на нем изъясняется.
Заработался я как-то ночью, слышу восемь склянок, ну, думаю, Помпей Ефимович, наверное, уже на ногах, он позднее четырех утра на палубу не выскакивал. А мне надо было ему сказать о покраске библиотеки. Ну, пошел я к нему в каюту, — а каюта у него была своеобразная: на столе ни чернильницы, ни бумажки, ни книжки, чистый стол, как шканцы, палуба вымыта и медяшка грелки собственноручно надраена, а на грелке вечно чайник стоит. Пользовался он каютой только для того, чтобы с полуночи до четырех и после обеда до разводки на работы поспать и вечерком — часок чайку попить. Тогда стелил он на письменный стол газетку, снимал с грелки чайник, где с утра чай парился, скидывал китель, доставал из шкафа кружку и сахар — и наслаждался.
Приоткрываю я тихонько дверь, думаю, может, он еще спит, и вижу: стоит он в исподних на коленках перед стулом — а на стуле крохотная иконка (вероятно, в нерабочее для нее время она в шкафу вместе с сахаром лежала) — и истово крестится. Вы скажете, мне бы следовало в это дело вмешаться, но к этим пережиткам тоже надо было подход иметь, а тут человек скромно отправляет культ в своей каюте, не мешая службе, агитацией религиозной не занимается, — ладно, думаю, при случае воздействую осторожно.
Хотел уже дверь прикрыть, но донеслась тут до меня его молитва, я чуть не фыркнул: увлекся мой Помпей, меня не видит и причитает у иконки, да как!.. В той же пропорции, что с командами — пять слов молитвы, а десять посторонних. Жалуется богу на командира, что тот ему зря фитиль вставил за беспорядок на вельботе, — и попутно как рванет командирскую бабушку в тридцать три света, в иже херувимы, в загробные рыданья и пресвятую деву Марию, и вслед за тем — молитву о смягчении сердца власть имущих, поминая царя Давида и всю кротость его.
Ну, конечно, господу богу обращаться ко мне, как к комиссару корабля, с претензиями на второго помощника было неудобно, и от него я жалоб не слышал. А вот от комсомольцев мне за Помпея порядком приходилось. Особенно горячился комсомольский отсекр Саша Грибов. Это был год первого комсомольского набора на флот, и почти все ученики машинной школы, что у нас на корабле плавали, недавно еще были комсомольскими работниками не ниже уездного масштаба, а Помпей их благословляет с утра до вечера. Конечно, обидно. На собраниях шумят, ставят вопрос о списании Помпея с корабля как пережитка, словом, что ни день, то к командиру — рапорт, а к комиссару — постановление комсомольского бюро. Я Грибову объясняю:
— Товарищ дорогой, у нас военный флот, а не губернская конференция, пора уж, в самом деле, привыкать. Вы бы лучше, чем шум подымать, помогли бы мне — провели бы со своей стороны воспитательную работу над стариком. Народ вы молодой, флота не знаете, учить вас морскому делу надо. А где мы другого такого специалиста по шлюпкам, парусам, тросам и прочим премудростям найдем? В учебниках не все написано, а в нем двадцатилетний опыт. Кто вас так научит узлы вязать, краску составлять, фигурные маты плести?
— Да вот о матах-то я и толкую, — говорит Грибов, — он, товарищ комиссар, не плести маты нас учит, а загибать их. Вы послушайте, как наши комсомольцы в быту стали говорить: через два слова в третье — загиб. Думают, это настоящий флотский шик и есть, а как их разубедишь, когда живой пример перед глазами, тем более комсостав?
Ну, я вижу, вопрос перерастает в политическую плоскость — Помпей и впрямь у меня молодое пополнение портит. А на комсомольцев в те годы с разных сторон влияли: жоржики, которых с флота еще не всех повыкидали, татуировочку насаждают, блатной лиговский язык прививают, якобы флотский. Иной раз слушаешь — передовой комсомолец, недавно еще где-либо у себя в Калуге новый быт насаждал, — а тут из-под бескозырки чуб выпустит, клеш в семьдесят два сантиметра закатит и говорит примерно так: «Чьто ж, братва, супешнику счас навернем, с коробочки потопаем, прокинем нынче по Невскому, бабца какого наколем — и закройсь в доску до понедельника». Я раз их собрал, высмеял, а о «коробке» специально сказал. «Вы, — говорю, — на этом корабле в бой за Советскую власть пойдете, на корабле живете, учитесь, а нужно — и умирать будете, а вы такое гордое слово — корабль — в „коробку“ унизили». И рассказал им попутно, как русские матросы в старое время и в гражданской войне кораблем своим гордились и сами с ним на дно шли, как в Новороссийске над этими «коробками» тяжелыми мужскими слезами плакали, когда их топить пришлось… Ну, дошло это до комсомольского сердца, и слово «коробка» у нас действительно исчезло, а прочий лиговский язык никакой борьбы не выдерживал.
А тут еще Помпей мат культивирует, борьба на два фронта получается…
Вызвал я его к себе в каюту, посадил в кресло и начал проводить политработу:
— Так и так, Помпей Ефимович, грубая брань унижает не того, в кого она направлена, а того, кто ее произносит. Это, — говорю, — в царском флоте было развито как неуважение к личности трудящегося, а в наших условиях на матерщинника смотрят как на некультурный элемент. Словом, чтобы не действовать административно, я вам не предлагаю в порядке приказа изжить матерную брань, а говорю по-хорошему: будьте сознательны, бросьте это дело.
Говорю, а сам вижу — слова мои в него, как в стенку, ни до души, ни до сознания не доходят: сидит мой Помпей, красный, потный, видимо, мучается, да и побаивается — для него комиссар страшнее командира. Нет, думаю, не тот у меня подход, надо эти лозунги бросить. Я на другой галс лег — объясняю попросту, задушевным тоном: молодежь, мол, теперь иная, это не серые новобранцы с деревни, а комсомольцы, у каждого своя гордость, и им обидно. Это нам с вами, говорю, старым морякам, как с гуся вода, — покроют, — и не встряхнешься. А им внове, надо же понимать.
Слушал, слушал Помпей Ефимович, потом на меня глазки поднял, — а они у него такие маленькие были, быстрые и с большой хитринкой.
— Так, товарищ же комиссар, они приобыквут! Многие уже теперь понимают, что я не в обиду и что никакого неуважения их личности не выказываю. Наоборот, иной сам чувствует, что это ему в поощрение или в пояснение. И работать веселей, а то все швабры да щетки, чистоль да тросы изо дня в день — прискучает. Опять же, скажем, терминология: эти самые ваши комсомольцы по ночам морскими терминами бредят, комингсы им разные снятся да штаг-корнаки. А я каждому предмету название переиначу позабавнее или рифму подберу, вот оно легче и запоминается.
— Вот вы, — говорю, — и напереиначили так, что теперь в кубрик не войдешь: сплошные рифмы висят — и речи человеческой не слышно.
А он на меня опять с хитринкой смотрит:
— Так что ж, товарищ комиссар, на корабле дамского общества, слава богу, нет, самый морской разговор получается, и беды я в том не вижу. Ну, если б я, скажем, дрался или там цепкой по спине протягивал, как царские боцмана себе позволяли, тогда ваши возражения были бы понятны. А тут — чего же особенного?
— Ну, — говорю, — Помпей Ефимович, уж коли бы вы еще допускали зубы, чистить, тогда у нас и разговор с вами был бы иной. Мы бы с вами не в каюте, а в трибунале договорились.
А он смутился и сейчас же отбой:
— Да нет, знаете, я этой привычки и в царском флоте не одобрял, и теперь не сочувствую. Потому что она увечье дает, кроме того, действительно обидна для человека, потому что старшему в чине сдачи не дашь. А главное — никакой от нее пользы для дела, и не всегда дотянешься… Хотя, впрочем, раз довелось мне видеть, что и такая привычка обернулась во спасение жизни человеку.
Ну, я примечаю, что у Помпея случай на языке чешется. Я и придрался, чтоб дать ему разговориться и свободнее себя со мной чувствовать, потому что дело такое, что официальным подходом не разрешишь, а он сидит на кончике стула, стесняется, и душевного разговора в такой обстановке не добьешься.
— Как же, — говорю, — так в спасение жизни? Это странно… Может, поделитесь? Я до подобных историй очень большой охотник. Сейчас я чайку налажу, вот за чайком и расскажете.
— Нет, — говорит, — спасибо, чайку я вашего не буду. Я знаю — у вас не чай, а верблюжья моча… то есть я хотел выразиться, что жидкий… Я чай привык своего настою пить. А вот за папироской расскажу.
Закурили мы, он и рассказывает:
«Я тогда без малого пешком под стол ходил. Плавал в Белом море на такой посудине, называется „Мария Магдалина“. Рейс незавидный: по весне поморов на промысла развозить, а по осени обратно их в жилые места собирать. Вот осенние рейсы и мучили, беспокойно очень: у них привычка была — как напьются, так в спор. Ножи там или топорики — это у них отбиралось, но, бывало, и кулаком вышибали дух. Это тоже из терпения выводило: на каждого покойника акт надо и в трех экземплярах. А писал акты первый помощник, очень не любил писать, непривычное дело.
На них одна управа была — кран. Это капитан придумал, точное средство было: как драка, так обоих ухватить, животом на лямки, которые лошадей грузят, — и на краны поднять. У нас два таких крана было, аккурат у мостика. Болтаются оба, покручивает их, раскачивает, и самолюбием страдают, потому остальные на них ржут: очень смешные рожи корчили. А на втором часе скучать начинали. Говорят, печенку выдавливает и в голове кружение. Повернет его лицом к мостику, — „смилуйтесь, — кричит, — ваше степенство, ни в жисть не позволю ничего такого!“ А капитан твердый был, Игнат Саввич звали. „Виси, — говорит, — сукин кот, пока всю мечту из головы не выкинешь“. Очень они этого крана боялись.
Вот идем мы как-то, стою я на штурвале и смотрю на бак. А там у двоих спор вышел, о чем — это не поймешь: они, может, еще в мае месяце спорить начали. Стоят, плечиками друг в друга уперлись и спорят. „Не веришь, окаянная душа?“ — „Не верю, — говорит, — не бывает такой рыбы“. — „Не веришь?“ — „Не верю“. — „А по зубам съезжу, поверишь?“ — „Все одно не поверю“. Размахнулся тот и ударил. Удивительно мне показалось — такой ледащий поморишка, а сила какая, значит, правота в нем от самой души поднялась, — тот так и покатился. Поднялся, утер кровь. „Обратно, — говорит, — не верю: нет такой рыбы и не могло быть“.
Тут капитан им пальчиком погрозил: „Эй, — говорит, — такие-сякие, поаккуратнее там! Будете у меня на кранах болтаться, как сыры голландские!“ Притихли они, главный спорщик шапку скинул. „Не утруждайтесь, — говорит, — ваше степенство, это у нас просто разговор промеж себя, а безобразия мы никакого не позволим“. Вижу, замирились будто, еще по стаканчику налили, а я на воду глаза отвел, вода — что масло, штиль был. Потом слышу — обратно на баке шум. Стоят эти двое у самого борта, и ледащий опять наседает: „Не веришь, — говорит, — так тебя распротак?“ — „Не верю“. — „Хочешь, в воду прыгну?“ — „Да прыгай, — говорит, — все одно не поверю“. Не успел Игнат Саввич матроса кликнуть, как тот на планшир вскочил, и в лице прямо исступление. „Я, — кричит, — за свои слова жизни решусь! Говори, подлец, в остатний раз спрашиваю: не веришь?“ — „Не, не верю“. — „Так на ж тебе, сукин сын!“ — и прыг в воду. А тот перегнулся за борт и кричит: „Все одно не поверю, хоть тони; нет такой рыбы и не могло быть!“
Ну, пока пароход останавливали, пока шлюпку спускали, Игнат Саввич ему разными словами дух поддерживал. Но так неудачно с ним получилось, даже обидно: уши в воде были, не слыхал ничего, видимо. Очень он неловко в воде был: руки, ноги свесил в воду, и голову тоже, а по-над водой один зад маячит. Жиру у него в этом месте больше было или просто голова перевесила, это уж я не скажу, но так и плавал задом наружу, пока шлюпка не подгребла. Так за зад и вытащили. Подняли его на борт — не дышит, а из норок с носу вода идет.
Потолковали мы между собой. Качать, говорят, надо, много ли он в воде был — минут десять всего. Сперва наши матросы качали. Качали, качали и плюнули. „Кончился, — говорят, — да и не наше вовсе дело пассажиров откачивать“. Тогда поморы взялись. Пошла из него вода пополам со спиртом, но на ощупь все же недвижимое имущество.
Игнат Саввич сошел с мостика, веки приоткрыл, сердце послушал. „Акт, — говорит, — составить, вовсе помер, будь он неладен“, — и послал меня за помощником. А тот спал, и так обидно ему показалось, что снова акт, что он в меня сапогом пустил. Однако вышел, пришел на бак, сам злой до того, что серый весь стал. Осмотрели карманы, — а известно, что в поморских карманах? Дрянь всякая, кисет да трубка, крючок там какой-то да деньги в портянке, а документа вовсе нет. Подумал помощник. „Подымите, — говорит, — его в стоячку да под локотки поддерживайте, опознавать будем. Подходи по одному!“ Стали пассажиры подходить, помощник каждого спрашивает: „Как ему по фамилии?“ Почешется, почешется помор: „Кто его знает? Божий человек. Нам ни к чему“. Который с ним спорился — того спросили. Трясется весь, говорит: „А пес его знает. Упористый был покойничек, это верно. А по фамилии не знаю“.
Помощник как туча стал. И так это ему обидно показалось — и разбудили, и акт в трех экземплярах, и по фамилии неизвестно. Смотрел, смотрел на утопленника — и лицом даже покривился. „Бога, — говорит, — в тебе нет, сукин ты сын. Ну, откуда я твое фамилие-имя-отчество рожу?“ — да с последним словом от всей своей обиды как двинет утопленника в скулу — так два зуба враз и вылетели. А с зубами вместе, обратите внимание, и остатняя вода, что в горле стояла и дышать мешала. Открыл покойник глаза и пошатнулся. Дошел до своего мешка, приткнулся головой и уснул. Видимо, утомился очень. После помощник ему весь свой спирт даром отдал, очень обрадовался, что тот его от акта выручил.
Но это только раз за всю мою жизнь я и видел, чтоб от битья польза была. А от соленых слов, наоборот, никогда вреда не бывает».
Посмеялся я над его рассказом, сам ему тоже для установления отношений кой-какую историйку рассказал, — вижу, перестал Помпей меня бояться. Я опять его по душам убеждаю: так и сяк, ликвидируйте вы эту свою привычку, вам на корабле и цены не будет. Бросают же люди курить — и ничего.
А он на меня опять с хитринкой смотрит и говорит:
— Это смотря сколько той привычке лет. Мне, товарищ комиссар, пятый десяток идет, это не жук плюнул. Были мы в девятьсот двенадцатом в Бомбее, так там, как из порта выйти — налево, у ихнего храма, факир на столбу стоял и не присаживался, а продовольствовался чашкой риса в день. Англичане косились, косились, — сняли со столба, положили в койку на самолучших пружинах и обедом накормили. Заскучал факир и погас, как свечка. А всего пять лет стоял, пять лет привычки имел. А я двадцать лет привычку имею, легко не отвыкнешь. Вы мне лучше определите срок, я чего-нибудь сам придумаю. И притом вопрос: как это — совсем отвыкать или только от полупочтенных слов? Скажем, безобидные присловья допускаются?
— Отвыкайте, — говорю, — лучше сразу совсем. А безобидные пусть у вас в резерве будут, когда вас прорвет, тогда их и пускайте.
Договорились. И началась новая эпоха: и точно, нормальной, скажем, брани больше от Помпея Ефимовича никто не слышит. Но как-то так он сумел и обыкновенные слова поворачивать, что слушаешь его — в отдельности будто все слова пристойные, каждое печатать можно, — а в целом и по смыслу — сплошная матерщина. Меня даже любопытство взяло. Постоял я раз на одном аврале — шлюпки подымали, — послушал внимательно и понял его приемчик. Он весь этот свой синтаксис — в тридцать три света, да в мутный глаз, да в Сибирь на каторгу, в печенку, в селезенку — в речи оставил, и хоть прямых непечатностей нет, но до того прозрачный смысл получается, хоть святых вон выноси. Да вслушиваюсь, — он еще какие-то иностранные слова вставляет, так и пестрит все ими. После я дознался: оказывается, он два вечера к старшему врачу ходил, все полупочтенные слова у него по-латыни раздобыл, на бумажку списал — и без запинки ими пользуется. Комсомольцы прямо вой подняли. «Что же, — говорят, — товарищ комиссар, еще хуже стало! Раньше, бывало, поймешь, хоть фыркнешь, а теперь покроет по-латыни — и вовсе не разберешь, что к чему!..»
Тут я рассердился, зову его опять в каюту и очень строго ему говорю:
— Вы, — говорю, — меня обманули, иначе говоря, взяли на пушку. Чтоб никаких слов — латинских ли, французских ли — я более от вас не слыхал, понятно? И объясните вы мне, за-ради бога, Помпей Ефимович: балуетесь ли вы из упрямства, или в самом деле такая в вас устойчивая идеология, будто на корабле без матерей не обойтись, хотя бы и иностранного происхождения?
Вздохнул Помпей Ефимович, смотрит на меня с отвагой отчаяния:
— По правде говорить, товарищ комиссар?
— Конечно, по правде, мы оба не маленькие.
— Ну, коли по правде, то идеология. И поскольку вы ставите вопрос не на принципиальное ребро, а по совести, позвольте с вами говорить не как с комиссаром корабля, а как с балтийским матросом. Тем более, вы какого года призыва?
— Девятьсот двенадцатого, — говорю.
— Ну вот. А я — девятисотого и в двенадцатом году уже четвертую кампанию в боцманах ходил, так что вы передо мной вроде, извините, как салажонок. Но раз вы все-таки настоящую флотскую службу захватили, то вполне должны понимать, что с морем без соленого слова никак не выйдет. Оно его любит, море-то. Раз человек лается, значит, у него в душе еще отвага и он непреклонен. Вот, скажем, на шлюпке идешь, два рифа взял, а волна… (тут он сказал, какая волна) — словом, упаси бог. Прикроет она шлюпку, сидишь-сидишь, и дыхание испортилось, а вода все на тебе одеялом. Послабже человек или кто с новобранства не обучен — тот взмолится. Ну и пропал. А как загнешь в три переверта с гаком из последнего дыхания — изо рта пузыри пойдут, а в каждом пузырьке соленое слово. В самую его мокрую душу угадаешь, моря-то. А душа у моря хмурая, серьезная — ее развеселить надо… Волна и отступит — значит, мол, жив еще человек, коль так лается.
— Ну, — отвечаю, — Помпей Ефимович, это какая-то мистика или художественный образ. Вы же кроете не стихию, а нормальных живых людей! А у них своя психика.
— Могу и насчет людей пояснить. Вот, скажем, увидишь, как настоящий марсофлот в шторм за бортом конец ловит, того и гляди, сорвется — как тут в восхищение не прийти? От восхищения и загнешь, и тому за бортом лестно: значит, от души его смелость оценили. Или, скажем, бодрость духа. Ее соленые слова, знаете, на какую высоту подымают? Вот упал человек за борт, ошалел, пока шлюпка дойдет, у него все гайки отдадутся. А пошлешь ему с борта что-нибудь необычное да повеселее, смотришь, и спас человека: поверху плавает и сам ругается для бодрости. Или на скучной работе: дерет, дерет человек кирпичом палубу, опротивело ему, думает — скорей бы второй помощник пробежал, может, отчудит чего посмешнее. А я тут как тут — там подбодришь кого, тут кого высмеешь, здесь этак с ходу веселое словечко кинешь, — обежишь корабль, вернешься, а они прямо искры из настила кирпичом высекают, крутят головами и посмеиваются. Или растерялся матрос, не за то хватается, того гляди, ему пальцы в канифас-блок втянет, — чем его в чувство привести? Опять-таки посторонним воздействием. Очень много могу привести вам примеров, когда плотный загиб пользу приносит. Только во всех этих случаях, обратите внимание, обычная брань не поможет. Я и сам против тех, кто три слова сызмальства заладил и так ими и орудует до седых волос. Слова и соленые приедаются, а действовать на психику надо неожиданностью и новизной оборота. Для этого же надо в себе эту способность развивать постоянной тренировкой и другим это искусство передавать.
Выслушал я его и резюмирую:
— Да, это развернутая идеология. Целая теория у вас получается. Только она, — говорю, — для Красного флота никак не подходит.
А он уже серьезно и даже с печалью говорит:
— Я и сам вижу, что не подходит. И потому прошу вас ходатайствовать перед высшим командованием Об увольнении меня в бессрочный отпуск… Вы же мне все пути отрезаете и даже не допускаете замены безобидным присловьем или, скажем, иностранного происхождения. Мне это крайне тяжело, потому что с флотом я за двадцать лет свыкся и на берегу буду болтаться, как бревно в проруби, без всякого применения. Но решать, видимо, следует именно так.
У меня прямо сердце переворачивается. Вижу, Помпей наш в самом деле ничего с собой сделать не может, раз решается сам об увольнении просить. А отпускать его страсть не хочется. Ах ты, думаю, будь оно неладно! И лишаться такого марсофлота прямо преступно для новых кадров, и оставить нельзя — куда же его, к черту, с такой идеологией? А он продолжает:
— Главное дело, я чувствую, что, коли б не это наше расхождение мнений, от меня флоту большая польза была бы. Я тут среди ваших комсомольцев присмотрел людей вполне подходящих, дали б мне волю, я бы из них настоящих матросов сделал, только своим, конечно, способом. Но раз Советская власть такого разговора на палубе не одобряет, я прямо тебе скажу, Василий Лукич, как матрос матросу: против Советской власти я не пойду. Вот и приходится корабль бросать.
Вдруг меня будто осенило.
— Это, — говорю, — ты правильно сказал: Советская власть такого разговору не одобряет. И я вот тебе тоже как матрос матросу признаюсь: я ведь — что греха таить? — сам люблю этажей семь построить при случае. Но приходится сдерживаться. Стоишь, смотришь на какой-либо кабак, а самого так и подмывает пустить в господа бога и весь царствующий дом, вдоль и поперек с присвистом через семь гробов в центр мирового равновесия…
Конечно, сказал я тогда не так, как вам передаю, а несколько покрасочнее, но все же вполсилы. Пустил такое заклятье, вроде как пристрелочный залп, — эге, вижу, кажется, с первого залпа у меня накрытие: подтянулся мой Помпей, уши навострил, и в глазах уважение:
— Плотно, Василий Лукич, выражаешься, приятно слушать.
Так, думаю, правильный подход нащупал. А сам рукой махнул и огорчение изображаю:
— Ну, мол, это пустяк. Вот в гражданской я действительно мог: бывало, как зальюсь — восемь минут и ни одного повтора. Ребята заслушивались. А теперь практики нет, про себя приговариваешь, а в воздух слов не выпускаешь.
Помпей на меня недоверчиво так посмотрел:
— Заливаешь, Василий Лукич, хоть и старый матрос. Восемь минут! У нас на «Богатыре» на что боцман ругатель был, а и то на шестой минуте повторяться начинал.
— Нет, — говорю, — восемь. Не веришь?
— Не верю.
— Не веришь?
— Нет, — мотает головой. — Я свое время не считал, но так полагаю, что и мне восьми минут не вытянуть.
— Ну, — говорю, — восьми, может, и я сейчас не вытяну, отвык без практики, но тебя все-таки перекрою.
Смеется Помпей, а мне только того и надо.
— Не срамись, — говорит, — лучше, Василий Лукич! Вот с «Богатыря» боцман меня бы перекрыл, а боле никого я на флотах не вижу.
— Ах, так, — говорю и вынимаю из кителя часы. — Давай спориться! Только, чур, об заклад: коли ты меня перекроешь, дозволю тебе в полный голос по палубе разговаривать. А я перекрою — тогда уж извини: чтоб никаких слов никто от тебя боле не слышал: ни я, ни военморы, ни вольнонаемные.
Он на меня смотрит и, видимо, не верит:
— Ты что, комиссар, всерьез?
А я китель расстегнул, кулаком по столу ударил, делаю вид, что страшно разгорячился.
— Какие могут быть шутки! Ты мне самолюбие задел, а я человек горячий. Принимаешь заклад или боишься?
— Я боюсь?.. Принимаю заклад! Посмотрим!
Хлопнули мы по рукам, стали договариваться. Он выставил вопрос о судье — кого позвать — и предложил старшего помощника: он, говорит, хоть нынче остерегается по тем же обстоятельствам, но разбирается в этом деле вполне. Я судье отвод — неловко, мол, мне, как комиссару, такие арии перед комсоставом, и какой вопрос может быть о судье, если два балтийских матроса на совесть спорятся?
Тогда с его стороны еще затруднение:
— Неправильно получается: как же так, с бухты-барахты? Кого же крыть и по какой причине? Сам понимаешь, для этого дела надо ведь в запал прийти.
— Меня, — говорю, — крой, что я тебе жизнь порчу. А я послушаю, наверное, сам с того обозлюсь. Начали, что ли?
— Пускай, — говорит, — секундомер с первым залпом!
Поправился в кресле — и дал первый залп.
Ну, я прислушиваюсь. Все в порядочке: начал он, как положено, с большого загиба Петра Великого, все боцмана так начинали. Потом на мою родню навалился. Всех перебрал до седьмого колена, про каждую прабабку характеристику сказал, и все новое, и на другой галс повернул, — меня самого в работу взял, а я вижу — одна тактическая ошибка у него есть. Третья минута пошла, а он все мной занимается: и рында-буленем, и фор-брамстеньгой, и в разные узлы меня завязывает, и каждой моей косточке присловье нашел, и все в рифму — заслушаешься. Отработал он этот участок — на небеса перекинулся, стал господа бога и приснодеву Марию тревожить, как будто и не он это на коленках перед стулом стоит. Кроет в двенадцать апостолов, в сорок мучеников, во всех святых, — а я опять на карандаш беру: еще одну тактическую ошибку мой Помпей допустил, вижу — у меня фору добрая минута будет. Потом вновь на землю спустился, начал чины перебирать, от боцманмата до генерал-адмирала и управляющего морским министерством. Словом, шестая минута пошла, и он, вижу, начинает ход сбавлять, вот-вот заштилеет. Посматривает на часы и пальцем тычет — сколько, мол, там?
— Шесть, — говорю, — крой дальше, Помпей Ефимович.
Тут он опять ветер забрал, понесся: новую жилу нашел — все звериное царство на моих родственников напустил: и медведей, и верблюдов, и крыс, и перепончатых стрекоз. Этого ему еще на минуту хватило, но, вижу, в глазах у него растерянность, и рифм уже меньше, и неожиданностей не хватает. Потом слышу — опять митрополита санктпетербургского и ладожского помянул.
— Стоп, — говорю и секундомер нажал. — Было уже про митрополита.
Он осекся, замолк, дух переводит, на меня смотрит.
— Было, — говорю, — было, Помпей Ефимович. Ты его еще с динамитом срифмовал и обер-церемониймейстером переложил, верно?
— Правильно, — сознается, — было. Сколько там вышло?
— Восемь минут семнадцать секунд. Перекрыл ты богатырского боцмана. Ну-ка, я рюриковскую честь поддержу. Бери часы.
Ну, набрал я воздуху в грудь и начал.
Если б вам все это повторить, многих из вас тут же бы до жвакагалса стравило. Потому что я все свои знания в этой области мобилизовал и все силы напряг, ибо ставка была уж очень большая: нужный для флота человек.
Прошел я по традиции и для времени петровский загиб, нажимаю дальше, аж весла гнутся, а на ходу все его тактические ошибки в свою пользу учитываю. Одна, что он двенадцать апостолов в кучу свалил, — а я каждого по отдельности к делу приспособил. Также и сорок мучеников, кого сумел припомнить, в розницу обработал. А у них имена звучные, длинные — как завернешь в присноблаженного и непорочного святого Августина или в святых отец наших Сергия и Германа, валаамских чудотворцев — глядишь, пять секунд на каждом и натянешь. Другая его тактическая ошибка — родню он перебрал мою только, а я всех прочистил и по жениной его Линии, тоже минуту выиграл. А надо вам сказать, я еще химию понаслышке знал, потому что по специальности минером-электриком был, — я и химию привлек со всякими ангидридами, перекисями и закисями. А главное, я его же приемом работал: неожиданные понятия лбами сталкивать и соответствующим цементом соленого слова спаять — вот оно и получается.
Словом, пою я эту арию уже девятую минуту, а впереди у меня еще Керзоны разные, да Чемберлены, да синдикаты, да картели, да анархия производства, — он таких слов и не слыхивал, а по этой системе все годится. Тут ведь не смысл важен, а придание смысла. Десятая минута идет — а у меня и стопу нет. И, может, на сорок минут развел бы я всю эту петрушку, как вдруг входит в каюту Саша Грибов, комсомольский отсекр, — услышал и замер у дверей. И точно, картина необыкновенная: сидит комиссар в расстегнутом кителе и такое с азартом из себя выпускает, что прямо беги к телефону и звони в контрольную комиссию. Я ему рукой машу, — не мешай, мол, тут дело серьезное! — а у него глаза круглые и лица на нем нет.
Я на часы покосился — одиннадцать минут полных, и Помпей совершенно убитый сидит. Повысил голос, дал прощальный раскат в метацентрическую высоту и в бракоразводные электроды — и отдал якорь.
— Ну, как заклад, Помпей Ефимович? — спрашиваю его своим голосом.
— Что же, — отвечает. — Матросское слово верное. А слово я до спора дал.
— Значит, разговор у нас снят об уходе и будем вместе Красному флоту служить?
— С таким комиссаром, — говорит, — служить за почтение примешь… — И опять на «вы» перешел: — Только скажите вы по совести, товарищ комиссар, как эти слова в себе удерживаете? Неужто никогда не тянет прорваться?
— Есть, — говорю, — еще и такое слово, Помпей Ефимович: дисциплина. Сказано — не выпускать их, вот и не выпускаю. И вы, как старый матрос, дисциплину знаете, так что коли ее вспомните — и вам легко будет.
И точно — с тех пор Помпей Ефимович нашел способ подбодрять народ и веселить его на работе без полупочтенных слов, а я Саше Грибову то и дело говорю:
— Внуши ты своим комсомольцам, можно же без разных слов моряком быть: укажи ты им на Помпея Ефимовича, разве не марсофлот настоящий?
И вот оглядываешься теперь на капитанов третьего и второго ранга, а иной раз и адмирала увидишь, — все они через его, Помпея нашего, золотые руки прошли: еще десять поколений призывников он вырастил.
А у меня, по правде, после этого состязания певцов на Большом Кронштадтском рейде трое суток в горле разные слова стояли. Начнешь на собрании речь говорить — и спохватишься: чуть-чуть в архистратига Михаила и в загробные рыданья, всегда животворяще господа, не свернул. С трудом я эту заразу в себе ликвидировал.
1926—1939 ТРЮМ № 16
На этот раз очередная «психическая ванна» Василия Лукича до краев наполнилась темой, совершенно неожиданной в условиях длительного подводного сидения. Причиной тому был острый запах спирта, со скоростью света распространившийся по всей лодке: это «король эфира», главный старшина-радист, готовясь к вечернему краткому выходу во внешний мир, промывал контакты своего хитрого хозяйства. Ноздри трюмного старшины Помелкова (кого местные остряки переименовали в Похмелкова) мгновенно расширились, и он, вдохнув в себя острый запах, сказал с трагизмом, почти шекспировским:
— До чего ж дошла мировая несправедливость! «Король эфира» непьющий, а ему в руки такое богатство!.. Контакты, они ведь устройство несознательное, мазни их разок по губам, а остатки… Эх!..
И он махнул рукой.
Я искоса взглянул на Василия Лукича и увидел в уголках его губ ту чуть заметную усмешку, которая, подобно титульному листу книги, всегда предваряла появление нового «суффикса». Однако он молчал, давая развиться дискуссии, в которую тотчас ринулся комсомольский секретарь, кого, несмотря на то что он был командиром отделения сигнальщиков, все непочтительно именовали Васютиком.
— Есть рацпредложение, — ядовито сказал Васютик. — Балластные цистерны водой заполнять наполовину, остальное — спиртом и продувать не за борт, а прямо в горло… Хрустальная мечта товарища Похмел… извините, Помелкова…
Посмеялись. Потом кто-то сказал:
— А чего смеяться-то? Служба у нас — сами знаете… На всех флотах матросам подправку дают: скажем, в британском флоте — ром, во французском — винишко, в германском — этот… как его?.. шнапс…
— А в царском — водочку, — подхватил Васютик (в синих глазах его зажглись полемические огоньки). — Вот тут писатель сидит, прочитай, как он эту царскую чарку в романе разъяснил…
Положение мое становилось неловким, но Василий Лукич, круто положив руля, вывел беседу на другой галс.
— Был у нас на крейсере гвардейского экипажу «Олег»… — начал он, и в отсеке мгновенно наступила тишина: все поняли, что начался очередной рассказ.
СУФФИКС ПЕРВЫЙ. КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ?
— Был у нас на крейсере гвардейского экипажу «Олег» старший офицер с такой фамилией, что новобранцы хорошо если к рождеству Христову ее заучивали, — старший лейтенант Монройо Феррайо ди Квесто Монтекули. Матросы промеж себя его звали флотским присловьем: «Тое-мое, зюйд-вест и каменные пули», а короче просто — «Тое-мое»…(6) Потомок не то французских моряков, не то итальянских, которые на службу Петру Первому подались. Так вот у него своя теория была, какого матроса считать пьяным. Если матрос к отходящей шлюпке своими ногами из города дошел, по трапу поднялся и хоть кой-как, но фамилию и номер увольнительной жестянки доложил — он беспрепятственно мог идти в кубрик. Более того, если Тое-мое сам при возвращении с берега присутствовал, он еще и похвалит: «Молодец, — скажет, — сукин сын, меру знаешь, иди отсыпаться»… Пьяным у него считались те, кого матросы к шлюпке на руках принесут, на палубу из нее горденем подымут, как кули с мукой, и потом на бак снесут. Там их, как дрова, на брезент складывали, чтобы палубу не гадили.
Разницу эту он сам установил и твердо соблюдал. Вот, скажем, был у нас водолаз Парамонов, косая сажень в плечах и глотка — для питья соответственная.
Взошел он на палубу, а его штормит — не дай бог: с борта на борт кладет, того гляди — грохнется. Тое-мое вахтенному офицеру мигнул — мол, на бак! А Парамонов, хоть чуть жив, разобрался. Вытянулся во фронт, стоит, покачивается, будто грот-мачта в шторм, с амплитудой градусов в десять, и вдруг старшому наперекор:
— А я, вашскородь, не пьяный. Я до шлюпки в тютельку дошел. И, ежели желаете, даже фамилию вашу произнесу…
Мы так и ахнули: рванет он сейчас «Тое-мое, зюйд-вест и каменные пули»!.. Ан нет: набрал в грудь воздуху и чешет:
— Старший лейтенант Монр… ройо… Ферр… райо… ди Квесто… Монтеку… ку(7)… кули, во какая фамилия!
Ну, думаем, будет сейчас мордобой, какого не видели! Так тоже нет! Усмехнулся Тое-мое, полез в кошелек, вынул рубль серебряный и дает Парамонову, а вахтенному офицеру:
— Запишите, — приказывает, — разрешаю внеочередное увольнение! — Потом к остальным повернулся: — Глядите, — говорит, — вот это матрос! Не то что вы, свиньи… — И пошел, и пошел каждому характеристику давать.
А с пьяными разборка у него утром бывала, перед подъемом флага. Придет на бак, а они уже во фронте стоят и покачиваются. Вот он и начинает, говоря по-нынешнему, проводить политработу.
— Ты что, впервые надрался? — спрашивает.
Матрос думает-думает, как лучше ответить, и скажет:
— Так точно, вашскородь, впервой. Никогда так не случалось.
— Ах, так! Впервой?.. Двадцать суток мерзавцу без берега, чтобы знал, как пить!.. Ну, а ты?
Другой, понятно, учитывает ситуацию, с ходу рапортует:
— Простите, вашскородие, не сообразил. Пью-то я справно, а тут корешей повстречал, будь им неладно, ну и не рассчитал… А то я завсегда своими ногами дохожу, а чтобы горденем подымали, такой страм впервой случился, ваше высокоблагородие, кореши это подвели…
Тое-мое, зюйд-вест бровками поиграет:
— Та-ак… Двадцать суток. Да не без берега, а строгого ареста! Пять — на хлебе и воде!.. Я тебя научу, мерзавец: пить не умеешь, а хвастаешь!
Ну, это все времена давние-передавние, а ведь и в нашем-то рабоче-крестьянском флоте я тоже кое-каких суффиксов по этой части навидался.
Начать-то надо, пожалуй, сбоку. В двадцатых годах появилась у нас на Балтийском флоте эпидемия: психи. Что это за явление? А вот что.
СУФФИКС ВТОРОЙ. ЧТО ТАКОЕ ПСИХИ?
Плавал я тогда на учебном судне «Комсомолец» комиссаром. И вот зачастили ко мне старшие специалисты. Придет, скажем, старший штурман или механик и чуть не плачет:
— Ну не могу я, товарищ комиссар, с Петрушкиным (или там с Ватрушкиным) ничего поделать: от работы отлынивает, грубит, сладу нет. Вызовешь его в каюту, начнешь долбать или политработу проводить на сознательность, он тут же бескозырку с головы — раз! — и о палубу. Ногами топчет и кричит истошным голосом: «Вы меня, товарищ командир, не неврируйте! Я псих!.. У меня такое медицинское состояние, что я не воспринимаю, чего мне говорят, и за себя не ручаюсь!..»
— Так вы таких в госпиталь посылайте, — говорю.
— Посылал. Две недели там отлежатся и придут с бумажкой, где лиловым по белому пропечатано, что военмор Ватрушкин-Петрушкин является психически неуравновешенным и до поры до времени в зависимости от дальнейших исследований за свои поступки отвечать не может, однако демобилизации по болезни пока что не подлежит…
Конечно, на флотах, как и везде, всегда сачки водились. Но тут появилась какая-то любопытная разновидность. Как мы потом разобрались, пошла она от жоржиков недобитых, которые с кронштадтского восстания у нас еще оставались, да от лиговской шпаны, какую нэп наплодил. Служить-работать им неохота. А за отказ от вахты или от наряда твердо было — трибунал. Вот такой и устраивает спектакль с криком и топтанием фуражки. Его — в госпиталь. А там он еще чище номера откалывает, пока не добьется бумажки.
А тут случилась у меня болячка, положили в госпиталь. Болезнь пустяшная, в кино ходить можно, а как раз объявили модную тогда Мэри Пикфорд. Пришел я в клуб пораньше, положил на стул книжку и пошел покурить. Вернулся — книга на полу, а на моем месте сидит болящий в полосатом халате Я ему говорю:
— Товарищ дорогой, тут книжечка моя лежала, так будьте любезны освободить место.
А он на меня посмотрел таким холодным взором и говорит:
— Катись колбаской. И ты меня, зараза, не раздражай, потому — я псих и у меня документ есть. Я вот сейчас тебе морду набью и отвечать не буду.
Взял я тихо-тихо свою книжку и из зала прямо к комиссару госпиталя.
— Послушай, — говорю, — браток, что же это такое у тебя творится?
А он мне:
— А что ты сделаешь? У нас теперь сплошная гуманизьма, спасу нет!.. Это тебе не гражданская война!.. Гуманизьма такая, что этого сукинова сына давно в трибунал сдать надо, а он наукой прикрылся: нервенный да психованный, вот с ним и чикаются.
— А ты чего ж молчишь? Сказал бы главному врачу, чтоб таких справок не давали!
— А если этот подлец возьмет да в него чайник кипятку швырнет? Конечно, его потом засудят, а мы-то главного врача лишимся. Понял ты, с чего такая гуманизьма? То-то…
Вернулся я из госпиталя в пятницу. А в субботу пошли мы с командиром осматривать корабль после большой приборки. Сами знаете, все должно быть промыто, надраено, корабль чистехонек должен быть, как невеста перед венцом. А тут видим — в коммунальной палубе под рундуками ветошь какая-то лежит грязная. Командир взъелся:
— Кто старшина? Чего недосмотрели? Десять суток гауптвахты!
А тот — бац! — фуражечку под ноги, начал ее топтать и зашелся:
— Не имеете права!.. Я нервнобольной!.. У меня документ!..
Тут на меня вроде наитие нашло. Нагнулся я, поднял фуражечку, расправил аккуратно ленточку, чтоб всем была видна, и ему вежливенько так говорю:
— Вот что. Либо ты сейчас заткнешься и начнешь этот кабак прибирать, либо я вызову караул и тебя не в госпиталь и не в трибунал, а прямо в Особый отдел отправлю. Ты ведь что ногами топтал? Что на ленточке написано? «Рабоче-Крестьянский Красный Балтийский Флот» — вот что написано! И как написано? Золотыми буквами написано! Значит, ты эти советские революционные слова ногами топчешь? Кто же ты есть после этого? И где тебе место? На флоте рабоче-крестьянском или — сам скажи, где?
И что же вы думаете? Притих, прибрался как миленький, а после ко мне в каюту пришел плакаться.
— Товарищ комиссар, — говорит, — я это сдуру, дружков наслушался.
А дружки-то его как раз те, что я говорил, — из вымирающего племени клешников да жоржиков с Лиговки. Они было сильно тон задавали, пока не пришли на флот первые комсомольские наборы.
Вот люди были! Огонь!.. Правда, с ними тоже трудновато порой было. Оно и понятно, сами подумайте, пришли они с руководящих постов — кто секретарь горкома комсомола, кто, говоря по-тогдашнему, уездного, а кто и из губкома. Флотская дисциплина осваивалась ими с трудом — как же, у них обо всем свое мнение! Чуть что — к комиссару с протестом. На комсомольском бюро планы такие строили, аж в затылке почешешь: революционные, но уж больно фантастические. Но главное-то со временем себя вполне обнаружило: новое племя на корабли пришло, комсомольское племя! Оно, глядишь, хотите — вытеснило, хотите — парализовало, хотите — перевоспитало другую флотскую молодежь, кто от клешников, жоржиков, от разной лиговской шатии всякой чепухи набрался. А уж свежий флотский набор — «деревенские», как тогда говорилось, — комсомольцы такой оборот завернули, что через годик-два смотришь — какой-нибудь пошехонский паренек уже состоит в активе комсомола и шумит за мировую революцию. А когда через три года пришел на флот четвертый комсомольский набор, мы уж вовсе позабыли, что это такое — пенки.
И вот, подумайте, в двадцать седьмом году, когда все вроде установилось, у нас на линкоре такая отрыжка этого явления произошла, что мы руками развели.
СУФФИКС ТРЕТИЙ. СЕРДЕЧНИК КАРПУШЕЧКИН
Был у нас вахтенный начальник по фамилии Карпушечкин. Такой глуповатый, прямо сказать, комсоставчик — как говорится, не командир, а существо в нашивках: ни звезд с неба, ни чинов от начальства не хватает. Училище кончил где-то на шкентеле, пятым-шестым с конца, так и стоит все на вахте вроде ночного сторожа. Даже ротой командовать не смог, пребывал в помощниках. Но и тут он, сейчас уж припомнить не могу, чего-то такого наворотил, за что ему командир корабля вкатил пятнадцать суток без берега.
Вот с этого-то Карпушечкин и запсиховал. Правда, фуражку не топтал, это уж отжило, а пошел по другой, деликатной линии: лежит в каюте, охает, стонет, на сердце жалуется и ест вполсилы. А надо сказать, тогда у комсостава, кто постарше, из царских офицеров, заметно стали сдавать сердца: чуть по службе какая неприятность — бледнеют, за сердце хватаются и лезут в карман за пузырьком, как сейчас помню, «строфант» называется. Но то у людей в годах, с переживаниями, со сложной биографией. А этот — молодой, без всякой анкеты и вроде здоровяк, а вот поди ж ты!.. Дует он этот строфант, как воду, а за сердце все держится.
Комиссар корабля в отпуску был, я за него оставался. Посоветовались мы с командиром, решили послать Карпушечкина в госпиталь на обследование, пусть, думаем, врачи что приговорят, может, в отпуск по болезни пошлют. А командир — тоже из бывших офицеров — мягкий, обходительный. Все кается: зря, мол, я так его огрел, хотел даже взыскание снять, да я воспротивился: «От двух недель без берега, говорю, никто еще не умирал, а фитиль вы ему вогнали правильно».
Вернулся Карпушечкин из госпиталя со справкой, а в ней — разные медицинские слова. Я звоню по телефону начальнику госпиталя: нельзя ли, мол, пояснее, попроще?
— Да, — отвечает, — действительно, сердечный невроз в сильной степени. Это теперь явление частое. Сказываются тяжелые годы, а организм еще молодой, неустановившийся. Службу нести может, но с ним надо обращаться бережно. Мы тут ему микстурку давали укрепляющую, пусть продолжает принимать месяц-другой.
Карпушечкин микстуру сдал вестовым в буфет, приказал ставить перед прибором. И аккуратно по две столовых ложки перед обедом и ужином глотает. А она, видимо, горькая: пьет, морщится, водой запивает; но действует — не так уж нервничает, на сердце меньше жалуется. Впрочем, и обхождение с ним было соответственное — черт его знает, все-таки больной, сердечник, мало ли что. А он, между прочим, прямо цветет, рожа — поперек себя ширше. И не мудрено: на ночную вахту не ставят — больной, в угольную погрузку дежурным по палубе назначают, подъем флага проспит — никто слова не скажет. Месяца через полтора совсем поправился наш Карпушечкин, старший помощник стал ему уже и нагрузочки подбрасывать.
А тут вышло новое че-пе. Был у нас еще один вахтенный начальник, командир первой башни со смешной фамилией Люм, из прибалтийских немцев, такой интеллигентный, хлипенький. На него старший артиллерист чего-то напустился, тот встречно чего-то ответил, словом, получилась недопустимая перебранка в кают-компании, и Люм вдруг сорвался с нарезов и зашелся. До фуражки, правда, дело не дошло, но руки у него дрожат, на глазах слезы и говорит без запятых:
— Я больше не могу отпустите меня я рапорт об отставке подам лучше в инженеры или врачи пойду!..
Я его приобнял немножко:
— Ну, — говорю, — не надо, успокойтесь. — Незаметно подвожу к стулу Карпушечкина и наливаю микстурку. Думаю, должна сработать, симптомы ведь те же, но для верности побольше налил, так с полстакана.
Взял у меня Люм микстурку дрожащей рукой, выпил, схватился рукой за грудь, вроде спокойнее стал. Я ему еще налил.
— Пейте, — говорю, — раз помогает. Карпушечкин с вахты придет, мы ему объясним, что позаимствовали, склянка-то почти полная, ему хватит.
Выпил он и эту порцию и пошел на свое место.
Сели мы ужинать. Только слышу — на том конце стола Люм разговорился. Шумит, острит, ну, разошелся вовсю, веселый, словно не он только что концы отдавал. Тут в меня подозрение вошло: что, думаю, за чертовщина? Дай-ка проверю… Взялся за сердце и говорю старшему штурману:
— Вам поближе, дайте-ка мне Карпушечкину микстурку, что-то и у меня сердце пошаливает, поволновался, видно…
Налил пальца на два и глотнул. Что бы вы думали? По крайней мере, семьдесят пять — восемьдесят градусов, чуть разведенный спирт!.. Тут я понял, почему Люм за грудь хватался и почему этот чертов Карпушечкин свою микстурку водой запивал…
Дождался я, когда он с вахты сменился, вызвал его в каюту, поставил перед ним склянку и говорю:
— Ну, признавайтесь, выкладывайте все начистоту!
— А чего ж признаваться? — отвечает. — В госпитале, и точно, была микстура, я с нее и поправился, а тут подливать начал понемногу.
— Пустяки, — говорю, — понемногу, градусов на восемьдесят!
А он:
— Так ведь, Василий Лукич, всего две столовые ложки на прием! Раз количеством нельзя — приходится качеством брать…
Если по-теперешнему считать, он, мерзавец, по сто граммов верных у нас на глазах пил полтора месяца, да еще смеется!..
Ну, что после того было, я вам рассказывать не стану — полный компот с добавкой от командующего флотом. Такое ему выдали, что наши сердечники забеспокоились. Не знаю, всерьез или на подначку, но перед обедом подходит ко мне старший минер, бывший лейтенант, и протягивает пузырек.
— Снимите, — говорит, — пробу, товарищ комиссар, и удостоверьтесь, пожалуйста, что это строфант, а не спирт.
И, знаете, с недельку они меня так изводили, то один, то другой, пока я не обозлился.
— Да глотайте себе на здоровье, — говорю, — даже если тут не ваш строфант, а Карпушечкин, и оставьте меня в покое: это же пузырек, а не его бутылка!..
Но вот среди таких алкогольных суффиксов в условиях корабельной дисциплины один мне запомнился крепко.
СУФФИКС ЧЕТВЕРТЫЙ. ЖЕРТВА ЦАРИЗМА
Был у меня кореш, еще на «Цесаревиче» вместе плавали, он — комендором кормовой башни, а я — электриком носовой. Потом я его потерял, — в гражданской он на Урале воевал, а я против Юденича, — и свела нас судьба только в двадцать восьмом году на дивизии линкоров: весной прибыл он на нее флагманским артиллеристом.
Вот как из матросов за эти годы произошел! Подтянутый, спокойный, такой аккуратный, всегда чисто бритый и одеколоном напрысканный. У него за время нашей разлуки к духам слабость какая-то, что ли, появилась: войдет в кают-компанию — вроде в парикмахерскую дверь распахнули, так и благоухает!..
Летом стояли мы в Лужской губе, все три линкора, и придумал он для нашего хитрую стрельбу по невидимой цели перекидным огнем через Сойкину гору. А мне приказано было вместе с ним сидеть на НП на этой самой горе для политобеспечения операции. Пошел я на катерке к подъему флага за Андрей Иванычем (он на флагманском линкоре плавал), вхожу в каюту, а он еще бреется. Пить мне хочется — спасу нет, уехал-то я без чаю. Вижу — графин на круглом столике, налил себе стакан, глотнул — и задохся: чистейший спирт!.. Его из порта выдавали для промывки прицелов. Прокашлялся, говорю:
— Андрей Иваныч, что ж ты его так держишь открыто? Хоть бы предупредил, я же человек непьющий!
А он этак с усмешкой отвечает:
— Понимать надо, Лукич. Ты же не у командира башни, у самого флагарта в каюте…
И тут берет он мой пригубленный стакан и допивает остальное, не моргнув и не крякнув. Потом зубы одеколоном прополоскал, щеки и шею им протер, надел китель — и его духами попрыскал, оглядел себя в зеркало и говорит:
— Ну, позавтракали, едем посмотреть, как молодежь небо дырявит…
— Силен! — не выдержал Помелков.
На него зашикали, и Василий Лукич продолжал:
— Я только руками развел, вот, думаю, откуда эта парикмахерская-то!.. Забрались мы на гору, сидим, наблюдаем стрельбу, а у меня в голове все гвоздит: что же это, братцы мои, деется? Такую борьбу с проклятым наследием царского флота ведем, а тут — здрасьте! — флагарт какой цирк показывает… Поглядываю на него — сидит, как святой в табельный день. Вскинет бинокль на падение снарядов, в книжечку команду корректировщика запишет — и опять за бинокль. И только и признаков этого его «завтрака», что флагарт наш даже на свежем воздухе благоухает. Линкор постреливает, снаряды над головой шуршат: А всплески, как назло, все кругом да около щита, хоть бы, на смех, одно попадание. Андрей Иванович хмурился, хмурился, подошел к корректировщику, взял у него трубку радиофона и начал старшего артиллериста нашего, кто стрельбу вел, поучать. Чему и как — это я не понял, дело артиллерийское, но, видимо, своего добился, потому что дальше пошло, как в сказке: накрытие за накрытием! На пятом залпе от щита ничего не осталось.
Тут-то я и понял, что за мастер Андрей Иваныч и что он за учитель.
Ну, раз щит разбили, объявили «дробь», и пошли мы с Андрей Иванычем в лесок прогуляться, пока новый подведут. Завел я с ним разговор о графине и спрашиваю:
— Слушай, Андрей, в какое же ты меня положение ставишь? Ну что я теперь должен делать? Ты же понимаешь, мы с этим делом боремся, а ты…
— Понимаю, — говорит. — А ты другое понимаешь: что с двенадцатого года, как нас с тобой призвали, я эту гадюку в себя вводил без стопу? Даже в империалистическую, когда чарку отменили, я все-таки исхитрялся прицелы с умом промывать. Да и в гражданской, правду сказать, приходилось способы изыскивать. А почему? Потому что я этой царской чаркой насквозь отравленный. Сколько я ее, проклятущей, за эти годы выпил, ни тебе, ни мне не сосчитать! Ты учти: я к спирту привык, как ты к куреву, и тебе меня не корить надо, а морально поддерживать, как жертву старого режима и флотской каторги…
Тут уж я в пузыря полез.
— Ты брось шутки шутить! Тоже нашлась мне жертва царизма!.. Я тебе серьезно говорю: давай подумаем, как с этим делом кончать? Как бы там одеколоном ни маскировался, а напорешься когда-нибудь — и, сам понимаешь, получится неприятность!
А он мне в ответ:
— Я тебе тоже серьезно говорю: ты вот скажи мне, когда-нибудь видел меня кто не в себе? Не то чтобы на бровях, а так — в заметности?
Я по совести отвечаю:
— Да я и сейчас удивляюсь, как ты после своего утреннего чайку стрельбу выровнял!
— То-то, — говорит, — оно и есть. Пути у нас с тобой, Лукич, разошлись: ты на политработу подался, а я к пушкам. Тут, брат, диалектика. Надо ее понимать, и ты будь более гибким.
— Как же, — говорю, — гибким? Одних за выпивку в трибунал посылать, а других по головке гладить? Не понимаю я такой диалектики.
— Не понимаешь? Поясню… Ты нас, старых марсофлотов, не учи, сделай милость. Мы ни Красный флот, ни революцию не подведем. Ты же сам удивлялся, как я стрельбу сейчас выправил. А почему? Потому что в мозгах с утра смазка была, вот они и не скрипят. Это молодежь нынче на полтинник выпьет, а бузит на весь червонец. Вот тебе и диалектика!.. Ты за молодыми смотри, комиссар, а за старым матросом не приглядывай, а коли какой грешок есть — помолчи.
Кончился наш разговор вроде ничем. Вернулся я на корабль в полном смятении чувств: понимаю, что никак нельзя это дело оставить, а дать ему надлежащий ход — какого артиллериста потеряешь! Ведь он целое поколение выпестовал, а главное — сам из матросов, и к каждому комендору подход имеет, и молодых комендоров тому учит. И так верчу в мозгах, и этак — он ведь не Помпей Ефимович, кого, помните, я от полупочтенных слов отучил… Да у меня и образование по этой специальности не то: возьмешься Андрея об заклад перепивать, гляди — под стол свалишься…
Съездил я к нему разика два-три. Потолковали по душам, кой-чего я в нем затронул, и пообещал мой Андрей Иванович с первого числа попробовать отвыкать. А почему с первого, потому что спирт из порта выдавали на месяц.
— Ладно, — говорит, — Лукич, вот добью июньский — и дробь! В самом деле, эпоха не та. К тому же, замечаю, в последнее время комдив ко мне чего-то принюхиваться начал. Я теперь, когда с ним разговариваю, поправку на ветер беру делений двадцать по целику. Да, по правде, мне за эту дымзавесу уж надоело полжалованья в ТЭЖЭ отдавать…
— Опять на шутках отыграться хочешь? — спрашиваю.
— Нет, — говорит, — Лукич, уговор флотский. Характер у меня, сам знаешь, твердый.
Однако ничего из этого не получилось. Не настало еще первое июля, вернулись мы из губы в Кронштадт, и, как положено, флагманские специалисты смылись в Ленинград на свои штатные полтора суток. Поехал и мой Андрей Иванович. Прямо с катера зашел на Васильевский остров к дружку, посидел там вечерок и пошел белой ночью к себе на Петроградскую сторону. Подошел к Биржевому мосту, а он разведен. Андрей Иваныч разделся, аккуратненько обмундирование связал в сверток, присобачил его на голову, вошел осторожно в быстрые струи Малой Невы и поплыл на тот берег. Добрался вполне исправно, вышел и направился потихоньку домой. Но на Кронверкском проспекте задержал его милиционер и попросил объяснений.
Оказалось, Андрей Иванович забыл одеться — и два квартала протопал нагишом со свертком на голове…
Что началось!.. Чуть не демобилизовали, да жаль было такого артиллериста терять. Продраили его с песочком да с битым кирпичом — и оставили. А на него этот случай морально так повлиял, что он — руля на борт и поворот оверштаг: начисто отрезал, даже в смысле пивка. А мне пояснил:
— Понимаешь, Лукич, я ведь и всамделе всерьез хотел бросить. Я уж подсчитал: сколько православному человеку от господа бога на тридцать шесть годиков жития полагается, — я всю норму выполнил. А сколько на шестнадцать лет флотской службы матросу положено, пожалуй, и две отработал. Стало быть, пора и на мертвый якорь. Решил отвальную себе справить, зашел к Кандыбе, — помнишь, на «Цесаревиче» минным машинистом был? — а у него вдобавок жена именинница. Сел за стол — и перебрал. Как это получилось, прямо ума не приложу, но перебрал… Я так вывожу: наверное, потому, что пил не стоя, а сидя, и потом, не один и не для службы, а в компании и для развлечения. Я ведь свою порцию точно знаю и сроки приема тоже. А тут не ко времени, да с людьми, да еще с подначкой: валяй, мол, в последний раз!.. Вот ведь что обидно: китель, штаны и ботинки, обрати внимание, сухие, а надеть забыл. Это уж в организме какие-то неполадки, значит, какое-то реле во мне уже не срабатывает, стало быть, полный стоп: дробь так дробь!..
Вот и учтите: берегся человек и духами страховался, ан глядь, все-таки подвел его спиртишко, да еще как!
— Не спирт, а вода, — неожиданно сказал трюмный старшина. — Не залезь он в воду, дошел бы себе безо всяких че-пе. А тут посторонняя среда, и опять же рефлекс нарушен…
Начался бурный спор. В особенности кипятился Васютик, доказывая, что катастрофа была закономерна и подготовлена годами. Василий Лукич слушал дискуссию довольно долго, потом поднял руку и сказал:
— А вот я вам, товарищи, загадку загадаю. Говорите вы о неустойчивости Карпушечкина, о царской отраве, а что вы скажете, если часть комсомольцев — тех самых, что так помогли оздоровить личный состав флота, — тоже оказалась подвержена влиянию или, хотите, вливанию заветного напитка? Если комсомольцы на палубе линейного корабля пьяные шатались и лыка не вязали? Слышали такое?
Тут сразу настало молчание. Васютик посмотрел на Василия Лукича ошеломленно.
— Товарищ капитан второго ранга, я что-то не понимаю, о чем вы говорите, — сказал он, оглядываясь на соседей.
— А вот послушайте, — ответил Василий Лукич, уселся поудобнее и начал свой очередной рассказ.
СУФФИКС ПЯТЫЙ. ТРЮМ № 16
Летом двадцать четвертого года перебросили меня с эсминца на линкор на должность помощника комиссара, которого там еще не было, и мне пришлось исполнять его обязанности До прибытия. Впрочем, и самого-то линкора, строго говоря, тоже еще не было — была мертвая коробка: корабль стоял на долговременном хранении уже шестой год, с самого ледового похода. А тут пришла пора вернуть его к жизни, на службу возрождающемуся Красному флоту. Перетащили его с кладбища к заводской стенке, скомплектовали костяк команды — опытных машинистов, электриков, комендоров, кочегаров, подкинули в помощь строевой команде комсомольцев последнего набора, а старпомом поставили Елизара Ионовича Турускина, знаменитого на весь флот служаку: не человек, а статья Морского устава, который ему при царе вбивали в голову в Ораниенбаумской школе строевых унтер-офицеров и судовых содержателей.
Впрочем, именно такого старпома нам и нужно было: корабль — еще не корабль, стоит у завода в самом Питере, соблазнов много. Тут дисциплинку держать надо — шкоты втугую. И хоть на корабле полно было заводской мастеровщины и сам корабль был весь разворочен, такой завел Елизар флотский порядочек, что все стали почесываться. А молодой комсостав — вахтенные начальники да ротные командиры, — те просто взвыли. Однако одно средство на него все же нашли: именовать его при всяком удобном случае «старшим офицером» или еще пошикарнее — «старофом», как бы в шутку или оговорившись. Скажем, у дверей каюты: «Что, старший офицер у себя?» Или за обедом: «Товарищ староф, разрешите из-за стола?» Или более тонкий ход, якобы не видя, что он рядом: «Надо бы на бережишко, да не знаю, как взглянет старший офицер…» А ему это — как коту масло: улыбнется в полном удовольствии, но всякий раз заметит:
— Вы, товарищ командир РККФ (он все буквы со вкусом полностью выговаривал: «эр-ка-ка-фэ»), не забывайте, что с офицерами мы на флотах еще в семнадцатом году расправились… А что такое у вас на берегу приключилось?
Глядишь, тут же и отпустит.
А пошло это с того, что Елизар наш как-то за вечерним чаем начал политработу проводить:
— Вот вы, товарищи молодые командиры РККФ, взгляните, как наша революция людей подымает. Кем, скажем, я в настоящем сроке моей службы с одна тысяча девятьсот седьмого года мог быть при царском режиме? В крайнем случае — кондуктором(8). А теперь, взгляните, — старший помощник командира линейного корабля, что по-старому соответствует должности старшего офицера в чине не менее капитана второго ранга. И супруга моя вхожа в общество Дома Красного флота, имеет приличную шубу, и квартира у нас отдельная, и мебель хорошая… — И так на полчаса.
Но, говоря по правде, для данного состояния линкора лучшего старпома было не найти. Службе он отдавал всю душу и на своей «отдельной квартире» хорошо если раз в месяц бывал. Вообще должность старпома — не сахар, а на корабле у завода — уж вовсе не пряник: глаз да глаз, всюду надо нос сунуть. И хоть хлопот много, корабль весь разворочен, главная страсть у него была — чистота. В машинах, в башнях, на верхней палубе — все вверх дном, работ выше головы, а он чистоту требует. Чтобы до подъема флага — мокрая приборка, хотя флага у нас еще нет, корабль же не в строю! Рабочие придут в семь часов, а на палубе суета, вода да сплошная драйка. Краснофлотцы ко мне. Поставили вопрос на партийно-комсомольском собрании: тут, мол, не экипаж, и мы не новобранцы, а ремонт от этой чистоты страдает Много горьких слов наговорили, а больше всех — три Орлова.
Были они в комсомольской прослойке главными энтузиастами: Орлов-омский, Орлов-калужский и Орлов-из-центра. Первый пришел на флот с поста секретаря губкома комсомола, второй — горкома и третий Орлов — из аппарата Цекамола. Омский еще до этого приходил ко мне, весь кипит, возмущен тем, что Орлова-из-центра старпом за какой-то пустяк посадил на губу на трое суток. И сразу с ходу:
— Есть, товарищ комиссар, комсомольское предложение: пускай комсостав, если хочет припаять взыскание, передает вопрос на комсомольское бюро. А мы уж сами разберемся — на губу или три наряда, без берега или общественное порицание…
Я разъясняю:
— Товарищ дорогой, есть у нас на флотах одна деталька, которую вы не учитываете, — устав РККФ. Там все права и обязанности определены.
А он мне — опять в кипятке:
— Ну и что ж? Нельзя, что ли, его пересмотреть? Мы же шефы Красного флота, мы же флот строим!..
Сами понимаете, посадить всех Орловых на губу за внутрипартийную демократию нашему «старшему офицеру» было неудобно. Поэтому критику он затаил в себе, как занозу, но все присматривался, как бы орловскому колхозу отомстить. И дождался.
Самой трудной и грязной работой при восстановлении корабля была, конечно, чистка трюмов. В царское время на нее матроса назначали в наказание. И вот Елизар так подстроил, что на утренней разводке на работы чаще всего в трюмы стали попадать комсомольцы, а уж все три Орлова — обязательно. Я это приметил, зашел к нему в каюту и наедине указал: мол, молодежь обижается. Но он из партийного разговора сразу свернул в уставный фарватер.
— Вы, товарищ помощник комиссара корабля, в данном случае не правы дважды. Во-первых, вы вмешиваетесь в функции старшего помощника командира корабля. Во-вторых, краснофлотцев, имеющих специальность и опыт, я на эту работу не могу назначить, их у нас и так недостаток. А для молодого пополнения это самая подходящая работа, не требующая особых знаний и опыта. И мне удивительно, что современные комсомольцы брезгуют грязной работой. В мое время, взгляните, комсомольцы шли на все трудности с энтузиазмом и вполне безусловно.
Я опять перевожу разговор в свою плоскость.
— Так-то так, — говорю, — товарищ Турускин, но я все же за справедливость: среди строевых у нас комсомольцев меньше половины, а в трюмах — все они да они. Надо ребят и к другой работе приучать. А то ведь опять на собрании вопрос станет.
Это на него подействовало.
— Если таково ваше приказание, товарищ помощник комиссара корабля (он отлично знал, что до прибытия комиссара я являюсь исполняющим его обязанности, но упорно меня титуловал так, видимо, для уязвления самолюбия), если таково ваше приказание, то попрошу вас поставить об этом в известность командира корабля, поскольку вы вмешиваетесь в мои действия.
Ладно, думаю, поставлю. Командир согласился, и комсомольцам полегчало.
Но Елизар Ионыч нутро корабля знал лучше нас обоих. Пождал, пождал, дал Орловым недельку-две поработать на палубе, а потом всех трех поставил на чистку трюма № 16.
А это был хоть и небольшой, но самый запущенный трюм. С ледового похода туда ни одна живая душа не заглядывала. Был он под провизионкой, и потому накопилось в нем черт-те что: другие трюма в машинном масле или просто в воде и ржавчине, а этот в какой-то присохшей корке, которую и ломиками не сколупнешь. Бились Орловы там дня два-три, потом калужский приходит ко мне с комсомольским предложением: помочь раздобыть пневматический отбойный молоток. А их и на заводе был дефицит. Я опять к Елизару. А он:
— Я удивляюсь, товарищ помощник (и так далее), почему это такая комсомольцам перепрегатива? Остальные краснофлотцы, взгляните, вершат свою флотскую работу без претензий, а тут вы требуете особой техники!
Я объясняю, что сам, мол, пробовал ковырять ломиком и лично убедился, что корка — как железо, этак ее и до весны не отдерешь. А Елизар все свое:
— Не знаю, товарищ (опять полный титул), в мое время с такой нехитрой работой даже темные деревенские новобранцы справлялись. А тут образованные люди дрейфят? Если желаете, это даже не воспитательно: сегодня в трюм пневматику, завтра — электросварку, чтобы стальной трос сплеснить(9), а послезавтра — для мытья палубы подай стиральную машину? Пусть оморячиваются, как в песне поется: «Вперед же по солнечным реям!..»
Вижу, плотно залез он в бутылку, не вытащишь. Впрочем, и я обозлился, главным образом за солнечные реи. Вам известно, что комсомольский набор не очень-то охотно встречали вот такие ярые служаки, как наш Елизар: тоже мне, мол, моряки-молокососы, всех учат. А главное, не один Елизар у нас такую позицию занял, а вся его старая гвардия — боцмана да старшины. Вот я и пошел в контратаку.
— Ну ладно, — говорю, — с молотком я как-нибудь сам разберусь. А вот у меня к вам вопросик: когда же вы выкроите время для партийно-комсомольского собрания? Боцман-то ваш ведь гуляет как ни в чем не бывало?
Тут Елизар мой совсем обозлился. А дело было в том, что в прошлую субботу любимец его, баковый боцман Иван Петрович, старослужащий, из царских унтерофицеров, марсофлот и служака, вернулся из города в таком дрейфе, что засвистал в люк четвертого кубрика и дал дудку: «Все наверх, гребные суда подымать!» — хотя на корабле еще ни одной шлюпки не было, а время было половина двенадцатого ночи. Случай, сами понимаете, неслыханный, но Елизар Ионыч так устроил, что его Иван Петрович отделался всего двумя неделями без берега. А о собрании, чтобы провести воспитательную работу, я никак не могу договориться: тянет Елизар, тянет, все ссылается на срочные работы даже по вечерам — словом, хочет это дело замять.
— Так вот, — говорю, — давайте послезавтра освободите время, и обсудим вопрос. А молотком я сам займусь.
Пошел я на завод, договорился с главным инженером, тот поморщился, но один молоток велел дать на день. Тут выяснилось, что Орлов-омский, хоть и секретарь губкома, но в технике разбирается. И утром с разводки на работы пошла вся комсомольская тройка в трюм № 16 с песней «Вперед же по солнечным реям!..».
По правде сказать, у меня что-то подсасывало под ложечкой: загубят, думаю, пневматику, потом мне с заводом не разобраться. Не вытерпел и после обеда спустился в трюм. Грохот — спасу нет. Орловы все в какой-то черно-ржавой пакости, дух стоит смертный, гнилью несет. Оно и понятно: видно, в восемнадцатом году в Гельсингфорсе братишечки по случаю предстоящей демобилизации картофель тут попрятали, а вывезти по деревням не удалось. Но комсомолия моя с трудностями не считается и работает на совесть, ведро за ведром подает в горловину. Более того, Орлов-из-центра обращается ко мне:
— Товарищ комиссар, разрешите в порядке перевыполнения задания работать после отбоя. Мы, пожалуй, за один заход прикончим, а то двадцать раз мыться!
— Что ж, — говорю, — солнечные энтузиасты, валяйте!
Поднялся я наверх, сказал на вахту, чтобы им ужин в расход оставили, и занялся своими делами.
А как раз перед ужином приехал из Кронштадта инструктор Пубалта со всякими срочными вопросами. Мы с ним засиделись, ужин даже пропустили. Зашел разговор и о че-пе с боцманом, я прошу помочь с собранием. Инструктор говорит:
— А ты попроси старпома сюда, я его припугну: мол, в Пубалте недоумевают, чего вы тянете. Сегодня же и соберем собрание, время еще есть.
И не успел я рассыльному позвонить, как вдруг открывается дверь и входит ко мне в каюту сам «старший офицер».
— Вот, — говорю, — кстати!.. Знакомьтесь — инструктор Пубалта, товарищ Донской Интересуется, когда же мы обсудим на коллективе проступок вашего боцмана?
А у Елизара на лице такая ехидная улыбочка — не поймешь и к чему. Здоровается он с Донским и говорит:
— Действительно кстати. Я как раз к вам, товарищ помощник (и опять все святцы), с таким же вопросом, поскольку на линейном корабле обнаружено трое пьяных комсомольцев.
Я ушам не поверил:
— То есть как это?
— А так, — отвечает с нестерпимой ядовитостью. — Можете полюбоваться на своих строителей мощи Красного флота.
Тут уж и инструктор уши навострил, заинтересовался, в чем дело.
А Елизар расселся в кресле и словно оперную арию поет:
— А в том, товарищ инструктор Политического управления Балтийского флота, что комсомольцы, работавшие в трюме номер шестнадцать, не вышли к ужину. Когда же за ними послали, были обнаружены там в состоянии сильного опьянения и, будучи вынесенными на верхнюю палубу, не держатся на ногах. А причиной тому — найденные в трюме две бутылки водки завода Смирнова, поставщика двора его императорского величества, каковые могут служить вещественным доказательством.
Я за фуражку — и наверх. Гляжу — и сердце упало: ведут моих Орловых, каждого двое, под ручки, потому что ноги у них заплетаются, а они головки свесили. Орлов-омский травит, как кит, направо и налево, а Орлов-из-центра хриплым голосом поет «Вперед же по солнечным реям!..». А Орлов-калужский почти без сознания. За ними идет баковый боцман — тот самый Иван Петрович — и несет пустые бутылки, как ручные гранаты на взводе, поодаль от себя.
— Куда? — спрашиваю.
— В карцер по приказанию старпома, — отвечает боцман и с усмешечкой покачивает обеими бутылками.
Стою и не знаю, что делать. Факт, как говорится, голый. Но тут Орлов-калужский вроде очнулся, увидел меня и говорит:
— Товарищ комиссар, доктора бы поскорей… Я первый свалился…
Долго рассказывать не буду; вместо карцера доставили их в лазарет, осмотрели и установили: отравление спиртовыми газами гнилостного разложения. В этом окаянном трюме чего-чего не было: и картошка, и сахар, и мука. Все это за шесть лет перебродило и закупорилось под коркой. Словом — выдержанный коньяк. Как его раскупорили — так и пошли от него головы гудеть. Орлов-из-центра потом говорил, что сначала всем весело было, потом рвать начало, потом Орлов-калужский упал, а когда омский пошел к трапу, сил не хватило. И хорошо, говорят, что вовремя вытащили.
Спустились мы все трое — и «старший офицер», и Донской, и я — в этот трюм и убедились: кроме смирновских бутылок, нашли еще штук десять пустых — и пивных, и из-под шведского пунша, — видимо, братишки в Гельсингфорсе времени не теряли. А когда последнюю нашли, посмотрел я на Елизара Ионыча и говорю:
— А что, товарищ «старший офицер», не распорядитесь ли на вахту закусочки сюда подослать? Славно бы времечко провели: садись, дыши и закусывай!
— Вот какие бывали случаи на заре нашего Красного флота, — закончил Василий Лукич, и Похмелков вздохнул:
— Ммдда… У нас-то все трюма чистые-пречистые… Эх, была жизнь!..
1967 ТРИНАДЦАТОЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Тема новой беседы Василия Лукича была подсказана «суффиксом», происшедшим в кормовом отсеке: «король эфира», он же главный старшина-радист, вздумал побриться, для чего пристроил свое карманное зеркальце ближе к лампе, на верхнюю койку, но при тщетной попытке взбить в соленой воде мыльную пену не рассчитал движений и задел локтем зеркальце. Оно слетело на палубу и разбилось.
Всем известно, что разбитое зеркало предвещает владельцу крупную неприятность — до внезапной его кончины включительно. Василий Лукич пришел в кормовой отсек в самый ожесточенный момент спора. Мистики зловеще качали головами, смутно утверждая, что в приметах, несомненно, «что-то такое есть» и что «здесь, как бы сказать, не без того», и остается только выяснить, сам ли Власов помрет сегодня, или зеркало имеет в виду кого-либо из его родственников. Скептики же дружно высмеивали эти утверждения и обратились за поддержкой к вошедшему Василию Лукичу. Но, к их удивлению, тот неожиданно спросил:
— А день какой у нас нынче?
На этот простой вопрос мы не смогли сразу ответить: все дни в «великом сидении» смешались. Потом установили, что четверг, и тогда Василий Лукич авторитетно сказал:
— Смертельного исхода не предвидится. В четверг зеркало на корабле разбить — к большому походу. Нынче всплывем как пить дать. Вот увидите!
Мистики обиженно зашумели — такой приметы они и не слыхивали, — и так родился еще один из рассказов Василия Лукича, самый удивительный и самый трудный для передачи, потому что многие сведения о приметах, сообщенные им, мною, к несчастью, забыты.
Так, например, я никак не могу вспомнить, что следует делать в том случае, если при прогулке с девушкой вас неожиданно разделит с нею телеграфный столб или тумба. По кодексу примет это предвещает близкий разрыв, но чем можно обезопасить этот коварный замысел судьбы, я забыл: не то надо тут же присесть на корточки, не то трижды обойти задним ходом проклятый столб. Во всяком случае, надо сделать что-то такое, отчего вас или поволокут в милицию за уличное хулиганство, или сама девушка убежит от вас, как от человека, показавшего, что он давно не в своем уме. Возможно, что большой процент разрывов любовных связей объясняется именно сложностью этой профилактики.
Если бы мне удалось привести в систему все приметы, изложенные в этой беседе Василием Лукичом, и все меры, аннулирующие неприятность, такой труд послужил бы основой счастья человечества. Но, к сожалению, я могу опубликовать лишь то, что удалось запомнить.
— В двадцать четвертом году, — начал он свою поучительную беседу, — перевели меня комиссаром на эсминец. Он еще на заводе стоял, кончал ремонт после долговременного хранения и готовился к сдаче ходовых испытаний. Командир, Сергей Николаевич Горбунов, видимо, хороший моряк, из старых офицеров, службу начал в двенадцатом году, но к Советской власти вполне лоялен, дисциплинку на корабле держит, ремонтом болеет. Ну, думаю, служить мне тут без особых хлопот. И вот перед самым выходом в море на пробу машин поступают ко мне нехорошие сведения, что командир корабля скупает золото.
Проверил я — и точно: он уже у пятерых спрашивал, где бы купить царскую золотую десятку или пятирублевик. Так, думаю, дело ясное: тут слушок прошел, будто нас в заграничный поход собираются послать с курсантами, вот он и запасается загодя валютой. Очень этот факт меня огорчил. Казалось, совсем человек перевоспитался, прибавочную стоимость исправно изучает, сам наловчился занятия с комсоставом по политэкономии проводить, я за это даже благодарность от Пубалта получил, — а гляди ж ты, все-таки родимые пятна капитализма из него лезут! И чтобы как следует его пристыдить, я за вечерним чаем при всех командирах и при старике инженере, который от завода ремонт у нас вел, взял да ему и бабахнул:
— Валютку, — говорю, — скупаете, Сергей Николаевич? Хорошее дело…
Он смутился, покраснел, а я продолжаю:
— Давайте бросим это занятие. Ежели сам командир такую предусмотрительность показывает, у нас не корабль получится, а прямая лавочка.
А он говорит:
— Вы, Василий Лукич, как большевик, этого не поймете. Я, собственно, всего один золотой ищу — пятирублевик или десятку, это безразлично, а нужен он мне для предотвращения бедствий нашему кораблю. Так что это не спекуляция, а наоборот — забота о народном достоянии.
Я даже чаем поперхнулся — спятил, думаю, у меня командир. А он с достоинством и даже этак покровительственно поясняет:
— И мне удивительно, что вы, старый матрос, сами не догадались. Вы о Гогланде что-нибудь слыхивали?
Я отвечаю, что Гогланд этот мне глаза намозолил — сотни раз мимо него ходил. Остров как остров, лежит посредине Финского залива, и в чем, собственно, вопрос?
— А в том, — говорит, — что всякий старый моряк знает древнее поверье. Оно еще с петровских времен идет: когда в первый раз на корабле мимо Гогланда в море проходишь, надо золотую монету в воду кинуть — вроде как жертву морскому богу, — и тогда все плаванья на этом корабле будут тебе счастливы.
— Что же, — говорю, — может, в петровские времена это было рентабельно. Но сейчас, пожалуй, расход получается несообразный: скажем, если линкор идет, а на нем тысяча двести человек команды — это сколько же потянет? Двенадцать тысяч рублей золотом отдай — и вдобавок никакой гарантии?.. На такое мероприятие, — говорю, — Наркомфин визы никак не положит.
Молодежь из командиров, понятно, рассмеялась, старик-инженер недовольно хмыкнул, а командир говорит:
— Вы, Василий Лукич, хотите свести к абсурду. Команды это не касается, а командир корабля как его хозяин, естественно, обязан отдать морскому богу эту небольшую лепту, чтобы чего не вышло… Обычай старинный, красивый, и в нем глубокий смысл.
— Допустим, — говорю, — что в этом есть своя красота. Но у меня к вам вопрос: поскольку при Советской власти комиссар корабля является ответственным за него наравне с командиром — значит, и мне прикажете на поход золотым запастись? Или, по моей несознательности, может быть, советским червонцем отделаюсь?
Он рассмеялся.
— Ну, — говорит, — раз Советская власть еще не издала декрета, какие приметы вздорные и какие научно обоснованы, так это дело вашей совести. Но на вашем месте я бы от греха монетку Гогланду бросил. Ведь дело здесь вовсе не в суеверии, не в признании таинственного божества, — культурному человеку смешно об этом думать! — а просто в человеческой психологии. Вот я о себе скажу: я вполне понимаю, что примета эта — вздор, а все же внутренне опасаюсь, что коли я обычая не выполню, то это создаст во мне ожидание беды, аварии, какой-нибудь неприятности — словом, во мне это самое политико-моральное состояние, как вы изволите выражаться, будет нарушено, и я перестану быть на мостике уверенным в своих действиях. Повторяю, все дело здесь в психологии. Вот взгляните в историю: полководцы перед сражением обычно гадали — на петухах или там на бараньих лопатках, всякие затмения и кометы учитывали. Вы думаете, они судьбу этим пытали, будущее хотели узнать? Вовсе нет. Они в созвездия и в петушиные потроха за уверенностью лазили. Если ему светила благоприятствуют, этот полководец прямо землю роет — и смелость у него появляется, и инициатива, и боевой задор. А не дай бог дурное предзнаменование выйдет, тут уж он сам не свой — и мораль испортится, и глупости начнет делать, вот и выходит — лучше бы от сражения вовсе отказаться. Толстой об этом точно написал, — помните, у Наполеона был насморк перед Бородинским сражением? Он уже не войсками распоряжался, а чихал и о платках заботился, и эта посторонняя мысль ему сражение испортила… Или возьмите англичан: культурнейшая морская нация, а вы знаете, что у них в офицерской аттестации особая графа есть: везучий офицер или невезучий? У них признанного неудачника в серьезную операцию не пошлют: провалит обязательно. А тот, кого адмиралтейство признало за удачливого, счастливого, — тот в себе вполне уверен, у него особая смелость есть: раз он знает, что ему везет, он на многое рискнуть может… Зачем же самому себе психику портить? Золотой в воду кинуть — расход небольшой, а это мораль укрепит. А так как у меня на глазах живой пример с Гогландом был, то согласен я половину жалованья отдать, чтобы на походе быть спокойным.
— Какой же это пример? — спрашиваю. — Любопытно…
— Очень убедительный. Когда я службу желторотым мичманком начинал, попал я на миноносец номер двести двенадцать и выходил на нем вот тоже так: с завода из Гельсингфорса в Петербург на торжественный спуск линейного корабля «Севастополь». А командир был тоже вновь назначенный, старший лейтенант Клингман. И вот, помню, на прощальном обеде перед походом офицеры с соседних миноносцев спрашивают его, приготовил ли он золотую монету для Гогланда. А надо вам сказать, Клингман из прибалтийских немцев был — скуповатый такой, расчетливый, экономный. «Это, — говорит, — пустая примета и устарелая. Она имела смысл при парусном флоте, потому что за Гогландом ветер обычно меняется, и отсюда ее происхождение. А для паровых кораблей помощь морского бога не нужна. Кроме того, мы идем мимо Гогланда не в море, а с моря, и к тому же миноносец не раз уже мимо него ходил». Мы, молодые, пересмеиваемся — видим, ему просто десятки жалко, вот и подводит всякие обоснования… Ну, вышли мы в море, легли курсом на Кронштадт. Подходим к Гогланду, а у Клингмана, вижу, внутренняя борьба происходит: и золотого ему жалко до смерти, и приметы побаивается. Потом, гляжу, кошелек вынул, порылся в нем, достал серебряный полтинник и кинул в море, как раз когда Нижний Гогландский маяк на траверзе был: видимо, он своим немецким умом в точности подсчитал, какую скидку на паровой корабль следует сделать по сравнению с парусным. А штурманский офицер ему говорит: «Зря вы, Артур Карлович, Гогланд изобидели. Вроде извозчику на чай дали. Лучше бы вовсе не кидали монету, а так — нехорошо получилось, как бы чего не вышло…» Клингман побагровел, но все-таки кошелек спрятал и Гогланду ничего не прибавил. И что бы вы думали? Входим мы в Неву — нам по диспозиции парада надо было стать на якорь против среднего пролета Николаевского моста, — набережные полны народом, торжество кругом, музыка играет, платочками машут. Клингман решил класс показать, а моряк он неплохой был. Идет, не уменьшая хода, скомандовал: «Оба якоря к отдаче изготовить!» — и лупит против течения прямо к среднему пролету. Расчет у него точный был: течение в Неве сильное, — если грохнуть с ходу оба якоря, миноносец остановится и замрет как раз у самого моста. Маневр красивый, что и говорить… Ну, летим мы к Николаевскому мосту, народ к перилам кинулся, в ладоши хлопают, «ура» кричат, любуются. А Клингман машины застопорил, стоит на мостике, как статуя, и на пролет моста смотрит. Довел, собака, до предела, у меня сердце замерло: сажен двадцать до моста осталось, а миноносец все летит, — и скомандовал этак со щегольством, не торопясь: «Из правой и левой бухты вон! Отдать оба якоря!» Загрохотали якорцепи, на баке — дым и искры… С такого хода, сами понимаете, якорцепи как бешеные сучатся, треск стоит!.. Лошади на мосту — на дыбы, люди от перил отшатнулись; видят — миноносец прямо под мост летит… А Клингман красуется, глазом меряет, когда скомандовать «задержать канаты». И вдруг мелькнуло что-то в клюзах, на баке все стихло, а миноносец — шмыг под мост, как мышь в нору… Мачта полетела, начисто срезало, одну трубу снесло, вторую, третью. Выскочили мы ощипанные по ту сторону моста, привалились к быку, а с моста извозчики, мерзавцы, для смеха кричат: «Куда держишь, черт желтоглазый, правее держи, окосел, что ли?» Клингман за голову схватился и убежал в каюту. Застрелиться не смог, а флотскую карьеру кончил: списали его на берег… Комиссия потом разобралась: оказалось, обе якорцепи на пятой смычке отклепаны были для покраски. Недосмотрели на заводе перед походом. Так и отдались оба якоря навовсе… Вот как ему Гогланд за полтинник отомстил!..
Я на Сергея Николаевича во все глаза смотрю: вот, думаю, послал мне господь бог и исторический материализм командирчика!..
— Послушайте, — говорю, — надо же здравый смысл иметь! При чем здесь Гогланд? Кабак у вас на миноносце был, это точно: слыханное ли дело с отклепанными канатами в море идти?.. И, кроме того, ваша теория тоже здесь не выдерживает критики: ведь этот Клингман уверенности в себе не потерял, и смелый маневр задумал, и распоряжался толково — при чем же здесь давление на психику?
— Так-то, — говорит, — так, а все же… Это еще Шекспир писал: «Есть много в жизни тайн, мой друг Горацио…» И Пушкин отмечал: «Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы…» Помните?
— Нет, — говорю, — не помню. И Татьяна ваша в рядах рабоче-крестьянского флота не состояла, так что это ее частное дело. А вам, как командиру РККФ, довольно стыдно суеверия разводить.
— Может быть, может быть, Василий Лукич, но, повторяю, в приметах есть своя правда. Многие из них сложились исторически. Вот говорят, что третьему от одной спички не следует прикуривать, нехорошая примета. А почему нехорошая и чего ждать — забыли. Откуда это пошло? От штуцерных ружей. В Севастопольской обороне у англичан и французов появились штуцера — нарезные, меткие, прицельные. Вот и начали отрабатываться первые снайперы: они наших матросов по ночам в бастионах подстерегали, когда те трубочки раскуривали. Высечет матрос огоньку, даст первому прикурить — стрелок огонь увидит, штуцер вскинет. Второй матрос прикуривает — стрелок наводить начинает. А третий к огоньку потянется — тут ему и пуля в лоб. И так это приметили, что это в плоть и в кровь моряку вошло, а причину забыли. Более того, придали ей вульгарный смысл: будто, мол, если третий прикуришь, дурную болезнь подхватишь… Но действие-то приметы осталось, — если мне, скажем, не удалось отшутиться и пришлось третьим прикурить, я целый день сам не свой хожу, все пакости какой-нибудь жду — и это вне моих сил, с детства во мне сидит: и отец третьим не прикуривал, и дядя. Так зачем же мне самому себе настроение портить? Вот и не прикуриваю третьим, и это не суеверие, а простая забота о собственной психике. Я себя суеверным никак назвать не могу. Вот Фрол Игнатьич — другое дело; он у нас всему верит — «и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны», и кошкам, и всяким бабьим сказкам…
А Фрол Игнатьич, старик, заводской инженер, насупился.
— Коли это бабьи сказки, то ваши морские приметы — уж вовсе ерунда. Кошка, луна и прочее — это исконная народная мудрость, вроде как приметы о погоде, которым ученые-метеорологи удивляются. А когда это у вас, моряков, тринадцатое, пятницу выдумали и откуда это пошло, вы сами не объясните, а небось в пятницу, тринадцатого вас с якоря не стащишь, хоть в трибунал отдавай…
Командир, мой улыбнулся.
— Пятница, тринадцатое — это, конечно, вздор. А вот в понедельник, тринадцатого я действительно в большой поход не пойду. И могу вам пояснить, как эта примета сложилась. Англичане как морская нация для вас авторитет? То-то. Так вот во время войны стояли мы в Рижском заливе в Рогекюле рядом с английскими подлодками, и я с одним офицером об этом разговорился, он и смеется: «Странные вы люди, говорит, русские! Ну понятно — весь мир знает, что тринадцатого в понедельник в морс выходить опасно. Но почему нельзя в пятницу? Это же просто суеверие!» Я спрашиваю: «А понедельник, что же, не суеверие?» — «Конечно, нет, — говорит. — Это результат долгих наблюдений. В воскресенье всякий порядочный моряк напивается так, что в понедельник его еще дрейфует и в мозгах такая девиация, что он носа от кормы не отличает. И мировая статистика показывает, что наибольшее количество аварий приходится на понедельник. Что же до тринадцатого числа, то опять-таки весь мир знает, что в Англии ни на одной улице нет дома номер тринадцать, а есть двенадцать-бис, потому что тринадцать — число несчастливое. И никто себе не враг: если с пьяных глаз тринадцатого, да еще в понедельник, в море сунуться, тогда уж не аварией пахнет, а гибелью. Вот это все объяснимо! А ваши суеверия просто смешны». И прав этот англичанин: действительно, понедельник — похмельный день, а тринадцатое дополнительно на психику давит. Так сказать, квадрат в кубе. Видите, как все просто…
— Чего же проще, — хмуро отвечает Фрол Игнатьевич. — И статистику за волосы притянули, и психику, а про тринадцатое число ничего научно не объяснили, а ведь верите, что число несчастливое. Почему же тогда не верите, что кошка, перебежавшая дорогу, или пустое ведро навстречу сулят неудачу? Где же логика? Уж если одной примете верить, так надо всем верить. Только в них разбираться надо. Вот, скажем, молодой месяц. Коли его неожиданно справа увидишь и успеешь за кошелек схватиться — весь месяц деньгам переводу не будет. Но, думаете, взялся за кошелек — и все тут? Дудки-с! Это все бы в миллионщиках ходили… А соль тут в том, четные у тебя в кошельке деньги были или нечетные. Коли нечетные — и молодой месяц не поможет. То же и с зеркалом: тут всю роль играет — дареное или купленое, где разбилось, и как упало, и какой рукой ты его поднял, и в какой день… И потом — на всякий газ есть противогаз. Например, кошка. Если она дорогу перебежит — известное дело, пути не будет, обязательно какая-нибудь дрянь ожидает. А ты возьми и перевернись через левое плечо, плюнь ей вслед и добавь заклинаньице покрепче. Вот и вся профилактика… Это еще в Священном писании сказано — да опасно каждый ходит. Иди и посматривай: собачку увидишь, что на глазах у тебя присела за нехорошим, ты ей сейчас кукиш в кармане сложи, вот и отведешь ячмень от глаза… Или, скажем, на мостике в походе кто засвистал, что, как известно, может несчастье накликать, — боже тебя сохрани его остановить: обязательно авария будет. А ты тихонько отойди да поскреби мачту ногтем. Сразу его глупость на хорошее повернешь: ветерок попутный получишь. Я очень одному человеку благодарен: он меня всем этим тонкостям научил, и я теперь хожу как в броне — всякой примете могу нужный кукиш показать…
Тут в разговор встрял штурман.
— К сожалению, — говорит, — не на всякий газ есть противогаз, Фрол Игнатьич. Вот, скажем, можно ли на мостике говорить, что придем, мол, тогда-то? Я и сам этого не делаю, и другим не позволяю. А почему? Потому что я участником последствий такой ошибки был. В семнадцатом году шли мы на миноносце «Стройный» двадцатого июня из Хельсинки в Рижский залив в дозор. А штурман был из мичманов военного времени, и ему командир — старший лейтенант Рязанов — не очень доверял и сам всю дорогу в прокладку вмешивался. Мое же дело было телячье — по случаю революции я сигнальщиком на мостике торчал в бывшем гардемаринском звании. Подходим к Куйвасто, Рязанов взял пеленг, скомандовал поворот, дал курс, взглянул на часы и так уверенно говорит: «Вот, штурманец, сказал я вам, что ровно в восемь ноль-ноль отдадим якорь на рейде, так оно и получится». А миноносец вдруг подпрыгнул, повалился на правый борт, но не потонул — повис на сахарной голове, на карте не показанной… Снять не поспели: утром налетели немцы, тремя бомбами утопили… С тех пор я хожу опасно, как вы говорите, и насчет того, когда якорь кинем, помалкиваю. Уж если какое начальство, кому не поперечишь, привяжется, пускаю в ход формулу, какую сам составил: мол, если все пойдет, как предполагаю, можно рассчитывать стать на якорь в семь тридцать пять или около того, как получится… Но это так, для собственной психики, а уверенности, что формула сработает, нет… Может, что посоветуете?
Вот, думаю, попал я на кораблик: мракобес на мракобесе! И что удивительно: штурман этот царского флота не прихватил, а предрассудков набрался.
— Погодите, — говорю, — давайте опять разберемся. При чем тут примета, если ваш командир самодеятельностью занялся? Вел бы штурман, все в порядке было бы… А интересно, кто под суд пошел? Он или штурман?
— Никто. Я ж говорю, на карте камня не было. Мимо него всю войну утюжили, а тут — на тебе!.. Нет уж, товарищ комиссар, что ни говорите, а лучше с опаской отвечать…
Не успел я ему возразить, как подал голос дивизионный минер — он на нашем эсминце квартировал, тоже бывший старший лейтенант.
— А я, — говорит, — так полагаю, что приметы — дело полезное и относиться к ним надо терпимо. Вот хотите послушать, как меня они от ложного шага предостерегли?
Час от часу не легче! Вот уж не думал, что эта тема заденет всю кают-компанию, гляди, пожалуйста, — мистик за мистиком, а еще интеллигенты!..
— Ладно, — говорю, — поделитесь. Дополните энциклопедию примет, все ж таки образованнее будем.
— А вы, — говорит, — Василий Лукич, не иронизируйте. Случай этот, может, вам в руку сыграет. Дело в том, что, когда после ледового похода попал я на береговую должность, я стал подумывать о домашнем очаге. А тут познакомили меня с одной семьей нашего, так сказать, круга, — отец был врачом, скончался при Советской власти в почете, семье персональную квартиру оставили. Обстановка вся сохранилась, даже рояль, а мелочь мать и дочь полегоньку травили через кнехт в комиссионки — жить-то на что-то надо… Зачастил я к ним и осенью двадцать первого года сделал предложение. Прямо надо сказать, особого романа у нас не было: Наталье Петровне уже за тридцать, мне под сорок — словом, не Ромео-Джульетта, а, как говорится, брак по расчету. Свадьбу решили справить по обычаю, тогда еще насчет церкви никто на флотах не разъяснял. И вот прихожу я как-то в воскресенье, чтобы пройти вместе с Натальей Петровной в собор к батюшке — договориться об оглашении и о прочем. Вхожу, она так мило встречает в передней: не успел я порог переступить, обе руки тянет. Поздоровались мы, а мамаша из гостиной кричит: «Наташа, Наташа, назад! Разве можно через порог здороваться, поссоритесь!» Я рассмеялся: какие у нас могут быть ссоры, но под напором мамаши отступил назад и перепоздоровался. Сели завтракать, и, как на грех, потянулся я за стаканом и соль перевернул. Будущая моя тещенька опять в крик: «Что за день! Еще дурная примета! Нет, как хотите, ссоры нам не миновать…» Я успокаиваю ее: это, мол, предрассудки, но заставили меня эту соль через левое плечо назад кинуть. Ну, ладно, пошли мы в собор, идем к трамваю, а тут восьмой номер как раз отваливает. Мы бегом. Наталья Петровна кричит: «У вас шнурок развязался на ботинке, переждем, пропустим восьмерку, примета плохая!» Я ее под руку подхватил — и подумайте, наступила она на бегу на шнурок — и я бац на торцы… Встал весь в пыли, пришлось вернуться — почиститься. Вошли, Марья Федоровна как ахнет: «Ах, боже мой, вы с ума сошли! Такое важное дело, поворот всей жизни, а вы возвращаетесь? Не пущу вас сегодня ни за что, я своей дочери не враг!» Я начинаю ее убеждать: откладывать нельзя, скоро филипповский пост, не поспеем с оглашением — значит, свадьбу отложить на полтора месяца… Ни в какую! Кипит моя будущая тещенька, как самовар, и стопу нет. Чувствую, настроение у меня портится, начал горячиться, пошел у нас спор, да какой!.. Все припомнила тещенька — и что познакомился я с ними в понедельник, и что предложение умудрился сделать в пятницу, и что кошка дорогу перебежала, когда мы выходили, а мы не заметили… Тут и Наталья Петровна масла в огонь подбавила — о шнурке… Словом, смотрю я на них и с ужасом вижу, что с Марьи Федоровны весь культурный лоск сошел и передо мною просто уксусная вздорная дама. А еще хуже — в разгар ссоры такое замечаю выражение лица и у самой Натальи Петровны, что меня прямо страх взял: вижу, годика через три-четыре моя Наташа в такую же дамочку превратится… Я за фуражку. А сам волнуюсь, и как я ее с подзеркальника потянул, задел как-то зеркало, оно хлоп об пол, а тещенька в обморок, и Наталья Петровна кричит: «Что вы наделали, вы мамочке смерть напророчили!..» Ну, ушел я, и отношения наши так охладились, что о браке и речи быть не могло… Вот, товарищ комиссар, не будь этого кодекса примет, пожалуй, получил бы я семейное счастье… Ведь не зря Оскар Уайльд, что ли, писал, мол, трагедия каждой женщины в том, что с годами она становится похожей на свою мать… А тут мне благодаря приметам будущее открылось. Вот я и сказал, что приметы — дело полезное.
Так вопрос с золотом для Гогланда и остался на повестке дня. Служит мой командир — не придерешься, на корабле порядок, работы заводские идут, везде он сам присматривает, нахвалиться не могу. А меня все этот золотой тревожит: купил, думаю, или не купил?.. Вышли наконец в море, проходим Гогланд, я на мостике стою рядом с командиром неотступно. Докладывает штурман: «На траверзе Гогланд, разрешите ворочать на курс двести семьдесят?» — «Добро, — говорит командир, — ворочайте», — а сам на правое крыло и что-то в руке держит. Я к нему. Посмотрел он на меня смущенно и ладонь разжал: там крест нательный и цепочка золотые.
— Василий Лукич, — говорит, — вы мне не мешайте. Это я не покупал. С детства на мне висело. В семнадцатом году снял, в столе лежало. А теперь пригодилось…
Вскинул руку — и швырнул за борт золото, а сам повеселел.
— Смейтесь, — говорит, — не смейтесь, а у меня словно камень с души упал. Вот увидите, как кораблик наш щеголять будет!..
Я просто руками развел: никакой обработке мой командир не поддается. Шут с ним, думаю, у каждого свои причуды есть, и перестал обращать на него внимание.
Поплавали мы с месяц-полтора после приемки корабля от завода, лоск навели, учебные стрельбы прошли, стал наш эсминец на первые места выходить, сердце радуется. Я Сергею Николаевичу все его чудачества простил: командир — всем на удивление. И вот как-то получаем семафор: командиру и комиссару явиться в штаб флота. Вышли мы с Сергеем Николаевичем на стенку, идем, и у самого штаба, откуда ни возьмись, кошка перебегает дорогу, да еще черная. А это по кодексу — уж совсем плохая примета. А перевернуться через левое плечо по рецепту Фрола Игнатьича никак не выходит — кругом людей полно, краснофлотцы ходят, командиры идут навстречу, и ни с того ни с сего вращаться на ровном месте вокруг собственной оси не очень-то удобно… Чего это, скажут, за кадриль? Я на него сбоку смотрю, как он из положения выйдет, а он мне тихонько говорит:
— Если ничего не имеете против, обойдемте эту клумбу вроде как в разговоре.
— Нет, — говорю, — имею против: пора эти шутки бросать, товарищ командир эсминца. И коли насчет примет пошло, то у меня своя примета есть: кто перед штабом флота суеверные фокусы показывает, того обязательно демобилизуют как не соответствующего званию командира РККФ. Примета верная, будьте спокойны! Так что выбирайте из двух примет одну. Хватит бабу из себя строить!
Видимо, сказал я это твердо, потому что Сергей Николаевич мой помялся-помялся и пошел через кошкины следы прямо ко входу в штаб. А там нам разъясняют, что готовится общефлотское ученье и что нашему эсминцу надлежит выйти к устью Финского залива во вторник в восемь утра для выполнения особого задания. Командир остался в оперативном отделе получать документы, а я решил ему штучку подстроить. Пришел к начальнику Политуправления, рассказал ему о Гогланде и попросил посодействовать: выход назначить не во вторник, а в понедельник, якобы для того, чтобы незаметно занять позицию. А понедельник-то был тринадцатого числа… Вот, думаю, завертится мой Сергей Николаевич!
Вернулись мы с ним на эсминец, началась подготовка — поход длительный, а осталось два-три дня, пошли всякие приемки. Вдруг в субботу приходит ко мне мой командир и говорит:
— Василий Лукич, вот какая штука: задание нам изменили. В понедельник приказано выйти…
— Ну что ж, — говорю, — и отлично. В понедельник так в понедельник. Тем более тринадцатого числа. Вот и посмотрим, как оно сыграет!
Замрачнел он, но службу несет исправно. А вечером за чаем завел со штурманом спор: как, мол, у того компасы? И порешили они завтра выйти на рейд, подуничтожить на всякий случай девиацию и поточнее, ее определить — поход-то долгий. Ладно. Вышли мы в воскресенье после обеда на рейд, покрутились-повертелись, девиацию вконец изничтожили. Тут командир и говорит:
— А что, товарищ комиссар, зачем нам в гавань возвращаться? Увольнения все равно не будет, пусть команда отдохнет.
Что ж, думаю, дельно. Стали мы на якорь на Большом Кронштадтском рейде и койки на час раньше раздали. А утром тринадцатого, в понедельник, снялись с якоря и потопали в Балтийское море.
Походик был трудный, всего хватило — и маневрирование сложное, и штормик навалился, но все идет хорошо. А главное — никакой этой психики или там депрессии у Сергея Николаевича не наблюдается: веселый, решительный — словом, переломил он, видно, в себе эти дурацкие суеверия. Возвращаемся мы с моря, уже и Кронштадт виден, Морской собор куполом из воды полез — и хотел я было командира подначить: вот, мол, и кончился поход благополучно, несмотря на ваши приметы… Даже благодарность комфлота схватили!.. Уж рот раскрыл, да промолчал. Странное дело: припомнил штурманскую болячку насчет лишних слов на мостике раньше времени — и промолчал. Вот ведь и на меня эти чудасии свое действие оказали!.. И только когда в гавань вошли, якорь отдали, швартовы на стенку подали, тогда сказал я с ехидцей:
— Что ж, — говорю, — Сергей Николаевич, где же ваши приметы? Вышли тринадцатого, в понедельник — и вернулись как миленькие!..
А он на меня хитро так глядит.
— Тринадцатого? Откуда вы это взяли? — и берет из штурманского стола навигационный журнал. — Пожалуйста, справьтесь.
А там четким штурманским почерком написано: «Воскресенье, двенадцатого числа такого-то месяца, 14 ч. 12 м. Отдали швартовы и вышли в море» — и дальше полагающиеся записи об уничтожении и определении девиации.
— Ну и что? — спрашиваю.
— А то, что начали мы поход вовсе не в понедельник, а в воскресенье, только и всего. Видите, написано: «Отдали швартовы и вышли в море».
— Позвольте, — говорю, — мы же вышли на рейд?
— Ну и что? — говорит он мне моими же словами, — А рейд — часть моря. В понедельник мы поход продолжали, а не начинали. Вот так, товарищ комиссар: на всякий газ есть противогаз…
И штурман рядом стоит с ухмылочкой. Ну, хорошо, думаю, я вам еще припомню!.. И точно, случай представился: тут так подошло, что вскоре тринадцатое число пало на пятницу. Я опять к начальнику Политуправлений, давайте, говорю…
Но как отомстил Василий Лукич командиру эсминца, мы никогда не узнали — по лодке загремели колокола громкого боя, и по трансляции разнеслись долгожданные слова:
— По местам стоять к всплытию!
«Великое сиденье» наше кончилось.
Уже много позже, когда повернули в Севастополь, «король эфира» подошел к Василию Лукичу.
— А что ж, товарищ капитан второго ранга, — сказал он. — Выходит, примета с зеркалом-то верная? И часу не прошло, как она сработала!
Василий Лукич засмеялся.
— Примета?.. Да я насчет всплытия еще накануне знал. Как-никак я ж на лодке у вас в посредниках существую. Шифровку командир мне еще вчера показал — вот вам и вся мистика!
1967
Notes
1
То есть особыми магнитами компенсировать влияние судового железа на компас, уводящее его от меридиана.
(обратно)2
Василий Лукич просил вставить здесь разъяснение, написанное им лично.
(обратно)3
Поскольку Василию Лукичу за годы плавания не довелось лично участвовать в кораблекрушении, он затрудняется объяснить, в чем заключается смысл этого средства к спасению, и просил отослать читателя к морским романам, где эту самую мачту обязательно рубят в тяжелых случаях жизни.
(обратно)4
Щукин двор — фруктовый рынок в Петербурге.
(обратно)5
Изобары — линии равных атмосферных давлений, принимающие самые причудливые формы.
(обратно)6
Полагаю, что Василий Лукич что-то прибавил для блеска рассказа: такой фамилии на флоте я не слышал. Были, скажем, де Кампо Сципион или Моноре-Дюмон, Пантон-Фантон де Верайон, барон Гойнинген-Гюне или даже Гогенлоэ-Шилонфюрст, кого матросы переиначили в «Голыноги, шилом хвист». Но такой звучной фамилии в списках российского императорского флота не значилось. — Л.С.
(обратно)7
Тут Василий Лукич мастерски икнул. — Л.С.
(обратно)8
Кондуктор — чин царского флота, соответствующий прапорщику в армии, самый низший.
(обратно)9
Сплеснить — срастить два конца без узла, переплетая пряди.
(обратно)


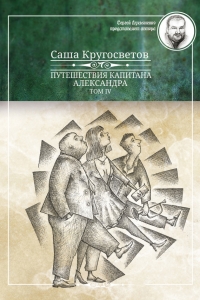
Комментарии к книге «Рассказы капитана 2-го ранга В.Л. Кирдяги, слышанные от него во время «Великого сиденья»», Леонид Сергеевич Соболев
Всего 0 комментариев