Часть первая В МОРЕ КАК В МОРЕ
Глава первая СТРАНСТВУЮЩИЕ АЛЬБАТРОСЫ
До сих пор я не знаю, что такое море, хотя познание его стало моей профессией; до сих пор во мне нет уверенности, правильно ли я избрал свой путь, хотя порой кажется — иначе не могло и быть, потому что с детства мне объяснили: три четверти мира состоит из океанов, а суша слишком ограниченное пространство для человека, потому-то те, кто истинно любил свободу, покидали берега, чтоб увидеть беспредельность простора, узнать, неповторимую его суровость, умиротворение покоя, закалить себя в терпении и утвердить прочную уверенность — никогда не сдаваться перед стихией. Все это я усвоил с детства, свято поверив в рассказы отца. Но сейчас я должен сам все оцепить, сам решить, верен ли мой путь, потому что при ближайшем рассмотрении картина оказалась по той, какой представлял я ее на расстоянии, да, пожалуй, и не обнаружилось никакой картины, а вместо нее возник поток будничных дней и событий: ведь если на войне как на войне, то в море как в море…
— Только за одного удава тебя надо было списать, — сказал Юра. — Я бы списал.
— Ты бы списал, — согласился я.
— Ну вот, а он тебя пожалел…
Когда Юра волновался, он все время поправлял тонким указательным пальцем очки. Вообще-то очкам он придавал особое значение; у него их было не менее десятка в разных оправах, и он менял их иногда по два раза в день, — это называлось у него «переодеться»; в течение дня он так часто прилаживал их, что к вечеру его топкий, скошенный в левую сторону пос, расщепленный короткой вмятиной на кончике, краснел, и тогда Юра вынужден был его припудривать. На пароходе все считали, что мы друзья; сначала этому удивлялись, потому что штурманы и пассажирские помощники редко дружат.
— И за велосипедные гонки вокруг бассейна тебя бы тоже надо было списать, — сказал он.
— Конечно, — согласился я. — И за ракеты.
— Ну уж, за ракеты! — воскликнул Юра. — Тут вопроса нет.
— Конечно, никакого вопроса нет…
Если бы он напомнил мне об этом самом удаве при других обстоятельствах, мы бы наверняка поссорились — я терпеть не мог, чтоб мне об этом напоминали, — но сейчас я не стал задираться, сейчас я покорно соглашался с Юрой… А вообще-то, если уж говорить всерьез, то в истории с этим удавом виноват и Нестеров, хотя об этом никто и не догадывается. У него в каюте жил крокодил, небольшой, пожалуй, с полметра, еще молоденький — они ведь растут очень долго. Нестеров привез его с собой на наш пароход с сухогруза, и жил этот крокодил у него в ящике, а иногда Нестеров запускал его в раковину с водой. Очень забавное было это животное, хотя Нестеров даже не дал ому имени, но вот из-за этой твари он пользовался особым расположением товарищей и, конечно же, наших девочек. Вообще его считали истинным моряком; в нем и впрямь было что-то от старых шкиперов — загадочная угрюмость, особый прищур глаз, который возникает у тех, кто долго бывает на тропическом солнце, да ко всему этому Нестеров еще курил прямую вересковую трубку, набивая ее душистым кэпстеном.
Когда я увидел удава, медленно обвивающего своим радужным телом тонкую коричневую шею индийца, я сразу подумал: «Вот что мне нужно!» Индиец даже не торговался. У него горели от счастья воспаленные глаза, когда я отсчитывал ему деньги — сущую мелочь. Удав оказался покорным. Мы уложили его в большую клетчатую сумку, и индиец помог мне донести его до трапа. Вахтенный даже и не спросил, что я такое несу, — мало ли что можно купить на Цейлоне, да и вообще вахтенному было не до меня, он изнывал от липкой, удушливой жары. Я достал у артельщика ящик из-под консервов и оборудовал для змея уютное гнездышко под раковиной, почти как у Нестерова, где жил его крокодил. Честно говоря, спать мне было трудновато: удав все время шевелился и шуршал своей шкурой. Утром я напоил его молоком и пошел на вахту. Тут-то все и случилось.
Ну откуда мне было знать, что индийцы опаивают этих демонстрационных змей наркотическим пойлом, от которого они становятся вялыми и покорными; возможно, продавший мне удава, что-то и объяснил, он много говорил дорогой, но я не понимал его языка… Мой змей за ночь отошел, а молоко, наверное, совсем привело его в порядок, он легко выбрался из каюты и пополз по палубе прямиком в бухгалтерию — там всегда двери настежь и яркий свет. Бухгалтерские девчонки подняли такой визг, что пожарный чиф объявил тревогу. Бедного удава били струей из огнетушителя, поливали из шланга, потом боцман догадался приволочь рыболовецкую капроновую сеть, да и то, пока тащили змея к борту, он успел ее порвать, и вообще натворил дел: поломал в бухгалтерии стулья, два арифмометра и начисто изгадил квартальный отчет, — но, может быть, все это сделал не он, может быть, всё покалечили те, кто его ловил, — ботом на тварь легче всего спихнуть. И не имели они права его топить. Дело не в том, что я за него заплатил, это пустяки, хотя все-таки тоже деньги, но я успел ему дать имя — Гоша, это в пику Нестерову за то, что тот не посмел назвать по-человечески крокодила, — а если у твари есть имя, то с ней нужно обращаться не так грубо.
Я, конечно, пытался это объяснить на командирском совещании, но разве можно что-нибудь доказать таким несерьезным людям, как моряки! Я все вытерпел: их улыбки, переходящие в сардонический хохот, полную сарказма речь старпома, — все это было пустяком по сравнению с одним-единственным словом Нестерова, брошенным, как бы ненароком, сквозь зубы, сжимавшие мундштук трубки: «Факир». Я сразу оценил, что это значит. А значило это — мне влепили кличку, и теперь от нее ни за какие коврижки не отделаешься, даже если перейдешь на другой пароход; кличка на флоте — страшное дело, потому что каким бы ты ни был моряком, но если тебя зовут не по фамилии или по должности, а по кличке, то ты словно бы человек более низкого сорта, в чем-то пожизненно проштрафившийся. И, поняв все это, я тут же решил: вот чего я Нестерову никогда не прощу.
Да, я не мог терпеть никакого напоминания об истории с удавом, по сегодня для Юры сделал исключение, сегодня я ему все прощал, и он мог дотошно составлять список моих прегрешений, потому что речь сейчас шла не обо мне, а о Луке Ивановиче. Утром в Сиднее капитан уходил с «Чайковского».
Мы шли Тасмановым морем, ветер дул небольшой, балла три, на горизонте собирались бурые, предзакатные облака, а само море было густо-фиолетовое, покрытое нежным перламутровым налетом, и пахло оно здесь талыми снегами, — может быть, этот запах долетал из Южного океана, из зоны айсбергов, а может быть, он мне просто причудился, это бывает: то вдруг почувствуешь хвойный запах лесов в открытом океане, то распаханной пашни или любой иной запах земли, по которой тайно, даже не сознаваясь себе, тоскуешь.
Мы стояли на своем любимом местечке на корме, возле пустого флагштока, тут всегда было свободно, даже в хорошую погоду, и можно было поболтать на досуге. Я смотрел, как проплывали над морем два могучих странствующих альбатроса, они летели за нами уже третьи сутки; правда, вчера утром я решил — это другие птицы, они сменяются, ведь ночью, когда была моя вахта, их не было видно, а я не знал, где они ночуют, но тут убедился — это все те же птицы, я различил на каждой из них маленькие особые приметы: у одного альбатроса на белой груди была желтая подпалинка, а у второго необычно отливал золотистым налетом темно-коричневый верх крыльев. Птицы плавно и торжественно плыли в воздухе за кормой, иногда, вырываясь вперед, долетали до полубака, и было видно, как опускали вниз то левую, то правую растопыренную лапку, чтобы сделать поворот, или сразу выбрасывали обе вниз и, так притормаживая, недвижно застывали над морем, и ни одно перо не вздрагивало на их крыльях.
Я смотрел на этих молчаливых птиц; я никогда еще не слышал, как они кричат. Ребята говорили: это самая терпеливая птица, она не вопит, даже когда ей бывает больно. Я смотрел на полет альбатросов, слушал Юру, а сам все время думал о Луке Ивановиче. Ведь, по сути дела, это мой первый капитан, я начинал с ним на «Перове», а потом в силу обстоятельств оказался, здесь на «пассажире» «Чайковском», и вот сейчас нам предстоит расстаться. Лука Иванович сойдет, а на мостик придет другой, и хорошо это будет для меня или плохо, я не знаю. Честно говоря, я не мог понять: жаль мне, что Лука Иванович уходит, или нет? Во мне давно жило тайное желание перемен, да оно, говорят, у всех почти возникает, кто долго плавает, по вместе с тем перемены и страшили: ведь как ни было сложно с Лукой Ивановичем, но я к нему привык, а вот сработаемся ли мы с новым капитаном — это еще вопрос. И Юру это заботило да и всех в экипаже.
— Что было хорошо с Лукой Ивановичем — он нас не трогал, — сказал Юра. — Он ничего не понимал в пассажирской службе и не трогал.
— Конечно, — согласился я. — В пассажирской он ничего не понимал, поэтому он тебя сделал помощником.
Это был ответный удар, и Юра сразу же оценил его. Дело в том, что Юра только второй год плавает и прибыл к нам не из мореходки, а с дипломом «иняза» — переводчиком, или, точнее, как пишут в судовой роли, администратором, и ходить бы ему в этой должности годков пять, а тут пришел на турбоход «Чайковский» Лука Иванович, узнал перед выходом в море, что отдел кадров не обеспечил нас пассажирским помощником, и сразу же решил: назначить на эту должность Юрия Тредубского — парень молодой, освоит, не на мостике вахту держать. Впрочем, в словах Юры была и своя правда: Лука Иванович плавает тридцать два года, он настоящий сухогрузник и на «пассажира» попал не по своей воле… Новый капитан ждал час в Сиднее, он прилетел туда самолетом.
— Ну да, он сделал меня помощником, — подтвердил Юра, — но ведь никого другого назначить было нельзя. — Он надменно посмотрел на альбатроса.
Птица висела над кормой, и глаза ее были безразличными.
— Привет, мальчики!
— Привет, — сказал я, не оборачиваясь.
— Привет, — сказал Юра. — Давно тебя ждали.
— Я не ждал, — сказал я.
— Конечно, — согласилась Нина. — Ты и так знал, что я приду.
Это было сущей правдой: стоило нам с Юрой в свободную минутку выйти на корму, как и Нина появлялась там; впрочем, на судне привыкли видеть нас троих вместе… Когда шло увольнение на берег, как правило, нас записывали в одну группу, в кино и на собраниях мы садились рядом.
Мне никогда не нравились девушки такого типа, как Нина; не нравилась ни их подчеркнутая строгость, ни постоянно присутствующая на лице надменность, Нина всегда была при форме, волосы гладко зачесаны назад, руки у нее были длинные, и она любила держать их впереди себя, сложив ладонь к ладони, словно для молитвы. Юра как-то объяснил мне: пассажиры-англичане любуются этой ее внешней строгостью, она им очень по душе. Но я-то не пассажир, и наблюдать рядом с собой невозмутимый взгляд, хоть его и посылали большие серо-голубые глаза, — правда, к ним еще надо было пробиться сквозь этот взгляд, — слушать ровный голос, в котором довольно часто звучали назидательные нотки, было мне явно ни к чему, однако я смирился, признал право Нины на товарищество, и для этого имелась серьезная причина: Нина была женой Леши Курганова, моего лучшего друга, который плавал сейчас на «Перове».
— Есть новость, — сказала Нина. — Капитана зовут Ник-Ник, а по паспортным данным — Николай Николаевич Сабуров. Тридцать четыре года. Женат. Двое детей: мальчик и девочка. Четыре года плавал подменным капитаном. Характер строгий. Шутить не любит.
— Где обогатилась? — спросил я.
— В кают-компании, — бесстрастным голосом произнесла Нина. — Трое наших с ним прежде работали.
Тут-то меня опять кольнуло: а Лука Иванович?.. Я попытался представить, как он будет завтра уходить с парохода, и не смог, а вместо этого мне вспомнился мой первый приход на «Перов», во всех подробностях вспомнился, да такие дни и не забываются.
Еще в «кадрах», в двухэтажном грязно-пегом здании — сколько его ни красили, а оно всегда оставалось прокопченным, потому что мимо неустанно двигались грузовики из порта, — еще в этом самом здании, которое знают все моряки пароходства, в кабинете у беленькой Светы — все девушки в «кадрах» Светы, и различают их только по цвету волос, — когда получал я выписку из приказа и увидел название «Перов», мне показалось это подозрительным.
— Почему «Перов»? — спросил я.
— Чудак, — сказала беленькая Света. — Все просятся на «Перов». Всегда план с перевыполнением.
— Там нет ванны, — наугад ляпнул я.
Света не удивилась, она привыкла и не к такому.
— Там есть сауна, — сказала она. — А на корме поставили сруб: топят баню по-черному. Всегда можно выбрать.
— Что еще? — спросил я.
— Четвертый трюм забит березовыми вениками. Будешь париться в тропиках, — сказала она. — Оформлять?
Я колебался, она это заметила.
— Тогда шагай к начальнику. Только придумай что-нибудь покрепче.
Я знал — у начальника вообще ничего нельзя придумывать, а объяснить ему, что я не хочу идти на «Перов» только потому, что знаю Луку Ивановича с детства и именно с тех пор у нас есть с ним свои счеты, объяснить все это начальнику я не смогу, а если попытаюсь, то он сегодня же начнет рассказывать по всему пароходству, как я принес в его кабинет охапку детских обид… Я взял у беленькой Светы выписку из приказа, пошел к капитану порта, получил паспорт моряка и двинулся искать «Перов».
Я нашел его на дальнем причале; его черный борт возвышался над товарными вагонами, над ржавой горой металлолома и двумя густыми тополями. Я разглядывал теплоход с лестницы, ведущей на причал, потом из-за вагонов и с асфальтовой дорожки, — это очень важно, какое впечатление с первого взгляда на тебя произведет судно, даже намного важней, чем первое впечатление от человека, потому что проверено: мнение о человеке может измениться, а о судне никогда; или ты его полюбишь сразу, или оно тебе будет неприятно, и тогда обязательно надо найти повод, чтоб побыстрее с него списаться.
«Перов» был работяга, и, как ни старались боцман и матросы, как ни покрывали его краской, все равно они не смогли укрыть вмятины и шрамы; «Перов» был похож на кряжистого, мускулистого грузчика, из тех старых профессионалов, что, прежде чем кинуть куль на плечо, натягивают на голову пустой мешок острым углом вверх; они молчаливы и, как правило, добры, — а я привык верить таким.
Вахтенные просмотрели мои документы и указали, как пройти к капитану… Двери каюты были открыты, так уж принято на наших пароходах: если капитан не занят — дверь нараспашку. Я шагнул в прохладный, полутемный коридорчик и, еще никого не видя, сказал обычное:
— Разрешите?
— Попробуйте, — донеслось из каюты.
Я переступил через комингс и оказался в кабинете капитанской каюты. Это был великолепный кабинет с большим круглым и письменным столами, двумя длинными диванами, креслами, толстым, болотного цвета ковром, и посреди этого кабинета сидел Лука Иванович, а перед ним была поставлена обыкновенная кухонная табуретка, покрытая белым пластиком, на мятой желтой бумажке лежало розовое сало, кусок черного хлеба и стояла банка консервированного пива; Лука Иванович тщательно резал перочинным ножичком это сало на маленькие брусочки. Зачем он так делал, было непонятно, ведь рядом в буфете возвышалась горка чистых тарелок, лежали ножи, вилки, стояли высокие фужеры, а он, сладко щурясь, отпивал глоток пива из банки, брал двумя пальцами брусочек сала и проглатывал его, как пилюлю. На коленях у Луки Ивановича лежала толстая книга, раскрытая где-то посредине, на черной ее обложке золотыми буквами выделялось: «Шекспир».
Я доложился по всей форме, стоя навытяжку, и, пока докладывал, видел, как серые с зелеными искрами узкие глаза Луки Ивановича недоверчиво шарили по моему лицу. От этих глаз разбегались пучками тонкие морщины, и лоб его был густо испещрен морщинами, только обыкновенно у людей они имеют какой-то порядок: или вытянуты вдоль, составляя почти правильные параллельные линии, или пересекаются поперечными; на лбу же Луки Ивановича никакого порядка не было, создавалось впечатление, что кто-то начеркал эти морщины на его темной коже, как чертят анархичные линии в забвении пером по бумаге; нос у него был с горбинкой и покрыт коричневыми расплывчатыми пятнами — возможно, это веснушки детства со временем становятся вот такими; и все же лицо Луки Ивановича было приятным; на нем почти всегда лежала печать откровенной хитрости, но не той, которой отличаются лгуны и деляги, а лукавой хитрости человека мудрого и насмешливого.
Когда я закончил свой доклад, он спросил:
— Хочешь сала? — и ткнул перочинным ножичком в розовые кубики; он сказал это так, словно мы с ним совсем недавно расстались.
Но я был настороже, я знал: он меня не любит, ему есть за что относиться ко мне неприязненно.
— Садись, — указал он на кресло.
Теперь он смотрел на меня прямо, и я видел строгий, жесткий взгляд.
— Зачем тебе это нужно? — спросил он.
И по его едва приметному кивку в сторону нашивок на моих рукавах я понял — речь идет вообще о морском деле. Я промолчал.
— Семейная профессия, — усмехнулся он. — А по мне, если сынок хватается за профессию отца — значит, ленится отыскать свою.
Сейчас я видел, что он просто зол и обозлился внезапно, вот в эту секунду, а какая тому причина, я разгадать не мог… Не знаю, что на меня нашло: то ли захотелось на его злость ответить дерзостью, то ли я очень нервничал — ведь как ни крути, а моя жизнь теперь пойдет под началом этого человека, — я вдруг потянулся к табуретке, схватил несколько розовых кубиков, подкинул их кверху и один за другим поймал ртом.
Лука Иванович посмотрел, как я все это проделал, и неожиданно спросил:
— А еще раз можешь?
— Ага, — кивнул я.
— Покажи…
Я взял с табуретки еще три кубика сала, подбросил их вверх и поймал ртом.
— Понятно, — серьезно кивнул Лука Иванович и распорядился: — Найди старпома, он покажет каюту.
Да я и сам знал, где моя каюта: когда шел от трапа по шлюпочной палубе мимо кают-компании, то увидел по правому борту дверь с надписью «Третий помощник». Вот туда я и направился. Содрал со стены календарь с улыбающейся малайкой на фоне Сингапура — его оставил мой предшественник — и принялся за уборку. Так началась моя жизнь на «Перове», первом моем рабочем, а не учебном судне, жизнь под командованием Луки Ивановича. А спустя полтора года я оказался на «Чайковском», оказался после отпуска, и получилось так, что и на втором моем судно капитаном был тот же Лука Иванович. А вот теперь он уходит с парохода…
Фиолетовые волны пригасали за кормой, образуя гладкую дорожку; в ней отражались бурые облака, а справа и слева от этой дорожки бугрились валы, иногда вспениваясь на вершинах; два странствующих альбатроса, выставив вперед оранжевые клювы, проносились над нами.
— Это хорошо, что шутить не любит, — сказал Юра, трогая двумя растопыренными пальцами очки. — Нам порядок нужен.
— Какой? — спросил я.
— Штурманский, — сказала Нина.
Я удивленно посмотрел на нее: это-то она откуда знает?
— Может, ты сомневаешься, что Лука Иванович моряк? — спросил я.
— Нет, — ответила Нина, — он моряк… Но старой школы.
Не иначе, ее кто-нибудь научил, коль она так уверенно говорит. Но кто же ее может научить? Леша, ее муж, отсюда далеко, да они, между прочим, с Лукой Ивановичем приятели.
— Таких не бывает, — сказал я. — Бывают или моряки, или бездарности. Лука Иванович моряк.
— А порядок нужен, — упрямо повторила Нина.
— Даже там, где он есть, он тоже нужен, — сказал я. — Ему нет предела.
— Доживем до завтра, — примиряюще сказал Юра.
— Постараемся, — сказал я.
…Мы подходили к Сиднею рано утром. Едва вошли в залив Порт-Джэксон, как альбатросы исчезли, видимо посчитав, что там, где нет сильных ветров, им делать нечего… Еще не поднималось солнце и над заливом висел светло-синий с серебром туман, но, по мере того как мы продвигались вперед, он все более светлел и светлел, превращаясь в призрачную кисею, по не плоскую, а имеющую свою глубину.
…Может быть, так он и входил сюда, каторжный корабль, рано утром, в тумане, и тысяча двести человек с тревогой и надеждой вглядывались в зыбкие берега, открытые капитаном Джеймсом Куком. Их было тысяча двести — каторжников вместе с конвоем и военной администрацией, — прибывших по королевской воле на постоянное поселение. Был январь 1778 года, и первое, что потрясло английских переселенцев, когда ступили они на землю, цветы… В Австралии в январе было лето… Они сошли на берег — каторжане и их конвой — и начали борьбу за жизнь, тем самым создавая новую страну… А меж высоких красных эвкалиптов бесшумно двигался юноша, держа копье, и рядом с ним, ступая привычными босыми ногами по колючей траве, шла она. Они шли среди просторного эвкалиптового леса…
Справа от нас, берег казался сплошной стеной. На нем даже трудно было угадать овраги, спуски, дороги, а слева берег постепенно высвечивался, и там, в зелени садов и пальмовых рощ, разбросано было множество домиков. Залип расслаивался на мелкие бухты, издали в них вода казалась зеркальной; внезапно небо стало розовым, и тотчас я увидел с мостика впереди словно бы повисшие над водным простором высотные дома строгих форм, берега не было — вода и дома, это рефракция сместила все на свете, мне стало это ясно, когда пароход наш по команде Луки Ивановича начал поворот влево, к бухте, — совсем в другую сторону от повисших в воздухе этажей.
Мы шли довольно быстро. Австралийский лоцман, высокий, сухой, с белыми глазами, стоял в рубке, широко расставив ноги, и, время от времени отпивая из чашки глоток кофе, подавал команды; Лука Иванович слушал их щурясь, глядел вперед и, словно пробуя эти команды на вкус, причмокивал губами, а потом уж отдавал их вахтенному. У нас на мостике стояла ЭВМ — она отсчитывала навигационные показатели; я любил эту машину, в ней еще много было для меня неясного, и потому можно было экспериментировать — она иногда решает такие задачки, что ого! Но ни лоцман, ни Лука Иванович ни разу не подошли к этой машине; чувствовалось — они относились к ней презрительно, они верили только своему глазу и опыту.
Прежде при подходе к порту, когда на мостике собирались все штурманы, у нас любили пошутить, кто-нибудь рассказывал веселую историю или анекдот, сегодня же раздавались только команды, хотя никаких перемен в Луке Ивановиче не было, он выглядел как всегда с утра — свежим, бодрым.
Справа оставался небольшой зеленый мыс; там густо росли пальмы и взмывали вверх эвкалипты. Уже доложили, что будем швартоваться к первому причалу правым бортом, и вахтенный матрос поставил на палубу крыла мостика скамеечку — Лука Иванович был невелик ростом, и во время швартовки ему нужно было на что-нибудь встать, чтобы перегнуться через борт и посмотреть на причал.
Солнце поднималось справа, и лучи его, пронизав пространство над множеством домиков, над привольем вод и пробившись сквозь ажурные переборки большого моста, упирались в небоскребы, кучно стоящие возле порта, а еще левее лучи вспыхнули огненным цветом на овальных крышах Опера-хауз, этого удивительного на весь мир театра, построенного так, словно носы кораблей взлетели вверх и застыли, ограждая друг друга от беды моря.
Мы швартовались к причалу как раз напротив Опера-хауз и должны были войти меж двух пароходов: один стоял слева под греческим флагом, другой — справа под либерийским…
На втором этаже длинного вокзала за перилами толпились встречающие. Я бегло оглядел их: конечно же, меня никто не интересовал из этих людей, здесь у меня не могло быть знакомых, но вдруг глаза мои наткнулись на нечто виденное прежде, и я не сразу понял, что же заставило меня внутренне вздрогнуть и насторожиться, и только когда я повел свой взгляд назад вдоль перил, то увидел двух мужчин, стоящих особняком и наблюдающих швартовку; один был невысок, с веселыми усиками над губой, второй — широкоплечий, чернявый, с круглым лицом, на котором выделялись пышные кудрявые баки; оба были в синей морской форме, это была наша, советская форма, вот она-то и приковала мое внимание. И я и все, кто был на мостике, заметили этих людей, отделили их взглядами от остальных встречающих. Но даже если бы не было на них формы, то тоже бы стало ясно — это свои: высокий держал сигарету огнем внутрь ладони, словно стараясь ее защитить от ветра, — почему-то так держат сигареты только наши моряки, а усатенький то и дело поправлял узел галстука, будто проверял, а правильно ли он его повязал, — вот эти и еще много маленьких примет обнаруживали в этих двух мужчинах наших сограждан. Вычислить, кто из них будущий капитан, было совсем не трудно. В усатеньком многие из штурманов узнали представителя Совинфлота в Сиднее.
Рассматривать нового капитана в бинокль, да еще при Луке Ивановиче, было неприлично, да и вообще обо всем этом на мостике не говорили, а только обменивались жестами, взглядами, полунамеками. Провели мы швартовку отлично, «Чайковский» мягко вошел в промежуток между двумя пароходами, и, как любил хвастать знаменитый капитан Джошуа Слокем, пароход «коснулся стенки так осторожно, что не раздавил бы и яичной скорлупы», и, когда старпом доложил: «Швартовка закончена, товарищ капитан!» — все штурманы заулыбались, словно хотели сказать новому капитану: «Видал?! Ну, так знай наших!» Это было мгновение солидарности, особого единства штурманов, но Лука Иванович очень точно уловил его и, оглядев всех, улыбнулся, сказал: «Спасибо, товарищи, за хорошую работу»… Вроде бы ничего не произошло необычного, но все, кто был на мостике, радовались, угощали друг друга сигаретами и не хотели расходиться.
В Сиднее сошло на берег большинство наших пассажиров. Это были переселенцы из Англии и других европейских стран в Австралию, — молодая, шумная и небогатая публика. Добираться до Южного континента на турбоходе им было выгодно: можно везти сколько угодно багажа, даже машину — самолетом ее с собой не возьмешь. В погожие дни они заполняли открытые палубы, почти каждый со своим транзистором, и лес металлических антенн покачивался над головами полуобнаженных людей, какофония джазовых и речевых звуков оглашала океан; по вечерам или же в непогоду пассажиры набивались в салоны, шумно радовались каждому концерту, осмотрительно покупали в барах напитки, пили их медленными глотками, чтобы растянуть удовольствие. Впрочем, их нельзя было обвинить в скупости — наши девушки-бармены быстро это поняли, — ведь все эти люди, покинув обжитые места, пересекали Атлантику и Индийский океан, чтобы начать новую жизнь, и потому тайная тревога: «А как там будет на первых порах?» — ютилась в них, и они берегли свои деньги.
Как и все штурманы, я мало общался с пассажирами, паше дело — мостик, а палубы и салоны — забота пассажирской службы, и все же волей-неволей да сталкиваешься с теми, кто населяет каюты турбохода, и появляются свои знакомства.
Когда пассажиры после паспортных и таможенных формальностей стали сходить на берег, я заступил на вахту возле трапа и, вглядываясь в лица покидающих судно, удивился переменам в большинстве из них; те, кто еще ночью отплясывал беспечно на прощальном балу, были сейчас озабочены, с беспокойством всматривались в затемненные залы морского вокзала, а когда мимо меня прошли супруги Полли — Томас с девочкой на руках и Вероника, нагруженная бумажными пакетами, — прошли, не повернув головы в мою сторону, понял: они душой уже на берегу. И все-таки мне стало обидно, что Полли даже не кивнули мне на прощание; они мне нравились — оба высокие, всегда спокойные и приветливые. Я познакомился с ними, когда «Чайковский» вошел в тропики и пассажирская служба вместе с рестораном затеяли «Вечер под звездами», на него попросили прийти свободных от вахты офицеров турбохода. Вероника сама подошла ко мне, пригласила танцевать. С первой же минуты с ней стало легко; она отвечала смехом на любую, даже бесхитростную шутку, потом подвела меня к Томасу и весело поведала, как ее муж вчера подвернул ногу, спускаясь по трапу… Потом мы долго сидели на палубе, и они рассказывали мне, что успели уже смотаться в Канаду. Томас знает ремесло лесоруба, а Вероника хорошо справляется с трелевочным трактором. Честно говоря, я сначала не поверил, что такая женщина с тонкими, гибкими пальцами, работала на лесозаготовках, но она об этом рассказывала так просто и точно, что мои сомнения исчезли. И еще она говорила, что они с Томасом из тех, кто не любит обзаводиться имуществом, им не нужен ни дом, ни машина — без них легче срываться с места и не надо ни за что дрожать. И все ж она с горечью сказала: «В Канаде нам не повезло, и мы не сумели заработать те деньги, на которые надеялись… Может быть, в Австралии…»
Я часто их встречал на палубах, они всегда были спокойны и веселы, а вот сейчас прошли мимо меня, не заметив, и на лицах их ясно обозначилась тревога.
Только, пожалуй, Арно отличался от других пассажиров. Мне так и не удалось узнать, кто этот парень с длинными темно-русыми волосами и белокурой окладистой бородой — то ли финн, то ли швед; у него была яркая, открытая улыбка, и Арно или молча улыбался, или же спал. Спать он мог где угодно и при любой погоде; я натыкался на него, когда он, свернувшись калачиком, лежал на палубе под днищем шлюпки, укрывшись нейлоновой курткой. Однажды я увидел его спящим на дне бассейна для детей; бассейн этот был мелкий и не закрывался сеткой, когда спускали воду. Штормило, и судно наше раскачало; тогда я решился разбудить Арно — еще стукнется головой о край бассейна, да и что ему тут спать — есть ведь у него каюта. Проснувшись, он сразу же заулыбался. Я спросил, не продрог ли он. Он ответил, что, конечно, продрог и с удовольствием согрелся бы. Я пошел к Аленке, знакомой девушке-бармену, и выпросил для Арно рюмку водки. Вот тогда мы немного с ним поговорили. Он сказал, что знает электронику, медицину, поварское дело, но все это его не привлекает, во всяком случае — пока… Больше он со мной ни о чем не говорил, а только улыбался.
Арно подошел ко мне; в руках у него была потертая кожаная сумка, — видимо, весь его багаж. Он весело посмотрел на берег и попросил у меня закурить; я протянул ему пачку «Столичных», он заглянул в нее, убедился, что она почти полная, и пожал мне руку. Он легко пошел по трапу, чуть вперевалочку, ступил на асфальт причала и неожиданно повернулся, задрал кверху голову, чтобы еще раз окинуть взглядом наш турбоход. Я смотрел на Арно сверху, и мне показалось — увидел в его глазах сожаление… Что ж, ему не так уж плохо жилось на «Чайковском». Впрочем, он стремительно отвернулся и быстро пошел к воротам морского вокзала… Шли по трапу пассажиры, я стоял свою дневную вахту.
…Все произошло во время ужина. Конечно, есть какое-то традиционное, почти принятое за правило размещение командиров за столом в кают-компании, но все же на каждом пароходе устанавливают свои отклонения от правил. На «Перове» в кают-компании стояло два стола на одной линии; за одним сидел капитан со своими помощниками, а за другим — старший механик с механиками и электромеханиками и радистами. Ну, а на «Чайковском» кают-компания большая, столов в ней много: отдельно сидел штурманский состав, отдельно — пассажирская служба, отдельно — механики, и был капитанский стол, где по правую руку садился первый помощник, по левую — главный механик, а четвертый стул, напротив капитана, считался гостевым…
Редко так бывает, чтобы в кают-компанию все приходили дружно на обед, а тут явились точно, и все в беленькой наглаженной форме, и только взялись за ложки, как дверь открылась, и вошел Лука Иванович с новым капитаном. Все встали, хотя обычно этого не делали, потому что едва появлялся в дверях Лука Иванович, то тут же слышалось: «Сидите, сидите»; к этому так привыкли, что даже и не пытались встать…
Наступила минута молчания, и я наконец сумел разглядеть Сабурова: он был высок, во всяком случае таким казался рядом с Лукой Ивановичем, округлые щеки до половины прикрывали кудрявые баки, крепкие скулы выбриты досиня, взгляд коричневых глаз цепкий, острый; одет он был на этот раз в белый форменный китель с великолепными галунными нашивками на рукавах и медными, до блеска начищенными пуговицами.
— Товарищи офицеры, — сказал Лука Иванович, и тут же ему не хватило воздуха, он закашлялся, прижал платок к губам и, только вновь вздохнув, закончил фразу. — Разрешите представить вам нового капитана «Чайковского» — Николая Николаевича Сабурова. Прошу любить и жаловать.
Николай Николаевич кивнул всем нам, и опять наступила тишина; видимо, никто не знал, является ли этот кивок одновременно и командой, разрешающей сесть, или надо ждать еще одного указания; все так и стояли над своими тарелками.
А тем временем Лука Иванович обошел стол, сел на гостевое место, а Николай Николаевич шагнул к капитанскому стулу, взялся за его спинку и только тогда увидел, что мы все еще стоим.
— Прошу, — удивленно произнес он, и по кают-компании прошелестел вздох облегчения.
Как только Николай Николаевич сел, наша буфетчица Соня, надевшая по такому праздничному случаю ярко-синюю мини-юбку с бубновым тузом на подоле — где она только ее выкопала! — полыхая от смущения всем своим широким лицом, понесла суповую вазу с борщом; она лихо ее поставила перед капитаном и не рассчитала — удар днища вазы о стол оказался слишком силен, борщ всплеснулся, и несколько бурых пятен расплылось на белом, отутюженном лацкане капитанского кителя. Соня замерла, краснота ее щек достигла катастрофического предела, по Николай Николаевич даже не взглянул в ее сторону, небрежным жестом промокнул салфеткой лацкан и тут же взялся за ложку.
— У нас завтра отход в одиннадцать, не так ли? — спокойно спросил он у Луки Ивановича.
С этой секунды я понял — у нас на судне новый капитан.
Многим из тех, кто остается на берегу, дальнее плавание чудится как цепь сложных приключений, но если бы они знали, как бывает порой однообразно тягуче время в океане! Я с детства прочел и выучил чуть ли не наизусть книгу Джозефа Конрада «Зеркало морей», но только в плавании проник в смысл его слов: «Нигде дни, недели, месяцы не уходят в прошлое так быстро, как в открытом море. Они словно остаются за кормой так же незаметно, как легкие пузырьки воздуха в полосе белой пены, бегущей по следу корабля, и тонут в великом безмолвии, в котором проходит судно, как волшебное видение. Уходят дни, недели, месяцы, и только шторм может нарушить эту размеренную жизнь на корабле».
Однажды мой приятель Юра Тредубский, который вообще любит строить из себя философа, сказал мне:
— Понимаешь, Факир, море — это вообще ожидание. Тут вся штука в том, что идет разный отсчет времени. Мы уходим из порта и возвращаемся в него такими же, как и ушли, а люди на берегу изменились, на берегу все вообще быстрее меняется. Потому-то береговые люди не всегда способны понять нас.
Нина так восхитилась Юркиными словами, что тут же попросила у него разрешения вписать их в свой дневник. А я не поверил Юре, нет, не поверил, потому что знал: для тех, кто остается на берегу, жизнь тоже превращается в ожидание, и в нем, как, по Конраду, в океане, тонут легкими пузырьками дни, недели, месяцы.
Я вырос в небольшом городке Высоцке. У нас не было моря, только речка, заросшая камышом, да призаводский пруд; у нас не было моря, но оно поселилось в нашем двухэтажном домике, потому что его привез из Ленинграда после войны отец. До войны он был совсем сухопутным человеком, работал на заводе, любил лес, любил ходить по грибы и ягоды, а война пристрастила его к морю, и он стал там жить, изредка возвращаясь к нам. Он скитался по белому свету, а я и мама ждали, и случалось порой, она будила меня среди ночи, и мы ехали с ней в Ленинград или в Мурманск, а то и в Одессу и там тоже ждали, пока папа сойдет с парохода на берег. Так мы и жили от встречи до встречи… Все это я вспомнил сейчас, потому что нынешней ночью в Сиднее я увидел во сне свою комнату в двухэтажном домике на главной улице нашего городка, услышал, как заскрипели деревянные крашеные полы, и почувствовал, как пахнут пироги с грибами. Я проснулся в тревоге и стал вспоминать, как приехал к нам в городок Лука Иванович.
Это было в конце марта; это я точно помню, что в конце марта, потому что был веселый синий день, таял снег, стены домов казались желтыми от солнца. В конце нашей улицы на фоне осевших сугробов выделялись ивы; там был берег речки, издали казалось, что эти ивы занялись первыми клейкими листочками, — конечно же, это был обман, просто на ярком солнце тонкие ветви ив выглядели зелеными. Все вокруг было веселым — и лужи с хрустким, прозрачным ледком по краям, и запах печеного хлеба из булочной, и запах кож из сапожной мастерской… Я бежал из школы. Мне бы только бросить портфель, наскоро перекусить — и к Кольке, у него маг и новые записи, а главное, обещала прийти Оля, а я уже тогда радостно тосковал по ее задумчивому и заманивающему взгляду.
Лука Иванович сидел за круглым обеденным столом; с ботинок его натекла мутная крохотная лужица, расплылась на крашеной доске пола, морская фуражка лежала на диване… Он оглаживал рукой скатерть, а глаза сужались, прятались за лучи морщин.
Мама вскочила со стула, и сначала я увидел, как взлетели вверх ее руки, и тут же услышал крик — она никогда так не кричала, она и не умела так страшно кричать, и, если бы не ее горячие ладони, сжавшие мне голову, я бы, наверное, упал на пол от испуга. Только спустя некоторое кроме я услышал ее шепот:
— Отец.
А Лука Иванович сидел и оглаживал скатерть, глаза ого совсем ушли в глубину, и образовались две черные узкие дырки. Так он сидел долго, не шевелясь, — человек, который принес в наш дом самую страшную весть.
Был на улице март, было солнце, пахло печеным хлебом, Оля ждала меня, чтобы сказать то, о чем она много думала тайком, а я узнал — у меня не стало отца, он умер от разрыва сердца на пароходе, которым командовал Лука Иванович… Я знаю, что такое ожидание не только в море, но и на берегу; пожалуй, в них нет разницы, если действительно ждешь того, без кого не можешь.
К утру с моря нагнало тучи, и хлынул неожиданный холодный дождь, а когда он кончился, задул ветер, злой, пронизывающий; он гнал по улицам обрывки мокрой бумаги. Перед отходом нас построили у парадного трапа, две девушки-стюардессы поднесли Луке Ивановичу букеты цветов, а потом он подошел к штурманам и стал прощаться. Глаза у него были веселые, да и во всем облике чувствовалась свобода, — в этом не было никакого наигрыша. Я, конечно, понимаю, покидать капитану свое судно всегда тягостно, но тут был другой случай: Лука Иванович, скорее всего, должен был испытывать чувство освобождения от немилых его душе обязанностей, которые он должен был выполнять перед пассажирами, — он ведь не списывался на берег, он возвращался к привычному, на сухогруз, на теплоход, где все ему по-настоящему дорого и знакомо. Он быстро, энергично пожимал всем руки, и вот, когда дошла очередь до меня, заглянул мне в глаза, морщины на его лбу сжались в бесформенный рисунок, и мне показалось — вот сейчас он меня хлопнет по плечу и скажет: «А ну давай: две минуты на сборы, сходим со мной!», и я тут же признался себе — ведь побегу к себе в каюту, схвачу первое попавшееся и кинусь за Лукой Ивановичем на любой пароход, но Лука Иванович сжал мою ладонь и отвернулся.
Матросы снесли его вещи к автомобилю представителя Совинфлота; Лука Иванович один спускался по трапу, а судовой оркестр играл марш «Прощание „Славянки“»… Вот так это мне и запомнилось навсегда, на всю жизнь…
Еще до того, как раздалась команда Ник-Ника: «Трап поднять, всё закрепить по-штормовому!», еще до этого на мостике произошла небольшая стычка между лоцманом и капитаном. Лоцман, все тот же пожилой, худощавый, с белыми глазами человек, сообщил: получено штормовое предупреждение и рекомендуется всем судам переждать часов шесть в бухтах — в море шторм, ветер врывается в залив, достиг уже десяти баллов, поднял высокую плоскую волну. Ник-Ник сказал, что о предупреждении знает, но пароход уйдет из Сиднея точно по расписанию, и если лоцман отказывается осуществлять проходку, то капитан поведет пароход сам; он знает отлично залив Порт-Джэксон, бывал здесь не раз; во всяком случае, жертвовать репутацией «Чайковского», как судна, всегда приходящего и уходящего в срок, он не намерен. Лоцман возражать не стал, но и мостика не покинул.
«Чайковский» развернулся в бухте и вышел в залив, и вот тут-то мы сразу почувствовали — дела наши несладкие: ветер дул встречный, и волна била прямо по носу, создавая килевую качку, — свернуть от фарватера никуда нельзя, это не открытое море, слева и справа берега, над которыми стремительно неслись низкие густо-серые тучи…
Я не видел, откуда взялся этот огромный вал, только услышал, как капитан успел крикнуть в микрофон: «Внимание на баке! Всем укрыться!» — и едва прозвучали эти слова, как нос парохода ушел ввысь, на какое-то время под нами будто бы образовалась пустота, мы повисли над ней, и тут же пароход не выдержал этого полета и всей своей передней частью рухнул вниз; бак ушел под воду так глубоко, что мне показалось — обнажилась корма и стал слышен шум винтов, разрезающий воздух; во всяком случае, вся обшивка парохода вздрогнула, и огромный водяной вал, пенясь, прокатился по главной палубе, снося с нее все, что плохо было закреплено. Была какая-то доля секунды, когда мне почудилось — судно больше не выплывет, но вода, шипя, исчезла с палубы, и турбоход тут же выправился, и сразу же прозвучала команда Ник-Ника:
— Боцману доложить состояние команды!
Доклад последовал быстро; все, оказывается, обошлось, несколько матросов отделались небольшими ушибами — успели все-таки укрыться, благодаря команде капитана… Потом, когда много времени спустя мы вернулись в Сидней, то узнали: наш пароход успели сфотографировать находящиеся на берегу залива журналисты как раз в тот момент, как он всей передней частью зарылся в воду; эта фотография была напечатана во многих газетах, мы потом ее размножили на нашей копировальной машине, и у меня в каюте на стенке висит такая… И вот еще что любопытно: когда пассажиры получили эти газеты, то не могли вспомнить происшествие. Впрочем, никто из них его не видел, палубы были пусты, никому не хотелось торчать на них в скверную погоду, да и было послеотходное время, когда большинство пассажиров раскладывают вещи в своих каютах и знакомятся с барами; ну качнуло разок — это ведь быстро забывается, когда не видишь моря, да и турбоход наш хороший «морячок», во многих его каютах качку переносят легко… Но на палубе и на мостике…
Лоцман с белыми глазами раздавил в руках кофейную чашку. Он так и шел потом с нами до порта, так как лоцманский катер не мог выйти в залив.
Мы вышли в открытое море. Здесь шторм не был страшен нашему пароходу, и он лег на курс… Днем, после вахты, я вышел на корму, к нашему любимому местечку возле флагштока, и замер в удивлении. Два странствующих альбатроса невозмутимо летели за нами, сильный ветер не мешал, а помогал им, и они легко, не двигая крыльями, парили в воздухе; это были наши альбатросы, я узнал их — одного по подпалинке на белой груди, а другого по темно-коричневому блеску крыльев.
Глава вторая ПРОЩАНИЕ С КРОКОДИЛОМ
Меня, как и, наверное, всех остальных ребят в экипаже, в эти дни занимал капитан. Штурманы, конечно, к нему поближе: мостик — главное место на любом пароходе, да и капитан в первую очередь моряк, а уж потом все остальное; правда, на пассажирском судне слишком уж много этого остального: переводчики, администраторы, классные, ресторан с официантами, барменами… Но дело не в этом: капитан, или, как зовут его по морскому коду, мастер, отвечает за все, абсолютно за все, что происходит на судне, потому и дано ему право спрашивать со всех… Когда на завод или еще какое-нибудь предприятие приходит новый директор, у него есть время на знакомство с делами, на «раскачку», у капитана такого времени нет: с той самой минуты, как принял он обязанности по судовождению, активный работник, он все решает, и он отвечает за все.
Ник-Ник сразу взял круто: едва мы вышли в открытое море, как он собрал всех штурманов, очень коротко изложил требования: поступать только согласно правилам и инструкциям, ни одного самостоятельного решения, все — через него, на мостик появляться только в установленной форме, о ее изменении в зависимости от погоды он будет отдавать приказы, приход на вахту не в форме подлежит строгому наказанию, — впрочем, все это были обыкновенные капитанские требования, это же самое сказал в первый день и Лука Иванович, и все же нам сразу стало ясно: Ник-Ник не простит ни одного, даже малого нарушения.
Трое суток он почти не спал, обходил пароход, все его закутки и службы, а на четвертый день появились приказы, в которых выносились выговоры классным и официанткам за плохое содержание жилых кают экипажа, кладовщику — за непорядок в складских помещениях и шеф-повару — за скверное оборудование портомойки, и по этим приказам стало ясно: Ник-Ник знает пассажирское судно до мельчайших подробностей. Мы сразу почувствовали: «порядок будет», — тут Юра был прав и Нина тоже.
Сабуров говорил мало, негромко, но за этой негромкостью, я бы даже сказал, нежностью фразы чувствовалась непреклонность, и о нем пополз слушок: «Капитан второй раз не предупреждает». Вот это-то меня к насторожило. Я уже слышал такую фразу и знал — она чем-то знаменита. Я стал вспоминать, кому принадлежит, и вдруг вспомнил, как уходили мы из Сиднея; сам этот уход, его стиль мне тоже показался знакомым, и вот когда я все это связал, то сразу же и подумал о нашем известном капитане, который первый после войны проложил в шестидесятые годы регулярные пассажирские линии сначала в Канаду, потом в США. Сабуров явно подражал ему. Но почему?..
Однажды я видел этого капитана, он приезжал к нам в мореходку: невысокий, черноволосый, с небольшой кудрявой сединкой в волосах и темными мягкими глазами, — это мне особо запомнилось, потому что его глаза смотрели на нас со странной, почти детской наивностью, и, когда он заговорил, я удивился его нежному, негромкому голосу; иногда он неожиданно сжимал руку в кулак, и я заметил, что пальцы у него маленькие, тонкие и покрыты темными волосиками; но, по мере того как он все больше и больше рассказывал о своих поисках рабочего ритма, о столкновении в иностранных портах, я чувствовал, как что-то менялось в его облике: вроде внешне он оставался тем же, и голос тот же, и выражение лица, и говорил расслабленно, но все равно это был другой человек — властный, крепкий, и ощущение, что за ним стоит сила, было отчетливым. И вот тогда я услышал — моряки о нем говорят: «Капитан дважды не предупреждает» — и тут же поверил в это… Он рассказал нам, как трудно было его судну, только что вышедшему на линию, завоевать пассажиров. Одно из правил, которое он установил и для себя и для экипажа: выходить и входить в порт точно по расписанию, что бы ни случилось; на этом держится авторитет пассажирского судна. И вот что произошло однажды…
В Монреале около трехсот пассажиров купили билеты, и в это-то время забастовали лоцманы порта, а проходка по реке Святого Лаврентия считается одной из сложнейших в мире, редко кто из капитанов решится вывести судно по этому пути да еще в туман… Он решился, другого выхода не было — надо было провести теплоход, надо было точно выйти из порта, иначе добытое таким трудом можно было легко потерять… Он много раз прежде приходил в Монреаль, знал фарватер, но все же… Пока они шли по реке, над ними кружил самолет с телекамерой, и весь Монреаль наблюдал эту проходку по телевидению, а когда они вышли в открытое море, бастующие лоцманы прислали им поздравительную телеграмму. Конечно же, все это послужило отличной рекламой для теплохода. Вот так ему давалась линия.
Теперь, когда я все это вспомнил, то точно могу сказать: наш уход из Сиднея очень напоминал этот случай.
Мы шли в Новую Зеландию, пересекая Тасманово море. На следующий день после выхода из порта должно было состояться капитанское представление — это непременный ритуал на всех пассажирских лайнерах. Обычно его проводят в музыкальном салоне. Устраивают коктейль, капитан знакомится с пассажирами и, в свою очередь, представляет старших офицеров и администраторов… Я помню, как проводил свое первое представление Лука Иванович, как он стоял на эстраде в новеньком кителе, держа в руке микрофон, и щурился от лучей прожектора, который навели ему прямо в лицо: от смущения и неловкости он неожиданно поддернул локтями брюки, хотя у него не было такой привычки, и я тут же заметил, как усмехнулись сидящие за первым столиком англичане, и мне стало обидно за Луку Ивановича. Потом я видел, как он стоял, весь мокрый, словно пробежал несколько километров, и жадно пил содовую; позднее он много раз выходил на представление, рассказывал пассажирам о пароходе и экипаже, но каждый раз это давалось ему нелегко.
Ник-Ник, прежде чем выйти на эстраду, собрал всех возле информбюро, тщательно оглядел и заставил Юру и еще одного администратора срочно поменять ботинки; вообще-то у Юры были хорошие ботинки, только немодные.
Когда Сабуров вышел на освещенную прожекторами площадку — а был он в отличном белом кителе, ладно облегающем его плотную фигуру, — и взял микрофон, в салоне установилась благоговейная тишина. Он выждал паузу и с легкой улыбкой произнес:
— Леди и джентльмены…
Он говорил по-английски свободно, с небольшим акцентом — думаю, что это нравилось пассажирам, — и, представляя кого-нибудь из офицеров, шутливо пояснял его обязанности. Так, про главного механика он сказал:
— Ему вы будете обязаны быстротой нашего лайнера. Но если в ваших каютах однажды не окажется горячей воды, то прямым виновником этого события опять же будет наш главный механик. Вы, вероятно, знаете, чти моряки называют его «прадедом», хотя, как вы видите, ему только сорок. Очевидно, каждый бы из нас мечтал, став прадедом, так сохраниться…
Прошло еще несколько дней, и о Сабурове стало известно многое. Честно говоря, я до сих пор не знаю, как получают на пароходе сведения о человеке, порой самые интимные, даже если он капитан, и сведения эти сразу же становятся достоянием всего экипажа.
Оказывается, Сабуров, еще когда был в мореходке, попал на практику к тому знаменитому капитану, о котором я только что рассказывал. Капитан этот тогда еще плавал на сухогрузе. Это потом он стал изучать пассажирское дело, выезжал в командировку на Запад и знакомился с работой нескольких пароходных компаний, но в то время он был еще сухогрузником. Так вот, он предложил курсанту Сабурову совместить практику с работой уборщика, то есть чистить гальюны для команды; я-то знаю ребят из мореходки: еще и не поплавали как следует, а уж в душе высокомерие; это потом оно проходит, но поначалу все гении, все первооткрыватели по меньшей мере если не Колумбы, то Джеймсы Куки наверняка. Я и по себе могу сказать: если бы мне на первой моей серьезной практике предложили чистить гальюны, несмотря на то что это давало немалую прибавку к жалованью, а у меня не было денег, я бы гордо отверг это предложение, а вот Сабуров тут же согласился и вскоре за старательность получил повышение — стал чистить гальюны для командного состава.
Даром это не прошло, потому что когда он закончил мореходку, то знаменитый капитан — а он уже стал тогда плавать на пассажирском лайнере — пригласил Сабурова к себе на работу четвертым помощником, и так бы, наверное. Ник-Ник и плавал там и продвигался по служебной лестнице, получая новые нашивки на рукава, как случилось неожиданное…
Они пришли в Саутгемптон — это был их первый приход туда, прежде они заходили в лондонский Тилбери, — и в честь прибытия советского лайнера мэр города устроил прием; Сабуров ночь не спал, отстоял вахту, потом была швартовка, на приеме он немного выпил. Случилось так, что капитан пригласил англичан к себе, и тут снова подошла вахта Сабурова, теперь уж у трапа; почувствовав себя плохо, Ник-Ник ничего не сказал вахтенному матросу, сел в салопе на стул, рассудив, что, когда гости выйдут от капитана, он увидит их с этого места и тут же окажется на вахте, но он уснул.
Его искали часа три, а он спал в салоне на стуле неподалеку от трапа.
На командирском совещании двух мнений не было, потому что до этого стало известно мнение знаменитого капитана. Сабурова списали, и ему надо было начинать все сначала, и он начал, не затаив никакой обиды на тех, кто решил его судьбу.
— Если все это так, то он моряк, — сказал Юра.
— Поживем — посмотрим, — сказал я.
— Ты стал очень недоверчивый, — сказала Нина.
Мы шли вдоль берегов новозеландского Северного острова. На утреннем солнце сверкали вершины белых песчаных холмов, небо над островом было прозрачным, и только в дальней глубине угадывалась голубизна, и вода была прозрачной — мягко-зеленой, только еще в одном месте я видел такую же воду: у берегов Ирландии, но, пожалуй, она там немного позеленее: не спеша, величественно выбрасывая струйки воды, проплыло небольшое стадо китов.
Я принимал вахту у Нестерова; он попыхивал своей трубкой, распространяя запах табака в рубке, и щурил на солнце и без того узкие глаза.
— Порядок, — сказал я, проглядев последние записи в судовом журнале.
И только он собрался попрощаться, как в рубку вошел капитан. Мы сразу же поздоровались с ним, он кивнул нам и озабоченно прошел от левого штурманского столика, где лежала крупномасштабная карта, до правого — к генеральной карте; взглянув на ту и другую, он перевел взгляд на остров, потом стремительно оглядел море, заложил руки за спину, ладонь в ладонь, и остановился так, что я видел только его крепкую скулу и кудрявые баки над ней.
— Петр Сергеевич, — сказал Сабуров, обращаясь к Нестерову, — это верно, что у вас в каюте живет крокодил?.. Если так, то, надеюсь, у вас есть на это пресмыкающееся ветеринарный паспорт или какой-нибудь иной сертификат?
Он говорил тихо, короткими паузами отделяя каждое слово, и мне подумалось, что звук его голоса похож на вкрадчивые шаги тигра, хотя я никогда не видел и не слышал, как ходит тигр.
Нестеров задержал трубку во рту и начал нервно жевать мундштук; Сабуров же терпеливо ждал, так и не поворачивая головы в нашу сторону.
— Конечно, нет, — выдавил из себя с трудом Нестеров.
— Почему «конечно»? — спросил капитан. — Вы ведь не первый год плаваете. Должны знать — существуют правила… Не так ли?
Вот теперь Нестеров покраснел, да и я замер: а вдруг капитан начнет спрашивать про эти самые правила, а я про них ничего не знаю; у меня сразу появилось такое чувство, будто я сдаю экзамены и мне выпал именно этот вопрос, который я вовсе и не учил… Я быстро стал соображать, что помню об этом, но ничего вспомнить не мог: ну, возили ребята на пароходах всяких животных, а потом вроде бы это делать запретили. Я вопросительно взглянул на Нестерова и тут же понял: и он не знает ничего про эти правила, а это уж совсем худо, потому что Нестеров у нас считался знатоком морских законов.
— Плохо, — тихо произнес Сабуров и замолчал.
Я давно, между прочим, заметил: есть такая начальственная пауза, это когда командир произносит какое-нибудь весомое слово и замолкает, а ты стоишь перед ним и мучаешься, потому что самое главное заключено в следующем слове, а с ним не спешат — то ли хотят тебя подержать в сомнении, то ли подготовить к самому худшему. У нас в общежитии такими паузами очень ловко пользовался комендант; иногда он так долго молчал, что вечно занятые курсанты не выдерживали и убегали, не дождавшись его решения, но именно этим способом он снискал себе почтение.
Капитан помолчал и сказал:
— Придется вам расстаться с крокодилом, Петр Сергеевич.
— Как? — удивился Нестеров.
— Вы хотите спросить: каким способом? — И Сабуров повернулся к нам, глаза у него были веселые, и можно было подумать, что он шутит, но он не шутил. — Ну, уж тут я вам не помощник. Одно могу сказать: крокодил не должен жить на пароходе. За него на нас могут наложить штраф. А это валюта. Так что прошу вас…
— Куда же я его дену, Николай Николаевич? — взмолился Нестеров.
— Вот уж чего не знаю…
— Он же совсем малютка, ему и двух лет нет.
— Вы хотите, чтобы мы подождали, пока он не вытянется метров на восемь?
— Он из породы кайманов. Они больше чем до полутора метров не растут.
— Вполне достаточно. Или вы считаете, что мало?
— Но, Николай Николаевич, — теперь уже твердо сказал Нестеров, — его ведь в Новую Зеландию не пустят. Там нет хищников, это всем известно… А за борт — не могу! Негуманно, товарищ капитан.
— А я вам и не предлагаю за борт. Я вам предлагаю: подумайте. — И уже строго добавил. — И решайте!
Он все сказал, повернулся и вышел из рубки.
Нестеров долго стоял молча, чмокая губами, чтоб раскурить трубку, но не замечал, что она у него погасла.
— А? — наконец растерянно спросил он меня.
— Ага, — кивнул я.
Поначалу я ему искренне посочувствовал, но потом вспомнил, как утопили моего удава; вот змея можно утопить, а крокодила нельзя, а между прочим, мой удав был мадагаскарским, они славятся тихим норовом, и он тоже пресмыкающийся, как это подчеркивал Ник-Ник, говоря о крокодиле, и у него легочное дыхание, роговой покров тела и трехкамерное сердце. Мало того, что его утопили, а еще этот самый Нестеров впаял мне кличку… Но все же мое злорадство было недолгим, потому что с Нестеровым творилось что-то неладное. Куда девалась его самодовольная морская осанка, — он скис и беспомощно посасывал мундштук трубки.
— Слушай, Петя, — сказал я ему, — а ты сдай свое пресмыкающееся в Оклендский зоопарк. Придешь еще когда-нибудь сюда — сможешь навестить. Представляешь, как это здорово: иметь знакомого в Оклендском зоопарке!
Он недоверчиво посмотрел на меня, но я был серьезен…
— А возьмут? — неуверенно спросил он.
— Конечно, они ведь тут не водятся. Да еще кайманы.
— Ладно, — сказал он. — Попробую.
…На таком большом лайнере, как наш, можно проплавать рейс да так и не встретиться с каким-нибудь человеком из другой службы… Представьте себе: захожу я в какое-нибудь припортовое кафе, заказываю кружку пива и слышу, как за соседним столиком травит парень о том, как ходил на «Чайковском», вглядываюсь в него и не узнаю, наверняка вижу его в первый раз; тогда подхожу к нему и говорю: «Простите, в каком месяце все это было?» И он называет тот самый срок, когда и я был на «Чайковском», и тогда я вежливо начинаю ему объяснять, что он примитивный лжец, но парень не сдается, парень кладет на стол паспорт моряка, и там черным по белому — он плавал в этом рейсе. И я стою перед ним, краснея от стыда… Честное слово, все это возможно! Хотя со мной ничего подобного и не случалось, но все-таки… Уж слишком большой у нас пароход, и потому не все сразу узнаешь о человеке, даже если с ним каждый день встречаешься на мостике.
Нестеров давно занимал меня, потому что за ним стояла совершенно необычная история, и отношение к нему было довольно сложным: не все принимали его внешнюю сухость, подтянутость, иногда даже называли его позером, а вместе с тем он был человеком тихим, даже скрытным, но если к нему обращались с просьбой, охотно ее выполнял, хотя просили его редко. Все знали, что он был назначен вторым помощником на «Уран», а к тем, кто плавал на этом судне, моряки относились с уважением, то есть я хочу сказать — ко всем, кто спасся. Но с Нестеровым был особый случай.
Он пришел на теплоход вторым помощником, когда «Уран» грузился рудой в порту. А второй помощник, как известно, отвечает за груз. Едва он представился капитану, как тот сразу же потребовал от него: «Следи за погрузкой». Тут уж ничего не сделаешь — времени всегда мало, и если пришел на судно, то должен сразу включаться в работу. Начали загружать третий трюм, когда Нестеров вышел на палубу; вскоре он вернулся к капитану и сказал:
— Необходимо трюмы разгрузить и загрузить их иначе.
Капитан был человек немолодой, вспыльчивый, но все же сначала попросил объяснения, и Нестеров объяснил: на пароход грузят мерзлую руду, плавание дальнее, в море руда оттает, обретет сыпучесть, и тогда стоит попасть в шторм, как может образоваться опасный крен, и потому есть один выход — надо ставить в трюмах переборки, способные удержать движение руды к одному борту, — так называемые шифтинги. А времени не было… Капитан спешил, дела у парохода складывались так, что он мог не выполнить план по грузообороту, потому-то и шифтингами пренебрегли, ведь на их установку нужно не менее восьми часов, а где их взять? Ходили без этих переборок, и ничего — просто надо идти поаккуратней. Но еще разгружать два трюма… Да с ума сошел второй помощник! И капитан взорвался. Он шумел в полную силу своих легких: вот, мол, присылают мальчишек, а они и дважды два сосчитать не умеют, и только мешают настоящей работе. Нестеров все это выслушал и положил на стол капитана расчеты. По ним выходило, что судно не выдержит и четырехбалльного волнения моря — оно может опрокинуться, и у второго помощника есть только один путь: если немедленно не приступят к разгрузке трюмов, он не поставит своей подписи под документами.
Капитан и без того был задерган всякими портовыми представителями — отход из порта всегда мука смертная для экипажа судна, а тут еще свой, едва прибыв на работу, ставит палки в колеса.
— Да плевать мне на твою подпись! — вскричал капитан.
— В таком случае, — сказал Нестеров, — я не смогу пойти на судне, которому грозит явная авария.
После этих слов капитан подвел Нестерова к трапу и сказал:
— Дорогу видишь? Ну вот, и иди, иди, иди…
И Нестеров пошел. Сначала к портовым властям и заявил: «Уран» нельзя выпускать из порта. Нестерова выслушали, но в это время по каким-то причинам было не до него. Тогда он пошел в пароходство. Пока ходил, пока сидел в приемных на скамеечках, «Уран» ушел, а через три дня работники пароходства сами пригласили к себе Нестерова и сообщили ему, что он уволен из-за невыполнения приказа. Не выйти в море — для штурмана серьезное нарушение.
Прошло около месяца, и город потрясла весть: «Уран» опрокинулся во время шторма; правда, к нему быстро подошли спасатели, но все же погибло семь человек и среди них капитан. Когда комиссия разбирала причины аварии, то нашла в документах рапорты Нестерова. Его восстановили на работе, более того — в приказе пароходства подчеркивалась его правота и накладывались серьезные взыскания на тех, кто не прислушался к предупреждению второго помощника.
…Он пришел к нему вечером, без телефонного звонка — знал, что Петр дома. Ему открыла мать и так вскрикнула, что Петр выскочил из комнаты в прихожую. Даже при тусклом свете лампы, вправленной в железный абажур наподобие старинного газового фонаря, Петр сумел разглядеть, что друг его постарел: на лбу еще розовела незажившая рана; наверное, этот, еще свежий шрам останется у него на всю жизнь. Нет, это не было возмужанием, хотя в двадцать семь лет еще все впереди для моряка, он именно постарел… Они вошли в комнату, и он попросил у Петра выпить; сел, сжав крепкие, прокаленные пальцы со множеством отметин от ударов металла в один большой кулак, и стал рассказывать… Он выскочил на палубу из каюты, где отдыхал после вахты, когда пароход резко накренился на правый борт; капитан дал команду перекачать бункер и воду на другой борт, и все были спокойны, все верили: вот-вот сейчас перекачают и пароход выправится. Но он еще больше накренился, и тогда дали SOS, но все еще не верилось, что им действительно нужна помощь. Он пошел к себе в каюту и на всякий случай надел шерстяной спортивный костюм. Хотя вода в море была градусов двадцать, но он знал по рассказам, что все равно, если долго находишься в такой воде, то тело начинает мерзнуть; и только он это сделал, как прозвучала шлюпочная тревога…
Одна шлюпка сорвалась и ушла в море — матросы, видимо, психовали, когда ее спускали, — вторую спустили нормально, он попал в нее. Долго не заводился мотор, — это же надо: два дня назад проводили учебную тревогу и все шло отлично, а тут, как нарочно, сплошные неполадки; он сразу понял, в чем дело с мотором — все-таки механик, — и через две минуты он у него заработал.
Они шли нормально мили четыре, потом их шлюпку подбросило на крепкой волне и перевернуло. Он плыл долго, сколько — точно не знает, потому что время от времени терял сознание, но те, кто его спас, — это были рыбаки, — говорят, он плыл два часа; возможно, это так и было. Он не видел, как затонул «Уран», слышал только, что опрокинулся быстро.
Теперь он должен объяснить, почему пришел к Нестерову, как только оказался в городе. Дело в том, что когда он лежал в госпитале, то дал себе слово — обязательно найдет Нестерова, потому что считает себя перед ним виноватым; в экипаже не знали второго помощника, а он знал, они вместе учились в мореходке и вместе прежде плавали; он знал, что Нестеров хороший моряк, но он первым назвал его трусом, когда тот отказался пойти вместе с ними в море из-за неправильной загрузки…
Он не должен был так называть Нестерова, теперь он знает это твердо, и потому пришел к нему принести свои извинения.
Он еще выпил водки, после этого долго кашлял, и мать спросила его: «Куда же вы теперь пойдете работать?» Он удивился: как это «куда»? Он пойдет в «кадры», а там его определят на пароход, вот только немного подлечится, ему обещали путевку в санаторий…
— Понимаешь, — сказал он на прощанье, — самое смешное: я не верил, да и все не верили и когда образовался большой крен, и когда дали SOS и уж в шлюпку сели, а казалось — это не всерьез… Странно, что можно так не верить.
И все же к Нестерову в экипаже относились не очень хорошо; вроде он поступил так, как должен был поступить, но… Мне это трудно объяснить. Я думал поначалу: к нему так относятся потому, что за ним невольно стоят тени погибших, хотя на нем и нет вины, но они стоят, и ничего с этим не поделаешь. Но постепенно это объяснение меня перестало устраивать, и я начал мучиться вопросом: почему же все-таки недолюбливают этого человека?
Я пожалел его после разговора с капитаном, положение у него действительно было безвыходное: хочешь не хочешь, а расставаться с крокодилом надо. Сразу же после вахты я сходил к первому помощнику Виктору Степановичу, честно ему все рассказал и попросил его в Окленде дать нам машину морского агента, чтобы мы отвезли крокодила в зоопарк; видимо потому, что я еще ни разу ничего не просил у первого помощника, он тут же согласился.
— Хорошо, — сказал он, — только имейте в виду: у нас в Окленде интересная экскурсия. Ее подарило нам общество «Новая Зеландия — СССР». Постарайтесь успеть.
Я пообещал.
Едва мы ошвартовались, я нашел Нестерова и сообщил, что машина морского агента ждет нас на причале.
— Буду готов через пятнадцать минут, — сказал он.
Я вышел на палубу, здесь приятней было ждать, чем в каюте. Город начинался тут же, возле порта, и так же, как в Сиднее, вокруг гавани вздымались новые высотные дома, а дальше разбегались небольшие домики, укрытые зеленью; и все же это был иной город, не австралийский, это заметно было не только по деревянным домам, но и все здесь было скупее и графичнее… Когда через пятнадцать минут я спустился к синему «форду» агента, то увидел возле него Нестерова с сумкой, а рядом с ним Нину.
— А ты как? — спросил я.
— Мне разрешил первый, — спокойно ответила она.
— Тогда уж надо было и Юру…
— У него пассажиры, — ответила Нина и решительно открыла дверцу машины.
Шофер попался нам лихой, он погнал машину на серьезной скорости, делая резкие виражи на перекрестках, и мимо мелькали бесконечные витрины, зеленые лужайки, стволы деревьев, и так мы поднимались все выше и выше, пока не взлетели на вершину горы, и отсюда как бы распахнулся весь город: бесконечные ряды деревянных домиков уходили так далеко, что терялись где-то в сизом тумане, в котором едва приметными очертаниями выступали синие холмы, а с другой стороны открывалась тихая гладь залива; так же стремительно мы скатились вниз и остановились у каменных ворот, где буйно цвело ярко-фиолетовыми султанами незнакомое мне дерево.
Нестеров взял сумку и попросил нас обождать; я было поднялся за ним, но он жестом показал мне, чтоб я сидел, а сам скрылся за воротами; наверное, он не хотел, чтобы мы участвовали в переговорах. Он ушел, а я задумался: а вдруг не примут его крокодила, тогда что нам с ним делать? Назад на пароход не понесешь. Сабуров не шутил.
Наверное, это нелегко понять, как можно полюбить крокодила, вот про собаку понятно, а про крокодила нет, а между тем он более древнее животное; говорят, ему сто пятьдесят миллионов лет, и за это время он, безусловно, накопил житейской мудрости не меньше, чем собака… Нестеров вернулся довольно быстро, вид у него был потерянный, и я понял: крокодила приняли без всяких осложнений.
Нестеров сел рядом с Ниной, и, как только двинулась машина, я увидел, как Нина дотронулась до его руки длинными пальцами, нежно и успокаивающе дотронулась, и посмотрела на Нестерова так, словно хотела взять на себя все бремя его печали; я никогда не видел у нее такого взгляда… Вот какой у нас пароход: можно плавать на нем месяцами, жить по соседству с друзьями и многого не знать о них.
Мы не опоздали на экскурсию: сели в автобус, и нас сразу же повезли за город. Широкое шоссе было свободно, по нему редко двигались машины, и мы промчались мимо придорожных кофеен и таверн, мимо рекламных щитов фирмы «Тип-топ», торгующей мороженым, мимо бесконечных холмов, по которым брели отары овец и стада черных безрогих коров — «скот движется, не поднимая головы», — мимо деревянных почти одинаковых двухэтажных домиков фермеров; мы мчались по этой звенящей и прозрачной от невероятной чистоты воздуха стране, и я не спускал глаз с Нины и Нестерова, я думал: «Что у них?..» Мне надо было отвлечься, мне надо было поразмыслить о чем-нибудь другом, и я пытался слушать рассказ, который звучал из динамика, вмонтированного надо мной в подволок автобуса…
…И тогда решили: нужен монумент, который отразил бы дух народа, трудом своим возделавшего землю, очистившего ее от зарослей и камней под пастбища, тем, кто построил дома и города, прорыл угольные шахты и проложил дороги, но никто не отозвался на зов людей, решивших это, и тогда поняли: они все так много работали и так много заботились только о трудах своих, что не успели обучить настоящему искусству ни одного скульптора, и пригласили художников из других стран. Приехало четверо: японец, канадец, американец, мексиканец; все они были отличными мастерами, имена их обрели законную славу на весь мир. Сначала они месяц ездили по стране, а потом им дано было право выбрать для скульптуры материал. Японец выбрал гранит, канадец — дерево, американец — металлолом, мексиканец — крашеные трубы. Ровно через четыре недели они должны были показать свои работы и потому сразу же уединились в мастерских и трудились там, не общаясь друг с другом. И наступил день смотра. Сначала пришли к японцу. То, что сделал он, было величественно и красиво: ломаные гранитные ступени вели вверх, и там, словно рушились здания, падали каменные кубы, они как бы обваливались вниз, угрожая разбить твердый гранитный шар, но это была только угроза — шар сверкал и был неприступен! Японец так и назвал свой монумент: «Открытый камень». В мастерской канадца увидели большое деревянное колесо и много других, более мелких, устремленных вперед, словно летящих по поверхности большой реки, — таким казалось отполированное до медового блеска бревно, что служило основанием скульптуры; смолой пахло от дерева, и этот монумент назывался «Колесо».
Американец удивил всех огромной железной конструкцией.
У этой скульптуры не было названия, и на нее можно было смотреть бесконечно, потому что от преломления солнечных лучей на поверхности металла в глубине этой конструкции возникали силуэты зданий, пароходов, поездов, самолетов, машин или профили человеческих лиц.
Мексиканец назвал свою скульптуру «Сигнал»: цветные трубы на широкой бетонной площадке были расположены так, будто отбивали веселый свободный танец. Это была радостная, легкая скульптура… И когда посмотрели работы этих четырех мастеров, то им сказали, что они создали замечательные произведения и, конечно же, в странах, где они живут, обрадуются этим шедеврам, а и Новой Зеландии так и нет до сих пор монумента, отражающего душу народа; но, может быть, скоро появится…
Это была удивительная сталактитовая пещера, ее так и называли: «Пещера светлячков». Когда-то тут был храм маори, они охраняли его много веков, потом продали пещеру англичанам. Мы спустились вниз по узкой лестнице; запахло погребной сыростью, а потом открылось подземное озеро, возле него был небольшой деревянный причал. Мы сели в широкую шлюпку, и парень-маори, держась за проволоку, повел шлюпку к середине озера, и вот тут-то открылось необычное: над нами горело звездное небо, но не то, привычное для нас, — на нем было совсем иное расположение светил. Может быть, вот таким небо видится с какой-нибудь иной обитаемой планеты; голубые, зеленые огоньки перемигивались, отражаясь в черной воде. Мы молчали, ошеломленные, и только слышно было, как где-то в глубине пещеры гулко и глухо плещется вода; тут невольно замираешь в благоговении, словно весь обращен к небу, хоть и находишься под землей, но осознание этого не помогает, как бы ни пытался убедить себя, что горят всего-навсего светлячки, маленькие насекомые, живущие в сырости, все равно веришь — над тобой небо, открытое заново.
Мы долго сидели посреди озера в шлюпке, и когда я взглянул на Нину и Нестерова, то увидел: он держал ее руку в своих ладонях, и она прижалась к нему плечом, они смотрели вверх и никого не замечали, сейчас в этой большой шлюпке они были вдвоем.
…Над нами качалось тропическое небо Тихого океана, луна висела так низко, что казалось — вдали брызги волн долетают до нее. У «Перова» вышла из строя машина, мы лишились управления и легли в дрейф, а в море свирепствовала мертвая зыбь — отголоски урагана, разразившегося у берегов Австралии. Мы успели уйти от него, погрузившись в порту Брисбен, и когда ушли, то узнали, что наделал этот ураган. Он сносил крыши с домов, гнул подъемные краны, переворачивал суда. Мы радовались, что избежали участи тех, кто был у причалов, но преждевременно радовались — океан так раскачало, что наш не такой уж большой пароход кидало всерьез из стороны в сторону. Но машина полетела не из-за качки…
К вечеру вахтенный машинист взял из поршней пробу масла и обнаружил, что в ней металл; срочно вызвали в машину Лешу — он стармех на «Перове», или, по морскому, «дед», хотя ему всего двадцать семь. Он тоже взял пробу на магнит и тоже увидел: в пятом цилиндре — металлическая пыль. Он тут же приказал увеличить подачу масла, но вскорости выяснилось, что это не помогает: металл по-прежнему шел в масло. Это могло значить лишь одно: в цилиндре происходит сухое трение, машину надо останавливать, пока не пришла еще большая беда — может заклинить поршень.
Леша поднялся к нам на мостик. Я стоял свою вахту, а Лука Иванович, словно предчувствуя неприятность, весь день не выходил из рубки.
— Надо дергать, — сказал Леша.
Когда он нервничал, то оглаживал свою пегую бородку, собирая ее в широкую ладонь; вообще-то стармеху с бородкой трудно: он часто лезет в машину и нет-нет да оставит на бородке масляные следы, потом надо мыться горячей водой с мылом, «стирать», как говорил Леша. Он был худощавый, но крепкий и широкий в плечах, с несходящим красным загаром, а вот глаза у него почему-то всегда казались печальными, унылые и тоскливые глаза, хотя сам он по природе был спокойным и уверенным в себе человеком.
«Дергать» — это означало разобрать и вынуть поршень.
Лука Иванович задумался; видимо, он прикидывал, как это будет выглядеть, и я тоже стал прикидывать… Поршень весом в две с половиной тонны, ну и крышка в сборе с клапаном — тонны три. Крышку снимут и опустят на плиту, это ясно, а вот поршень — он длинный, его надо держать на весу, а тут такая качка, вон на кренометре около двадцати градусов; ну, а если встанет машина, наш пароход начнет класть с борта на борт с такой силой, что тут себя-то не удержишь, не то что поршень; а если он сорвется и раскачается на тросах, как маятник, то, пожалуй, разнесет все машинное отделение… Я это очень живо представил. А Лука Иванович, наверное, увидел еще больше, потому-то сразу вызвал начальника радиостанции к приказал:
— Запросите наших, есть ли поблизости какие нибудь советские суда.
Мне сразу стало понятно: дело наше действительно худо, а Лука Иванович решил заранее побеспокоиться о буксировке, — вдруг не удастся починить машину. Я смотрел сквозь стекло на океан. Он был угольно-черен, на плоских, длинных волнах змеилось отражение луны, — пустынные места, вот уже двое суток мы не видели здесь даже птиц, не только пароходов, ничего живого, даже летающие рыбки, что обычно стайками вспархивают вдоль борта, и те исчезли, и только тяжелый, насыщенный липкой влагой воздух обступил нас.
— Так будем дергать? — спросил Леша.
Он уже принял решение, для него другого выхода не существовало: надо останавливать машину, надо ремонтироваться в дрейфе.
— И все же, что там такое? — спросил Лука Иванович.
— Нагар, — сказал Леша, — хуже каменного. Это сингапурское масло…
И я вспомнил, в чем дело… Мы уже плавали месяца четыре, когда пришли в Сингапур, а там скопилось много наших судов, и шел большой ченч — великий обмен: боцманы кричали друг другу в мегафоны:
— Нужна белая красочка!
— Меняю соль на спички!
— Требуются карты Соломонова моря!
Многие наши суда плавали без захода в родной порт месяцами и только здесь могли кое-что обрести у своих. У нас было худо с машинным маслом, покупать его за валюту не хотелось, и вот там, на ченче, нам и предложили наше масло какой-то новой марки. Леша его не знал, хотя его уверяли, что для нашей машины оно вполне подходит, и все же он запросил ССХ — службу судового хозяйства, и оттуда пришла радиограмма, подтверждающая: масло годится.
— Об этот нагар трется поршень, — сказал Леша.
Начальник радиостанции сообщил: есть один наш пароход в этом море — лесовоз, он сможет подойти к нам не раньше чем через двое суток.
— Ну что ж, — сказал Лука Иванович, — дергайте, стармех.
Он был спокоен. Он вообще, когда случались неприятности, становился даже чрезмерно спокоен… Машину остановили, мы легли в дрейф. Нас раскачало всерьез, волна легко переваливала через фальшборт, заполняла всю главную палубу и, пенясь, уходила через портики, но совсем ненадолго; проходило мгновение, и снова водяной вал вставал над бортом.
Почти десять часов Леша торчал во втулке. Поршень вынули и подвесили, когда судно развернулось носом к волне, и Леша сам полез в узкую втулку, никому не доверив такой сложной работы, как шлифовка.
Над океаном висели набухшие лиловые тучи, шел дождь, но он не освежал, было тягостно душно и влажно, а в машинном отделении воздух был такой, что казалось — его можно мять рукой и выжимать из него тяжелую воду. Леша стоял, обнаженный по пояс, в узкой втулке и шлифовал ее поверхность наждачным камнем; вращалась, повизгивая, турбинка, снимала нагар, и он летел Леше в лицо, сквозь защитные очки было плохо видно, и он иногда снимал их…
Я не понимал, на чем он держится. Он стоял в этом узком, круглом колодце и работал; потом он подавал знак, машинисты вытаскивали его, он ложился на палубу, его окатывали прохладной водой, растирали полотенцем, потом он долго пил теплый кофе и опять спускался в этот колодец — так было почти десять часов.
Потом мы спускали во втулку поршень, придерживая его на канатах, спускали по сантиметрам, боясь каждое мгновение, что не удержим под ударом волны, и когда это было сделано, то надеть колпак было уже делом нетрудным.
Я пришел к нему в каюту, когда запустили машину на малых оборотах; он сидел умытый, в белой свежей рубашке, с расчесанной бородкой, загорелое лицо его было иссечено царапинками, веки красны.
— Давай выпьем с тобой пива, — сказал он. — А потом я буду спать.
Он вынул из холодильника две красные баночки австралийского консервированного пива, содрал с них колечки, банки выстрелили, отдав в воздух короткие дымки; мы пили с ним медленно, молча, наслаждаясь прохладой и терпкостью напитка.
— Я посплю, а ты приходи, — еще раз сказал он.
Это легко было сказать «посплю». Мне бы тоже это нужно было сделать после вахты, но уснуть во время такой качки нелегко, правда, на этот случай придуман довольно верный способ: складываешь матрац вдвое, образуя в середине глубокую ложбину, и, чтобы ее сохранить, по краям кладешь чемодан, ящики, рюкзак, — в общем, те вещи, которые есть у тебя в каюте; залезаешь в эту ложбину боком, и вот тогда тебя качает вместе с кроватью, а иначе просто будет на ней кидать из стороны в сторону. Но и такой способ не всегда помогает, особенно в мокрую духоту, когда скверно работают кондиционеры.
Мы встретились с Лешей вечером. Он выспался, я это увидел по его бодрому виду. Каюта у него была хорошая, просторная, рядом с капитанской; конечно, не такая большая, как у Луки Ивановича, в ней был кабинет, спальня, ванная: «дед» — второй человек на судне.
На письменном столе стояла фотография Нины…
— Получил радиограмму, — сказал Леша. — Она решила уйти в плавание.
— Вот те раз! — сказал я. — Она же учительница. Зачем ей?
— Она не учительница, она преподаватель, — сказал он. — Она год будет плавать и получит большую практику переводчика.
— На «пассажире»?
— Конечно.
— А потом?
— Потом я тоже сойду на берег. Можно на ремзавод, можно в доки.
— Ты не сойдешь. «Деды» сами не сходят на берег.
— Кто установил такое правило?
— Практика.
— Я сойду, и она сойдет. У нас будет семья и дети.
— У вас будет семья, будут дети, но ты опять уйдешь в море.
— Ты мне не веришь?
— У меня отец был механиком. У него была семья: моя мама и я. Мы жили в Высоцке. Очень хорошее место.
— Вот я тебе расскажу, как я ее встретил…
— Ты рассказывал.
— Не все.
— Ты рассказывал три раза.
— И все равно не до конца. Почему ты не умеешь слушать? На море обязательно надо уметь слушать.
— Ты и это говорил.
— Сейчас я достану еще две баночки пива и расскажу… Мне это сегодня надо, пацан. Ты ведь не обидишь меня?
— Давай рассказывай, только теперь до конца.
— До конца всегда трудно, до конца никто и не может рассказать. Всегда остается что-то такое невыясненное. И если хочешь знать, то, когда рассказываешь, тогда только и начинаешь всерьез понимать, что ты пережил. Каждое событие как бы снова берешь на ощупь, и легче найти единую мысль. Ты не согласен?
— Я согласен. Вот поэтому я и слушаю тебя в четвертый раз.
— Фильмы ты можешь смотреть и по восемь раз и даже задом наперед. Это тебя почему-то устраивает.
— Нет… Но приходится. Тут нет выхода.
— Да, так вот… Пожалуй, я начну с того, как я ее встретил.
— Лучше начни с «до нашей эры».
— Хорошо. До нашей эры я решил жениться на судовом докторе. Ее звали Рита. Очень интересная была женщина. Она старалась никого не замечать на пароходе, а на ночь свою каюту закрывала на два оборота ключа, хотя это запрещено противопожарной охраной. Я бы, наверное, обязательно на ней женился, если бы обменялись с ней хотя бы двумя десятками слов. Она проплавала с нами три месяца, а мы так о ней ничего и не узнали. Честное слово, это бы была самая надежная жена в мире. Вот что было до нашей эры.
— Только и всего?
— Об остальном исторические архивы умалчивают… Я встретил Нину в аэропорту, мы вместе стояли в очереди за билетом. Ей нужно было в Киев, а я решил половину своего трехмесячного отпуска провести в Ялте. Мой самолет отправлялся через час, а самолет на Киев задержали. Я сказал: «Чтоб вам не было скучно ждать, остаюсь!» Ей это не понравилось. Любой бы девушке понравилось, а ей — нет. Она сказала, что я пижон. Через три часа мы вместе полетели в Киев. Она меня презирала. Ты бы видел, как она меня презирала! У нее фосфоресцировали глаза. Но я держался стойко заданного курса. Прости за морской оборот. Когда мы прилетели, шел дождь. Она нырнула в такси и уехала. Я один, без адреса, без номера телефона и даже не знаю фамилии. И еще — я первый раз в Киеве. Первый раз вижу, как цветут каштаны. Тогда я подумал: зачем мне Ялта? Почему моряк должен ехать отдыхать к морю? Разве Киев плохой город? И я отбил себе место в гостинице и стал шляться по улицам. Я ее увидел возле рынка, он называется «Бессарабка». Она стояла с высоким человеком в очках и покупала цветы. «Привет», — сказал я и понял: это судьба. В таком большом городе нельзя просто так встретить человека. И когда я это понял, то тут же сказал: «Говорите быстро, где живут ваши родители?» Она рассмеялась и познакомила меня с этим типом…
— В тот раз типа не было, — сказал я. — В прошлый раз она была одна.
— Вот видишь. Значит, я тогда его сократил… Теперь вспомнил. Впрочем, он и сейчас нам не нужен, потому что это был ее дядя. Ты знаешь, когда он узнал впоследствии, что я хочу на ней жениться, он сразу спросил: «А квартира?»… С тех пор я с ним не в ладах.
— Ну, а у тебя была квартира?
— У меня была комната в нашем моряцком доме. Знаешь, такой зеленый, неподалеку от порта? Я приходил из рейса и не знал, что там у меня, в этой комнате. Иногда она пустовала целый год… Пустые комнаты моряков. Если хочешь знать, это целая тема для исследования. Дома тоскуют по своим хозяевам. Кажется, что-то близкое этому написано на доме Колумба… По-моему, так: «Дом ждет своего хозяина». Это можно написать только на жилье моряка… Так вот, я прожил в Киеве все три месяца отпуска. Меня полюбили ее родители, тихие, скромные служащие строительного ведомства. Меня полюбила и она, и мы поженились. Она приехала в наш город и там поступила в «иняз». Нам очень весело было жить, пока я плавал в каботаже или уходил в короткие рейсы. Мне не нужно было сдавать экзамена на стармеха. Как только я его сдал, меня сразу кинули на «Перов». И нам пришлось расстаться на долгое время… Но объясни мне, зачем молодой женщине, закончившей «иняз», идти в дальнее плавание?
— Ты ведь сам объяснил: обрести опыт переводчицы.
— Возможно… Но она совершает ту же ошибку, что совершила моя мать. Она кинулась за своим мужем на фронт, она настояла в военкомате, чтобы ее взяли на войну. Дело в том, что она верила и убедила себя, что обязательно встретит своего любимого на войне. А война оказалась такая большая и так много было на ней людей, что вероятность встречи сводилась практически к нулю. Вместо мужа она встретила лихого комбата, который и стал моим отцом. Честно говоря, в этом смысле мне не на что пожаловаться.
— Ты хочешь сказать: она уходит в море, чтобы найти тебя?
— Умница. Ты стал догадливым. Она устала ждать, и она поверила: мы можем встретиться в океане. Когда смотришь на карту у себя дома, то этот самый океан может показаться не таким уж большим. Впрочем, как и весь земной шар.
— Ты тоскуешь по ней?
— Я не тоскую. Я просто не могу без нее жить. Поэтому я и сойду на берег…
Мы шли на малых оборотах, делая не более восьми узлов, — так должны мы были плыть, пока не притрется поршень; нас качала мертвая зыбь, тяжкий воздух тропиков висел над пароходом, луна вышла из-за туч и взлетала за фальшбортом так, будто была подвешена на резинке; мы пили холодное консервированное пиво, и Леша говорил о любви.
«Здравствуй, дорогая, милая мама! Я толком не знаю, когда придет к тебе это письмо, я отправляю его из Веллингтона. Но, говорят, только один раз в месяц оттуда забирают нашу почту, да и то сначала она летит в Австралию, а уж потом в Советский Союз… Здесь начало лета, а Высоцк наш, конечно же, укрыт снегом. Знаешь, ма, а у моряков иногда возникает сильная тоска по родным местам, и теперь я точно знаю, как она начинается. Как это ни странно, но чаще всего она приходит во время работы. Стоишь на мостике, смотришь в море, и вдруг в памяти всплывает какой-нибудь уголок города. Нет, не обязательно Высоцка, важно, чтоб этот уголок был связан с чем-то близким тебе, и вот он возникает в памяти во всех подробностях, даже вспоминается, какая была погода, когда ты был там в последний раз: если осень, то палые листья на асфальте и их запах — банных веников, все до мелочей, и нестерпимо хочется очутиться в том самом месте, а перед тобой — море, только оно одно, и потому, наверно, несбыточным начинает казаться твое желание, — вот с чего начинается тоска, и ты даешь себе слово: как только придем домой, немедленно посетить то причудившееся тебе место, но тут же вспоминаешь: такое слово уж давал однажды, да разве найдешь хоть минутку свободного времени, когда прибываешь в порт. Но ты, ма, не очень пугайся, тоска эта как и приходит нежданно, так же внезапно и покидает тебя, но все, что дорого тебе на берегу, остается и бережно хранится в памяти.
И еще я тебе в этом письме напишу о маори, как ты просила, чтоб могла рассказать в школе своим ученикам. Ну, слушай, моя милая учителка. Я встречал этих ребят в Окленде и Веллингтоне, и у нас на пароходе живет их небольшая группа. Это красивые ребята со светло-коричневой кожей, есть среди них кудрявые, а есть и просто длинноволосые, но все широкогрудые, с короткими шеями, в большинстве своем они образованны, и новозеландцы гордятся: у них равные права с белыми и в правительстве есть министры-маори. А вообще-то они полинезийцы, ну, это ты наверняка знаешь, и прибыли они на Ново-Зеландские острова где-то в начале второго столетия нашей эры. Я познакомился на пароходе с одним профессором из Брисбена, стал расспрашивать у него про полинезийцев. Так вот, он говорит, что не согласен с Туром Хейердалом, что полинезийцы выходцы с Нового Света, и путешествие его на плоту Кон-Тики ничего, мол, не доказывает, кроме того, что такие путешествия возможны. А профессор верит, что некогда в Тихом океане был могучий материк под названием „Пацифида“, и остались от него Полинезийские острова; между прочим, геологические доказательства этому есть. Я не знаю, кто из них прав, может быть, Тур Хейердал, а может быть, те, кто верят в легенду о затонувшем материке, мне никогда в этом все равно не разобраться… Ма, а может быть, отец был прав, когда говорил, что и ты виновата в том, что он стал моряком? Ведь учительница географии…
Ну, слушай дальше. Маори, оказывается, были отличными воинами. Почти тридцать лет англичане не способны были их покорить, хотя главным оружием маори было копье, а огнестрельное они добывали у тех же англичан. Они селились деревнями, создавая нечто вроде маленьких крепостей, окруженных бревенчатым частоколом; селились большей частью на глинистых землях и в них вырывали пещеры и подземные ходы, но жили в домах. Когда англичане обрушивали огонь на деревню, маори покидали ее по подземному ходу, — это была их тайна, а когда опасность миновала, они возвращались и восстанавливали свое селение.
У них было много богов, но все они рождены великими божествами Небом и Землей, которые когда-то были нераздельны и потому вокруг в мире царила тьма, но дети их — боги — сумели поднять Небо над Землей и пропустить свет. Самый любимый из богов маори — Мауи, младший из сыновей, проказник и забияка; его изображают трехпалым, склонившим набок плутовскую головку с высунутым языком, — я купил тебе такого деревянного с нашейной повязкой; говорят, помогает сохранять веселое настроение.
Вообще-то Мауи хоть и весельчак, по ему все давалось нелегко. Когда у людей погас огонь, он решил его добыть у своей тетки, которая жила в подземных пещерах. Сначала он обхитрил ее, и тетка догадалась, в чем тут дело, едва-едва не сожгла его, и если бы не Небо, обрушившее сильный ливень, то Мауи вряд ли бы спасся. Но однажды он замахнулся на самое великое — на Смерть, решил проникнуть в подземное царство и уничтожить ее. Он взял в помощники маленьких птиц и на закате дня отправился в путь. Они долго двигались через горы и моря, пока не достигли входа в подземное царство. Богиня спала на своем каменном ложе. Тогда Мауи, зная веселый нрав своих спутников, сказал им: „Только не вздумайте хохотать, когда я начну спускаться в чрево этой древней особы. Вот когда вылезу, хохочите, сколько душе угодно“. И птицы пообещали ему сделать это. Мауи привязал копье свое к руке, снял одежды и только было собрался полезть в чрево к богине, тряхнул ногой, чтоб освободить ступни от пыли, — это было так смешно, что птицы с трудом удержались от смеха, но маленькая мухоловка все-таки не выдержала и рассыпалась громким смехом. Старуха проснулась, поднялась во весь рост и дунула на Мауи огнем и смрадом и убила его. Если бы этого не случилось, то перестала бы существовать на земле смерть — смех маленькой птички мухоловки лишил людей бессмертия.
Это красивая земля, ма, очень красивая, с холмами, прозрачным воздухом, чистой далью, но сонная скука витает над ней, потому что нигде, пожалуй, не живут так отъединенно люди; они возятся на своих фермах и редко общаются, они слишком залезли в свое одиночество, хотя всю жизнь говорили о свободе… Вот пока и все. Если эти сведения помогут тебе в чем-то, я буду рад…»
Стояло полное безветрие, такого штиля я не видел давно. Мы зашли в залив и ошвартовались у небольшого причала; пассажиров сразу же увезли на автобусах по шоссе, и команде разрешили сойти на берег. Юра вышел весь в белом, в очках с золотистой оправой; это были лучшие его очки, и он ими гордился. Сначала мы большой компанией поднялись по дороге на холм и с высоты увидели весь залив; он был зеркальным, в нем отражались зеленые холмы, тихие домики, и пахло здесь земляникой. Потом так случилось, что мы вчетвером оказались на опушке леса; здесь росли сосны, самые настоящие красноствольные сосны, такие же, как в Подмосковье. Мы стояли, наслаждаясь знакомыми запахами и тишиной; я зажмурил глаза, подставив лицо лучам солнца… Оля бежала по траве, длинноногая, колени ее были порезаны осокой, она бежала мне навстречу и кричала о любви… Я очнулся от толчка в бок. Юра кивком головы указал мне на тропу, уходящую в лес; по ней шел Нестеров, свободно и легко обнимая за плечи Нину.
— Я его ненавижу, — прошептал Юра и указательным пальцем нервно поправил очки.
— За что? — спросил я.
Он повернул ко мне красное, потное лицо, его тонкий нос с вмятинкой на кончике был весь усеян каплями. Он сказал зло:
— За крокодила. Он не имел права сдавать его в зоопарк.
— Почему?
— Друга не предают, за друга борются, — выпалил он и гордо отвернулся.
А они все уходили и уходили по тропе, и стволы красных сосен скрывали их от нас.
Глава третья ДВОЕ ИДУТ ПО ТРОПЕ
Третий день дул сильный ветер, приносил с собою то дожди, то мокрый снег; скорее всего, он прилетал с берегов Антарктиды, с Южного Ледовитого океана, он гудел в снастях и поднял на море большую волну, которая все время меняла свое направление: то била по носу, то обрушивалась на правый борт, то на левый. Шел затяжной, изматывающий душу шторм. Пассажиры притихли от качки, редко кто сидел на палубе, да и в салонах было не очень много людей, в такие штормы пассажиры стараются не выходить из кают. И в экипаже было уныло; это ведь только считается, что морякам шторм нипочем, а на самом деле нет на свете таких людей, чтобы не укачивались, только обнаруживается это по-разному: одни становятся раздражительными, другие обретают неимоверный аппетит, третьи способны спать круглые сутки, — в общем, форм проявления морской болезни множество, просто у моряков принято их скрывать, и все же скрыть невозможно, и именно поэтому вот в такие штормовые дни, когда люди ощущают, порой подсознательно, свою слабость перед свирепостью природы, свое рабство перед ней, и случаются всякие, большие и малые, неприятности, и я всегда настораживаюсь, во мне как бы срабатывает сигнал: «Внимание!» Может быть, это тоже одна из форм морской болезни, ведь многие называют и такой симптом, как подозрительность.
Говорят, в прежние времена, когда море бороздили прекрасные парусники, битва с океаном приносила удовольствие мореплавателям, и в штормовые дни они азартно демонстрировали перед стихией свое искусство судовождения. Но я еще не встречал моряка, который любил бы штормы, да и как можно любить скверную погоду, в которой всегда таится угроза судну?.. Лука Иванович просто раздражался в штормовые дни и почем зря честил небо и ветры. Шторм увеличивает расход горючего, уменьшает скорость да и вообще может принести много иных убытков, а судно в наши дни — хозрасчетная единица, как говорят бухгалтеры, и вообще это транспорт для перемещения грузов и людей, и у этого транспорта есть свой план, есть себестоимость морских перевозок, есть показатели рентабельности, — в общем, все то, что называется экономикой судна, и от нее никуда не денешься.
Да, затяжной шторм — скверное дело; когда грузовое судно находится в плавании уже месяца два и вдруг попадает в открытом океане в полосу непогоды, и она длится неделю, вторую, третью, а вокруг — водная пустыня, взъерошенная ветрами, ни огонька по ночам, ни тени другого корабля на бесконечно удаляющемся туманном горизонте; фильмы, что взяли с собой, двадцать раз просмотрены, все истории рассказаны, все книги в судовой библиотеке перелистаны, читать их нет желания, только вахта по четыре часа через восемь да поспешная еда в кают-компании, — и вот тут-то начинается испытание человека на человеческое, мало ли что может прийти в голову от бесконечной качки и бессилия перед природой, рождающего необоримую тоску. Можно увидеть товарища по плаванию совсем в ином свете, чем видел его прежде; вдруг замечаешь, что он неприятно сопит над тарелкой или у него скверная привычка покусывать ногти, и этих вот мелких подробностей иногда хватает, чтобы его невзлюбить. Но случается с людьми и худшее…
Моим соседом на «Перове» был второй помощник Игорь Санаев, молчаливый, хмурый человек. Лет ему было уже за тридцать, он делал все не спеша, аккуратно и славился своей точностью, за что Лука Иванович относился к нему с особым уважением. И вот однажды в шторм, в лунную ночь, когда море колыхалось, озаряемое бесчувственным бледно-голубым блеском и тупая влажность тропиков не давала команде уснуть, я услышал за стенкой вой, так на окраине нашего городка иногда начинает скулить собака. Я вошел в каюту Санаева — дверь в нее была открыта — и при лунном свете, льющемся сквозь иллюминатор, увидел сначала расплывчатое очертание спины, а потом разглядел: Игорь лежит, вцепившись руками в подушку, и проборматывает одно слово. Сначала я не понял, что именно он произносит, а когда вслушался, то различил: «Гоша…»
Я знал, как и другие на пароходе: Гоша — имя его сына, которому не так давно исполнилось пять лет; событие это мы торжественно отмечали. Я испугался, подумал: он получил какие-нибудь скверные известия из дому; подошел к нему, тронул за влажное от пота плечо; он с трудом повернул ко мне лицо.
— Обожди, — сказал я, — зажгу свет.
— Не надо, — попросил он и заплакал, более не сдерживая себя.
Я подождал немного и спросил:
— Что случилось?
И вот тут он начал бессвязно говорить о том, что не видел сына почти два года, парень вырастет без него и не простит ему этого, да и какой он сейчас, Игорь толком не знает… Этот здоровый мужчина облизывал слезы с верхней губы, сам похожий на мальчишку, и бормотал о том, что вырос без отца, знает, как это тяжко, а вот от этой же участи не уберег сына.
Он выплакался и заснул, а я пошел к Луке Ивановичу. Тот не задумываясь приказал начальнику радиостанции запросить, как состояние здоровья Гоши. Ответ пришел днем; из дому Санаеву сообщали — все хорошо, сын здоров и помнит о нем. Но радиограмма не помогла, несколько ночей подряд за стенкой своей каюты я слышал глухой вой.
— Это пройдет, — хмуро говорил Лука Иванович, — тяжко… но ничего.
И он тут же решил — надо дать Санаеву отпуск, как только придем в порт.
— Пора парню… пора. Нельзя так долго плакать…
Пришли в порт, стояли под погрузкой дней пять, Сипаев сошел, а за день до отхода явился на судно вместе с женой и сыном. Тут же стало ясно: в отпуск он не идет, ему хватило тех дней, что пробыл он на берегу: успокоился, пришел в себя и забыл, что было с ним ночью в тропиках…
Наблюдая его, я думал об отце, думал, что, возможно, и на него накатывала злая тоска по дому, и он страдая, вспоминая меня, — ведь, случалось, я не видел его год, а потом, когда эта встреча происходила, то все свершалось так мимолетно, что я не успевал как следует вглядеться в человека, который был мне одним из самых близких. Размышляя об этом, я стал понимать те неожиданные, страстные радиограммы, которые вдруг приходили откуда-нибудь из южных широт Атлантики или из Индийского океана, неизменно начинающиеся словами: «Безмерно любимые и родные мне…», и мама, получив такую радиограмму, несколько ночей плакала, и мне в эту пору становилось тяжко, хотя я и не мог еще осознать, почему. Так вот, душевные томления одного человека, затерявшегося где-то в водных просторах земного шара, вызывали беспокойство в других людях. Мама моя как-то назвала все это «взаимосвязью сердец», наверное, это так и есть; впрочем, она знала это хорошо, и ей можно верить.
Да, скверная штука — затяжные штормы, хотя на пассажирском судне все выглядит иначе, чем на сухогрузе: здесь человек редко остается один — слишком он в делах во время плавания, но и тут возникает период душевных тревог, смешанных с унынием, и потому-то в штормовые дни надо быть особенно настороже…
Удар пришелся по Юре.
Ник-Ник созвал командирское совещание: по сути дела, это было первое серьезное производственное совещание после прихода нового капитана на судно, и выбрал он тему для разговора очень точную: экономия.
В кают-компании сидели все офицеры, свободные от вахты, пришли в форме, умытые, прилизанные и, когда заговорил Ник-Ник, сидели не шевелясь. А он стоял перед нами высокий, произносил слова негромко, ни на кого не глядя, куда-то в пространство, а потом, когда закончил и я взглянул на часы, то удивился: вся его речь заняла семь минут, а успел он наговорить так много, что нашим службам в этом придется разбираться несколько дней.
Он сообщил, что обеспокоен некоторыми показателями судна и особенно режимом экономии: слишком щедро расходуется вода, много бьется посуды в ресторане во время качки — видимо, официанты плохо обучены работе в таких условиях, — это все были крупные замечания. А Юра копался, казалось бы, на мелочи. Ник-Ник сказал, что вот сейчас придется за валюту покупать бумажные стаканчики для питьевой воды, потому что их не запасли достаточно в своем порту, хотя дело это пустяковое.
Все на совещании сидели, слушали и, как говорится, мотали на ус, зная, что Ник-Ник пока предупреждает, а потом уж надо будет все обдумать и прийти к нему с какими-то предложениями, если они появятся. И никто не тянул за язык Юру. Но когда Ник-Ник закончил, Юра вдруг очень заволновался и, нервно поправляя длинными пальцами очки, попросил слова; тут же вскочил и стал объяснять, что бумажные стаканчики, за которые он отвечает, было невозможно выбить в порту, ему всюду отказывали, и он запутался в резолюциях. Юра очень нервничал, и поэтому понять его как следует было трудно. Ник-Ник терпеливо слушал, мне даже показалось, что в глазах его появилось любопытство, веселое любопытство, которое я однажды наблюдал у него, когда он непреклонно приказал Нестерову расстаться с крокодилом.
Когда Юра закончил, Ник-Ник все еще молча разглядывал его, и я видел, как под этим взглядом у Юры тонкий нос стремительно покрывается мелкими каплями пота.
— Вы какой институт закончили? — мягко спросил Ник-Ник.
— «Иняз», — ответил Юра, это прозвучало у него гордо.
— И решили стать моряком? — кивнул Ник-Ник, причмокнув губами; непонятно было: то ли он одобрял Юру, то ли презирал. — Считать, конечно, вас в «инязе» не учили. Ну, а если бы вы занялись арифметикой, то поняли бы — сейчас каждый стаканчик вам стоит столько, сколь ко бутылка лимонада. Вот и выходит: мы всех снабжаем по вашей милости бесплатным лимонадом… — Он замолчал; я уже говорил, что была у него такая манера — делать затяжную паузу перед решающим словом.
На Юру было жалко смотреть. Он впился глазами в Ник-Ника, напряженно ожидая капитанского заключении, по тут неожиданно прозвучал голос совсем иного свойства:
— А объясните мне, товарищ Тредубский, по каким причинам два дня стояла пассажирская прачечная?
— Но… — смущенно пробормотал Юра, — простите механик…
— А разве вам не сказали, что прачечная в вашем ведомстве, как и остальные бытовые помещения для пассажиров?
— Конечно… Но…
— Вот что, товарищ Тредубский, вы не переводчик. Вы пассажирский помощник… Прошу вас: ознакомьтесь серьезно с вашими обязанностями, иначе… — Он не договорил, обвел всех глазами и спросил: — Кто-нибудь еще хочет выступить?
Все молчали, никто не решался больше заявить о себе, но это не смутило Ник-Ника.
— Очень хорошо, — сказал он спокойно, — не будем тратить время на разговоры, но я бы хотел, чтобы все поняли: для нас режим экономии не пустые слова.
Такого короткого командирского совещания я еще не знал.
Я догнал Юру возле трапа и увидел, что он бледен.
— Конец, — прошептал он, — меня невзлюбили.
Тут я понял, что Юру нельзя сейчас оставлять одного, и сказал:
— Идем к тебе, там поговорим…
Если пройти по каютам командиров, то вряд ли найдется хоть одна, похожая на другую; вообще-то почти все каюты стандартные, и все же, после того как в них поселяются люди, они меняются и обретают самый неожиданный облик. Почти в каждой каюте есть кровать, диван, письменный стол, умывальник или душ, но это обстановка, а лицо каюты — в ее убранстве; есть каюты хмурые и задумчивые, есть веселые и смешные, есть высокомерные, у Юры каюта растрепанная. Если вглядеться, то каждая вещь здесь имеет свое строгое место, то есть существует какой-то постоянный порядок, и все же удивляет беспорядочность, потому что вещи размещены так, словно каждую из них поставили случайно. Магнитофон — под столом, от него тянутся провода через весь подволок к стереофоническим колонкам — одна из них возле умывальника, другая над диваном; пластинки, кассеты для магнитофона, книги лежат на полу стопкой возле шкафа, на стенах рекламные плакаты с изображением Дакара, Сувы и испанской корриды.
Юра открыл холодильник, вынул оттуда апельсиновый сок, который выдавали нам вместо тропического вина, и разлил по фужерам.
— Я еще раньше почувствовал, — сказал он, тяжело сглатывая. — Он меня невзлюбил… Он смотрит на меня и усмехается. А я от этого перед ним делаюсь маленьким… не знаю, куда деваться. Понимаешь, даже презираю себя… Ну почему он так меня сегодня стукнул? И при всех… Думаешь, не обидно?.. Да и вообще, считай, он меня предупредил…
Я еще никогда не видел его таким; он не на шутку испугался, мне даже показалось — у него дрожат губы.
— Знаешь, — сказал я ему, — ну чего ты так боишься? А?.. Ну, даже если тебя спишут, то, честное слово, никакой трагедии нет. Пойдешь работать учителем. Ты ведь ка него готовился. Моряком стал случайно… Это не то что мне — деваться некуда после мореходки. У тебя профессия земная.
— Ну вот, — кивнул Юра, — и он на это намекнул. Мол, я случайный. Теперь — ты… Да если так судить, то, кроме вас, штурманов, на пароходе все случайные. А если хочешь знать, то я, может быть, больший моряк, чем ты.
— Это каким образом? — удивился я.
— А очень простым… Для меня море как подарок судьбы… Это вы все практики, у вас все рассчитано. Сначала помощники, потом старпомы, потом… Вы — деловые люди. Вот и все. Конечно, море для вас — профессия. А я моряк, потому что для меня море больше чем профессия… Ты это и не поймешь.
— Конечно, — согласился я.
— Вот, усмехаешься… А Лука Иванович сразу все понял, поэтому и перевел меня из переводчиков в помощники.
— Что же он понял?
— А то, что я моряк… Теперь куда я отсюда денусь?.. У меня жизнь остановится, если он меня отсюда спишет! — Он произнес это и невольно всхлипнул, узкие плечи у него вздрогнули, и я понял, что он и в самом деле готов заплакать от огорчения.
Тут я попытался представить его мальчишкой в школе. Раньше я как-то не задумывался: а каким Юра был прежде, на берегу, а тут попытался представить и увидел худощавого мальчика с острым носиком, в очках, над которым все посмеивались на уроках физкультуры, потому что он не мог как следует подтянуться на турнике; его, наверное, лупили портфелями после уроков, кричали ему: «Слабак!» — а он втайне мучился. Вот когда я все это представил, то сразу сумел его понять.
— Послушай, — спросил я, — а тебя правда здорово били в школе?
— А ты откуда знаешь? — удивленно сказал он.
— В мореходку ты подавал?
— Нет, я знал, что меня не примут… Это мне потом повезло. При распределении. Пароходство запросило несколько переводчиков. В мореходке пассажирскую службу вообще не готовят.
— Думаешь, повезло?
— Еще как!.. Ты бы видел, как я в новенькой форме по улице прошел. Ты бы видел, как вся эта шпана смотрела на меня, разинув рот. «Откуда, Юра?» А я кричу: «Из загранки…» И конечно: «Почем там джинсы?» А я им: «Барахлом не интересуюсь. Про маги могу рассказать… А тряпки — это мимо». Можешь себе представить… Да и вообще, я тут мышцы нарастил. Верно?
— Верно, — согласился я. — Только тебе еще надо купить гантели.
— У меня есть, — сказал он, — вон, под кроватью… Я занимаюсь, правда, не на палубе.
— Ты железный парень, Юра, — сказал я. — Все; кто занимается зарядкой, — железные парни.
— А ты примитивный циник, — сказал он. — Все, кто плывет по течению, становятся циниками.
— Это кто сказал?
— Это я сказал. — Юра гордо повел носом в сторону иллюминатора; там то возникало небо, то обрушивалось вниз, и вырастала стена морской воды; Юра помолчал и добавил: — И еще капитан Родригес.
Я напряг память, но не смог вспомнить среди великих капитанов такого, поэтому на всякий случай спросил:
— Пират?
— Ну вот, я так и знал, что покажешь свое невежество. Знать капитана Родригеса — для моряка даже не обязательно быть эрудитом… Я был с ним знаком.
Только что Юра находился на грани отчаяния, паника была написана на его лице, но стоило мне дать ему даже эту маленькую возможность утвердить себя, как он тут же преобразился.
— Он был человеком долга, — сказал Юра. — И еще нашим соседом…
— Ну, тогда он действительно был велик…
— Если я тебе расскажу о нем, то ты будешь потом стыдиться своих слов, — надменно сказал Юра.
Я обрадовался, что он ушел от тревог, и попросил:
— Расскажи.
— Только одну историю… А когда-нибудь подробно и все остальное. Это про долг… Понимаешь, во время испанских событий в одна тысяча девятьсот тридцать шестом году капитану Родригесу дали задание перевезти в Союз испанских детей… ну, и еще кое-кого… Пароход благополучно миновал Гибралтар и вышел в Средиземное. Но вот что интересно. Маршрут парохода никто не знал. Карты хранились в каюте Родригеса, и штурманам на мостик сообщался только курс. Так опасались, что фашисты могут напасть… Рядом были берега Италии, и оттуда свободно могла выйти подводная лодка или другое судно… И вот тут случилась такая история. Однажды Родригес вышел га палубу и увидел женщину. Она была так ослепительно красива, что он, пылкий капитан, сразу же в нее влюбился. Он влюбился безумно. Он пригласил ее к себе в каюту на ужин. Капитан совсем потерял голову, и когда женщина его спросила: «А где мы сейчас находимся?», то Родригес назвал место… А утром на горизонте они увидели фашистское судно, оно шло им наперерез. Родригес изменил курс и сумел уйти. Но у него возникло подозрение. И он снова назвал место движения судна этой женщине и приказал радистам быть внимательными. Ночью радисты перехватили сигналы, идущие с их судна, хотя расшифровать их не смогли. Капитан взял двух матросов, ворвался в каюту к этой женщине и обнаружил у нее небольшой передатчик. Она действовала им, выставив антенну в иллюминатор… Оказалась шпионкой. Что, по-твоему, сделал Родригес?.. Он связал ее и выбросил за борт. Но капитан Родригес так был влюблен в эту женщину, что поседел за ночь… Вот что такое долг, Факир. Но я сказал — ты этого не поймешь.
Я все понял, я тоже в свое время наслушался рассказов от моряков, в которых теряется ощущение, где выдумка, а где правда. Во время долгих плаваний сочиняются и не такие повести о небывалых капитанах, но иногда я думаю: а может, все-таки когда-то так и жили моряки?
— Для меня море — долг, — сказал Юра. — И это всерьез…
— Может быть, — сказал я, задумавшись.
Он налил еще нам в фужеры апельсинового сока, бросил в него по брусочку льда и совершенно неожиданно, в силу каких-то своих не высказанных вслух ассоциаций, брякнул:
— А Нине я этого не прощу!
Я удивленно посмотрел на него:
— Ты о чем?
— Знаешь, о чем, — сказал он и подмигнул.
Честно говоря, мне не очень понравилось это подмигивание, потому что я и сам в эти дни тревожно думал о Леше, — он оставался самым моим близким другом, хоть и плавал на «Перове», а где сейчас, это я не знал.
— При чем тут ты? — спросил я.
— При многом, — внезапно с озлоблением произнес Юра.
— Например?
— А без всяких примеров. — Он залпом выпил ледяной сок, закашлялся и кашлял долго, пока из-под очков его не потекли слезы.
Я устал от него и сказал:
— Пожалуй, я пойду.
— Нет, — попросил он, — посиди еще… Хочешь, послушаем музыку? Я недавно купил одну запись — австралийская легенда об аборигенах… вернее, о любви… Замечательная легенда… Дай-ка я ее поставлю.
Он запустил магнитофон, и мы стали слушать тихое пение. Легенда и вправду была интересной, слушал я ее с удовольствием и думал: все-таки странные вещи творятся с людьми в штормовую погоду.
…Мужчины племени спали на ложе из чайного дерева, женщины изредка поднимались к кострам, стараясь сохранить в них огонь. Юноша крался за кустарником, чтобы все время быть в тени ночи, тонкий, легкий, почти невидимый, как дух. Он нашел ту, которую искал, спящей в стороне от костра, легким движением руки разбудил ее и надел ей на голову ленту из коры камедного дерева — в этой ленте сила любви, таков обычай. Он показал ей жестом: «встань и иди», и девушка повиновалась; он двинулся вперед, она за ним. Они все дальше и дальше уходили от племени, не взяв с собой ни воды, ни пищи, не страшась ночи, над которой висела луна, и так они вышли на берег реки, где над водой вились синие призраки, обращенные в туман. Он никого не боится — ни зверя, ни духов, — у него копье, чудесное копье, которое он сам готовил для себя. Он вырезал возле реки дюймовый ствол молодого деревца джинди-джинди, держал его над пламенем костра, чтобы освободить от соков, потом на конце сделал глубокую выемку, вставил туда каменный острый наконечник, над которым долго трудился, обрабатывая его другими камнями, замазал воском диких пчел, перевязал корой бутылочного дерева, а потом стянул сухожилием кенгуру и опять замазал воском, — но копье еще не было готово. Он долго бросал его, проверяя, как летит, вращаясь, и подтачивал тупой конец — копье не должно вихлять при полете, не должно издавать звуков, а то кенгуру услышит их и сможет убежать; копье должно лететь бесшумно. Вот так он делал его, и теперь оно было не просто его оружием, а частью тела, продолжением руки.
Юноша и девушка останавливаются на опушке эвкалиптового леса, и она опускается на колени. Здесь сухая и теплая земля, корни деревьев так сильны, что они вытянули из нее влагу; девушка трогает ладонями землю и шепчет слова, славящие ее, — ведь они оба поклоняются, как богине, Матери-Земле…
А утром они идут через лес в обратный путь. До захода солнца они должны предстать перед судом племени; юноша нарушил закон — он похитил чужую невесту, он взял в жены не ту, что предназначалась ему со дня рождения, он похитил длинноволосую, очаровав ее и сам поддавшись ее чарам. Яркие лучи высветили лес, было сухо и жарко среди эвкалиптов, на тропах почти не образовывалось теней — узкие тускло-серые листья повернулись к солнцу ребрами, боясь ожогов.
Они вышли к своему племени и смиренно остановились у края поляны, ожидая суда. И он начался. Потоки ругани обрушились на двоих. Больше всех свирепствовали старики и старухи; они подпрыгивали, бранясь, приседали на корточки, а потом начали бросать комья грязи и камни. Женщины принялись за девушку, мужчины — за юношу.
Он ловок, он очень ловок, недаром он из тотема ящерицы, она была его предком, он в это верит, и он может владеть своим гибким и сильным телом, как это животное, и потому увертывается от ударов. Девушку таскают за волосы, бьют палками, но она тоже ловкая — ведь выросла у реки, где водятся крокодилы, она — аборигенка.
Судьи устают, им надоедает бить и ругаться; они садятся за еду и после заката солнца засыпают. А юноша и девушка лежат в разных концах территории, грязные, избитые, им надо дождаться утра, и тогда племя решит, отдать ли ее старому жениху или признать ее покровителем юношу. Луна встает из-за леса, юноша поднимается со своего позорного ложа, берет копье, подбирается к израненной подруге и знаком приказывает: «Иди». Он не хочет ждать решения племени, он больше ему не верит. Она поднимается, преодолевая боль, идет за ним; теперь она всегда будет шагать за ним тропой покорности.
Они снова идут вдоль реки, пересекают лес. Заходит солнце и снова восходит — начинается второй день их пути. По закону они должны вернуться в племя к концу первого дня побега, однажды уже они сделали это, но закон ничего не говорит о втором дне — значит, они свободны, племя не будет преследовать их.
Ударом копья он убивает кенгуру, острым камнем они разделывают тушу, он добывает огонь — долго, мучительно долго ударяя один о другой камни железняка и выбивая из них искру, которая воспламеняет растертую в порошок сухую траву, и на огне они готовят в первый раз для себя еду и, немного отдохнув после нее, снова отправляются в путь…
Они идут… по теплой земле, по жестким травам…
Крутилась кассета магнитофона, море неприветливо ворчало за иллюминатором.
От радистов стало известно — Лука Иванович прислал радиограмму, ему потребовались какие-то документы; из радиограммы стало ясно, что он снова принял «Перов». Когда я узнал об этом, то очень взволновался, остро захотелось оказаться там, на «своем» судне, среди прежних моих друзей, посидеть в каюте у Леши… Это же надо, чтобы так случилось — Лука Иванович опять капитан «Перова»! Видимо, он настоял на этом или же ему просто повезло. И я стал думать: может быть, и мне, когда вернемся в порт, сходить в «кадры» и попросить о перемещении? По я тут же понял: это невозможно, потому что когда мы придем домой, то неизвестно, где будет «Перов».
Лешка, Лешка, как бы нужно мне повидаться с тобой! И тут мысли мои вернулись к Нине… Почему я ничего не предпринимаю? Почему молчу? Надо хотя бы поговорить с ней, ведь я имею право на такой разговор, еще как имею — Лешка мне не чужой… Но что, что я должен сказать? Да ведь я и не знаю ни о чем… мне могло и привидеться… Странно все и непонятно…
Я часто думал: почему мы так сошлись с Лешей? Вроде бы нас разделял возраст и служебное положение — на флоте редко бывает, чтобы средний командир дружил со старшим, а мы так привязались друг к другу. Постепенно я понял: Леша напоминал мне отца — он тоже был стармехом и тоже у Луки Ивановича; но это лишь внешние совпадения, было нечто неуловимо близкое между Лешей и моим отцом, хотя тот был невысокого роста, с короткой шеей и тяжелой, с большими залысинами головой, а Леша, как я уже рассказывал, высок, худощав, с бородкой, но вот печаль в глазах была одна и та же и манера говорить — неторопливо, обстоятельно — тоже была сходной. Плавал мой отец с Лукой Ивановичем на стареньком пароходе «Устюг», котлы которого топились углем, — теперь уж таких нет, но тогда этот пароход казался мне роскошным, большим и приветливым.
Мы приезжали с мамой в порт его прихода по радиограмме и ждали у входа, справляясь через диспетчерскую, к какому причалу подойдет «Устюг»; тут же стояли другие жены моряков, с детьми и без детей, иногда под дождем, иногда под снегом. До сих пор мне непонятно, почему мы не могли ждать где-нибудь в сухом и теплом месте. Но бывало и так: мы приезжали, а пароход уже стоял у причала, и нас сразу вели в отцовскую каюту…
Я ее хорошо помню. Она казалась мне жильем необыкновенным, вся отделанная полированным деревом, со старинным столом и вращающимся креслом — мне очень нравилось сидеть на нем; а по стенам были развешаны фотографии разных экзотических уголков земли — вздымались вверх пальмы, лоснились будды, скалы нависали над тропами, — и можно было часами рассматривать эти уже старые снимки и представлять себя в тех странах.
Все поскрипывало у отца в каюте, и от этого становилось еще уютней; пахло кожей и машинным маслом — вот это я хорошо помню. Отец встречал нас всегда одетый во все очень чистое, разглаженное, веселый, только в складках крыльев его крепкого носа оставались несмываемые серенькие следы угольной пыли. Он неизменно подбрасывал меня вверх, даже когда я изрядно вытянулся, и я боялся, что стукнусь головой о подволок; но, прежде чем это сделать, он прижимал к себе мать, и так, обнявшись, они стояли долго, и я видел, как увлажнялись у отца глаза, а мать плакала у него на плече… Вообще она редко плакала — всегда считалась суровой женщиной, вид у нее был строгий — «учителка», и все же, когда мы выходили с ней по воскресеньям в наш городской парк культуры и отдыха, где в погожие дни всегда было полным-полно народу, я видел, как на нее с вниманием оглядывались мужчины — у нее была удивительная походка, она двигалась легко и спокойно, словно чуть-чуть приподнявшись над землей.
Бывало, мы жили у отца в каюте и неделю, вместе выходили в город, бродили по магазинам и кафе, сидели в кино, а по вечерам я лазил по пароходу, осваивая все его закутки, и то были самые счастливые дни моего детства. Потом обязательно наступал такой вечер, когда отец «делал стол» и приглашал Луку Ивановича. И приходил капитан в синем кителе с белым подворотничком, начищенными до блеска пуговицами, от него яростно пахло одеколоном, а в руке — будь зима или лето — букет цветов; он подносил их маме, склонялся и целовал ей руку.
Отец открывал бутылки с иностранными этикетками, и они выпивали первый тост за маму, и Лука Иванович благоговейно смотрел на нее. Я знал, меня в это посвятили, потому что я приставал с расспросами, — семьи у Луки Ивановича сейчас нет, жена ушла от него лет пять назад, не выдержав одиночества и вечного ожидания, у них была маленькая дочь, и жена, наново выйдя замуж, взяла слово с Луки Ивановича, что он не будет тревожить девочку, пока та не подрастет; так ей с новым мужем легче ее воспитать, а Лука Иванович слово дал.
Они выпивали и начинали петь, негромко, вполголоса, чтоб не очень было слышно на вахте; отец пел, закрывая глаза и сжимая тяжелые кулаки, низким, бархатистым голосом, а Лука Иванович скрещивал руки на груди и, поглядывая на маму, так тщательно и радостно выводил слова, будто пытался весь раствориться в песне…
Они никогда не ссорились; просто я не помню ни одной ссоры отца с матерью. Может быть, им удавалось от меня это скрывать, одно только я знаю — мать всегда говорила ему с упреком:
«Вернулся бы ты на завод… Да тебя там всегда… без разговоров…»
Отец объяснял ей, что на заводе он работал давно, еще до войны, а нынче он и оборудования заводского не знает… Но иногда мама говорила, когда мы возвращались домой: «Он скоро вернется к нам», и я понимал — у них был разговор, и отец пообещал ей: «Это последний рейс»; такое стало повторяться все чаще и чаще, но я чувствовал: мама и сама не верит, что отец навсегда сойдет на берег.
А о работе его я в то время почти ничего не знал, это мне Леша потом рассказал:
— То особая порода моряков была. Сейчас уж нет таких… Я немного их застал, одним глазом взглянул. Все они через кочегаров проходили. А уголек лопатой покидать целую вахту — большим искусством обладать надо. Грязные все ходили, как черти. Их так и звали — духи. А с водой всегда было туго. Выдавали литр на день. Хочешь — мойся, хочешь — пей. Говорят, умудрялись так: и пили, и мылись, и еще постирать оставалось… Но и считались с ними на флоте, очень считались. Заходят на пароход в макинтошах, шляпах. Шляпу — на манометр. «Давай, говорят, раздувай». Свой шик. После войны флот маленький был… Да почти его и не было. В каждом порту толпы моряков на биче сидели. Но стармехи все равно в дефиците… И еще — очень свой пароход берегли. Если авария какая-нибудь в море, обязательно до прихода в порт все рапы залижут. Ведь могут потом не выпустить. А другого парохода нет… Очень берегли свои суда, драили до блеска… Это сильные люди были. Можешь себе представить, что в тропиках делалось возле топки. Кондиционеров тогда и в помине не было. Вентиляция — не помощник… 11 стояли вахту, держали котлы под парами… Я перед таким механиком всегда склоняюсь. Труднее его работы быть не может…
Так рассказывал мне Леша, а отец старался о своих делах не говорить…
Потом наступил день, когда мы с мамой в последний раз поехали к пароходу, надо было забрать вещи отца. Лука Иванович мог бы их переправить нам, но мама захотела еще раз побывать в отцовской каюте, на пароходе, который и был настоящим его домом.
В каюту нас провел Лука Иванович, здесь стояли упакованные чемоданы, а все остальное вроде бы оставалось таким же, как и в прежние времена, как при отце, но все же каюта была теперь чужая, — я это хорошо почувствовал; мы сели рядом с мамой на диване, и я заметил — она опустилась на него бочком, как обычно это делала в незнакомых местах, словно стеснялась; и так мы сидели с ней долго, молча, оглядывая фотографии на стене. Я загляделся на одну из них, где изображен был маленький остров с тремя пальмами и бесконечное море вокруг него. Отец умер в тропиках, он упал с трапа, поднимаясь на мостик, и судовой врач определил у него разрыв сердца. Его похоронили в океане по морскому обычаю, и мы узнали о его смерти только спустя месяц. Лука Иванович не хотел давать нам радиограмму, он решил приехать к нам сам…
— Ты иди, а я еще посижу, — сказала мама.
Она хотела остаться одна, ей нужно это было, и потому я тихо встал и вышел… Была весна, был солнечный, слепящий день над морем, и, хотя еще кое-где у стен припортовых построек лежал снег, тепло разливалось над гладью залива. Матрос сидел в люльке и, медленно покачиваясь, красил борт парохода; он с удовольствием водил кистью и высвистывал песню. Это была песня о морской дружбе, я редко слышал, чтобы ее кто-нибудь пел, ее по большей части почему-то высвистывали.
Небо, море, солнце, веселый свист матроса не объединялись в моем сознании со смертью отца, мир вокруг был одним, а внутри меня существовало нечто иное — мрачное и тяжкое, и я не в силах был примирить это внутреннее с внешним; наверное, поэтому, почувствовав слабость, сел на одно из бревен, лежавших на причале… Не знаю, сколько я так просидел, но когда поднял голову, то увидел — солнца нет, оно зашло за дальние дома, стоящие на берегу залива, мать шла ко мне, а у трапа на палубе парохода появился Лука Иванович, внимательно посмотрел в мою сторону.
— Через час они отойдут, — сказала мать.
— Куда? — спросил я, хотя для меня это уже не имело никакого значения.
— В Мексику, — сказала она, и только сейчас я обнаружил, что голос у нее какой-то не свой: она произносила слова так, будто ей сдавили горло.
— Что с тобой? — тихо спросил я.
Она смотрела на меня молча; на какое-то время в ее больших светло-карих глазах появилось нечто похожее на слезы, но она сумела побороть их, оглянулась на пароход, взглянула на Луку Ивановича и теперь уже резко повернулась ко мне, сказав сухо, строго:
— Лука Иванович сделал мне предложение. Я обещала ему ответить сейчас же.
Поначалу я не понял, что означало слово «предложение», я воспринял его так, будто оно было выхвачено из школьной грамматики: «…выражающее законченную мысль», и долго смотрел удивленно на маму; видел теперь перед собой ее сухие, выжидающие глаза, и вот по этим-то глазам и догадался, в чем дело, а когда догадался, то нечто темное и мрачное, что поселилось во мне после известия о смерти отца, всколыхнулось, вызвав удушливый приступ злобы, и я отчаянно закричал:
— Нет!
Мне почудилось, что эхо отозвалось за портовыми складами и дальними домами, и тогда еще сильнее закричал:
— Нет!.. Нет!.. Нет!..
Мама испуганно метнулась ко мне, прижала мою голову к себе, и я задохнулся, не в силах больше кричать, но меня начало трясти, как в ознобе, и я не мог уже справиться с собой… Потом, когда я вспоминал этот день, вспоминал, как мама уводила меня с причала, то мне чудилось: я видел взгляд Луки Ивановича, и это был особый взгляд — в нем не было ни упреков, ни сожалений, ни боли, в нем было презрение, обращенное ко мне…
«Он опять на „Перове“, — думал я, — это ведь мое судно, и ребята там свои, и Лешка… Почему же я здесь?»
К вечеру ветер стих, открылись звезды в небе и повеяло теплом, стали видны береговые огни; мы шли Бассовым проливом к Мельбурну. Моя вахта начинается в двенадцать, я проснулся рано, оставалось мне до мостика еще минут сорок, и потому я вышел на палубу — подышать… Нина стояла перед шлюпкой, накинув на плечи куртку, и не слышала, как я подошел к ней; она стояла, обхватив своими длинными руками локти, и было что-то неуютное в ее позе, что-то колючее.
— Добрый вечер, — сказал я.
Она вздрогнула, быстро повернулась, и в глазах ее сразу же возникло разочарование. Я понял: ждала не меня. «Ну и напрасно, — подумал я, — он еще на вахте…»
— Ты стала меня избегать последние дни, — сказал я.
Она отвернулась и сделала вид, что ее интересует мигающий вдали береговой маяк.
— Напрасно так думаешь, — ответила она. — Просто очень занята. Полно дел с пассажирами. Да еще самодеятельность… На мне танцы, ты знаешь.
Да, я знал, что она репетирует с официантками ресторана танцевальные номера самодеятельности, а у нас на пароходе придавали этому большое значение, потому что самодеятельность выступала перед пассажирами и все этим гордились. Мне не понравилось, как она отвечала, послышались в ее голосе нотки высокомерия, и вот тогда-то я неожиданно спросил:
— Ты давно не получала вестей от Леши?
— Сегодня, — сказала она своим ровным голосом, словно заранее ждала моего вопроса. — Идут на Кубу.
— Лука Иванович там. Знаешь?
— Знаю… Они стали на линию, сделают несколько рейсов.
— Ну и что? — спросил я.
— Ничего, — ответила она. — Просто мы можем их встретить, когда пойдем к Канарским островам.
«Вот оно что!» — подумал я, но тут же усомнился: как она могла это рассчитать? Впрочем, если знать наше расписание и время в пути «Перова», то рассчитать не так уж трудно; ну, конечно, ей помог Нестеров…
— Ты ведь мечтала о такой встрече, — сказал я. — Когда-то мне Леша говорил — ты ради этого ушла в море.
Она медленно повернулась ко мне, я видел ее лицо, высвеченное тусклой лампой, вмонтированной в подволок. Вообще это место на шлюпочной палубе было глухим, и освещение здесь было скверное, но я все же разглядел грусть в серо-голубых глазах и вместе с ней — тревогу; я тут же подумал: ей очень хочется поговорить со мной о Леше, но теперь она боится меня, потому что я знаю о Нестерове. Но я ошибся в своей догадке — ничего и никого она не боялась.
— Тебе не нравятся мои отношения с Нестеровым? — спросила она своим обычным ровным голосом.
И тогда я заметил — никакой грусти в ее глазах нет, это я все напредставлял себе, скорее, в них была насмешка. И я рассердился.
— Я в это не лезу! — сказал я.
— Лезешь, — ответила она подчеркнуто спокойно. — Ты об этом думаешь, и тебе это не нравится — я видела по твоим глазам.
— Ну, мое дело, — хмуро сказал я.
— Нет, — она поправила сползающую с ее острых плеч куртку, — это не только твое дело. Ты дружишь с Лешей. И захочешь высказать ему свое отношение.
«Это же надо быть такой занудой!» — подумал я. Вообще, когда Нина пыталась кого-то в чем-то убедить и при этом внутренне раздражалась, она становилась до того скрипуче дотошной, что я этого не выдерживал.
— Я ему все равно выскажу свое отношение, — сказал я сердито.
— Не сомневаюсь, — кивнула она. — Но для того, чтобы иметь отношение, надо хоть что-то знать.
— Леша тебя любит, — резко сказал я. — И верит тебе. Это я видел на «Перове». И вообще, мне бы было все равно, если бы не он… Ясно тебе?! — И тут я крикнул: — Нельзя его предавать! Не такой он парень. Вот!
Она смотрела на меня застывшими глазами, внезапно что-то ослабло у нее внутри, плечи вздрогнули, обмякли, куртка сползла с них и упала на палубу. Нина некрасиво сморщилась, прижала ладони к лицу и всхлипнула… Я растерялся и тут же понял: все у нее было — и грусть, и тревога, только она постаралась прикрыть их этой своей занудной холодностью, постаралась, но не выдержала… Мне стало жаль ее.
— Ну что ты, Нина… — проговорил я.
И в это время до слуха моего донеслись три коротких сигнала по спикеру — мне пора было идти на вахту…
— Мы потом, — сказал я ей быстро, — мы еще поговорим… — и пошел к трапу, ведущему на мостик.
Я поднимался и думал: ну зачем я в это встреваю?.. Я все равно не смогу разобраться. Один раз ведь в своей жизни я уже крикнул «нет», на весь порт крикнул, на весь город, на все море, на весь белым свет; так неужто тот злой запрет ничему не научил меня?..
Они идут вдоль реки, пересекают лес, заходит солнце и вновь восходит, они идут по теплой земле, по жестким травам, — двое, нарушившие закон племени и открывшие свой… двое идут по тропе…
Глава четвертая КОСТРЫ НА МАЛЕНЬКИХ ОСТРОВАХ
Уходят берега и возвращаются, и только когда ступаешь на землю, то всерьез обнаруживаешь, как много времени прошло в море, как изменилась природа на суше под лучами солнца. Пейзаж на берегу стабильней, прочнее, чем в море; иногда он сохраняется на века, и только какая-нибудь катастрофа может сдвинуть горы или уничтожить леса. А в море перемены постоянны: еще вчера вздымались ввысь черные холмы и ветер завихрял на их вершинах белые, пенистые брызги, а пароход наш шел, разрезая валы, и сам содрогался от напряжения, а теперь за бортом плеск волн легок и приятен, и цвет моря глубинно-фиолетов, стайки летающих рыбок вспархивают вверх, они возникают из воды стремительно, не оставляя на ней кругов, распустив радужные крылья, летят по дуге и неожиданна уходят в воду, но теперь не с такой аккуратностью, как совершали взлет, а обязательно чиркнув всем телом по волне, и небо чисто и открыто, но может пройти час, два, и все снова сменится. Нет, не обязательно, чтоб налетел шквал, но и хорошая погода бывает многих цветов и оттенков.
Я часто размышлял об извечной текучести природы, стоя на мостике и наблюдая, как это происходит; море всегда в переменах, и миг единый не похож на другой; неповторимую красоту какого-нибудь заката или восхода можно видеть только в эту данность, в следующую ее уже не будет, она разрушится или заменится иной, а полностью насладиться красотой мгновения возможно лишь при повторении его. Может быть, потому-то и создаются мечтания.
Этот парень был из Тонга, но звали его на английский манер: Джозеф. Мы познакомились с ним утром в бассейне. У нас установлено правило: с шести утра бассейном час пользуется команда. Обычно в это время набивается много наших и на корме становится шумно и весело, но в то утро в бассейне я оказался один, может быть, потому, что шел мелкий дождь и многие любители поплавать проспали — официальный подъем у нас в семь, — но было тепло, и море тихое, без волны. Я плавал с наслаждением и когда случайно поднял голову, то увидел краснокожего парня; он стоял в плавках, широкогрудый, подтянутый, на животе его выделялись крепкие мышцы, и держал за руку белокурую девушку. Я понял — он не решается прыгнуть. Я улыбнулся ему, и он ответил радостной улыбкой, показав крепкие белые зубы; тогда я ему махнул рукой: давай, мол, прыгай, он захохотал и прыгнул вместе с девушкой, и они поплыли рядом.
А потом мы сидели с Джозефом и его женой Анни — так звали белокурую, — пили содовую и болтали о всякой всячине — я уже давно убедился, что не так уж плохо говорю по-английски; во всяком случае, меня понимали и я понимал.
— Это хорошее судно, правда, кэп? — спрашивал меня Джозеф. Конечно, он отлично понимал, что мне еще далеко до капитана, но ему было приятно так меня называть.
— Замечательное судно, — отвечал я. — Даже отличное судно!
Он хохотал, и Анни хохотала. По-моему, она была красива, с высоким лбом, большими серыми глазами; она была вся открытая, ничего не прятала ни под косметикой, ни под нарочитым выражением лица.
— Говорят, моряки не имеют права ругать свое судно?
— Конечно, миссис, — отвечал я. — Только хвалить. Ругать свой дом — дурная манера.
— Ха! — сказала Анни. — Вы всегда так церемонно разговариваете?
— Только когда пытаюсь объяснить морскую жизнь…
Они опять захохотали, и я вместе с ними.
— Послушай, кэп, — сказал Джозеф, — у меня есть одна тайна. Я могу тебе ее рассказать…
— Но зачем рассказывать тайны? Не надо, — сказал я. — Я не люблю быть тайноносителем.
— Конечно, — кивнул он. — Но это не имеет значения. — Он положил свою широкую ладонь на плечо Анни и неожиданно спросил: — Правда она красивая? — Он как-то легко это спросил, нежно и очень естественно.
— Правда, — серьезно ответил я.
— Я рада, — сказала она, нисколько не смутившись, и опять засмеялась. — Я нашла Джозефу двух богов.
— Каким образом?
— Самым натуральным. Они у себя в Тонга потеряли двух богов давным-давно, может быть, века три назад. А они стояли в музее в Окленде. Высокие, красивые… У них все умеют резать по дереву. Это у них генетическое. Они так и говорят: дайте мальчику молоток и стамеску, он сразу же создаст богиню.
— И Джозеф тоже? — спросил я.
— О-о-о! — только и протянула она.
— Откуда вы это знаете? — спросил я Анни.
— Это моя профессия.
— А твоя? — спросил я Джозефа.
— Я клерк, — сказал он и улыбнулся. — Пока… Послушай, я тебе все-таки расскажу тайну…
— Давай, — сказал я, — если тебе это хочется.
— Ему хочется, — сказала Анни, — он сейчас этим живет.
— Это про золото, — сказал Джозеф. — Только это очень серьезно, не подумай, что шутка.
— Тогда выкладывай.
— Пожалуйста… Информация. Телеграфный стиль. Хорошо?.. Тогда слушай. В 1886 году английский корабль под названием «Княжеская гавань» вез золото из Южной Америки в Англию. Старинное золото. Перуанские поделки. Он пропал без вести, этот корабль. В Тихом океане. Есть документы. Одни считают — пираты. Другие — были сильные бури. Ну, в общем, пропал, и все. А он не пропал. Это было так… Они пристали к острову, чтобы добыть воды и часть пищи. В то время в Тонга шло большое строительство. Нужны были гвозди. Это было дороже всего — гвозди. Островитяне попросили их у белых. И те отказали. Тогда островитяне ночью напали на корабль. Они украли гвозди и всех перебили. Но, когда шла битва, случился пожар. Судно без управления ушло в море. И утонуло… Я знаю, где, — сказал он и посмотрел на меня.
Он и вправду не смеялся, он говорил серьезно, и в его зеленоватых глазах было открытое простодушие.
— Где? — спросил я.
— Смотри, — сказал он и, взяв бумажную салфетку, стал чертить на ней ногтем. — Здесь идет течение… У нас на каждом острове свое течение. Битва была здесь… И если отсюда пустить по течению неуправляемую шлюпку или даже бочку, она обязательно пристанет сюда… Там лежит золото.
— Ну, а если не там?
— Там… Я туда лазил. Но его этим течением забило под скалы и трудно достать.
Тут я засмеялся, сказал:
— Если это правда, то зачем ты мне говоришь? А вдруг я захочу найти его?
Теперь засмеялся Джозеф, а вместе с ним Анни.
— Ты знаешь, сколько островов на Тонга?.. Сто пятьдесят. Даже если ты захочешь их все обшарить, тебе придется крепко поработать. Но тебе не дадут там шарить.
— Тогда зачем ты мне все это говоришь?
— Я недавно в Сиднее говорил с одним парнем. Он занимается торговлей… Нам нужна одна машина, чтобы поднять это золото. Ее хорошо делают у вас в стране…
— Он пообещал?
Сказал, что узнает. Мы хотим ее купить…
А почему не в Австралии или у англичан?
— У нас тут есть свои расчеты.
— Ну, а при чем тут я?
— Так, на всякий случай, кэп, — сказал Джозеф и на этот раз хитро рассмеялся.
— Разве плохо иметь еще одного союзника? — спросила Анни.
— Ты ведь антифашист? — спросил Джозеф.
— Конечно, — сказал я и только после этого подумал, что вопрос несколько неожиданный, мне его никогда, как это ни странно, не задавали; просто это считалось само собой разумеющимся.
— Ну вот, — сказал Джозеф, — я тоже антифашист.
— Тогда зачем тебе золото?
— Мне?.. Мне ничего не надо, кэп. Мы с Анни не так уж плохо зарабатываем. У нас все есть… А на Тонга нужно золото. Мы бы хотели там кое-что построить для людей. Надо помочь отцу, он это задумал…
— Он у тебя вождь?
— Он у меня военный. Он командовал отрядом тонганцев в составе войск Макартура. Он герой битвы на Соломоновых островах. Он ходил в атаку и имеет много наград… Твой отец был на войне?
— Был… У нас ведь была большая война, Джозеф.
— Да, — сказал он. — Там была очень большая война. Но и здесь была война. Та же самая война. На ней убивали… Разве это не так?
Я подумал и сказал:
— Так.
— Хочешь, мы встретимся сегодня вечером и я заведу тебе немного музыки… Это очень старинные песни, может быть, даже с четвертого или девятого века.
— Если ты мне их переведешь…
— Их нельзя перевести, — сказал он. — Тот язык давно потеряли. Я только знаю, про что они. А сюжет не знаю… Но под них можно танцевать.
— Только с Анни, — сказал я, и мы все трое расхохотались.
Ведь бывает же иногда весело человеку…
После вахты мне снились костры в ночи; они горели на маленьких таинственных островах, где росли деревья, стоящие на корнях, как на ногах, а пламя костров поэтому не могло добраться до их ветвей. Сон этот я не досмотрел, потому что услышал:
— Шлюпочная тревога!.. Объявляется учебная шлюпочная тревога!
Голос старпома звучал в динамике. Я вскочил с койки, машинально потянул на себя спасательный жилет, успел взглянуть на часы — проспал-то я всего около часу! Я бежал к своей шлюпке, мечтая только об одном — чтобы все мои матросы были на месте… В последнее время Ник-Ник замучил нас тревогами; вообще-то на всех пароходах достаточно бывает учебных тревог, и это правильно, потому что все спасательные средства надо постоянно проверять, держать наготове. Вон у нас на «Перове» как-то кинули спасательный круг, а он камнем пошел на дно — его так долго красили, по слою слой, что кое-как сумели поднять, прежде чем бросить.
Я выбежал на шлюпочную палубу. Все мои ребята были в сборе; мы быстро расселись по местам… Обычно на этом кончается тревога; шлюпки на воду редко спускаются, проверяют их, и все, но тут я каким-то чутьем почувствовал — надо на воду, и быстрей! И дал команду…
Шлюпка наша хорошо приводнилась, мотор завелся легко, и мы сразу же отошли от борта, ожидая приказаний.
Через полчаса прозвучал отбой, всех командиров шлюпок пригласили на мостик. Было предрассветное время, лицо Ник-Ника казалось бледным, и жестко выступали на нем черные кудрявые баки.
Он долго молчал, глядя на наш строй. Рядом с ним стоял первый помощник Виктор Степанович. Он был хмур, чем-то расстроен; мы знали: когда он бывал не в духе, на макушке его поднимался белесый хохолок. Вообще у Виктора Степановича были совершенно белые волосы, и кожа у него была светлая, ее не брало даже тропическое солнце, только круглый нос усыпан веснушками; сам он был коренастый, жилистый, — я считал его всегда здоровым мужчиной, но вот рядом с Ник-Ником он терялся, потому что был ниже на целую голову.
— Подробного разбора не будет, — строго сказал Ник-Ник. — Проведем на командирском совещании. Удивлен, что не завелись вовремя моторы на четвертой и седьмой шлюпке. Командирам их объявляю выговор… Все! Можно разойтись…
И вот тут-то выступил вперед Виктор Степанович.
— Минуточку, — негромко сказал он, и я почувствовал, как нелегко ему было это сказать, и насторожился.
Ник-Ник сверху посмотрел на него, словно удивился его внезапному вмешательству, и сказал:
— Пожалуйста…
— Я думаю, — смущаясь, сказал Виктор Степанович, — что не только выговора… У нас есть товарищи, которым можно и благодарность…
— Например? — с любопытством спросил Ник-Ник.
И тут Виктор Степанович указал на меня и сказал:
— Вот… пожалуйста… Он обеспечил своевременный и безопасный спуск шлюпки.
Теперь уж и Ник-Ник повернулся ко мне. Он осматривал меня тщательно, во всяком случае, так показалось, и мне уже начало чудиться — он хочет отыскать недостатки или в одежде, или прическе, а может быть, и вообще во внешности.
— А разве за нормальное выполнение своих обязанностей штурманам здесь прежде давали благодарность?
— Нет… но… — смущенно произнес Виктор Степанович.
— Тогда мы поговорим об этом позднее. А сейчас прошу всех разойтись.
Мы спускались по трапу, и я почувствовал на своем плече ладонь.
— А с тебя причитается, Факир, — сказал мне Нестеров на ухо, — за несостоявшуюся благодарность.
Вокруг рассмеялись, я зло повернулся к Нестерову — тоже мне массовик-затейник, — по он не дал мне возмутиться, прижал к себе, сказал:
— Топаем ко мне, напою шикарным чаем.
Я подумал, что вряд ли сейчас засну, и согласился… Мы прошли к нему в каюту; здесь у него был и чайник, и кофейник, и хотя пожарники нам строго запретили пользоваться электрическими нагревательными приборами, все равно у многих они хранились в каютах.
— Я сейчас, — сказал Нестеров. — Ты посиди, пока я похимичу.
Я сел на диван, поближе к открытому иллюминатору, и едва потянулся к лежавшему на письменном столе журналу, как услышал на палубе шаги и голоса. Говорил Ник-Ник, и поэтому я невольно прислушался; голос его был мягкий, приятный.
— Надеюсь, вы все поймете, Виктор Степанович… Я ведь смотрю вперед. Нам еще пять месяцев плавать, и все может быть с людьми. А пока жесткость, жесткость и жесткость. Строжайшая дисциплина, даже суровость должны войти в плоть и кровь… А вот когда потом моряк затоскует, придет ностальгия, усталость, вот тогда, Виктор Степанович, я буду добрый, буду поощрять, награждать, плясать вместе со всеми. Поверьте, это проверенная политика. Тот, кто привыкает к суровости, больше ценит ласку и внимание…
Я не слышал, что ответил ему Виктор Степанович, да и ответил ли, шаги их удалились, и тогда я встал, выглянул в иллюминатор.
Шла мягкая, невысокая волна, солнце горячим красным шаром всплывало на горизонте, и вокруг него образовался туманный оранжевый обруч; он держался какое-то мгновение, пока солнце не скользнуло выше, и тотчас поменялась его окраска: краснота пригасла, превращаясь в слепящую желтизну, и море загорелось золотыми чешуями, и, как только это случилось, я увидел совсем неподалеку пароход. Я еще не успел разглядеть ни трубы, ни флага, но понял — это наш, советский, и едва я это подумал, как раздался приветственный гудок, и «Чайковский» ответил. Да, это был наш сухогруз. Теперь видна была и труба с серпом и молотом на широкой красной полосе, можно было различить людей на мостике — они махали нам руками, и я тоже попытался помахать им из иллюминатора; я прочел название на его черном борту: «Дежнев». Это было судно из той же серии, что и «Перов», и у меня защемило на сердце.
— Что там? — спросил Нестеров.
— Теплоход, — сказал я, — наш.
Я произнес эти слова с трудом, и Нестеров сразу понял, в чем дело, подбежал ко мне, отодвинул плечом от иллюминатора; теплоход уже проходил кормой, и мы оба стали махать ему вслед.
«Здравствуй, мой странник, здравствуй, Костенька! Спасибо за радио, тут ты у меня молодец, не забываешь мать.
Знаю, как долго идут эти письма, потому сезонных новостей сообщать не буду, да и все мои новости тебе известны по радиограммам. Просто мне хочется поговорить с тобой, а накопилось всяких разговоров много.
Город наш начал активно строиться, в центре сносят много старых домов и ставят новые, стандартные. Говорят, и к нам подберутся, а мне жаль, хоть все уже и приходит в негодность, а в новых домах удобства. Но ты знаешь — я люблю постоянство жизни, вот этого никогда не мог понять отец. Я живу в этом доме с девятнадцати лет, и мне бы не хотелось теперь, когда совсем одна, менять жилье… Вообще, наверное, Костенька, я старею, потому что перестаю понимать, что делается вокруг.
Недавно со своими питомцами пошла в кино, все они у меня длинные-предлинные; когда вы росли, мне и то думалось: какие высокие и крепкие ребята, но перед нынешними вы — мелкота. Я шагала меж ними по улице, они разговаривали над моей головой. По-моему, они на какое-то время забыли, что я иду с ними, мне даже сделалось от этого обидно; все-таки я учительница, наставник, а путаюсь у них в ногах. Но заволновалась я по другому поводу. Они говорили о машинах, о всяких машинах, начиная от магнитофонов и кончая автомобилями всех международных марок. Они знали не только их технические данные, но и стоимость в разных валютных исчислениях, это в нашем-то городке, где никто, кроме рубля, ничего не видел… Ну, еще были немецкие оккупационные марки… Так вот, я их слушала и не понимала, зачем это им нужно. Я стала вспоминать: а о чем болтали на досуге вы? И вспомнила: и у вас часто речь заходила о шмутках, о том, какие джинсы лучше, где купить гитару и какой марки магнитофон громче, — маленькая громкость вам, конечно, не подходила, ведь важно было, чтоб весь городок знал: у тебя есть маг. Я все это вспомнила и подумала: вот вы говорили о барахле, которое все-таки можно было купить, и мы вам его покупали, ничего не поделаешь — мода. Да и вообще, я не считаю чем-то порочным интерес молодого человека к вещам, — конечно, если только он не становится главным в его жизни, но это уже отклонение. Мир познается молодыми сразу во всем многообразии, а вещи — часть быта, их надо знать, уметь отличать хорошие от плохих, и надо любить подлинные вещи, сделанные настоящими руками… Мы с тобой об этом говорили.
Нам оставалось до сеанса еще с полчаса, когда мы остановились в скверике возле кинотеатра, и я тогда спросила у ребят: почему их волнуют марки автомобилей, которых нет не только в нашем городке, но, возможно, и в Москве. „А как же, — сказали они мне, — надо знать уровень жизни“. Вот тогда, Костенька, я попыталась им объяснить, что уровень жизни определяется не предметами обихода — они ведь год от году меняются, еще совсем недавно мы и не знали, что такое телевизор, — а уровнем сознания, уровнем мышления… И тогда они мне сказали: „Это все теория. А уровень жизни — это то, что можно пощупать руками…“ Мы потом еще много об этом говорили, но я видела — они меня не понимают, а я их. Расстроило меня это, Костенька, ужасно. Я знаю: ты бы был, то посоветовал, как мне тут с ними… Конечно, если тебя не понимают ученики — дело поправимое, но если ты их не понимаешь… Ну, ничего, я еще постараюсь разобраться.
Есть небольшая новость, надеюсь, она не очень тебя расстроит… Заходила ко мне Оля, но не одна… Ну, ведь у вас, по-моему, так ничего и не сложилось по-настоящему. Она приехала на побывку с мужем и захотела показать ему городок и все достопримечательности его. Они ходили в крепость и на пруды, а погода стояла скверная, нанесло мокрого снега с дождем, вот они ко мне и заскочили по старому знакомству. Я им обрадовалась, напоила чаем. Оля вытянулась, похорошела; она работает переводчицей, а он у нее инженерит в НИИ. Он стеснялся и хотел быстрее уйти, а Оля расспрашивала о тебе. Я рассказала, где ты плаваешь и на каком судне. Она мне сказала: „Это очень здорово, но я бы никогда не смогла так долго ждать“. Тут она права, Костенька, не каждая может ждать. Да ведь и не надо, чтоб каждая… Она хорошая девочка, Оля, но мы не будем о ней жалеть, верно?
На праздники получила радиограмму от Луки Ивановича, была рада.
Ну, а теперь о том, что просил ты выяснить. Мне порядком пришлось потрудиться. Тут два имени стоят рядом: Эдмонд Галлей — это довольно известный астроном, друг Ньютона, был директором Гринвичской обсерватории, а второй — Уильям Дампир. Вот он-то, Костенька, личность интересная и любопытная… Пират. Да какой! Из самых отпетых, из морских шакалов или гиен… Он с шайкой буканьеров нападал на корабли и города. Он был на Ямайке, у мыса Горн, ходил в Гвинею и Новую Голландию, он исколесил весь свет. Но у этого морского дьявола была страсть к наблюдениям. Он родился в глухой деревушке и был прирожденным натуралистом. Великий талант к ощущению природы. У него хватило ума вести дневник. Его высадили после крупной ссоры пираты на островах, он добрался на рыбачьем каноэ до Суматры, а оттуда уж до Англии. И привез с собой только одно богатство — записи. Сел, обработал их и опубликовал. К книге приложил карту ветровых циркуляций. Она стала основой для всех карт такого рода. Адмирал Барни написал о его трудах: „…Нелегко назвать имя мореплавателя или путешественника, который дал бы миру более полезные сведения, которому в такой мере были бы обязаны негоцианты и моряки и который подобного рода сведения изложил бы в столь ясной манере и столь четким стилем…“ Успех его научных книг был потрясающим. И тогда адмиралтейство решило поставить Дампира во главе новой экспедиции к Австралии. Став капитаном, он ввел на судне железные пиратские законы. Боясь бунта, держал всех на мушке пистолета. Когда Дампир вернулся, его судили за жестокое обращение с матросами. Ему запретили служить на кораблях флота ее величества Анны. Он разобиделся и отправился в Тихий океан снова на пиратский промысел. И вот здесь произошла примечательная история. Дампир, сам того не зная, породил литературного героя, который жив и поныне и славен во многих стропах. Он высадил за провинности на необитаемый остров парусного мастера Александра Селькирка. А потом этот мастер рассказал свою историю Даниэлю Дефо, и появилась книга „Робинзон Крузо“.
Когда я все это раскапывала, то мне пришла мысль: как все неожиданно бывает связано в этой жизни. Согласись, странная цепочка: пират, океанография, литературный герой. Наверное, если заняться всерьез исследованиями, то цепочку эту можно продолжить, еще неизвестно, куда она приведет. Недаром отец твой любил говорить: для моряка одно ясно — мир тесен… Тесен-то он тесен, но как мы далеко с тобой друг от друга! Пиши мне. А я жду не дождусь того часа, когда сядем с тобой вместе за стол и наговоримся от души. Не болей, дорогой ты мой. Всегда любящая тебя мама».
…Солнце поднялось над морем, косым лучом своим вошло в иллюминатор, пронзив золотисто-коричневый настой в стакане; чай, приготовленный Нестеровым, и впрямь был хорош, да и все в его каюте было хорошо: и душистый запах «кэпстона» от трубки, и то, что на стенах не висели дешевенькие вырезки из журналов, а в золотистой рамке небольшая и, видимо, дорогая миниатюрка, сделанная маслом в синих тонах, — ночная гавань, и на полке серьезные книги на английском.
Мы долго пили чай молча, и я наслаждался нарождающимся утром и тишиной; пройдет еще немного времени, и начнется беготня по палубам, захлопают двери кают, прозвучат команды, и пойдет по своему руслу пароходная жизнь.
Я допил чай, отодвинул стакан, хотел было поблагодарить Нестерова и уйти, как он спросил:
— Ты ведь знаешь ее мужа?
Это было так неожиданно — я даже вздрогнул, и сразу что-то нарушилось в каюте, в первую очередь изменился Нестеров; еще мгновение назад я видел перед собою тихого человека с доверчивым взглядом, а сейчас он смотрел на меня узкими, настороженными глазами, смотрел не мигая, и табачный дым не мешал ему.
— Знаю, — ответил я вызывающе. — Ну и что?
— Вы были друзьями?
— Мы и сейчас друзья.
— Ну, на таком расстоянии это трудно доказывать.
— Смотря кому.
— Возможно, — сказал Нестеров и прижал ладонью трубку, оставив только щепку меж пальцев, — так он делал всякий раз, когда трубка пригасала и нужно было усилить тягу дыма.
Он встал и прошелся по каюте, и я увидел — он нервничает… Значит, все то время, что я думал о доме, — именно эту мысль пробудил во мне прошедший мимо сухогруз, — Нестеров размышлял о своем: о Нине, о Леше. А мне-то казалось, когда мы сидели молча за чаем, что и мысли наши направлены в одно.
Я рассердился, будто меня обманули.
— Что ты хочешь знать о Леше? — спросил я.
— Она мне рассказывала о нем, — сказал Нестеров. — Но я хотел бы, чтобы и ты…
— Мне не нравится твой вопрос, Нестеров, — сказал я. — Это не мужской вопрос.
Он насторожился, посмотрел опять на меня прищуренным взглядом.
— Ты нас осуждаешь? — спросил он.
— Я просто в это не лезу, — сказал я. — Я ведь тебя ни о чем не спрашивал. Так?.. Вот если бы я тебя спросил, тогда бы ты имел право задавать вопросы. А сейчас ты ляпнул, как несерьезный человек. Тебе все ясно?
Он подумал и неожиданно улыбнулся; правда, это была слабая, косая улыбка, чуть раздвинувшая его волнистые губы.
— Ты прав, — сказал он.
— Конечно, — подтвердил я.
— Но я не знал, что ты бываешь таким резким.
— Ты и сейчас не знаешь, каким я бываю, — сказал я. — Могу и врезать…
Вот здесь он засмеялся и сказал:
— Ну, это здорово, Факир!
— Я смотрю, ты осчастливил себя, придумав эту дурацкую кличку. Жаль, что тебе не пришло до сих пор на ум: я ведь могу и рассчитаться.
— Если тебе не нравится, то я это снимаю. — Он пыхтел своей трубкой, улыбаясь, и меня это раздражало.
— Спасибо за чай, — сказал я. — Умеешь заваривать.
— Мы еще поговорим с тобой, — сказал он.
— Посмотрим, — сказал я.
По спикеру раздались сигналы, приглашающие на завтрак; тишина утра кончилась, начинался судовой день. Я вышел от Нестерова и, пока шел к кают-компании, думал: «Да, я в это не лезу… мне незачем в это лезть. Не мое это дело и не может быть моим. Но ведь кто-то и как-то должен помочь Леше?..»
И опять мне снились костры в ночи. Они горели на маленьких таинственных островах, где росли деревья, стоящие на корнях, как на ногах, и над ними, освещенный отблеском пламени, вознесся деревянный трубач, веселый к озорной, как маорийский божок Мауи, и трубил сигнал тревоги, а я не понимал, что же это за сигнал. Меня разбудил звонок будильника перед дневной вахтой, и когда я проснулся, то первая мысль, которая пришла в голову, была о Нестерове и Леше: «А ведь они здорово похожи друг на друга. Как же я раньше этого не замечал!..»
Джозеф и Анни сошли в Фримантле — это аванпорт Перта, столицы штата Западная Австралия. Стояло жаркое утро, горели цветы на клумбах, ярким оранжевым пламенем полыхали рождественские деревья, а над портом висела кургузая розовощекая фигура Деда-Мороза с мешком и воротником из ваты — скоро Новый год, здесь встречают его летом.
Мы прощались у трапа.
— Ну, будь здоров, Джозеф, — сказал я ему.
— И ты будь здоров, — сказал он.
А Анни приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку.
— Счастливо, кэп, — сказала она и засмеялась.
— Через пять месяцев у меня будет отпуск, — сказал я. — На целых сто дней отпуск. Приезжайте к нам в Россию, я покажу вам хорошие места.
— Спасибо, — сказал Джозеф. — Но это для нас пока еще дорого.
— Но, может быть, ты за это время достанешь свое золото.
— Оттуда я не возьму ни пенса. Это не мои деньги.
И я опять увидел, что он серьезен. Честно говоря, я никак не мог поверить в эту историю с кладом, но тут я подумал: а моя нет, это действительно все правда, ведь ходили же из Америки в Англию корабли с золотом и нападали на них островитяне, которым тогда это золото было ни к чему, ведь случалось такое, и отмечено в истории документами, а коль было…
— Ты обязательно достань этот клад, — сказал я Джозефу. — И напиши мне об этом. Мне очень нужно.
— Зачем? — спросила Анни.
— Чтоб навсегда убедиться, что сказки тоже быль.
Они оба рассмеялись, а мне стало грустно, оттого что мы расстаемся; честное слово, они мне оба понравились, и, наверное, если бы мы поплавали подольше, нам бы не было скучно.
— Ну, будь здоров, Джозеф, — снова сказал я.
— И ты будь здоров, — снова ответил он.
И Анни опять приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку… Они ушли, и прошло немного времени, как команда наша вышла в город. Мы поехали автобусом через чистенькие улицы Фримантла, пропахшие морем и цветами, и поднялись в гору, чтобы оттуда посмотреть на Перт. И город открылся перед нами новенькими домами на фоне моря, аркой большого моста через реку Лебединая, — говорят, будто здесь впервые и увидели черных австралийских лебедей, но теперь на реке их не было. На горе пахло скипидарным запахом эвкалипта и лежало толстое бревно; потом я узнал, что это реклама строительной фирмы. Мы медленно шли по холму, пока взгляд мой не остановился на памятнике. Я сразу понял, что это за памятник, потому что уже видел много таких… На бронзовой отливке меч разрубал свастику… И я тут же вспомнил, как Джозеф спросил: «Ты антифашист?»
В Высоцке, неподалеку от нашего дома, есть скверик, там тоже стоит памятник, похожий на этот, правда, не из такого богатого гранита, а сложен из кирпичей и оштукатурен; и тут же рядом с ним, — а не на кладбище, — несколько могил. Я ходил в школу мимо этого скверика и с некоторых пор часто стал сворачивать в него: подходил к бетонированной плите, над которой вздымался металлический столбик со звездой на конце. Я доставал из тайника веник, счищал с плиты слег, чтобы любой проходящий мог прочесть надпись, а весной я добывал золотую краску и выправлял ею буквы, и еще я тщательно чистил стекло; оно, правда, пожелтело, и надо было поставить другое, но я боялся, что при переделке могла разрушиться фотография, на которой был изображен худощавый человек с усами под курносым мальчишеским носом, и потому усы казались у него приклеенными, даже очень плохо приклеенными, как в самодеятельном театре, а глаза у него были озорные, и мерещилось: он вот-вот подмигнет. Это был мой дед, и на плите стояла надпись: «Илья Петрович Знобин, погиб, защищая Высоцк».
Так все и было на самом деле: деду шел тогда тридцатый год, и он был отставным старшим лейтенантом, потому что лишился ноги на финской войне; но когда немцы подходили к Высоцку, организовал его оборону…
Мама иногда мне говорила, что не может покинуть Высоцк, потому что здесь могилы всех ее родных.
У нас много в городе могил, а стоит выехать на большое шоссе, то там вдоль кювета обелиски, и на них иногда длинные списки тех, кто остался тут навсегда, пав от пули или осколка, большинству из них не было и двадцати…
Я смотрел на памятник в Перте, на нем тоже был длинный список не вернувшихся с войны домой, и вспомнил, что еще во многих местах видел такие памятники: и в Веллингтоне, и в Сингапуре, и на Маврикии. По всей земле стоят такие памятники… но больше всех их у нас, в России…
Я приходил в скверик, заглядывал в веселые глаза своего деда и разговаривал с ним.
Я родился, когда война давным-давно кончилась, но все равно она все время была со мной где-то рядом. Она приходила в детство, и я так много о ней слышал, что даже начинало казаться, будто сам что-то помню из нее… А Лука Иванович… Он любил после обеда посидеть в кают-компании, неторопливо попивать чай и вспоминать; лицо его делалось добродушным, хотя привычная хитрость не исчезала, лучики морщин собирались у серых с зелеными искрами глаз, и он начинал рассказывать, оглаживая ладонью скатерть:
— Я ее на «Новороссийске» встретил, была дочка судового механика… Ну, был пароход! С него ведь и начал. Совершил побег из дома на горе любимым родителям и нанялся матросом. Ходили Одесса — Херсон. На палубе — бабы с арбузами, в каютах — служащие и рабочий класс. А команда — все старые мариманы. Тельняшки да трубки. Весь белый свет исходили. Пьяницы, но трудяги. Тогда экипаж о каютах и не мечтал. Кубрик. Мне местечко — на нарах. А ушел я из дому в костюмчике, тогда в моде был коверкот. Сшили мне его по случаю окончания школы. Утром проснулся — костюмчика нет. Старенькая тельняшка и брючки. Боцман, волосатый рыжий мамонт, хрипит мне в ухо: «Извини, товарищ, костюмчик мы твой всей толпой пропили, а ты, как непьющий…» Вот так началось. А потом «Новороссийск» эвакуировал людей из Одессы… Эти канальи ничего не боялись, ни бомбежек, ни обстрела. Упала бомба на «Новороссийск», завернулась в матрацы в подшкиперской и не разорвалась. Нашелся один из мариманов, что минное дело знал. Обезвредил… Ну, все-таки я про Валю… Она была дочка механика. Нас под Очаковом накрыли немецкие самолеты, пароход стал тонуть. Механик посадил дочку на загривок и поплыл. Доплыл почти до берега. Там «Десна» стояла. И около самого берега механика пуля скосила. Морячки с «Десны» прыгнули в воду, спасли девочку. Потом пошла «Десна» в Поти, наткнулась на мину и начала тонуть. Суматоха. Крики. Про девочку забыли. А у «Десны» котлы были под парами. Вода как туда ворвалась — сразу взрыв! Девочку разрывной волной в воду почти у самого берега выбросило. Сколько там народу погибло, а она живая на берег ступила. Ну, а потом ее взяли на «Ингул». Я тогда на нем плавал. Хорошо Валю запомнил. Так как эта девочка уже столько пережила, ее вся команда любила, баловала. И вот попадаем мы под Туапсе под сильную бомбежку. Такой еще не переживали. Третьего механика, он у нас килограммов на сто двадцать был, столбняк от ужаса хватил, и он собой двери заклинил, из кубрика никто выйти не мог, в иллюминаторы вылезали. В щелки разнесло наш пароход. Нам на помощь «морские охотники» вышли. Тогда они фанерными были. Вот тебе и военный пароход. Их так и называли «свидетели смерти». Они нас из воды вытаскивали. И все мы видим — плавает наша Валя. В стороне, одна. Все кричат ей: «Валя, держись!» К ней «охотник» направился. Осталось ужо несколько метров… Руку протяни. И Валя у всех на виду камнем идет на дно. Вышли мы на берег, разожгли костры, стали сушиться. Кто-то ведро гнилой картошки принес из деревни. Ее испекли. Вспомнили всех, кто погиб, и Валю. Хотели уже спать укладываться. Вдруг у костра пламя метнулось. Смотрим — на дорожке Валя стоит. Я закричал — так испугался. Подумал — привиделось. А она подошла, села к костру и стала греться. Так она и не смогла объяснить, как возле нас оказалась… Ну, вот такая история. А вы, между прочим, ее знаете. Потому что сейчас работает она в бассейновой поликлинике регистратором… Ну да, Валентина Сергеевна. Мимо нее никто из вас не пройдет. Вот пойдите и спросите ее, как она трижды девочкой умирала, а жива… Что, все веселое про войну рассказываю? Ну, если вам от этой истории весело, то мне — нет… Все пароходы наши тогда сгорели. А сколько людей… красивых, молодых… Не стало флота на Черном море. Пришлось ехать на Дальний Восток… А про войну: все ею ранены, и в самое сердце. Вот так… — И долго потом сидел, молчал и оглаживал ладонью скатерть.
Джозеф спросил меня: «Ты антифашист?..» Так вот почему мне снились костры в ночи на маленьких таинственных островах и беспокойный трубач Мауи — я перед сном пытался представить, как, сжимая автоматы, шли на японские траншеи краснокожие солдаты. Я не знаю, как было это на Соломоновых островах, я только знаю по рассказам, как было на нашей земле, но Джозеф прав: даже маленькая война — все-таки война…
Я приходил поздно вечером в скверик, подходил к памятнику и спрашивал: «Тебе не холодно тут лежать, дед?» А в это же самое время выплывало из-за моря солнце, синяя волна билась о коралловый риф и разделялась на более мелкие волны. Они выплывали на белый прибрежный песок, оставляя на нем узорчатый след, а мимо отмелей по тропе от спящей деревни шла босиком по колючей траве женщина, несла молодую пальмовую ветвь; она шла к высокому деревянному идолу, который смотрел в мир зелеными глазами из перламутра. Женщина трепетно клала ветвь к подножию идола, опускалась на колени и начинала петь, и лились наивные и чистые слова скорби по безвинно ушедшим из этого мира. Голос ее был свеж, и слезы текли по старческим морщинам. Выше поднималось солнце в парном слюдяном трепете; собирались на работу земледельцы и рыбаки, и голос певицы напоминал им о прошлом, чтобы, начиная каждый новый день, они не забывали о нем… И кто-то еще, кроме меня, у дороги счищал снег с бетонной плиты и исправлял буквы, выбитые на ней.
Там, возле памятника в Перте, я впервые всерьез понял, как тесно связан меж собой мир.
Еще издали я определил: что-то произошло. Я увидел, как у Юры метнулись глаза за стеклами очков — на этот раз они были в костяной желтой оправе, как попытался он улыбнуться мне и Нине, когда мы поднимались по трапу, но вместо улыбки у него получилась гримаса и плечи заострились, и сам он ссутулился. Нина тоже заметила, что с ним творится неладное.
— Что с тобой, Юра? — спросила она.
— Я бы попросил при пассажирах… официально, — сказал он: длинный его палец задрожал, когда он поправлял им очки, тонкий нос покрылся потом, хотя солнце уже село и не было жары, воздух был сух и в меру прохладен.
Нина быстро обернулась, но на палубе никаких пассажиров не было.
Часть вторая ВРЕМЯ ПОТЕРЬ И ОТКРЫТИЙ
Глава пятая КЛЯТВА НА КОРТИКЕ
За бортом сменяются моря, проходят страны и континенты, а на пароходе, как в маленьком поселке, стоящем на земле, — работа, фильмы в столовой экипажа, соревнования на спортивной палубе, собрания, занятия, самодеятельность, то есть все, чем живет любой поселковый житель, только не надо по утрам бежать к троллейбусной или автобусной остановке или бродить по магазинам, чтобы купить еду; вышел от себя и через минуту — или на работе, или в кают-компании.
А на прогулочной и спортивной палубах, в салонах, барах и пассажирских каютах — другой мир, там своя жизнь, мы наблюдаем только поверхностный слой ее: люди грустят возле фальшборта на закате солнца, смеются, наблюдая, как купаются дети в бассейне, поют песни, ссорятся, — нам не дано проникнуть в глубины их судеб, только отголоски тревог и волнений изредка всплывают на поверхность:
худощавый старик пришел к капитану, положил на стол бумагу, в которой просил, если он умрет в рейсе, чтобы его похоронили по морскому обычаю, не возвращая тело на землю; и капитан спросил: «Зачем об этом?», он ответил, усмехнувшись: «Я давно к этому готов и не хочу доставлять излишние хлопоты близким»; а красивый и крепкий на вид старик; двое, он и она, сказали Ник-Нику: «Вы должны нас поженить, по международным законам капитан пользуется правами мэра. Мы получим от вас сертификат…» Ник-Ник заколебался: «У вас есть разрешение родителей?» Он, лохматый, похожий на черного пуделя, пробасил: «Если бы оно у нас было, мы бы не сели на ваше судно». Только отголоски чужих тревог, но ведь и они что-то оставляют в твоей душе…
Так плывет по морю пароход.
— Вас просит зайти первый, — раздалось в телефонной трубке; это был голос Нины, — значит, она сейчас дежурила в информбюро.
Когда вызывают к первому помощнику, или, как его называют, помполиту, комиссару или еще, непонятно почему, «помнею», — видимо, просто по созвучию, — невольно начинаешь волноваться, и вовсе не потому, что чувствуешь себя в чем-то провинившимся, хотя бывает и такое, но помполит может тебя пригласить, когда получены дурные вести из дому и нельзя человеку обычным путем вручить радиограмму; он может пригласить, чтобы дать серьезное поручение, он может… Впрочем, никогда не знаешь, зачем он тебя зовет, и поэтому волнуешься.
Двери в кабинет Виктора Степановича были открыты. Он ждал меня и, едва я переступил комингс, он встал, протянул руку. Я уже говорил: он был невысокого роста и удивительно белобрысый. У нас в школе учился парень с такими же волосами, ему дали кличку «Сметана»; может быть, так же дразнили и Виктора Степановича. Вообще я давно взял за правило представлять себе людей, какими они были, когда росли, — это очень помогает разгадывать характеры. Вот Виктор Степанович, наверное, был старательным парнем; писал, прикусывая губу, — иногда он и сейчас так делает, — и наверняка он был упрям и, если его били, не плакал, и еще у него была одна странная черта, видимо тоже сохраненная с детства: он стеснялся и когда выступал перед нами с докладами и информацией, и когда открывал собрание или концерт, — это немножко странно для помполита, тем более что на этой работе он был уже лет семь, а до этого плавал механиком.
Он закрыл за мной дверь и, взяв за плечо, сказал:
— Ну, проходи, садись, — и сам сел напротив, посмотрел на меня строго, и я увидел, как стал подниматься на его макушке хохолок, и понял: предстоит какой-то очень сложный разговор — и насторожился.
Он молчал некоторое время, передвигая бумажки на своем хорошо отполированном письменном столе, потом собрал их в одну стопку и отложил.
— Вы ведь дружите с Юрием Тредубским? — спросил он.
— Ну-у-у, в общем, да-а-а, — протянул я.
— Почему «в общем»?
А я и сам не знал, почему сказал это «в общем». Просто потянул слова, чтобы была хоть секунда подумать: к чему задан этот вопрос; но получилось некрасиво, будто я на всякий случай пробил себе тропинку к отступлению и в любую минуту могу отказаться от Юры.
— Мы дружим, — твердо сказал я.
Виктор Степанович опять начал передвигать бумажки по поверхности стола, занимался он этим довольно долго; он недавно бросил курить и теперь, наверное, мучился.
— Я вас должен буду спросить, — произнес он и покусал губу. — А вы должны будете мне ответить по делу, казалось бы, интимному, но очень сейчас важному… Скажите мне: Тредубский… э-э… как это сказать… не питает особых чувств к администратору Нине Кургановой?
Вот тут я опешил и от витиеватости вопроса, и от его содержания. Да откуда я знаю, что там Юра «питает» к Нине, а если это и так, то мне какое дело?
— Не интересовался, — сказал я.
Виктор Степанович посмотрел на меня со вниманием и попытался улыбнуться:
— Я хочу, чтоб вы поняли. Мы с вами не сплетнями занимаемся. Тут дела серьезные, и все, что я спрашиваю, не зря.
— Он мне не признавался, — сказал я.
— Ну, а вы сами не замечали?
— Не следил, Виктор Степанович.
— Все-таки вы не хотите меня понять… Ну ладно, тогда о другом. Вы ведь и с Нестеровым теперь подружились. А Нина Курганова ваша старая знакомая. Мне еще Лука Иванович рассказывал — очень вы были дружны с ее мужем… Ну вот, а теперь я вам должен напомнить один твердый морской закон: командирам не разрешается в плавании заводить романы.
— А где им разрешается? — спросил я.
— Ну, на берегу… разумеется. — Он сказал это не очень уверенно и задумался.
— И в какое время? — спросил я.
— Что вы имеете в виду? — Виктор Степанович насторожился.
— Во время отлучек или в отпуску?
Виктор Степанович опять со вниманием посмотрел на меня и покачал укоризненно головой, хохолок на его макушке совсем выпрямился и стоял, как громоотвод.
— Не надо, — сказал он тихо. — Ну, есть такое правило и есть… Надо его соблюдать.
— А зачем его соблюдать?
— Потому что это правило, — теперь уже твердо произнес Виктор Степанович.
— А если я завтра влюблюсь без этого правила? — спросил я. — Мне что, списываться? Да?
— Ну, если влюбитесь… если влюбитесь — это совсем другое дело.
— Какое? — поинтересовался я.
На этот раз Виктор Степанович улыбнулся:
— Ну, не будем лисьим следом… Не надо петлять, я ведь знал, что вы так поведете себя, и предупредил, а я еще раз повторяю: дело серьезное.
— Так я вполне серьезно, Виктор Степанович. А если у Нестерова и Нины любовь?
— Стало быть, вы все-таки об этом знаете?
— Об этом весь пароход знает, Виктор Степанович. Разве здесь что-нибудь можно утаить?
— Весь пароход знает, а я вот не знал, — сказал он. — Да и не хотел бы знать.
— Тогда зачем же, Виктор Степанович?
Он похлопал себя по карманам, ища сигареты, но, видимо, тут же вспомнил, что бросил курить, выдвинул ящик стола, достал жевательную резинку; одному чавкать было неудобно, и он предложил мне, и так мы сидели друг против друга и жевали.
— Нас Тредубский поставил в безвыходное положение, — наконец сказал он.
Я ничего не понимал.
— При чем тут он? — спросил я.
Тогда Виктор Степанович подумал, потом решительно вынул из стопки лист бумаги, протянул мне и сказал:
— Вот, полюбуйтесь!
Я взял эту бумагу, еще не подозревая, какая страшная это штука… Это был официальный, отпечатанный на машинке рапорт, адресованный капитану, от пассажирского помощника, и сверху стояла резолюция Ник-Ника: «Первому помощнику. Разобраться». Я быстро прочел все, что было там написано. Я не помню этого документа дословно. Там говорилось, что администратор Н. А. Курганова, которая находится в подчинении у пассажирского помощника, нарушила нормы поведения на пароходе и… подробности.
Меня как-то сразу это ошеломило, я не смог поверить, что такую дурацкую бумагу мог написать Юра, да и вообще какой-либо иной человек из экипажа; потом в памяти возник его мятущийся взгляд под очками, когда он вчера стоял у трапа, и гримаса вместо улыбки, и заострившиеся, ссутулившиеся плечи, — вот почему он был таким, и все же это было невероятно. Но… бумага лежала передо мной на столе, и внизу — Юрина подпись. Мне вдруг захотелось ее порвать; вот взять, разодрать на мелкие клочки и выбросить в иллюминатор. Наверное, у меня нечто такое появилось на лице, потому что Виктор Степанович поспешно пододвинул рапорт к себе.
— Вы разговаривали с ним? — спросил я.
— Конечно, — кивнул Виктор Степанович.
— Ну, и что же он?
— Говорит, что всегда уважал морские законы и не может допустить, чтобы их нарушали… Э-э, да бред говорит! — вдруг рассердился Виктор Степанович.
— Так зачем же его слушать?
— Он написал рапорт, — твердо сказал Виктор Степанович.
И вот, как только он это сказал, я тотчас понял — дело скверное: к рапортам у нас всегда относятся со вниманием и не принять по нему меры нельзя.
— Я поэтому и решил с вами, — негромко сказал Виктор Степанович, — если вы дружите… Может быть, он из-за ревности… Ну, бывает такое.
— Бывает, — согласился я. — Тогда что?
Виктор Степанович не отвечал, но я и так понял, чего бы он хотел: было бы самым простым, если бы Тредубский забрал свой рапорт; но Виктор Степанович не имел права сказать мне об этом.
— Надеюсь, весь этот разговор между нами? — произнес он.
— Хорошо, — ответил я и встал. И меня тотчас больно кольнуло; «А ведь с Юрой-то у меня все!»
Какие разные бывают потери! Я уже однажды испытал в жизни горечь серьезной утраты и понял, как страшен и ничем не искупим уход человека из жизни, но друзей я не терял. Иногда нас просто разлучали обстоятельства, и это, естественно, воспринималось как временное прощание — всегда была надежда на встречу, — и только сейчас я впервые отчетливо осознал: те добрые отношения между мной и Юрой, что так долго налаживались, пришли в одно мгновение к распаду; можно объясняться с ним, можно и уйти от этого, впрочем, все, что угодно, может произойти, но того Юры Тредубского, с которым я провел так много хороших часов, уже не будет, потому что вера моя в него кончилась, как только я увидел его подпись под рапортом.
«Лучше бы мне его не встречать!» — думал я.
Но это в городе можно не звонить друг другу, стараться ходить и ездить иными маршрутами, чем неугодный тебе человек, но на пароходе… Я увидел Юру в кают-компании через полчаса после того, как побывал у Виктора Степановича. Он сидел и торопливо ел борщ за столом пассажирской службы. Я как-то раньше не замечал, чтобы он вот так весь склонялся над тарелкой, а хлеб не откусывал от ломтика, а отщипывал пальцами и бросал в рот, и мне показалось это неприятным.
Когда он встал из-за стола, я тоже поспешил подняться. Буфетчица Соня, которая чувствовала себя полной хозяйкой кают-компании, сразу заметила, что я не закончил обеда.
— А компот? — сурово спросила она. — Не нравится?
— Оставь мне два литра на вахту.
— На вахте вы соки получаете. Вот стакан, и пейте немедленно!
Я чуть не подавился этим компотом и все-таки успел выскочить вовремя за дверь, потому что заметил: Юра вышел на открытую палубу. Я догнал его, когда он приближался к музыкальному салону, и, забежав вперед, преградил дорогу. Я не дал ему опомниться и с ходу спросил:
— Зачем ты это сделал?
Он понял, я увидел это сразу, он понял, хотя я не называл ни рапорта, ни Нины.
— Ты ответишь или нет? — рассердился я.
— Это был мой долг, — наконец сказал он.
— Иди ты к черту! — заорал я. — Какой твой долг? Кому ты такое должен?
— Не кричи на меня, — тихо сказал он и поморщился, приставив руку к виску, будто у него болела голова. — Ну зачем ты кричишь?
— А что мне, прыгать от радости, коль ты строчишь на друзей такие штуки?
Он снял очки — на этот раз они были у него в малиновой пластмассовой оправе — и провел ладонью по усталым, беспомощным глазам.
— Ты в этом ничего не понимаешь, — тихо, почти жалобно сказал он. — Вот когда поймешь, то не будешь так кричать… А теперь пусти меня, очень много дел.
Я растерялся — уж очень получалось у него все жалобно, — растерялся и уступил ему дорогу, и он пошел дальше по палубе, сутуля, словно от холода, плечи, хотя над морем горело летнее солнце.
…До Нового года оставалась неделя, а я уже получил радиограмму: «От всей души поздравляю желаю весь год счастливого плавания и трудовых успехов помнящая Ира». Радист Махмуд когда стукнул мне в дверь, то крикнул:
— Эй, Костя, привет от помнящей!
Ира была дочерью Луки Ивановича и уже пятый или шестой раз к праздникам присылала мне радиограмму с такой подписью, неизменно вызывая приступ веселья в радиорубке, хотя ничего тут веселого не было — ну, помнит человек, и хорошо.
Познакомился я с Ирой незадолго до того, как сошел с «Перова». Мы все заметили, что перед приходом в порт Лука Иванович вел себя необычно. Вообще-то каждый раз, когда мы возвращались из рейса, все на судне мылось, чистилось, красилось, все имущество проверялось — ведь стоит нам ошвартоваться, как на палубу сразу же ступят многочисленные портовые власти и комиссии и будут все проверять, все осматривать и составлять на каждую мелочь акты; считается — так обеспечивается безопасность судна.
Перед приходом в порт Лука Иванович всегда был строг, но в этот раз превзошел себя, он совсем загонял нашего похожего на медведя боцмана, славящегося выдающимся животом и потому получившего прозвище «Пузатрон». Все у нас чистилось, красилось заново, особая уборка была сделана в каюте капитана — вымыты все стены и подволок. Лука Иванович заставил старпома построить на главной палубе экипаж и попросил всех привести в полный порядок форму.
Я допытывался у начальника радиостанции: не было ли каких особых радиограмм? Ну, допустим, нас будет встречать сам министр Морского флота СССР или кто-нибудь из международных организаций подаст на шикарном подносе голубую лепту Атлантики. Но начальник только пожимал плечами и делал вид, что ему ничего не известно. Потом я убедился, что он и в самом деле ничего не знал, а небольшой личной радиограмме Луке Ивановичу, которая была получена недели за две до прихода, значения не придал, а вот в ней-то и было все дело.
«Хочу тебя видеть встречу на причале когда придете Ира».
Да не мог начальник обратить какое-либо особое внимание на этот текст, потому что во всем экипаже «Перова» только один я знал, что Лука Иванович не видел свою дочь четырнадцать лет, так как твердо держал слово, данное когда-то при разводе жене.
Отзвучали команды «Подать носовой!.. Подать кормовой!», и «Перов» прижался бортом к причалу, куда подошли две легковые машины: «газик» и «Волга». Из них неторопливо вышли портовые власти, таможенники, представители пароходства, и, пока заканчивалась швартовка, они здоровались друг с другом, закуривали; они не спешили, потому что еще не было пограничников.
Стали спускать трап, и вот тут-то я обратил внимание, что Лука Иванович в какое-то мгновение отвлекся; команда, которая должна была последовать от него, задержалась, я взглянул на него и увидел: он уставился на причал, по не туда, где собрались власти, а значительно правее, где стояли, поблескивая алюминиевыми рифлеными стенками, контейнеры, и вот там-то, сжимая букет белых хризантем, ждала девушка; она была худенькая, высокая, в светлом плаще и красной вязаной шапочке. Лука Иванович отдал нужные команды, потом поманил меня к себе и, указав на девушку, сказал:
— Приведешь ко мне… до властей. Понял?
Больше я ни о чем расспрашивать не стал, потому что трап уже опустили, а пограничников все еще не было, где-то они задерживались. Я выскочил на причал и, пока никто не успел опомниться, схватил девушку за руку, пробормотал:
— Здравствуйте! Идемте быстро!
Она испугалась, но побежала за мной. Когда мы влетели на палубу, старпом удивленно крикнул:
— Куда?!
— К капитану, — успел только ответить я и втолкнул ее в дверь, а еще через полминуты мы входили в капитанскую каюту…
Лука Иванович стоял посередине, чуть расставив ноги, весь в напряжении, и мне даже показалось — он врос в этот толстый, цвета вялой травы ковер; новенький китель сверкал на нем пуговицами и нашивками, лицо было свежо, и даже вроде бы с него исчезли морщины.
— Вы… папа? — тихо спросила Ира.
А он молчал, разглядывая ее. Наверное, он и не слышал, что она спросила. Он так долго думал об этой встрече, что сейчас был, видимо, просто потрясен, что она произошла… Ира вытянула вперед букетик хризантем, подошла к нему, он машинально взял цветы, и она наклонилась и осторожно поцеловала его в щеку, сказала испуганным голосом:
— Здравствуйте, папа.
И вот тогда он медленно поднял свою тяжелую руку с широкой ладонью, прижал к себе Иру, проговорил с трудом:
— Здравствуй, Ирочка, — и трижды широко поцеловал ее, взял тут же под локоть и повел к дивану. — Садись…
Я направился было к двери, но Лука Иванович подал мне знак, чтоб я остался, а сам подошел к буфету, достал корзинку с фруктами, поставил перед Ирой:
— Угощайся.
Только теперь я разглядел ее. Нет, я бы никогда не сказал, что она дочь Луки Ивановича, если бы встретил ее случайно. У нее было открытое, строгое лицо, никакого налета хитрости, только глаза с зелеными искорками да еще, пожалуй, веснушки на прямом, ровном носу определяли какое-то сходство с отцом; она взяла из корзины красивую длинную грушу и, стесняясь, надкусила ее. Лука Иванович сел напротив и тихо спросил:
— Ну, как ты живешь, Ирочка?
— Мы хорошо живем, — сказала она, и мне сразу не понравилось это «мы» да и вообще, как прозвучала у нее фраза, словно она с самого начала порешила заявить отцу, что те, с кем она живет, и она — нечто общее, неотделимое.
Она огляделась и сказала:
— А здесь красиво.
— Ты еще не была на пароходах? — спросил он.
— Была, — сказала она. — Вместе с мамой. Но я не помню…
— Ах, да! — спохватился Лука Иванович. — Ну конечно, конечно… Но ты тогда была очень маленькой… Где ты теперь учишься?
— Я биолог, — сказала она.
— Это, кажется, профессия…
— Да, папа тоже биолог…
Как только она это сказала, я заметил — у Луки Ивановича дернулась щека, но он тут же сумел справиться с собой. Но теперь уже Ира обнаружила свою ошибку и внезапно покраснела.
— Ой, простите! — проговорила она.
— Ничего, ничего, — сказал Лука Иванович. — Ты ешь грушу, не стесняйся… Это вкусная груша.
И в это время за дверью послышались шаги и голоса, перебивающие друг друга, — это торопились к капитану представители.
— Задержи их, — кивнул мне Лука Иванович.
Я выскочил за дверь вовремя — еще бы немного, и вся эта толпа, смяв сопротивление старпома, ворвалась в каюту, и я закричал в отчаянии:
— Товарищи! Товарищи! Капитан просит всех пройти в кают-компанию.
Впереди стояла полная женщина в полувоенной форме; кто она, я не знал. Фыркнув, она сказала:
— Вот еще новости!
Но я не сдавался и, перекрывая голоса, кричал:
— Прошу, прошу всех в кают-компанию!
Все стали поворачивать, но тут ко мне пробился майор-пограничник и сказал, потрогав рыжеватые усы:
— Ну, мне-то… — и улыбнулся.
И тогда я сказал:
— Товарищ майор, капитан не видел дочь четырнадцать лет. Дайте ему пять минут, а?
И майор все понял. Майор достал сигарету и сказал:
— Ну, если так, то подождем.
И мы с ним организовали охрану возле дверей капитанской каюты, стояли и курили; потом майор взглянул на часы и сказал с улыбкой:
— Пять минут прошло. Сами понимаете…
— Конечно, — кивнул я и решился было уже постучать к Луке Ивановичу, но тут дверь каюты открылась, и Лука Иванович кивнул майору, а мне сказал:
— Покажи Ире судно. Потом зайду к тебе.
Он впервые со мной говорил так, пока мы плавали на «Перове»; говорил, как со своим человеком, которому полностью доверяет, а до этого у нас существовали обычные отношения капитана и подчиненного, да иначе на пароходе и не могло быть.
Ира вынула из своей сумки очки и надела их; они сразу придали еще большую строгость и независимость ее лицу. Видимо, поначалу она стеснялась их носить. Я повел ее на мостик, показал все приборы, стал объяснять, для чего они служат, и видел, она отнеслась к моим объяснениям с любопытством и вниманием. Мы около часу ходили с ней по «Перову», и весь час она слушала и задавала вопросы, как прилежная ученица, и после этого я пригласил ее к себе в каюту. Она и здесь все осмотрела, проявляя интерес к подробностям, а когда села, беспокойно посмотрела на дверь и спросила:
— А что, разве папа не мог освободить сегодня день?
И я уловил в ее голосе обиду.
Тогда я стал объяснять ей, что мы пришли в порт всего на шесть часов, а капитан должен подписать такое количество бумаг, переговорить с таким множеством людей, что ему обычно не хватает времени даже позвонить домой по телефону. И, рассказав это, я не удержался и ввернул:
— Поэтому и не все жены выдерживают капитанов… уходят.
Ира строго посмотрела на меня, блеснув стеклами очков, и сказала назидательно:
— Моя мама не ушла… Она полюбила другого человека. Очень полюбила… За это людей не винят.
— Ну, естественно, — согласился я. — Зачем же за это винить?
Ира тут же вскинулась, — видимо, решила, что я ответил ей с насмешкой, — и спросила сурово:
— Вы не верите в большую любовь?
— Я верю даже в маленькую, — сказал я. — Если, конечно, ее можно измерить. Только вот я что-то не слышал, какая тут есть единица измерения.
Ира помолчала, потом опять посмотрела на меня строго.
— Мне не нравится, как вы со мной разговариваете, — сказала она. — Все время такое впечатление, будто вы задираетесь.
Я удивился: она попала в точку — я и в самом деле, не зная почему, стал задираться. И тут мне пришла на ум странная мысль: а ведь вполне возможно, что эта девушка могла бы стать моей сводной сестрой; правда, она, наверное, и не подозревает об этом.
— Больше не буду, — сказал я.
— Значит, вы и верно задирались… Почему? Вам что-то во мне не нравится?.. Ну, говорите же! Я не обижусь.
— Что же я должен говорить?
— А то, что вам во мне не нравится.
— Ну, если вы требуете…
— Говорите же!
— Да вот эта ваша сухая строгость. Прямо как гимназисточка прошлого века.
Я еще не успел договорить, как она рассмеялась и смеялась звонко, долго, взмахивая одновременно обеими руками и хлопая себя ими по колену.
— Вот это да! — наконец сказала она. — А меня ругают, что я хиппежница!
— В таком платье?
— Это я сейчас в таком, — махнула она рукой. — Костя, а можно на «ты»?
— Ну конечно.
— Просто я боюсь стать синим чулком, а меня туда иногда заносит. Наверное, это мамины гены… Ну, а через отцовские — во мне бунт. Моряки — ведь они все бунтари. Верно?
Я прикинул это слово относительно Луки Ивановича и подумал, что вот уж это-то к нему никак не подходит, ну какой же он бунтарь… А ведь все-таки удрал он из дома после девятого класса в Одессу, чтобы поступить палубным матросом на «Новороссийск», где в первый же день мариманы и бродяги пропили его новенький коверкотовый костюм… Вообще-то, конечно, моряк должен быть в душе бунтарем.
— Тогда выпьем, — сказал я.
— Выпьем, — ответила она, — только немножко.
Я достал бутылку сухого анжуйского — хранил на всякий случай это знаменитое вино д'Артаньяна, — достал коробку конфет и сказал, подняв бокал:
— Рад приветствовать дочь капитана на борту славного корабля, совершающего плавание вокруг света!
Она засмеялась, и мы выпили с ней по нескольку глотков.
— Очень вкусно, — сказала она и теперь уже с доверием посмотрела на меня. — Слушай, Костя, ты мне помоги, пожалуйста… Я вижу, ты откровенный парень. Скажи честно: мой отец хороший человек?
Я усмехнулся и сказал:
— Все дело в том, что ты под этим имеешь в виду.
— Порядочность, — сразу же выпалила она.
— Тогда будь уверена, — сказал я, — это в нем есть.
— А чего в нем нет?
— Он мой капитан, а о начальстве плохо не говорят.
— Ясно, — кивнула она. — Спасибо и на этом.
— На здоровье, — ответил я. — Только если ты пришла на пароход выяснить, хороший ли человек твой отец, то тебе, пожалуй, надо бы было пойти с нами в плавание.
— Ну да, — согласилась она. — По это невозможно. А то бы пошла… Ну, вот что, Костя, ты, видно, тут не все понимаешь. Когда я спрашивала дома про отца, мне всю жизнь говорили — вот он перед тобой, Борис Сергеевич. И это была правда. Он действительно был мне отцом. А теперь я захотела увидеть настоящего. Это ведь еще не значит, что я должна его признать как человека. Верно? Мне от него ничего не нужно. Профессию я выбрала. Получу диплом, и точка… Но тут есть другая сторона дела. А вдруг я ему нужна?
— Это в каком смысле?
— Во всех, — сказала она серьезно. — На нас есть одна вина, Костя: мы оставили его в одиночестве… Я бы не хо тела больше нести на себе эту вину. Теперь понимаешь, о чем я?
— Не очень…
— Я хочу, чтоб, когда ему станет плохо, он в первую очередь позвал меня, — сказала она, и к ней вернулась та ее строгость, с какой она взошла на пароход.
— Почему? — спросил я.
— Потому что я его дочь.
Она опять отпила небольшой глоток вина, и в это время стукнула дверь каюты, и вошел Лука Иванович. Он бросил усталый взгляд на стол, остановил его на бутылке анжуйского, и мне стало неловко: чего начисто не терпел Лука Иванович на судне — это спиртного; если кто-нибудь открывал на борту бутылку без его разрешения, он карал нещадно. Но сейчас он ничего не сказал, сел на диван.
— Посмотрели теплоход? — спросил он; ответ, видимо, его не очень интересовал, он пропустил его мимо ушей и, взглянув на Иру, спросил: — Как мама живет?
— Ничего… Спасибо, — сказала она.
— Не болеет?
— Сейчас хорошо.
— У тебя ведь брат растет?
— Да, ему тринадцать лет.
Он помолчал, и теперь на его лбу собрались все его сложные морщинки, и он как-то сразу сдал на глазах.
— Передай ей, — тихо сказал он, — у меня больше нет к ней обиды… Раньше была… Долго. Теперь — нет. — И он внезапно разжал ладонь — на ней лежали часы, великолепные часы с браслетом. — А это тебе, — сказал он. — Подарок.
Ира отстранилась, невольно вскинула руку и покраснела.
— Нет… Мне не надо. Зачем?
— Возьми, — жестко сказал Лука Иванович. — У тебя же нет таких.
— Мне не надо, — пробормотала она еще раз.
Тогда он насильно вложил ей в ладонь часы и встал, сказал хмуро:
— Не надо меня обижать.
И вот тут вскочил в каюту наш старпом. Он был череп лицом, весь потный, с раскрытыми от суеты глазами.
— Лука Иванович, пожарник требует тревогу прозвонить. Проверить хочет. Давать?
— Давай, — устало сказал Лука Иванович. — Что еще?
— Там какой-то график отпусков требуют. А где его взять, черт его знает…
— Сейчас иду, — сказал Лука Иванович и неожиданно прижал к себе Иру, поцеловал в лоб, сказал: — Умница, что пришла… Пиши мне. Костя тебя проводит. — И пошел из каюты, переваливаясь с ноги на ногу, словно понес груз…
Я проводил Иру до трапа, там мы попрощались, и она сказала мне:
— Я и тебе буду писать.
Так вот стали приходить ко мне радиограммы с этой странной подписью: «Помнящая».
«Здравствуй, дорогая моя, милая мама! Письмо это ты, наверное, получишь быстро, отправлю я его в Сингапуре, а оттуда три раза в неделю ходит самолет нашего Аэрофлота. Представляешь, можно сесть на него и за день оказаться дома…
В Мельбурне, как и обещал тебе, побывал в домике Джеймса Кука. Вообще, мама, когда ты мне об этом написала, удивился: почему вдруг этот домик именно здесь? Ну, а теперь все ясно. Оказывается, английское правительство подарило его в честь столетия штата Виктория австралийцам, было это в 1934 году, и домик капитана, разобрав по камню, по кирпичику, перевезли из йоркширской деревушки Грит-Морток сюда и поставили его в городском парке. Он стоит на фоне плакучих ив и дремучих сосен, вокруг него зеленая лужайка, и этот серый, в два невысоких этажа дом выглядит скромно, будто жилье старого отшельника… Ма, а ты не обратила внимания, что большинство великих капитанов — из провинции? Согласись, тут что-то есть; скорее всего, эдакая неутоленная жажда познания, стремление вырваться на огромный простор из тесноты маленького мира… Что, меня опять заносит? Ну, ничего, сейчас ты и не такое услышишь. Спешу поделиться с тобой мыслями, что возникли у меня в домике в Мельбурне.
Вообще-то дом как дом. Внизу — конюшня, тут сохранились даже железные кольца для уздечек, а из этой конюшни — узкая каменная лестница вверх, и там небольшая комната, и в этой комнате морской сундучок, окованный медью, с инициалами Кука, он возил его с собой во все плавания, а рядом — камень, тот самый, что он подобрал, впервые ступив на землю Австралии. И еще висит старый его портрет: длинноволосый человек с задумчивыми глазами и волевыми, крутыми морщинами у выгнутых скобой губ… Я походил по этому домику, а потом час бродил под огромными деревьями в парке и вспоминал все, что я знаю об этом капитане.
Конечно, он был великим мореплавателем и открывателем земель: он сделал за свою жизнь так много, что и невозможно осмыслить сразу всю цепь его открытий.
По понимаешь, ма, еще раньше, когда я разговаривал с Джозефом о полинезийцах и аборигенах, его жена Анни высказала такую мысль: европейцы не сумели понять культуру и быт островитян, не сумели проникнуть в их систему мышления, измеряя все, что обнаружили, эталонами своей культуры и своим бытом, и это привело к трагедий. Я согласился с ней. И вот Джеймс Кук — один из первых стал на такой путь. Прочти его дневники и записи и увидишь, что обычаи островитян, далекие от уклада жизни его родного Йоркшира, вызывали в нем не просто удивление, но и возмущение, даже негодование, он не верил, что такое возможно на земле. Он был железным рационалистом и не принимал никаких обрядов, ритуалов, не признавал жрецов и иных каких-либо носителей духовной культуры островитян. Он не дал себе труда разобраться, что за общество перед ним, на какой стадии развития находится, он считал, что есть только одна культура — европейская, и это плохо кончилось для него и для тех островов, где он побывал. Ты знаешь, как только островитян насильственно начали приобщать к цивилизации, они стали вымирать… А что касается самого капитана Кука… Ты помнишь обстоятельства его гибели?
Уже были открыты им Гавайские острова. Корабли плавали почти два года, когда пришли в бухту Кеалескекуа за водой и припасами. Навстречу им двинулись от берега каноэ, празднично украшенные. И воздавалась хвала богу Лоно… Островитяне встретили Кука, как божество, и они поверили, что он послан им, чтоб принести великие блага. На берег ступили вооруженные солдаты морской пехоты. Они искали съестные припасы и всё, что находили, несли на корабль… Закончив свои дела, корабли отправились в путь, но сильные ветры заставили их вернуться. На этот раз залив был пуст. Никто не встречал бога Лоно… На берегу произошло несколько стычек между матросами и туземцами. Потом островитяне похитили корабельную шлюпку. И вот это-то вынудило Кука сойти на берег. Он взял с собой девять солдат морской пехоты и лейтенанта и сразу же направился к селению, где жил главный вождь. Островитяне склонились перед ним, отдавая почести. Кук арестовал вождя, чтобы этим добиться возвращения шлюпки и повиновения островитян. Вождя под конвоем вывели на берег, но, пока вели его, все больше и больше гавайцев окружало солдат, и, когда вышли к воде, раздались плач и мольба. Гавайцы так долго умоляли вождя не покидать остров, что пришли в экстаз и набросились на солдат. И вот тогда-то и произошло убийство.
Ну, а помощник Джеймса Кука лейтенант Кинг, тот самый, что потом от Камчатских берегов довел до Англии корабль Кука, сообщает иную версию. Он пишет, что со шлюпок неожиданно начали стрелять солдаты морской пехоты и убили одного из вождей островитян, и тогда гавайцы вступили в бой.
Я сделал выписку из его воспоминаний:
„Островитяне против всех ожиданий выдержали огонь с величайшей твердостью и, прежде чем солдаты морской пехоты перезарядили ружья, бросились на них со страшным криком. За этим последовала сцена крайнего ужаса и смятения. Четверо солдат морской пехоты были убиты среди скал при отступлении и пали жертвой свирепого врага, еще трое были опасно ранены. Лейтенанту нанесли удар копьем, но он спасся, убив туземца, который только что его ранил и собирался повторить удар. Наш несчастный командир, когда его последний раз видели, стоял у самой воды и кричал людям в шлюпках, приказывая им прекратить огонь. Если это так (те, кто присутствовал при этом, считают, что солдаты морской пехоты стали стрелять без его приказаний и что капитан Кук хотел прекратить кровопролитие), то гуманность командира должна была оказаться гибельной для него: замечено было, что, пока он стоял лицом к туземцам, никто не осмеливался его трогать, по, как только он повернулся, чтобы отдать приказ людям в шлюпках, приказ не стрелять, его ранили в спину, и он упал лицом в воду. И тогда, заметив, что он упал, островитяне подняли громкий крик, сразу же вытащили тело на берег, окружили его и, вырывая друг у друга ножи, обуреваемые диким желанием, принялись терзать его труп. Так пал наш великий и славный командир“.
Возможно, есть еще какие-то версии и воспоминания очевидцев. Но дело не в этом. Я думаю, Кук был обречен давно и просто благополучно избегал гибели. Ведь всюду, и на Таити и на Гаваях, его поначалу встречали, как божество, как пришельца из другого мира, а он и был для них таким. Островитяне так и представляли себе иной мир, и между этими двумя мирами еще не был налажен контакт. Кук и не пытался его наладить, как сделал это, допустим, Миклухо-Маклай. Постепенно островитяне убеждались, что пришелец если и божество, то недоброе, а мир перед ними делился резко на добро и зло, как в легендах. А зло надо уничтожать. Вот что привело к трагедии… Я это к тому, мама, что человек, ступая на берега иных миров, должен знать, что и по ту сторону его культуры есть свои понятия чести и в них можно и нужно проникнуть, но нарушать их нельзя. Мне как-то еще в мореходке рассказывали, что когда один из русских мореплавателей снаряжал экспедицию в Тихий океан — я не помню, кто именно, и потому боюсь соврать, — то у всех офицеров его корабля на кортике было выбито слово „Честь“, и перед отплытием из своих земель офицеры в кают-компании давали на этом кортике клятву соблюдать достоинство, не творить ничего вопреки своей совести и уважительно относиться ко всем народам, что встретятся на их пути… Не понимаю, почему сейчас не дают клятв!
Ну, видишь, сколько я тебе написал. Больше не будешь обижаться, что шлю короткие письма.
До Нового года осталась неделя, мы будем встречать его в тропиках, в Индийском океане. Я послал тебе заранее радиограмму, по еще раз поздравляю с наступающим… Если у тебя появится Оля, передай ей от меня привет. Крепко целую мою славную учителку…»
Мне рассказал об этом Нестеров, но довольно скупо, и потому кое-что пришлось представить…
Ник-Ник, как только увидел его в дверях кабинета каюты, сразу же поднялся из-за письменного стола, где в аккуратных папках лежали бумаги, и, сделав широкий жест рукой, сказал:
— Прошу.
И Нестеров понял, что нужно идти к круглому кофейному столику, на котором стояла плетеная корзинка с бананами и кувшин с соком, в нем плавали кубики льда. Такой прием означал, что разговор будет не вполне официальным, и Нестеров, не очень приученный к вольным разговорам с капитанами, почувствовал неловкость и сел в кресло, не отваливаясь на его спинку, а прямо, словно был готов в любое мгновение вскочить по команде. Ник-Ник подвинул к нему хрустальную пепельницу и сказал:
— Можете курить, если хотите.
Нестеров сразу же воспользовался этим разрешением, достал свою трубку, и тогда Ник-Ник протянул к ней руку, взял, оглядел со всех сторон, понюхал и сказал, прищуря глаза:
— Все-таки приятный запах. А я не смог привыкнуть. Говорят: капитан без трубки — что генерал без лампасов… А? — Он засмеялся и тут же резко оборвал свой смешок, словно сам себя одернул. — Ну, так что же, дорогой мой помощник, — произнес он по-своему нежно, вращая в пальцах неочищенный банан, — мне сообщил помполит, что вы отказались с ним вести беседу на интересующую нас всех тему. Не так ли?
— Отказался, Николай Николаевич, — сказал Нестеров, — и, если вы начнете, тоже откажусь.
— Вот как? — Ник-Ник с любопытством посмотрел на него, и глаза его сделались веселыми; он радостно почесал свои кудрявые баки. — Рад слышать… Наверное, считаете: в личные дела никто не имеет права и носа сунуть. Так?
— Именно так и считаю.
— Отлично… Ну и считайте себе на здоровье. Только не на пароходе. Вы ведь когда выбирали профессию — вам говорили, какие на флоте порядки?
— Вы хотите сказать — я их нарушаю?
— Я хочу сказать вот что, — произнес Ник-Ник; нет, он не повысил голоса, он говорил все так же нежно, словно бы крадучись. — Я доволен вашей работой. Теперь, поскольку я имею право судить о штурманах, вы, как мне кажется, здесь наиболее грамотный навигатор. Отлично определяетесь, отлично владеете приборами и ЭВМ… Ну, и службу знаете. Прежде не было случая вам высказать это. Сейчас такой случай наступил… Скажу больше. Знаю историю с «Ураном». И если бы был на вашем месте, поступил, пожалуй, так же. Из всего этого можете заключить мое отношение к вам… Ну, а теперь вернемся к делу с администратором Кургановой…
Ник-Ник все-таки взял банан, который то и дело подвертывался ему под руку, и стал быстро очищать; занятый этим, замолчал, и вот тут-то Нестеров неожиданно громыхнул:
— Я люблю ее! — Видимо, потому, что он нервничал, выпалил эти слова с такой силой, что из бара кают-компании, который был по соседству с кабинетом, выскочила перепуганная буфетчица.
— Закройте дверь, Соня! — спокойно приказал Ник-Ник и неожиданно расхохотался; он смеялся на этот раз долго, обстоятельно, пока на глазах его не выступили слезы, и он вытер их ладонью.
Нестеров выждал, когда он закончит, и сказал хмуро:
— Ничего смешного нет.
— Ну, разумеется, — сказал Ник-Ник и опять как ни в чем не бывало, словно продолжая прерванную этим эпизодом речь, в той же интонации заговорил: — У Кургановой муж на другом пароходе — это во-первых… Ну, а во-вторых, у меня в столе рапорт пассажирского помощника. И мне придется принять самые строгие меры: я обязан буду списать Курганову с судна и, договорившись с пароходством, отправить ее на первом же попутном корабле домой.
— Что?! — воскликнул Нестеров.
— Только так… — твердо сказал Ник-Ник. — А чего же вы еще ждали?
— По это… это… — задохнувшись, произнес Нестеров.
И тогда Ник-Ник закончил за него:
— …обычные меры, которые принимает в таких случаях капитан.
Нестеров сжал трубку в кулаке и сказал:
— Тогда я тоже спишусь вместе с ней. Сегодня же подам рапорт.
Ник-Ник взял кувшин с соком, палил в стакан, льдинки звякнули о его край. Наверное, ему это понравилось, потому что он приподнял стакан, поболтал его, прислушиваясь к звону, и только потом протянул его Нестерову и сказал:
— Выпейте, пожалуйста.
Нестеров послушно выпил холодного соку.
— Ну вот, — сказал Ник-Ник, — а теперь я вас попрошу не торопиться, Петр Сергеевич. Рапорта от вас не приму: штурмана не уходят самовольно во время рейса.
— Но я не могу без Нины, — удрученно прошептал Нестеров. — Люблю ее.
— Сочувствую, — сказал Ник-Ник, — но помочь не могу.
Тут он поднялся, видно считая разговор оконченным, и Нестеров встал. И вот тогда-то Ник-Ник склонился к нему и сказал доверительно:
— Месяцев через пять придем в порт, вот и устроите все свои дела. Желаю успеха.
Они встретились возле информбюро. Когда Юра, подписывая бумаги, склонился над ними, тычась чуть ли не носом, он почувствовал, что кто-то положил ему на плечо тяжелую руку, быстро повернулся и увидел холодные глаза Нестерова. Наверное, он хотел закричать, во всяком случае пытался отпрянуть, решив, что Нестеров ударит его, но Нестеров только покачал головой и сказал тихо:
— Что же ты с собой сделал, парень?
Это слышали все, кто был возле информбюро.
Глава шестая ЖАРКИЙ НОВЫЙ ГОД
Луна нависла над пароходом огромным диском, словно выросла в размерах, и на ней отчетливо стала видна тень бегущего человека, а вокруг нее трепетал оранжевый отсвет. Мелких звезд не было видно, только крупные, белые; под луной и под этими звездами светилось тихое море, оно робко отдавало рассеянные лучи, но на горизонте они густели, собираясь в черную полоску по самому краю неба, и там обнажали его синеву.
Я заступил на вахту на десять минут раньше, чтобы дать возможность Нестерову переодеться и успеть к встрече Нового года в столовую экипажа, и вот они пробили, эти двенадцать ударов…
— С Новым годом!
Я вышел из рубки. Было душно и влажно, руки сразу сделались липкими, и горький вкус соли возник на губах… Безгранично море и небо — может быть, это и есть вечность? Но все равно отбит на земле еще один год, еще один круг свершила планета, и, наверное, только море и небо могут казаться неизменными, но мир не останавливается; что бы ни происходило, он постоянно изменяется: сегодня он другой, чем был вчера… В новогоднюю ночь всегда тянет к раздумьям, а у меня вахта, и я возвращаюсь в рубку, взглядываю на локатор — вращается зеленая стрелка развертки; подхожу к ЭВМ, где отсчитывается скорость и определяется наше местонахождение…
Недавно Нестеров у себя в каюте на большом листе бумаги чертил мне схему огромного парусника и, попыхивая трубкой, говорил о своей мечте: мы вернемся назад к парусам, мы поставим их на новые корабли самых больших размеров и будем управлять этими парусами при помощи электронно-вычислительных машин. Большой парус сильнее дизеля и турбины, он может придать огромную скорость судну, и он снова приблизит человека к морю; не будут вибрировать палубы и стены кают, не будет шума машин, а только плеск волн, море и веселый посвист ветра. Он говорил, и я верил ему; на пароходе у каждого своя мечта. Я тоже люблю белый парус…
Тускло мерцают приборы в рубке: свет не должен мешать вахтенному видеть море и нос корабля… А где-то там — зима, снег, разукрашенная елка и мама в кругу своих подруг… Мне Леша рассказывал, что однажды на «Перове» они в Новый год пересекали двенадцатый часовой пояс, и у них образовалось два тридцать первых числа. Оказалось, что это не так все просто: лишний день в году, и лишняя зарплата экипажу, и лишняя выдача продуктов, и много еще чего, на что нужно составлять акты…
— С Новым годом! — раздалось в рубке.
Я обернулся и увидел в полутьме Нину, вернее, очертания ее фигуры, да и узнал я ее, скорее всего, но голосу.
— С Новым годом! — ответил я и подошел к ней.
— Я пришла поздравить, — сказала она. — Давай чокнемся. — И только теперь я различил в ее руках стаканы. — Это шампанское, — объяснила она.
— Мне, Ниночка, нельзя, — ответил я как можно мягче, чтобы не обидеть ее.
— Я знаю. Но ты совсем немножко. Я хочу, чтоб у тебя все было хорошо, — сказала она.
— Пусть и у тебя будет хорошо.
— У меня не будет, — сказала она. — Но это потом, а сейчас давай чокнемся.
Мы чокнулись, и я выпил совсем глоток и сказал:
— Спасибо, что навестила. Но если сейчас это сделает Ник-Ник, мне уж никогда не стоять вахту.
— Я убегаю. Только выйди на минутку из рубки.
Мы вышли с ней на крыло мостика, и Нина повернулась ко мне так, что свет луны сразу высветил ее лицо. Оно выглядело бледным, и на нем выделялись большие глаза; казалось, они, как и море сейчас, отдают негромкий голубоватый свет; и вся она была непохожей на себя, словно с нее сошел приевшийся мне налет строгости и высокомерия, и обнажилось сокровенное — угловатая беспомощность. Она сказала тихо, застенчиво:
— Ты прости меня, Костенька… Я перед тобой виновата.
Я не привык видеть и слышать ее такой и потому растерянно пробормотал:
— За что же?
— Это потом, — ответила Нина и тут же пояснила. — Это долго… Ты найди меня после вахты… еще ведь праздновать будут. Мне надо, очень надо с тобой поговорить… Завтра ночью списываюсь. Мы с «Кузбассом» встретимся, и меня пересадят.
— Не может быть! — сказал я.
— Почему же?.. Радиограмму получили. Так найдешь меня?
— Обязательно найду.
— Ну, вот и спасибо, — сказала она и пошла к трапу.
Я еще долго стоял на крыле… Я однажды уже видел, как списывали с парохода в рейсе. Это было на «Чайковском», когда мы шли под командой Луки Ивановича в Нью-Йорк. Списывали двух матросов за то, что они, взяв с собой из порта водку, выпили после вахты и вышли на главную палубу. Тут Лука Иванович был беспощаден: «Матрос, на которого нельзя положиться, не только не нужен на борту, он опасен…» Им объявили о пересадке за два часа. Был серый холодный рассвет; они вышли на палубу с вещами, съежившиеся, с потерянными лицами, никто не сказал им слов прощания. Их посадили в шлюпку, и они ушли в холодный серый туман, в котором едва приметно выступал силуэт танкера; вся команда молча смотрела, как уходила шлюпка, и было нечто жуткое в этом. Потом уж я думал: пожалуй, не найти страшнее наказания для моряка, чем отплытие без взмаха руки, без доброго взгляда вдогонку, отплытия как проклятия, с судна, которое для тебя больше чем дом родной… Публичная казнь… И, вспомнив все это, я с тревогой подумал: «Неужто и с Ниной поступят так же?.. Да не может этого быть!» И мне стало страшно за нее…
Пустынное море простиралось перед нами — ни огонька в нем, ни тени другого корабля, луна да звезды и еще голубоватые фосфоресцирующие шары, возникающие в воде возле носа парохода… С Новым годом, море, с Новым годом, звезды и небо!
…Синий свет зарождался за иллюминаторами. Еще играли в салонах оркестры, крутились бобины магнитофонов, еще сверкала огнями в столовой экипажа украшенная сосенка, вместо елки добытая с большим трудом в Австралии и пролежавшая свой срок в холодильнике, но праздник уже заканчивался. Большинство пассажиров ушло в каюты, а те, кто был из экипажа свободен от вахты, устали от танцев, да и помнили — впереди работа; веселье тлело, не разгораясь.
Нина нашла меня в кают-компании, где сидел я одни за столом, накрытым для тех, кто отстоял вахту, но все остальные попросили буфетчицу, чтобы перенесли им еду в столовую, где были еще люди.
Нина отыскала на полке электрического камина свечку, зажгла ее, поставила передо мной.
— Так будет уютней, верно? — спросила она.
— Почему ты одна? — спросил я.
— Потому что нам надо поговорить, — сказала она. — Теперь мы можем немного выпить?
— Теперь можем.
Мы выпили шампанского, бутылка которого стояла на столе.
— А о чем мы, собственно, будем говорить? — сказал я. — У тебя все расставлено на свои места.
— У меня ничего не расставлено, — сказала она. — Но это не имеет значения. Факир… Ой, прости, больше не буду!.. Я просто хочу рассказать тебе для начала небольшую историю. Вот, ты послушай… У нас в институте жила-была девочка. Очень хорошая девочка, самостоятельная, и поэтому ей было трудно. Родители ее жили далеко и помогать ни в чем не могли. У них еще было трое детей. И вот тогда девочка решила в свободное время зарабатывать и пошла в преподавательскую столовую уборщицей. И еще жил-был в нашем институте один здоровенный дядька, которого не очень любили студенты… Бывает так, верно? Все-таки мы в «инязе», и, когда говорят с кафедры грубости, это не очень приятно. А у него случалось. Все говорили: характер, с этим ничего не поделаешь. И вот однажды девочка убирала со стола посуду, и этот здоровенный дядька задел ее локтем, и остатки соуса вылились ему на штаны. Девочка испугалась, принесла мокрую салфетку, чтобы он все вытер. Но он раскричался и уж не мог остановиться. Он кричал, что девочка нагрубила ему, что девочка вообще не умеет себя вести, и он потребовал, чтобы девочку выгнали из столовой. Наверное, так бы и сделали. Ну кто с ним станет связываться? Но тут нашелся человек, который в это время случайно оказался в столовой. Он был студентом, этот человек. И он пошел в ректорат. Он пошел в комитет комсомола. И когда его там не поняли, он пошел в редакцию газеты. И он показал, что виновата не девочка, а этот самый дядька. Он так это сумел доказать, что грозный для студентов человек вежливо и жалобно извинялся перед девочкой. Вот это я тебе хотела рассказать.
— Зачем? — спросил я.
Трепетала половина свечи, и веселые змейки играли в глазах Нины. Она сидела передо мной, скрестив руки и сжав ладонями острые локти, — это всегда была ее любимая поза.
— Если ты не понял, тогда я тебе еще расскажу… Он все-таки озлобился на студента, этот злой дядька. И через год решил его завалить на экзаменах. Он завалил его раз, он завалил его два, а на третий раз студент сказал, что будет сдавать ему экзамены только публично. Дядька сказал: «Чепуха». И тогда студент на семинаре поднялся и сказал: «Я хочу, чтобы все, кто здесь сидит, задали мне любой вопрос по предмету. Я буду отвечать. И пусть при вас преподаватель выставит мне объективную оценку»… Вот такой это был студент. Теперь понимаешь?
— Нет.
— Я рассказываю тебе про Юру Тредубского. Я еще тебе много могу о нем рассказать в таком духе. И не только я, а все, кто с нами учился в то время в «инязе».
Синева рассеялась за иллюминатором, и белый свет втекал в кают-компанию, споря с желтым пламенем свечи. Нина сидела передо мной, смотрела насмешливо, думая, что поразила меня. Но я удивлялся другому. Юру в роли героя ее рассказов я, пожалуй, представить мог, потому что знал, какой он бывает упрямый и как загорается в спорах фанатичный блеск в его глазах, но я по ожидал, что именно вот так, с оттенком восхищения, она начнет о нем говорить.
— Зачем ты сейчас об этом рассказываешь? — спросил я.
— Потому что нынче ночью я сойду, а он останется.
— Да плевать я на него хотел!
— Вот, — сказала она и назидательно подняла свой длинный палец. — А я не хочу, чтобы вы тут устраивали ему блокаду или еще что-либо в этом роде… Петру я уже все сказала. Он пообещал его не трогать. А с тобой сложней… Юра ведь считает тебя своим другом. А ты ему уже показал спину.
Вот тут я разозлился. Я дунул что есть силы на эту дурацкую свечку, которая мигала перед моим носом, встал и прошелся вдоль стола.
— Ну, вот что, — сказал я. — Ты можешь представлять его передо мной полным Иисусиком или еще кем-то вроде того, но… Бывают мгновения, когда перестаешь доверять. А с этим кончается дружба. И я тут ничего не смогу поделать!
— Значит, ты не понял. — Теперь ее голос снова обрел ту ровную, плавную интонацию, что всегда мне не нравилась и от которой, как утверждал Юра, приходили в восторг пассажиры-англичане. — Я должна тебе объяснить все с самого начала…
— Не надо с самого начала, — нетерпеливо перебил я.
— Хорошо, тогда только суть, — согласилась она. — Юра всегда руководствуется одним — справедливостью. У тебя была возможность это заметить. Он и сейчас считает: написал рапорт, только требуя справедливости.
— Какая-то чепуха, — сказал я. — Завтра ему покажется, что я несправедливо вышел на палубу к пассажирам, и он на меня напишет рапорт. Если человек чокнутый — какая разница, на чем он чокнутый!
— Он не чокнутый. А ты меня выслушай! — упрямо прикрикнула она. — Ведь меня, в конце концов, списывают. Стало быть, с ним соглашаются. Так?.. Ну, что молчишь? Так или не так?
— Ну, допустим.
— Что же, по-твоему, и все остальные чокнутые?.. Вот то-то! — торжествующе воскликнула она. — Он верит: никакое нарушение нельзя оставлять безнаказанным. И если у него что-нибудь не ладится, он сам себя съесть может… Ты даже не знаешь, что он написал рапорт по этим самым бумажным стаканчикам и попросил, чтобы у него за них вычитали из зарплаты. Бухгалтер чуть не умер от удивления.
— Вычитают? — поинтересовался я.
— Не знаю, — сказала она. — Не в этом дело… Короче говоря: не травите Юру. Я тебя очень прошу. У меня нет на него обиды… Рано или поздно, все равно все бы стало известно, и… А перед тобой я должна извиниться.
— За что?
— Мне надо было тебе давно сказать: я села на этот пароход из-за Нестерова.
Вот тут я действительно удивился и глупо спросил:
— Как?
— А вот так, Костя… Мы познакомились с ним на берегу. И я тогда поняла: не смогу без него. И сделала все, чтобы попасть сюда. — Она усмехнулась. — Мне Юра помог… Вот видишь, как. Он не знал тогда…
— А если бы знал? — спросил я.
Она на мгновение задумалась, ответила:
— Все равно бы помог.
— Смешная ты все-таки! — вдруг обозлился я. — Да просто твой Юрка влюблен в тебя по уши. Это каждая девчонка на пароходе видит. И написал-то он свой рапорт из-за ревности. А ты из него рыцаря печального образа делаешь. Дон Кихот очкастый!.. Сочинила борца за справедливость!
— Ты еще в этом убедишься, — сказала она.
— Я думал, ты со мной о другом будешь говорить.
Она посмотрела на меня прямо и опять усмехнулась.
— О другом я с тобой говорить не буду, — ответила она и встала, — Леше я уже все сообщила, так что нам и говорить незачем… Ты хорошо ко мне относился, Костя. Ты сам не знаешь, как помог мне здесь на пароходе. Спасибо тебе, — сказала она и наклонилась, поцеловала меня в щеку.
И в это время от двери раздалось:
— Ну и нашли место целоваться! Нам уборку делать!
В дверях стояла наша буфетчица Соня в своей немыслимой юбке с бубновым тузом на подоле.
— С Новым годом, Сонечка! — сказал я ей.
— С морским приветом! — ответила она и пошла, громыхая ведрами, в бар кают-компании.
Всё-таки, что бы ни говорила Нина, как бы ни пыталась представить Юру в эдаком облагороженном свете, я не мог побороть неприязнь к нему… «Это ее дело. Пусть она даже восхищается им, — размышлял я. — Мало ли, для чего ей нужно! Может, она и себя таким образом оправдывает. Поди узнай, что у женщин на уме?..» И все же мне хотелось быть объективным. «Давай-ка разберемся, — говорил я себе. — Ты ведь считал Юрку фанатиком? Считал… Когда это началось? Пожалуй, после захода в Коломбо…»
У трапа танцевали гибкие, одетые в белое индийцы, отбивали ритм на маленьких барабанах, свистели в крохотные дудки — живая туристская реклама. Город открывался сразу же у порта множеством мелочных лавок, где торговали медными и деревянными поделками, магнитофонами, тряпьем, драгоценными камнями, чаем и знаменитой травой пол-палой, лежали на прилавках связки бананов и оранжевые королевские кокосовые орехи; завывали на флейтах заклинатели змей, и на эти звуки из плетеных корзин, поднимая крышки, вставали, задрав ромбовидную голову, кобры. Но стоило пересечь дорогу, как начинались парки, растекалась тишина, только журчала вода в источниках, и золотой Будда возвышался на пьедестале, отсвечивали темные стекла отелей, и снова обрывалась граница тишины, снова возникал рыночный шум индийского квартала, грохот железа, запах асфальта и вареных бобов, голые дети в пыли, быки, тянущие повозки, бег быстрых рикш, а рядом — движение роскошных машин и сияние реклам, и над всем этим — влажная тяжесть густого воздуха, как увеличительное стекло, усиливающее солнечные лучи.
Мы подошли к буддийскому храму, у входа оставили ботинки и медленно двинулись по кругу. Огромный лоснящийся Будда лежал, сидел, стоял, перед ним молящиеся клали цветы и монеты. Все ярко здесь было, красочно, и когда мы вышли, то остановились в тени огромного дерева-рощи, индийского фикуса, или, как называют его здесь, баниани, корни его поднимались вверх, сплетаясь многочисленными стволами. Говорят, их бывает у этого дерева до тысячи. И еще говорят: каждый год вырастает ствол, и по этому можно узнать, сколько дереву лет.
К нам подошел монах в желтом саронге. Он склонил голову, отсвечивая коричневой лысиной, щеки у него запали, рот провалился, говорил он быстро, и я не сумел разобрать слова. По Юра разобрал.
— Что он рассказывает? — спросил я.
— Он говорит о смысле жизни, — сказал Юра.
— Ну и что?
— Он говорит про восьмеричный путь. Этот путь состоит из праведного воззрения, праведного стремления, праведной речи, праведного действия, праведной жизни, праведного усилия, праведного созерцания, праведного размышлении…
Пока Юра объяснял мне, монах ждал, ласково улыбался провалившимся ртом, смотрел добрыми коричневыми глазами.
— По это невозможно, — сказал я. — Разные люди по-разному считают, что такое праведное?
Юра перевел монаху. Тот слушал, кивая, и так же, не меняя ласкового, почти блаженного выражения лица, отвечал.
— Он говорит, — сказал Юра, — что праведное может быть только одно. Это беспристрастный взгляд, способный видеть вещи такими, какие они есть, не одну их сторону, а сразу все, полностью, целиком, без отступлений, без отклонений, и тот, кто научится так видеть, тот познает в совершенстве гармонию мира, а стало быть, и смысл жизни.
— Он научился? — спросил я.
— Он говорит, что да, — сказал Юра.
Монах поднял голову, большой кадык выпирал вперед на его черной морщинистой шее; он продолжал улыбаться, приоткрыв беззубый рот.
— Скажи ему спасибо, — сказал я. — Пойдем отсюда.
Мы вернулись ко входу в храм и с трудом пробились к автобусной остановке через толпу полуголых потных людей, просящих милостыню и торгующих цветами. Мокрые от жары, вернулись к себе, и тогда Юра, выпив не менее литра холодной воды, сказал:
— А ты знаешь, этот монах прав.
— Может быть, — сказал я. — Только очень уж много он требует праведного. Мне бы стало скучно жить.
— Потому что ты не знаешь, что такое победа над самим собой.
И вот тогда-то я увидел этот фанатичный блеск в его глазах, а может быть, так отсвечивали его очки.
И мне стало неприятно. Мне и прежде не нравилось, когда кто-нибудь в споре пытался изобразить из себя твердокаменного: казалось, тут больше восхищения собой, нежели искренности… Но Юра был не только таким — иначе бы мы с ним не подружились, — он был и добрым малым. Мне он понравился в начале нашей работы на «Чайковском», когда мы пересекали Атлантику, шли в Нью-Йорк.
Погода стояла скверная. Низко летели быстрые тучи над морем, поливая нас мелким колючим дождем, и волна была свинцовой, тяжесть ее ощущалась на взгляд, только у борта образовывались стеклянно-голубые наплывы. В этих местах, у сороковых северных широт, всегда скверная погода, потому что сталкиваются два течения: теплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское. Если была такая страна Атлантида, то, наверное, жители ее немало страдали от ветров и дождей…
Открытые палубы были пусты, и только возле бассейна, затянутого на эти непогожие дни сеткой, сидел в плетеном кресле человек. Подняв воротник непромокаемого пальто, он сидел там подолгу, не замечая ни дождя, ни качки, и вода струйками стекала с его широкополой шляпы. Он был худощав, с седыми висками, с большими полукружьями усталости под глазами на темном загорелом лице, у него были плотные губы; изредка он доставал сигарету и медленно курил, глядя в море светлыми серыми глазами, в них было что-то выцветшее, отлинявшее…
Иногда к нему подходила женщина со строгим, аскетичным лицом. Она молча брала его под руку и уводила с палубы в каюту, и он покорно шел за ней. И вот однажды к нему подошел Юра и сказал:
— Мистер Томсон, капитан просит вас, чтобы вы оказали ему честь — посетили его каюту.
Американец долго, удивленно смотрел на него, потом поднялся, он был высок ростом, чуть сутулился, и сказал:
— Благодарю.
А через час они сидели втроем в каюте Луки Ивановича за накрытым столом, и мистер Томсон, немного выпив, рассказывал, как в сорок пятом он водил студебеккер по дорогам Германии и как ему пришлось вместе с другими отбивать атаку немцев — остатки какой-то разбитой бронетанковой колонны, напавшей на советский госпиталь…
И еще он рассказывал, что приехал в Союз от фирмы, которая поставила в район Сибири химический завод, но вот случилась с ним беда, врачи сказали — инфаркт, и он два месяца провалялся в больнице, а теперь… у него было скверное настроение…
Я увидел этого американца на мостике; его привел туда Лука Иванович, чтобы показать подход к Нью-Йорку… Он был весел, то и дело отпускал шутки… А мы шли по водам Гудзона. Я впервые заходил сюда, и все мне было интересно. Сначала возник огромный двухэтажный мост и движение огней на нем, и, пока мы шли к этому мосту, быстро рассвело, и открылось серое утро, стало холоднее, а даль проглядывалась хорошо. Я увидел Нью-Йорк в сером рассвете. Прежде всего обозначился Манхеттен. Он возник из тумана и надвигался на нас, как некая гигантская сказочная крепость со ступенчатым изломом стен и огромными башнями над ними; постепенно туман отходил, мы все глубже и глубже продвигались по Гудзону, и распадалась, расслаивалась монолитность Манхеттена: за кормой теплохода поднималось солнце, лучи его высветили небоскребы, и они сразу окутались серебристой дымкой. Теперь уж они были видны по отдельности, два стоящих рядом друг с другом плоских параллелепипеда; они вздымались в облака, вершины их прятались в серебристо-розовой наволочи, — это были небоскребы международного торгового центра, а правее их устремилась ввысь знаменитая игла Билдинга… Мы подходили к сороковому причалу.
— Ну, вот и ваш дом, — сказал Лука Иванович американцу.
— Спасибо, — ответил он. — Я рад буду видеть вас у себя.
На следующий день Лука Иванович сказал при мне Юре:
— Вы молодец, пассажирский. Если будете так внимательны к каждому, то наш пароход прославится самой высокой чуткостью в мире.
Потом мне Юра объяснил:
— Мне все рассказала женщина, которая его сопровождает. Она медицинская сестра. Ее направила фирма… Он крупный инженер. Ну, и еще — встречался на войне с нашими… А после инфаркта он скис, и эта женщина боялась, как бы с ним не случилось дурное. После инфаркта у людей часто бывает душевная паника. И тогда я решил им заняться и сказал об этом Луке Ивановичу.
Вот что я вспомнил… Ну зачем, зачем ему нужно было записать этот дурацкий рапорт?
«… Знаешь, мама, бывают ситуации, когда люди не могут найти выход, а то и просто невозможно его найти. Мне рассказывали, что на нашем „Чайковском“ два года назад случилась такая история. Шли в южной части Индийского океана, и внезапно на пароход села большая стая ласточек. Они опустились на палубы, обессиленные перелетом из северных широт; то ли их очень трепали бури и штормы, то ли сбились с пути их вожаки и они приняли пароход за остров, но, опустившись на него, уже не могли взлететь; это были земные ласточки; есть еще маленькие морские, так называемые качурки Вильсона, но эти были земные, и они привыкли питаться мелкими мошками, а этих мошек в море не было. Им рассыпали по палубам крупу, зерно, хлеб, ставили воду, но они не ели. Утром палубы были усеяны птичьими трупами, и никто ничего не мог поделать, чтобы спасти ласточек, только очень немногих удалось доставить до берега…»
Около трех часов ночи на локаторе четко обозначились две светлые точки, и ЭВМ показала, что оба парохода идут параллельно, почти одним курсом. Одним из них должен быть «Кузбасс», о котором сказа: а мне Нина. Ник-Ник поднялся на мостик, вызвал на него начальника радиостанции, и сразу же раздалось:
— «Кузбасс», «Кузбасс», я «Чайковский»! Слышите меня?
— Слышу вас хорошо. Я «Кузбасс», вижу вас.
— Подойдете к нам на полмили… Но сначала дайте вспышку.
— Понял вас, «Чайковский». Через полминуты даю вспышку.
Я напряженно смотрел в море, туда, где светились вдали огоньки двух пароходов, и на одном из них, том, что был левее, вдруг вспыхнул прожектор и погас.
— Видим вас, «Кузбасс»… Через несколько минут будем ложиться в дрейф. Подходите к нам с наветренной стороны на полмили, как договорились.
— Вас поняли! — И внезапно веселый басовитый голос проговорил: — Прошу капитана к радиотелефону.
— Капитан «Чайковского» слушает, — ответил Ник-Ник.
И тут же этот голос радостно закричал:
— Николай Николаевич?! Усачев говорит… Не забыл такого?
Ник-Ник стоял возле штурманского столика, держа телефонную трубку возле уха. Лампочка, обычно освещавшая карту, была чуть подвинута в сторону, и при этом свете можно было хорошо различить лицо Сабурова. Оно было сейчас необычным, на нем сразу появилось что-то озорное, — не просто веселое, а именно озорное, словно где-то в глубине души его пробудился мальчишка.
— Здравствуй, Усачев! — проговорил он.
И я тут же почувствовал: он хочет назвать этого человека, капитана «Кузбасса», как-то иначе, — возможно, по имени, а возможно, и по кличке, но знает, что там, на мостике, стоят подчиненные Усачева, как здесь стояли мы, и все же он подумал и сказал тихо:
— Как живешь, Степа?
— Спасибо, Коля, нормально живу. Только вот курить нечего. Два месяца без захода в порт, сигареты кончились — уши пухнут. У тебя нет ли закурить?
Это простое обращение, произнесенное так, будто капитаны стояли друг против друга, а не разговаривали по радиотелефону, разделенные ночным океаном, внезапно вызвало смех в нашей рубке. Я услышал по радио, что и там, на «Кузбассе», тоже смеются.
— Ну, это не страшно, — сказал Ник-Ник, — ящик сигарет вам отправим. Дымите до самого порта… — И тут же капитан повернулся ко мне. — Сообщите кладовщику, чтоб подготовили сигареты.
— Есть! — сказал я.
А Ник-Ник продолжал разговор:
— Дома все хорошо?
— Спасибо, Коля… Слышал, твоя Вера диссертацию пишет?
— Пишет… Сколько же я тебя, Степа, не видел?
— Вот сейчас подсчитал: три года и три месяца. С Васькиного дня рождения… А я ведь только из радиограммы пароходства узнал, что ты на «Чайковском». Думал, еще в подменных… Поздравляю тебя с хозяйством…
Так они разговаривали, а суда наши шли навстречу друг другу, и вокруг была ночь, но эти двое будто забыли, для чего встретились здесь, в море, и что предстоит им. За ними обоими стояла какая-то своя жизнь, очень обыкновенная, простая, и они в мыслях своих ушли в нее. И вдруг я услышал:
— Послушай, Степа, — сказал Ник-Ник, — мы сейчас пассажира вам дадим, так вы не обращайтесь с ним, как с нарушителем… Так просто случилось у нас, и все. Другого выхода нет… А человек хороший. Я прошу, если можно, повнимательней.
— Я понял, Коля, — ответил по радиотелефону Усачев. — Все сделаем. Письма домой приготовили?
— Конечно, приготовили, — сказал Ник-Ник.
Прошло еще полчаса, и мы увидели с правого борта теплоход, вернее, тень его и огни; «Кузбасс» остановился, на фок-мачте зажглись интенсивные огни.
На ботдеке вспыхнула навесная люстра, высветив неровный круг в том месте, где нависла шлюпка. Двое матросов удерживали ее, и я увидел, как в этот круг света вышла Нина и вместе с ней Нестеров, он нес ее вещи; они остановились возле леерного ограждения, и Нина повернулась к Петру… Что-то было неестественное во всем этом, неправдоподобное, напоминающее театральную сцену: те, кто провожал Нину, и старпом со своей командой, кроме двух матросов у шлюпки, словно бы сговорились не переступать черты светового круга, остановились за ней, и с мостика мне видны были только их тени, а Нина и Нестеров стояли, залитые ярким светом, видимо сами не замечая этого, и потому каждое их движение было отчетливо заметно всем. Нина подняла руку и пальцами мягко провела по щеке Нестерова и попыталась улыбнуться, но улыбки у нее не получилось, губы дернулись, как от боли, и, наверное, чтоб спрятать это, она хотела прижать ладони к лицу, но Нестеров не дал ей этого сделать, быстро притянул ее к себе и поцеловал, и так они стояли некоторое время, обнявшись, пока не раздалась команда садиться в шлюпку: матросы сняли леерный рей, помогли Нине взойти в шлюпку, и тень сразу заслонила ее.
— Майна! — крикнул старпом.
Шлюпка пошла вниз на талях, коснулась воды, взревев мотором, качнулась на плоской волне и быстро стала удаляться; вспыхнул прожектор и высветил ее, словно вырвав из черноты моря, и так вел шлюпку этот длинный луч света, пока она не превратилась в небольшую точку, а те, кто стоял на «Чайковском» на открытой палубе, — а собралось, несмотря на ночь, много людей, — все махали и махали руками и платками, как бывает это во время отхода парохода из родного порта.
Потом с «Кузбасса» просигналили, что пассажир на борту, теперь уж там вспыхнул прожектор и повел пашу шлюпку к «Чайковскому», и этот луч, протянувшийся от одного парохода к другому, был как рукопожатие, когда он вместе со шлюпкой коснулся борта «Чайковского»… Шлюпку подняли на борт, закрепили по-походному, прозвучала команда машине, и мы дали три длинных гудка прощания, и «Кузбасс» ответил такими же.
А те, кто провожал Нину, все еще стояли у фальшборта, смотрели, как тают в ночном море огни уходящего парохода. Кончилась моя вахта, и я опустился на ботдек и встал в толпу провожающих.
— Эх, домой хочется! — с тоской проговорил девичий голос.
И я тоже в это мгновение подумал о доме… Ушел «Кузбасс» к родным берегам, растревожив наши души, да ведь так всегда и бывает, когда в море встречается наш пароход… «Тоскует моряк на берегу по морю, а в море — по берегу…»
Нестеров стоял в стороне от всех, дымил своей трубкой. Я подошел к нему, он повернулся, узкие глаза его совсем запали, две темные щелки глянули на меня.
— Вот так, — неопределенно произнес он.
Мне захотелось его успокоить, и я сказал:
— Ничего, на берегу встретитесь.
— Как знать, — сказал он. — За столько времени все может случиться…
— Она будет ждать, — убежденно сказал я.
— Я тоже в это верю. — Он отвернулся от меня и стал смотреть в море, а там уже растаяли начисто огоньки теплохода, и теплый синий свет заструился с неба, стирая звезды, — приближалось утро.
«…И еще вот что я тебе скажу, ма: меня поразило не то, как она открыто прощалась с Нестеровым, хотя только об этом и толкуют сейчас на пароходе, а как сразу изменилось мое отношение к ней. Прежде она мне не очень нравилась, хоть мы и дружили, — казалась заносчивой, иногда высокомерной, и я не мог связать то, что рассказывал мне о ней Леша, с тем, что сам наблюдал. Но вот теперь, когда ее списали… Я написал это и подумал: ты, наверное, и не поймешь, почему ее списали. Это могут понять только моряки, потому что все сделанное капитаном — необходимость выполнять морские законы. Тут у нас очень жесткие правила, которые держатся на странной логике: если дозволено одному, почему не дозволено другим? Моряки многих поколений издеваются над этим законом, кричат: „Только на флоте любовь под запретом“, протестуют, но никому пока еще не удалось одержать над ним победу. Мы смирились и воспринимаем его как данность. Ну, так вот, когда ее списали, она предстала передо мной как бы в ином свете, и я обнаружил то, чего прежде не замечал и не понимал. Она оказалась смелой и честной, она не стала ни хитрить, ни прятаться, она встала и открыто сказала: „Я люблю и никого не боюсь“. Вот такой она и запомнилась: стоит под ярким лучом света, не стыдясь своих чувств… Но, пожалуй, я еще не во всем разобрался. Тут есть над чем подумать, ма, как любил говорить Леша: „В отражении луча надо учитывать не только свет, но и зеркало…“».
Когда провожали Нину, он вышел на палубу в светлой, парадной форме, стоял в стороне молча, то и дело подергивая носом и поправляя сползающие очки — они были на этот раз у него в темно-зеленой толстой оправе. И когда она садилась в шлюпку, то вдруг оглянулась, отыскала его глазами и помахала ему рукой, но он не ответил.
А на следующее утро в десять часов капитан вызвал Тредубского к себе, об этом сообщили по спикеру. Прошло пятнадцать минут, Юра у капитана не появился. Тогда его еще раз вызвали по радио и повторили этот вызов несколько раз, он не отозвался, его начали искать по всему пароходу и не нашли. Первый помощник срочно созвал экипаж в столовой, стали спрашивать, кто и когда видел Тредубского. Вспомнили: он завтракал в кают-компании, по ни с кем не общался, заходил в информбюро в половине девятого; последним, кто его видел, был палубный матрос: Тредубский стоял на прогулочной палубе в том месте, где было разбито квадратное окно, и что-то записывал…
По команде первого помощника еще раз были проверены все закутки парохода, но нигде Юры не было. Теперь уже не оставалось сомнений — Юра в океане. Все штурманы были вызваны на мостик, и капитан отдал приказ повернуть «Чайковский» строго на сто восемьдесят градусов и следовать в обратном направлении к предполагаемой точке, где мог оказаться Юра за бортом… Солнце яростно освещало плоские фиолетовые волны мертвой зыби.
Глава седьмая ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ
«Чайковский» шел обратным курсом. Всюду выставлены были наблюдатели. Было тихо и тревожно; прошло уже около часа в ожидании… Были сделаны запросы по радио, и выяснилось, что в этом районе никаких иных судов, кроме нашего, нет, так что если Юра еще оставался жив, то ему можно надеяться только на возвращение «Чайковского», но он и об этом не мог знать…
Море, бескрайнее, чужое, простиралось вокруг: водная пустыня. Только вглядываясь в бесконечность плоских волн, можно понять смысл глухой безнадежности этих слов. Пронзенное солнечными лучами пространство соленой, непригодной для питья воды с неведомыми глубинами, где сокрыты сто тысяч опасностей для человека от акульих зубов до еще никем не познанных, загадочных явлений… Свирепое безмолвие воды… Только судно в нем обжитое, как часть родимой земли, место, и стоит оторваться от него, очутиться за бортом, за пределами привычного мира, как человек мгновенно становится обреченным. С каждой секундой целая планета со своим населением, бытом, работой, развлечениями отдаляется, и мольба о спасении не достигает ее берегов. Беспомощный, лишенный всего, остается человек в необитаемом пространстве.
«Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха», — так написал когда-то один из храбрых моряков, по своей воле ставший однажды лицом к лицу с океаном и познавший всю трагедию одинокого человека в море.
Нестеров подошел ко мне на крыле мостика и, оглядевшись, чтоб нас никто не слышал, спросил тихо:
— Ты не думаешь, Костя, что он мог… сам?
А меня уже давно мучила эта мысль. Все могло быть, все: после списания Нины, оставленный в одиночестве, презираемый многими на пароходе, он мог истолковать свой поступок как непоправимый шаг в жизни и прийти в отчаяние. Ведь недаром Нина беспокоилась о нем и специально завела разговор со мной в новогоднюю ночь; возможно, она что-то знала… Могло быть так, а могло… Ну, пошел вытаскивать матрац для лежаков — он же за него отвечает, — был невнимателен и соскользнул за борт…
— Не знаю, — сказал я. — Это только он может рассказать.
— А если он не расскажет? — прошептал Нестеров, и я только сейчас увидел, как он переменился за эти сутки; под глазами появилась синева, и узкие веки его были воспалены, он сделался старше за это время.
— Будем надеяться, — сказал я.
— О черт, только бы его нашли! — Он сказал это, скрипнув зубами, словно хотел подавить в себе крик, и я тут же понял, почему он так: ведь в нем еще жила та самая история с «Ураном», в которой он чувствовал себя виноватым, хотя и не было за ним вины.
Шарили бинокли по морю… Более двух часов, по нашим расчетам, Юра находился в воде. Я попытался представить, как он плывет или держится на поверхности океана, и представить мне это было трудно… Два часа, узкоплечий парень… Правда, по утрам он занимался гантелями; впрочем, он не так уж плохо умел держаться на воде… и все же.
У нас на «Перове» был случай, когда человек оказался за бортом… Это произошло с артельщиком Пашей. Шли в тропиках, и вышел из строя кондиционер. Спать ложились на палубу, поливая ее водой, но артельщик и тут уснуть не мог, ворочался, ворочался, ушел к себе в каюту, ну, а там как в парной, он вылез оттуда и выбрал место на баке. А на «Перове» киповая планка невысокая, артельщик все-таки заснул возле нее, теплоход внезапно качнуло, и он через эту планку перелетел. Проснулся, еще не коснувшись воды, сразу понял, в чем дело, и постарался побыстрее оттолкнуться от борта, чтоб не затянуло его под винты. Он стал кричать, потом увидел, что судно остановилось, и подумал: услышали его крики, а на самом деле вахтенный увидел, как он гадал; и прошло-то всего несколько минут, а артельщику они показались часами… Спустили шлюпку, — хорошо, море было спокойным, — вытащили его. А потом, когда мы ошвартовались и пошли экипажем купаться на пляж, Паша в воду не полез, хотя был хорошим пловцом, и еще много прошло времени, пока он перестал бояться воды…
Когда я учился в мореходке, то наслушался много рассказов о падении за борт. Большинство из них было с благополучным концом, и я понял, что моряки сами для себя создают легенды, в которых отчетливым маяком светится надежда. Но, кроме этих легенд, были и действительные случаи, о которых писали газеты, и тогда вырезки ходили по рукам… Я помню, как поразила всех история Рона Хансена, норвежского капитана, который сбит был волной, когда судно шло через Атлантику в Кейптаун. Исчезновение капитана на судне обнаружили только через два часа, да и то по воле случая, потому что была получена срочная радиограмма. Но радист не решился сам войти в капитанскую каюту, а сделал это вместе со старпомом. Только когда они обыскали весь пароход, то поняли, в чем дело, и пошли обратным ходом, включив прожектора и локаторы… Они нашли своего капитана; Рон Хансен находился в океане более восьми часов. После этого он вошел в число легендарных… Но одно дело Рон Хансен, здоровый норвежец, морской волк, железный человек, другое — Юра Тредубский, парень, закончивший «иняз» и каждый день меняющий очки… Правда, здесь теплые воды, не то, что в Атлантике, но и в таких водах несколько часов выдержать трудно…
Нестеров без конца курил трубку, нервно прохаживаясь по крылу мостика и то и дело взглядывая вперед.
Ник-Ник стоял в рубке, опираясь руками о выгородку, в которую обычно мы ставим бинокли. Лицо его было спокойным, даже сонным; сперва мне подумалось — он смирился с происшедшим и знает всю безнадежность наших поисков и потому так равнодушен к ним, но потом я заметил, что его внешнее спокойствие только кажущееся.
Рядом с ним стоял Виктор Степанович. Он, не выдержав собственного запрета на курение, жадно тянул одну сигарету за другой, словно пытался сейчас наверстать упущенное, и нервно приглаживал ладонью торчащий белый хохолок. И вот, когда он обратился с каким-то малозначительным вопросом к Ник-Нику, у того дернулась щека, и он сказал:
— Все — потом, — и этим выдал свое нервное напряжение.
Да, они нервничали оба, но Ник-Ник старался этого не показывать, а Виктор Степанович скрыть свою взвинченность не мог… Гибель человека из экипажа — это не просто серьезное дело, грозящее капитану и первому помощнику неприятностями, это трагедия… Уже сейчас затаилась капля страха в сердцах большинства тех, кто работал в ресторане, в пассажирской службе, — кто не был истинными моряками: в любое мгновение эта капля может разрастись, вызвав у наиболее слабых отчаяние или панику. Человек на пароходе никогда не уходит из жизни один, он уносит с собой запасы мужества наиболее неуверенных, обезоруживая их перед суровостью стихии, и стоит возникнуть шторму или обрушиться иным бедам на судно, как слабость и страх могут победить. Нет ничего страшней, чем явление смерти на судне.
Я посмотрел на ЭВМ; оставалось около десяти минут до того места, где, по нашим расчетам, упал за борт Юра. Отдавать команду, чтоб наблюдатели были особо внимательны, не имело смысла, потому что и так все смотрели в море с напряжением, докладывая о каждой точке в воде.
На многие из докладов Ник-Ник вообще не реагировал, он и сам все прекрасно видел, но когда наблюдатель крикнул: «Справа пятнадцать, дистанция пять кабельтовых, вижу трех альбатросов!», Ник-Ник вздрогнул и сразу та вскинул бинокль.
Я тоже посмотрел в бинокль и различил две темные черточки, вращающиеся над поверхностью моря… В море птицы просто так не кружат над водой… Там что-то есть.
— Дать тревогу «Человек за бортом»! Право пятнадцать! — скомандовал Ник-Ник. — Полный вперед!
— Есть право пятнадцать, полный вперед!
Пароход повернулся носом в сторону птиц, и сразу вокруг изменилась обстановка: забегали матросы, старпом побежал на ботдек проверять шлюпки. Я теперь уж не отрывал глаз от бинокля — обнаружилась реальность надежды, и она сразу же взвинтила всех… Да, это были альбатросы, теперь уж я хорошо видел и тут же подумал: «А не те ли?» Конечно, это было глупостью, мы ведь далеко ушли от Австралии, да и не могут на таких пространствах встречаться одни птицы, и все же мне захотелось, чтоб это были именно те самые альбатросы, что сопровождали нас несколько дней в Тасмановом море… Вот одна из птиц наклонила крылья и неожиданно пошла вниз, на мгновение исчезла, потом вновь показалась над самой поверхностью воды, и, в то время как она плавно начала взлетать вверх, я закричал:
— Человек!
Мне показалось, что я крикнул это первым, но я ошибся, потому что одновременно со мной это же слово выкрикнули несколько наблюдателей:
— Человек!
Нет, не случайно птицы кружили там. Но был ли он жив?
— Приготовить шлюпки! Бот номер два к спуску!
Ник-Ник повернулся, быстро оглядел нас и приказал спускаться на воду шлюпке под командой Нестерова.
— Со шлюпкой пойдет старпом!
С левого борта упали вперед балки, и повисла на них готовая к спуску шлюпка.
— Он! — закричал я. — Он… Это Тредубский!
Ник-Ник посмотрел на меня вопросительно… Но я не смог объяснить, почему закричал это, я не видел его лица, да и вообще — только очертания головы, но, наверное, так было сильно во мне желание увидеть именно Юру, что я невольно опередил события.
— Стон машина!
Шлюпку спустили на воду…
…Потом Юра рассказал. Как он падал, не помнит; может быть, даже на какое-то время потерял сознание и очнулся только в воде. Перед ним был борт парохода, который показался ему невероятной высоты; он возвышался перед ним стеной, уходящей в небо, с ржавыми подтеками по белой краске и черными выщерблинами. Юра стал кричать, но стена лишь сдвинулась в сторону. Прошло еще какое-то мгновение, и теперь уж он увидел пароход слева от себя; с кормы за ним тянулась гладкая поверхность воды, и Юра постарался доплыть до этой дорожки в надежде, что его заметят с борта, но пароход удалялся, и он понял — кричать бесполезно.
Первое, что он услышал, — это было тиканье часов. Сначала он подумал, часы тикают где-то рядом с ним, и только после этого догадался: они у него на руке. И странное дело — обрадовался этим звукам и даже подумал: хорошие все-таки он купил часы, они и в самом деле не боятся воды, так же как и пыли и ударов. Но в то же мгновение он вернулся к реальности и рассердился на себя: «Да зачем мне теперь эти часы, какая глупость», и все же отчаяние не пришло к нему, скорее это было удивление, что вот он один плывет в океане в ту сторону, куда ушел пароход.
Он старался плыть не спеша, сохранять силы, иногда ложился на спину и тогда видел выцветшее небо; и так лежал подолгу, отдыхая, и вдруг обнаружил, что плывет в форме и ботинках: «Надо бы все это сбросить», хотел было разуться, но тут в мыслях возникли рассказы об акулах, тогда он решил: не надо снимать ботинок, ими можно будет обороняться, но как обороняться, не знал, просто хотелось, чтобы ноги были защищены.
Но акулы не представлялись ему как страшные хищники. Он вспоминал, как их ловили, бросая в море наживки из сырого мяса, и, когда акулы хватали эти наживки, их вытаскивали лебедками и подвешивали над палубой; зловоние мучило матросов несколько дней, но зато потом они могли обработать акулий скелет… Кто-то так рассказывал о ловле акул, и он так представлял, но сам этого никогда не видел и потому, что он так представлял, не боялся…
Он не думал, почему плывет и на что надеется, он плыл, и все. Возможно, его заставляла это делать воля к жизни, но он не размышлял сейчас о смерти, а вспомнил, как сидел в одном курортном ресторанчике с девушкой. Он пригласил ее, потому что было скучно в тот вечер. Девушка очень радовалась, что она сидит в ресторане, ей все время хотелось танцевать, а на эстраде прыщавый певец с неопрятными волосами, в розовой косоворотке пел, прикрывая глаза, странную песню: «А в память о тебе остался только сон, портрет, один портрет работы Пабло Пикассо…», и он не выдержал этой песни, потому что певец спел ее уже трижды, готов был петь еще. И Юра увел девушку из ресторана. Она обиделась, не понимая, почему он это сделал, и назвала его «психическим» — ведь они не досидели своего времени и много оставили на столе… Эта история им давным-давно забылась, но сейчас вспомнилась песня и дурацкие слова. Он был готов закричать от досады, но ничего поделать с собой не мог, песня помимо его воли звучала в нем. И тогда он подумал в отчаянии: неужели он умрет с этой песней, и это показалось ему таким обидным, что он не выдержал и заплакал. Он плакал долго и когда поднял руку, чтоб вытереть слезы, то обнаружил — у него нет очков; он твердо помнил — на нем были очки уже в воде, потому что он взглянул на часы и запомнил время — восемь часов сорок девять минут, это когда он оказался в море, а теперь он не мог различить, сколько времени на его часах.
Он порядком устал, когда услышал гул самолета. Он перевернулся на спину и вправду увидел — а может быть, это ему показалось — самолет, стал махать рукой и кричать, но вдруг ему сделалось смешно: ведь его не услышали с парохода, а он надеется, что крик его долетит до самолета…
Смех еще больше утомил его. Очень скверно было во рту, он все-таки нахлебался морской воды, и нёбо вспухло, словно он наглотался перца, а потом стали гореть глаза, тоже от соленой воды. Он очень устал, ему стало трудно даже думать о чем-нибудь или вспоминать. Он теперь знал, что неоткуда ждать спасения, и смирился с этим. Ему хотелось лишь одного: чтобы вода расступилась под ним и он мог бы уйти в ее прохладную темноту. Но она была плотной и держала его на плаву. Внезапно он увидел над собой птиц, они планировали над ним, выгнув вниз лапки; одна из них вдруг пошла вниз, села ему на голову, он почувствовал ее когти и после этого потерял сознание… Вот что ему запомнилось…
Альбатрос, наклонившись боком, ровно держа раскрытые крылья, посмотрел на плавающего человека; казалось, он вот-вот начнет пикировать вниз, и тогда Нестеров не выдержал; он прыгнул за борт шлюпки и поплыл. Он понимал, что этого нельзя было делать без команды старпома, и все же выдержать не смог; за ним в воду один за другим прыгнули еще два матроса. Когда Нестеров подплыл к Юре, то увидел — он лежит на спине, глаза его взбухли, будто веки налились влагой, лицо было зеленоватого оттенка, и он тут же подумал: Юра мертв. Но стоило ему подплыть поближе, попытаться поднять его голову, как он понял — он еще жив; подоспели матросы, подхватили его.
Они втащили Юру в шлюпку, положили на дно, стали было делать искусственное дыхание, но Аня, медсестра, что была на шлюпке, крикнула, чтоб они немедленно прекратили. Аня подала фляжку и сказала:
— Напоите этим.
На судне открыли лацпорт, спустили с него парадный трап, Юру подняли по этому трапу и сразу же увезли на каталке в госпиталь.
Нестеров пришел ко мне через полчаса и спросил, нет ли чего у меня выпить; у меня нашлось, он выпил, и я увидел, как дрожали его руки, это было неприятно.
— Ну вот, — сказал он, отставив от себя стакан, — как нам всем повезло, что он живой.
«…А вот заскучала я, странник мой, затосковала. Наверное, в погоде все дело. Зима стоит с ветрами да с вьюгами. Иногда так разгуляется к ночи, что сыплет, сыплет снегами в окно, и слышно, как воет в переулках, и я не сплю, думаю: как ты? Понимаю, что в жарких местах, и нет там снежной вьюги, и что люди вокруг тебя, а все же представляю — ты один в пустыне. Так мне когда-то чудилось про отца. И был один у меня постоянный сон, он к сейчас иногда, правда редко, возвращается ко мне. Будто плывет отец в лодке вроде той, что у нас на прудах в парках культуры и отдыха, бушлат на нем мокрый, стоит коробом на спине, и борода у отца — а у него никогда и усов-то не было, не то что бороды, — да такая купеческая, лопатой, и ветер свистит в этой бороде, а отец нажимает на весла, но берегов никаких не видно. Я всегда боялась этого сна. Только мне приснится такое, а я уж думаю: с ним худо, а потом выяснялось — нет, все хорошо у него, а вот когда приснились мне цветы, много-много цветов, и таких красивых, что радостно было смотреть этот сон, вот тогда наутро и приехал к нам Лука Иванович с дурной вестью… Видишь, Костенька, суеверной я становлюсь. И знаешь, о чем мечтаю? Вот придешь ты, получишь отпуск — у тебя ведь месяца три наберется, а то и больше, — и поедем мы с тобой к морю. Я понимаю, оно тебе ни к чему, ну, а мне так хочется пожить где-нибудь у теплого берега, и чтоб был песок, волны и тишина. Мне отец обещал это, но когда бывал у него отпуск, то жил он у нас, ходил на охоту и по грибы, очень любил леса, и я не смела ему мешать. Но ты-то повезешь меня на море?..»
Аня была строгая девушка, — впрочем, я давно заметил, что у медиков, и особенно у сестер, видимо, от частого общения с больными и капризными людьми вырабатывается своя жесткая манера разговора; они больше любят покрикивать, чем объяснять, — вот и у Ани была такая манера, даже когда она была к кому-то доброжелательна, но все равно фразы у нее чаще всего звучали повелительно…
Увидев меня в приемной судового госпиталя, она сразу же поняла, в чем дело, и усмехнулась пухлыми губами:
— Дружка навестить?
— А что, и передачи принимаются? — улыбнулся я.
— Передача уже была, — сказала Аня, — сам шеф-повар приносил… А к дружку своему ты не попадешь.
— Даже если я очень сильно тебя попрошу?
— Хоть на коленях!
— Ну вот, а я считал — ты добрая девушка.
— Конечно, — сказала она. — Потому и приглашаю тебя выпить чаю… К Юре сейчас придет мастер. И если будешь долго базарить, можешь на него здесь наткнуться.
— Тогда води меня быстрее поить чаем!
У нее была небольшая каюта в госпитале — сестринская, там стоял длинный белый шкаф с лекарствами и столик, а вокруг него две табуретки. Аня усадила меня, чай у нее был готов, и едва она разлила его по чашкам, как в приемной послышались голоса, и я узнал капитана.
Аня мигом выскочила из сестринской, шепнув мне: «Дождись», — и прикрыла за собой дверь… Пришлось мне пить чай в одиночестве…
На стене висело несколько фотографий Ани, одна цветная — распустила светлые длинные волосы, держит в руке шприц и смеется. Мы как-то бродили с ней по прогулочной палубе… Была скверная погода, шел мелкий-мелкий дождь, и брызги летели в лицо. Я увидел одинокую фигуру в плаще с поднятым капюшоном, подошел — это оказалась Аня.
— Погуляем, — предложил я.
— Ну конечно, — согласилась она.
Так мы с ней и ходили вдвоем по кругу, и она рассказывала, как полюбила моряка, они решили пожениться, но нужно было заработать на обзаведение, вот она и попросила в бассейновой поликлинике, чтобы ее отправили в море. Жених ее ходит на другом пассажирском пароходе; как закончит она этот рейс, так они и встретятся. Он тоже сойдет на берег, пойдет работать на завод, а она — в больницу. Вся эта история была не больше не меньше как обыкновенным бродячим сюжетом среди наших пароходных девушек. Они любили его повторять, приспосабливая к фактам своей биографии, и я никак не мог понять, почему они не придумывают новых рассказов для себя, а повторяют одну и ту же схему: где-то в море плавает любимый, и скоро — несколько месяцев не срок — она встретит его, и как радостный финал этой истории впереди маячила пышная, красочная свадьба… Когда Аня рассказала мне это, я вдруг рассердился и спросил напрямик:
— Слушай, а на кой черт вы все это выдумываете?
По нашему судовому этикету задавать такие вопросы не полагалось, ты не имел права даже усомниться в подлинности услышанного, потому что сразу ставил девушку в неловкое положение, и она, как правило, этого не прощала, но Аня не обиделась, она рассмеялась:
— А так легче… Не надо голову ломать, да и все почему-то верят.
— А зачем, чтоб в это верили?
— Для солидности, — сказала Аня. — Ведь у каждого должна быть своя история.
— Зачем?
— Ну, если у тебя нет истории, тогда ты неинтересный человек.
— У тебя разве ничего не случалось в жизни?
— Ого! Еще как случалось! Я ведь на «скорой» работала. Ноль три. Ну, такого за два года насмотрелась!.. Могу до утра всякие истории рассказывать.
— Ну и рассказывай.
— Но они же без красоты. В них только одни страдания. А хочется, чтобы как в кино…
— Ты же умная девчонка, Аня!
— Это кто тебе сказал?
— Я и сам вижу.
Ну, тогда вот что, — сказала она, — если ты иногда будешь приходить к нам в госпиталь в гости, я буду очень рада.
Так мы с ней подружились… А сейчас я сидел в сестринской, пил чай и думал: о чем может Ник-Ник говорить с Юрой? Да и вообще, как он ко всему этому относится?.. Все-таки удивительно переменчиво бывает отношение к человеку. Еще вчера и даже сегодня рано утром, когда Юра появился в кают-компании, а потом в информбюро, никто не хотел скрывать к нему презрение; там, где собирались по нескольку человек, неизменно заходил о нем разговор; правда, штурманы, механики, радисты говорили об этом скупо, иногда односложно выражая свое отношение, ну, а в пассажирской службе болтали всерьез, там разбирали все дотошно и осуждали, осуждали, осуждали… И вот теперь, когда Тредубского выловили из моря, к нему стремительно изменились многие: те, кто участвовал в его спасении, говорили о нем, как о ребенке, с оттенком покровительственной ласки, — так часто говорят о спасенных, потому что само спасение, если оно кончается успешно, оставляет гордость в человеческой душе; другие жалели его, видя теперь в нем жертву, одни — несостоявшейся любви, что естественно вызывало сентиментальное умиление, другие — особых, сложных обстоятельств морской жизни… Вот так к нему изменилось отношение. А я своего не мог определить и потому-то решил навестить его: мне необходимо было увидеть Юру, чтобы понять наконец, что же на самом деле произошло. Но у него сидел капитан, потом Аня мне рассказала, как все это было…
Юра лежал на койке в госпитальной палате. Его уже привели в порядок врачи, выдержали в горячей ванне, потому что как бы ни была тепла вода, но тело у него охладилось достаточно — все-таки он около трех часов продержался на плаву. Лицо его было какого-то розового нездорового цвета; без очков, с припухшими веками, он выглядел по-мальчишески беспомощным.
Когда вошли капитан и Аня, лежал, отрешенный от всего, по стоило ему услышать голос Ник-Ника, как он тут же попытался встать, но Аня успела подбежать к нему и прижала снова плечи к подушке.
Ник-Ник сел рядом с койкой на стул, сложив, по привычке, ладонь в ладонь, и спросил негромко:
— Ну, как себя чувствуете, Юрий Петрович?
— Ничего… — с трудом ответил Тредубский.
— Врач сказал, если все пойдет нормально, буквально послезавтра вы сможете выйти на работу.
Юра не отвечал. Он смотрел на капитана распухшими глазами и, может быть, даже не видел его — если только нечто подобное силуэту.
Молчание Юры слишком затянулось, и тогда Ник-Ник вкрадчиво спросил:
— Вы так не считаете, Юрий Петрович?
Юра облизнул губы и потянулся к стакану с водой, что стоял на тумбочке, но Аня тут же подала ему, и он с жадностью выпил; наверное, его все еще продолжала мучить жажда.
— Я вообще… не смогу… выйти на работу, — с трудом произнес Юра.
— Это по каким причинам, позвольте узнать?
Ник-Ник теперь повернулся своим широким корпусом, и, как это всегда бывало, когда он слышал неожиданный ответ, в его коричневых глазах вместе с веселыми зелеными искрами засветилось любопытство.
— Николай Николаевич, отправьте меня домой… Из Дакара отправьте… Я тут больше не смогу.
— Из Дакара? — спросил Ник-Ник. — Самолетом?
— Там ведь наш аэрофлот, — кивнул Юра.
— Значит, вы уже все предусмотрели, Юрий Петрович… И кто оплатит билет?
— Я сам… могу.
— Очень хорошо, — обрадовался Ник-Ник. — Значит, мы вас списываем, вы возвращаетесь в порт и совсем уходите из флота. Так я вас понял?
Юра опять помолчал и с трудом ответил:
— Так, Николай Николаевич.
— Аня, — позвал капитан, — дайте, пожалуйста, и мне водички… Вот спасибо… Как видите, Юрий Петрович, вы и меня заставили разволноваться.
— Вы не хотите меня отпускать? — спросил Юра.
— До этого мы еще дойдем, — кивнул Ник-Ник. — А сейчас послушайте меня… Маленькая лекция, она будет полезна… Прежде мы вообще не имели серьезного пассажирского флота в Мировом океане. А сейчас, как знаете, у нас появилось немало судов, которые возят пассажиров и туристов по всему миру. Извините, что начинаю с политграмоты. Ну, а теперь поближе к нашему делу. Лайнеров у нас становится все больше и больше, а вот в мореходке или каком-нибудь ином учебном заведении пассажирских помощников и администраторов не готовят. И учить их приходится на ходу, в море… Из таких, как вы, мальчиков-переводчиков мы пытаемся сделать моряков. И не просто моряков, которые могли бы при нужде командовать спасательной шлюпкой, знали бы все тревоги, но и умели бы внимательно обходиться с пассажирами. Чувствуете, куда мы с вами идем?.. Так вот, флот затратил на вас немало сил, учил вас совсем не легкому ремеслу, а вы вдруг решили: захотел и списался. Кто же это вам сказал, что вы так вольны распоряжаться своей судьбой?.. А, Юрий Петрович?
Вот тут Юра надулся. Когда с ним затевали любые теоретические разговоры, он всегда надувался.
— Меня сейчас мало интересует глобальное положение дел, — важно сказал он. — Я ведь только о себе…
— А вот меня интересует глобальное положение дел! — радостно воскликнул Ник-Ник. — И потому вы не сойдете с парохода, во всяком случае, до окончания рейса. Это мой приказ.
И тогда Юра растерялся, он потянулся рукой к глазам, чтобы поправить очки, но очков на нем не было, и он ткнулся пальцем в распухшие веки и жалобно поморщился.
— Но… — проговорил он, — я полагал… у меня теперь нет авторитета.
— Ну, о вашем авторитете мы позаботимся, — улыбнулся Ник-Ник.
— И еще… я как раз показал, что… плохой моряк.
И вот тут Ник-Ник рассмеялся:
— Это как сказать!.. Наоборот, вы лихо на воде продержались. Считайте, прошли крещение. Моряк и начинается с того, что надает в воду. — Тут он взглянул внимательно на Юру и повторил, подчеркивая это слово: — Падает…
Он встал, прошелся по палате; вообще-то ему пришлось сделать не более трех шагов от койки до дверей, и головой своей он чуть ли не упирался в подволок. Он задумался и, потирая широкой ладонью щеку, наполовину прикрытую баками, заговорил негромко:
— Я считаю — работником и становятся после серьезной ошибки… когда она его потрясет, заставит всем существом вздрогнуть. Чтоб как ток высокого напряжения по тебе пропустили… Вот тогда все и начинается… Тогда всерьез задумываешься: кто ты и как тебе жить? А у нас иногда при первой серьезной ошибке турнут человека, а потом ему и выпрямиться не дают… А он-то как раз только-только и начинается. Вот так я считаю, Юрий Петрович…
— Я жду вас на работе, Юрий Петрович, — сказал капитан и вышел из палаты, а Юра уткнулся в подушку и заплакал.
…Когда Аня все это мне пересказывала, я вспомнил историю самого Сабурова, вспомнил, как его по решению командирского собрания списали с судна за то, что он заснул на вахте, как круто обошелся с ним знаменитый капитан, и, видимо, высказывая свои мысли Юре, он имел в виду самого себя, а еще я подумал, что, пожалуй, он нрав: ведь не уйди он тогда от знаменитого капитана, то лило бы у него вялое продвижение по должности, а так он начал все сначала, с одним желанием — доказать — и он может стать капитаном, и доказал. А то, что Ник-Ник отличный моряк, мы уже убедились; даже история с поиском Юры показывала это: ведь так пройти точно обратным курсом, как провел турбоход он, может далеко не каждый штурман.
«…И еще, знаешь, Костенька, есть в русских былинах сюжет, который меня когда-то, еще студенткой была, очень занимал, потому что он — о человеческой гордыне. И хоть былины эти известны, но почему-то их мало вспоминают… Начинается с пира у князя Владимира. Он сидит, пригорюнившись, а когда его спрашивают, почему печален, то Владимир отвечает: „Все вы у меня поженены, все обвенчаны, один я холост“. И богатыри его дружины примолкают, задумываются. Предложи князю невесту, а вдруг она не по нраву ему придется или скакать га ней надо за тридевять земель.
И пока молчали богатыри в гриднице, вышел вперед Дунай и сказал: „Есть для тебя невеста, Владимир!“ А к Дунаю и так не очень хорошо относились богатыри, потому что он пес службу у князя Литовского и вернулся оттуда одетый в непривычные одежды, да и манерами своими казался заносчивым. Между ним и Добрыней был уже бой. Не стерпел Добрыня заносчивости Дуная и взялся за меч. Но победы не добился. Их судил Владимир и признал виновным Дуная, за что и посажен тот был на свой срок в темницу. И когда Дунай сказал свое слово, в гриднице насторожились богатыри.
„Говори!“ — приказал Владимир. И произнес Дунай: „У князя Литовского две дочери: старшая Наталья да младшая Опраксинья. Такой красоты, князь, как эта младшая, такой чистой души, такой светлой радости я никогда на земле не видывал и об этом на огне или мече готов поклясться!“ И тогда Владимир спросил его, что нужно ему для похода. Дружину? Казну? И ответил Дунай: „Только товарища, и пусть им будет Добрыня“.
Это умный был ход, и князь оценил его, велел богатырям собираться. Так поехали они вдвоем, став товарищами, в столицу литовскую.
Дунай знал все входы и выходы во дворец, разную службу здесь когда-то нес. Поставил он Добрыню с лошадьми под окнами княжеских покоев, а сам во дворец. Крикнул Опраксинью, та навстречу ему выбежала. И он сказал ей, что прибыл от Владимира и тот хочет получить ее в жены. Расстроилась Опраксинья и сказала: „А я-то думала, ты от себя“. И в это время вошел князь Литовский; Дунай не испугался, рассказал, за чем прибыл. И тогда Литовский князь рассердился, хотел крикнуть стражу, но Дунай вынул кинжал, приставил к княжескому горлу и приказал молчать. Схватил Опраксинью, кинул ее Добрыне, приказал: „Скачи! Я другой дорогой, чтоб за тобой погони не было“. Пока выбрался из дворца, Добрыня ускакал, как ему приказание было.
Выскочил на своем коне и Дунай за дворцовые стены, поскакал своей дорогой. День уж к закату шел, как услышал за спиной погоню. Оглянулся — на него всадник лихо летит, копье наперевес. Деваться некуда Дунаю, развернул коня, копье опустил. И сошлись два всадника с такой силой, что оба копья напополам. Вынули мечи, ударились, и мечи разлетелись. Подняли щиты, и Дунай изловчился, ударил противника по шелому, шелом отлетел, и открылись девичьи кудри. „Ах, вот что!“ — крикнул Дунай и сбил всадницу с коня. И тогда только увидел: перед ним старшая дочь князя Литовского — Наталья. „Не губи меня, Дунай, — попросила она. — Я за честь сестры хотела биться“. И тут же припомнила Дунаю, что когда он служил у них во дворце, то был влюблен в Опраксинью. Все это знали, все видели. Но она, Наталья, ревновала и простить этого Дунаю не могла, потому что любила его.
„Возьми меня в жены, — сказала она. — Мне сейчас не резон возвращаться во дворец“. И подумал Дунай, что станет он теперь родичем Владимиру, и взял Наталью в жены. Долго ехали они через степи к Киеву, а когда приехали — там праздник.
Собрался князь вести в церковь Опраксинью. К ним присоединились Дунай и Наталья. И вот снова пир в гриднице, большой пир в честь женитьбы Владимира и богатыря Дуная. И когда выпито было и съедено, князь сказал: „Ну, а сейчас, богатыри, хвастайте!“ Таков был обычай на Руси. Тот, кто хвастать не умел, — не богатырь. Один восхвалял свое оружие, другой — коня, третий — ну, конечно же, самый глупый — жену свою. Только Дунай молчал. И тогда Владимир сказал: „Ну, а ты что, Дунай, молчишь? Или тебе нечем похвастать?“ Дунай поднялся и сказал: „Почему же нечем? Да и зачем мне хвастать, когда я самый ловкий из богатырей?“
Замолчали все за столом, никто Дунаю не перечил, знали — он теперь княжеский любимец, да и родич. И вдруг — смех. Обернулись и видят: смеется Наталья.
„Ты самый ловкий? — спросила она. — А вот мое обручальное кольцо, я на волосы его себе поставлю. Пустишь стрелу, чтобы она сквозь кольцо пролетела и ни одного волоса на голове моей не задела?“ Дунай поднял лук, но в последний момент рука его дрогнула, и стрела кольцо с головы Натальи сбила. „А теперь ты становись!“ — сказала она. Он встал. И пустила она стрелу так, что она сквозь кольцо прошла и ни одного волоса на голове Дуная не задела. „Так кто же тут самый ловкий?“ — спросила Наталья. И не выдержал Дунай, схватил ее за кудри, поволок из гридницы в степь.
Долго волок. Потом поставил на колени, сказал: „Примешь смерть за то, что мужа унизила“. И упала ниц перед ним Наталья, голосила, что поддалась гордыне и может любое наказание принять, но не смерть, потому что в себе косит она богатыря и Дунай, убив ее, убьет и сына своего. Но не дрогнула рука Дуная. Гнев был сильнее его. Ударом копья поразил он Наталью и неродившегося сына своего. И когда сделал это, воткнул копье острием вверх в землю и кинулся на него…
Вот такой сюжет, Костенька. Тут есть над чем поразмыслить, верно? А за окном ночь, и все сыплет и сыплет снегом вьюга. Холодно сейчас на дворе…»
Был у Ани день рождения. Ее поздравляли в столовой экипажа, подарили торт, а потом, испросив разрешения у первого помощника — так уж у нас водится, без такого разрешения компанию не соберешь, — она пригласила несколько человек к себе в каюту. Ну, конечно же, и меня. Каютка у нее была маленькая, но нас набилось шесть человек вокруг столика. Рядом с Аней сел радист Махмуд Сафаров. Он был широк в плечах, мрачен темным, загорелым лицом, со сдвинутыми густыми бровями, и, только когда взглядывал на Аню, глаза его делались ласковыми и кроткими. Все на судне знали, что он всерьез влюблен в нее, пишет ей письма и сочиняет для Ани стихи, и ей все это нравилось. Рядом со мной села кельнерша нашего ресторана Люся, круглая, крепкая девушка с яростно полыхающими щеками; ей совсем недавно исполнилось, так же как нынче Ане, двадцать два года, и они себя считали на пароходе старушками — большинству девушек у нас по девятнадцать и двадцать лет.
Люсю сделали кельнершей, потому что она знала два языка — английский и французский, — кончила курсы по сервису, несмотря на свою полноту, легко, почти бесшумно передвигалась по залу, была молчалива и предупредительна, но официантки ее почему-то боялись — я слышал это от них не раз. Пришла еще Аленка, бармен из музыкального салона, остроносенькая, как птичка, смешливая девушка, и, конечно же, старший судовой врач, седой, с немигающим взглядом человек; он выпил глоток вина, долго после этого шевелил пухлыми маленькими губами, будто это самое вино застряло у него в зубах, потом церемонно поклонился и ушел, полный собственного достоинства, — врачи на судах почему-то всегда полны собственного достоинства.
Аня была счастлива. Она радостно принимала от нас подарки, восхищаясь каждой безделушкой, сидела курносенькая, раскрасневшаяся, в синей кофточке с короткими рукавами, которая ей очень шла, и я подумал, что на такую Аню невольно обернешься на улице, и не дай ей бог, если рядом будет Сафаров. Крутились кассеты магнитофона, тихая, приятная музыка наполняла каюту.
— …А еще был такой случай, — говорил Сафаров; он делал ударение в слове «случай» на «а» — в этом был особый морской шик. — На Босфоре, представляешь, совсем узкое место… Туман. Справа берег, слева берег, дома, — у самой воды. Кофейни. Но ничего не видно. Очень сильный туман. Капитан стал ругаться с лоцманом. Полминуты всего ругались. И пароход на берег пошел. Двухэтажный дом на бок свалился. Представляешь? На втором этаже — свадьба была. Жениха кирпичом убило. А невеста на мачте повисла. Немножко поцарапалась. Но, конечно, спасли. Капитана в турецкую тюрьму взяли. А лоцмана родственники жениха повесили… Замечательный случай, а? — И Махмуд делал при этом такое зверское лицо, что и в самом деле становилось не по себе.
Но Аленка прыскала в кулак, а потом уж начинала звонко смеяться, и тогда сдержанно смеялась Люся и одобрительно Аня.
— Ну Махмуд, почему ты все такое рассказываешь? — спрашивала она.
— Чтоб весело было, — отвечал Сафаров. — А еще знаешь, мы в Бискайском заливе трех немцев поймали. Очень интересные были немцы. После Тура Хейердала много сумасшедших появилось. Захотели вокруг света на бревнах проплыть. Представляешь? И вот идем мы в Бискае. И видим: очень странное сооружение плывет. Может, корыто, а может, плот, и на нем два флага полощутся «NC». По международному коду — «терплю бедствие». А нас болтает. Ой, как болтает! С трудом шлюпку спустили. Вытащили этих психов. Они, как на палубу ступили, так сознание потеряли. Два дня всего шли от своего берега и потерпели бедствие. Представляешь? То же мне кругосветчики! Наш мастер серебряные часы получил за спасение.
— Ой, Махмуд! — сияя лицом, весело сказала Аня. — Ну зачем ты такое рассказываешь?
— Я же сказал — чтоб весело было. — И он коротко хохотнул, таким смешком, будто заводили мотор, а тот сделал два-три оборота и заглох. — А еще на сухогрузе у нас боцман у всех на глазах утонул. Представляешь? На бак пошел, а девять баллов шторм был. Его волной — за борт. Шлюпку не спустишь. Ему за борт концы кидали. Круг. Ничего не помогло. У всех на глазах за три минуты утонул. — И тут он повернулся ко мне и сказал сердито: — А твой товарищ… Представляешь?
Это прозвучало у него так, будто он обижен, что Юра сумел продержаться столько времени на воде и был спасен, в отличие от боцмана с сухогруза. Аленка прыснула, зажав ладонью рот, Люся вежливо улыбнулась.
— А ты хотел, чтоб он утонул? — спросила Аня.
— Зачем? Пусть живет! — сделал широкий жест Махмуд.
— Есть ведь такая любовь, — сказала Аленка. — Люди за борт из-за нее прыгают, — и мечтательно закатила глаза.
— Это невероятно, — сказала Люся. — Этого не может быть… Я считаю — тут просто совпадение. Несчастный случай. А любовь ни при чем.
— Ну да! — испугалась Аленка. — Как же это можно без любви?
— Я очень уважаю Юрия Петровича, — сказала Люся. — Он серьезный человек. И не позволит себе из-за любви…
— Да что ты, Люся, такое говоришь! — воскликнула Аня. — Люди себе и не такое из-за любви позволяют.
— Из-за любви ничего себе нельзя позволить, — сказала Люся и покраснела.
— А я могу себе очень много из-за любви позволить, — сказал Махмуд и зловеще посмотрел на меня. — Но, может быть, сначала мы немножко выпьем?
Только он это сказал, как бесшумно вошел в каюту судовой врач, опять выпил глоток вина, пошевелил короткими пухлыми губами по-кроличьи, словно ополоскал рот, и так же молча вышел.
— Ой, как танцевать хочется! — воскликнула Аленка.
— В Новый год на весь рейс натанцевались, — вздохнула Люся.
— А вот Кости не было, — сказала Аня. — А я так хотела с ним потанцевать!
— Я уже полгода не танцевал, — сказал я.
— А давайте сегодня ночью на палубе устроим, — зашептала Аленка, и глаза ее заблестели азартом нарушителя спокойствия.
— Если первый помощник разрешит, — сказала Люся.
— Так ведь опять Кости не будет, — сказала Аня. — Он на вахте.
— Лучше споем, — сказала Люся, и, не дожидаясь согласия других, она вдруг подбоченилась и неожиданно легко и приятно запела редкую старинную песню:
Соловей кукушку уговаривал: «Полетим, кукушка, в дальние края… Совьем мы, кукушка, себе два гнезда, Выведем, кукушка, себе два птенца, Тебе кукавьенка, а мне соловья, Тебе для забавы, а мне для пенья».Она пела, раскачиваясь крупным телом, склоняя то на один бок, то на другой круглое лицо, и похожа сейчас была на крепкую деревенскую молодайку, а не на строгую кельнершу, и другие наши девушки старались ей помочь, хотя видно было по ним, что слов этой песни они не знают. И пока Люся пела, Махмуд склонился ко мне и горячо зашептал на ухо:
— Знаешь, скажи мне, пожалуйста, честно: ты за Аней ухаживаешь?
Я чуть не засмеялся, но не подал виду, спросил:
— Нельзя?
— Конечно, нельзя, — серьезно сказал он. — Я за ней сот уже целых четыре месяца ухаживаю.
— Ну, а если будем вдвоем?
— Вдвоем не будем, — серьезно сказал он, и глаза его зажглись нехорошим мутным светом. — Я на ней жениться буду.
— У нее же есть жених, — сказал я. — На другом судне работает.
— Ха, ха, — сказал он свирепо. — Это же пугало. Разве ты не знаешь? Пугало, чтоб другие не приставали. Представляешь?
— Представляю, — сказал я и тут понял: скажи я еще одно слово об Ане в таком духе, и сразу же сделаюсь непримиримым врагом Махмуда — он все принимает слишком всерьез, а с такими ребятами вообще шутки плохи. — Ты не волнуйся, Махмуд… Мы с ней товарищи. Понимаешь — товарищи. И ничего больше.
— Ты честно говоришь?
— Я честно говорю.
— Тогда давай руку, будем тоже товарищи.
Я протянул ему руку, он обрадованно пожал ее и шепнул мне:
— Все новости буду тебе первому говорить.
— Спасибо, Махмуд.
Девушки кончили петь, и Аня спросила:
— Ой, Люська, а где ты таким песням научилась?
Люся сидела довольная, красная от смущения, она стремительно похорошела, пока пела, глаза у нее расширились, заблестели.
— От бабушки, — сказала она, потом подумала и добавила: — У меня все от бабушки… Она с пяти лет меня языкам учила и петь тоже…
— Это же надо! — сказала Аленка. — И у меня все от бабушки. А она у тебя кто?
— Она никто, — сказала Люся. — Она раньше была кто. Военный переводчик.
— Это же надо! — воскликнула Аленка. — А у меня такая загулена была бабка! Ее весь райцентр боялся. Она все про жизнь знала и никому не спускала, хоть начальнику, хоть папе с мамой. Она всем на свете была. И дома строила, и проводницей в вагоне работала, и шахтерила. Только матросом не была. Ты, говорит, Аленка, за меня матросом побудешь. Так и вышло. А?.. А ты, Люся, почему на пароход пошла?
— Меня направили, — сказала Люся и опять стала строгой.
— Ой, девочки! — воскликнула Аня. — А как же мы с вами живем смешно, если подумать! Отцы-матери наши всю жизнь по поселочкам да по райцентрам, а мы по всему земному шарику. И хоть бы что. И как будто так и надо.
— Конечно, так и надо, — подтвердил Махмуд. — А у нас такой был случай. В Сингапуре один тип, пока шипчандлеры продукты на пароход грузили, на судно пробрался. Представляешь? Стал в пустой каюте жить. Пассажиров все-таки человек триста было. Классные знают себе — пустая каюта, закрытая, в тот отсек не ходят. А он тайно выберется, запутается среди пассажиров, из ресторана что-нибудь утащит и живет. Потом что получилось? Пассажирский помощник его обнаружил. Кто такой? Оказывается, американец. С вьетнамской войны удрал. И не знаем, что делать. С одной стороны, мы сами против этой войны. А с другой — дезертира укрываем. И не каждый порт возьмет. Очень долго возили его. Потом он сам с парохода удрал. Представляешь?
— Это ты к чему? — спросила Люся.
— Как к чему? Чтоб смешно было, — ответил Махмуд.
— А давайте еще споем, — сказала Люся; наверное, ей хотелось закрепить успех, она прищурила глаза, опять подбоченилась и затянула «Белой акации гроздья душистые…».
Пока они пели, вошел врач, выпил свой глоток вина и вышел, и тут меня осенило. Я вскочил, выбежал из каюты, догнал врача. Он вопросительно посмотрел на меня.
— Я хочу его видеть, — сказал я.
Он сразу понял, о ком я говорил, и ответил просто:
— Я его утром выпишу… Впрочем, если вам надо… — И он указал головой в сторону госпитальной палаты.
Я постучал, никто не ответил, тогда я открыл дверь палаты. Юра сидел на койке в белой, хорошо отглаженной рубахе, причесанный, прилизанный, при очках в строгой черной оправе, и так увлеченно читал объемистую книгу, что и не заметил, как я вошел. Я сел напротив него на табуретку и сказал:
— Здравствуй, Юра.
Он посмотрел на меня, нисколько не удивившись, поморщился, поправил очки и опять уткнулся в книгу.
— Ты не хочешь со мной говорить? — спросил я.
— Одну минутку, — сказал он, дочитал какую-то строчку, заложил страницу пальцем и только после этого опять взглянул на меня и сказал: — Здравствуй, Костя.
И вот тут я подумал: он изменился. Я еще точно не мог сказать, в чем именно, но все же это был не тот, не прежний Юра; какая-то медлительность, вернее, расчетливость появилась в его движениях, не было нервозной суеты, что прежде сопровождала почти каждый его жест, и лицо его затвердело, стало менее подвижным, да и очки он поправлял не так, как раньше, не нервным толчком пальца вверх, а плавным взмахом руки, несущим в себе достоинство.
— Ты пришел поговорить?
— Конечно, — сказал я. — Мы с тобой очень давно не виделись.
Он смотрел на меня некоторое время молча, и мне почему-то сделалось не по себе от его немигающего взгляда. Наконец, он медленно произнес, словно взвешивая каждое слово:
— Ты осудил меня, зачем же ты пришел?
Я тут же подумал: он говорит странным, высокопарным стилем — и взглянул на книгу, которую он держал, — это была «Смерть Артура», книга о рыцарях, за которой у нас в очереди стояли в пароходной библиотеке, и тогда я не выдержал и засмеялся.
— Ничего смешного, — сказал он.
— Конечно, — кивнул я, — кроме того, что ты решил говорить со мной языком этой книги.
Он посмотрел на нее, отложил в сторону.
— Да, она действует, — подтвердил он. — Но я сказал, что думал… Или это не так?
— Так, — ответил я. — А ты и сейчас считаешь — хорошо сделал, написав этот рапорт?
— Она меня не упрекала. Она все поняла.
— А я не про нее спрашиваю, я про тебя спрашиваю.
Он опять уставился на меня не мигая, потом спросил, медленно произнося слова:
— Закурить у тебя есть?
Я достал сигареты. Он не спеша зажег спичку, выпустил длинную струйку дыма, зажмурившись от наслаждения, и неожиданно беспомощно произнес:
— Я не знаю, Костя… Я все время думаю, я ничего не понимаю.
Вот тогда-то я и решил его спросить о самом главном, что меня мучало:
— Ты сам… за борт?
Он быстро затянулся несколько раз сигаретой, узкие его плечи вздрогнули, обрели прежнюю нервную суетливость, он отвернулся от меня и еще более растерянно проговорил:
— Не знаю…
— Так не бывает, — твердо сказал я. — Ты должен знать.
И я подумал: вытрясу из него, жестоко это или нет, хорошо или плохо, но он скажет, я заставлю его — ведь сейчас это самое важное.
— Там лежал матрац… — робко произнес он. — Я хотел его достать. Это для шезлонгов матрац. Я подумал: мне за него врежут, если он под дождем… И я оказался за леерными планками.
— И что? — Я говорил быстро, не давая ему возможности опомниться.
— Я никогда не боялся моря… Я всегда хорошо плавал.
— Что дальше было? — настаивал я.
Юра взглянул на меня и усмехнулся:
— Поскользнулся.
Я сразу почувствовал ложь.
— Почему ты не говоришь, Юрка? — закричал я.
— Ну хорошо… — сдавленно прошептал он. — Была такая минута… Может быть, меньше… я не помню… когда стало безразлично. Я всю ночь не спал… думал…
— О чем?
— Я не могу вспомнить… Я здесь, в госпитале, пытался вспомнить и не смог… Но это неважно. Было такое мгновение, когда стало безразлично. И захотелось умереть… Сразу… Немедленно… Но, может быть, потому я и поскользнулся? Сам бы не решился…
— Но ведь ты решился.
— Это только в то маленькое мгновение.
— Разве этого не достаточно?
Он подумал и сказал:
— Нет. Его недостаточно, потому что в другое мгновение я сразу поверил: мне нельзя умереть.
— Я ничего не могу понять, — сказал я.
— Я тоже не могу понять, — ответил Юра, и я видел, он со мной искренен. — Только знаешь, давай больше об этом не будем… Я сейчас лягу спать. Ты уходи…
— Хорошо, — сказал я и встал.
Из матросов в моей вахте был Саня Егорычев, молчаливый чубастый парень, с пышными рыжими усами под горбатым носом, которые вызывали восхищение всего мужского состава экипажа; волосы на голове у Сани были темно-русые, и медно-огненный цвет усов был неожидан и великолепен. Я давно знал все подробности его жизни, знал, что до армии он был рабочим сцены в знаменитом драматическом театре, отслужил три года на Северном флоте и снопа вернулся в театр. С ним дружны были актеры, потому что человеком он был добрым, помогал многим из них по домашним делам — кому полочку сделать, кому новый замок поставить. Да всегда в доме найдется что-нибудь такое, а актеры в этом беспомощны, к тому же часто сидели без денег, а Саня старался с них за такие услуги ничего не брать, и они платили ему дружбой, доверяли семейные тайны, и он о них молчал.
Служба на флоте заронила в него любовь к морю. Он поработал в театре два года, за это время женился на театральной портнихе и затосковал. С женой договорились: он уйдет в море на полгода. Он ушел и вот плавает третий год и единственно, о чем любит всегда говорить, это о жене своей.
Когда я на «Чайковском» впервые возвращался в родной порт, то наслушался от Сани таких хвалебных слов о его жене Наденьке, что ждал этой встречи с нетерпением. Бывает у моряков припортовая ностальгия; они терпят весь рейс, редко вспоминают дом, но, когда остается до порта каких-нибудь два-три дня, что-то рушится внутри и становится невыносимо, и эти несколько дней кажутся самыми длинными и самыми тяжкими из всех в рейсе, и даже очень молчаливые люди начинают подолгу говорить о доме. Так было и с Саней. Он говорил, как красива Наденька, какие стройные у нее ноги, какая улыбка и как пышны волосы, а встретила его на причале маленькая, похожая на мышонка женщина, совсем не такая, какую он мне нарисовал во время вахты. Но он побежал к ней, поднял на руки и долго самозабвенно целовал, а когда мы отошли от порта, радостно спрашивал: «А верно, она потрясающе красива?», и я с ним соглашался, потому что знал — он видел ее совсем иначе, чем я.
Первый час этой вахты Саня стоял у штурвала. Погода была тихая, почти полный штиль, и Саня по моей команде поставил управление на автомат, поглядывая в море и стараясь не мешать мне размышлять. А я думал о Юре, я думал о том, что привык к тому, чему научила меня мать с детства: «Предавший раз, предаст и второй…» Она учила меня опасаться таких людей, и с ней согласен был Лука Иванович. Это он как-то сказал: «Подлость можно сделать один раз, но на всю жизнь остаться подлецом…» Так привык я думать, и во всем этом у меня не было сомнений… И все же теперь, когда я знал — Юра пришел к своей крайней точке, пусть на какое-то мгновение, но пришел, за этой чертой уже ничего не могло быть, — мне стало жаль его… И я думал: но ведь возможно осознание вины, тот подлинный миг просветления, когда содрогаешься от неверности содеянного и понимаешь — ничего нельзя вернуть на исходный круг, и приходит беспощадность к самому себе, сила осознания может оказаться так велика, что человек не сможет дальше жить так, как он жил прежде… «Конечно, это возможно, — думал я. — Тогда совсем не обязательно: „предавший раз…“».
Всю вахту я думал только об этом. Уже шел четвертый час по нашему судовому времени. Море сделалось темно-стального цвета с фиолетовыми наплывами, и заструился на его поверхности синий с серебром туман; впереди с левого борта он медленно стал окрашиваться в желтый бледный цвет, потом этот цвет слинял, и за туманом поднялось солнце — большой красный круг, без разводов, он накалялся все гуще и гуще, и вдруг я услышал крик Сани:
— Прямо по курсу судно!
И в то же мгновение, как мираж, из серебра и красной мути тумана впереди возникло небольшое двухмачтовое грузовое суденышко. Мы шли прямо на него, — откуда оно взялось, как с неба свалилось или вынырнуло из морских глубин, — мы шли на него всей своей громадой, делая восемнадцать узлов; еще какое-то мгновение, и мы раздавим его или сами получим пробоину… И я стремительно представил: треск металла и дерева, он словно ударил по моим ушам.
— Право на борт! — крикнул я, сам нажимая кнопку тифона, и тут же сильный гудок раздался над водой.
Я прыгнул к ручке телеграфа, рванув ее на «полный вперед». Решение сложилось мгновенно: пароход сейчас развернется вправо, и надо добавить ему скорости, чтоб не занесло корму на чужое судно.
Нос «Чайковского» пошел вправо. Я скомандовал: «Одерживай!» — и в то же мгновение с левого борта увидел, как мелькнула палуба мостика, на нем мечущийся человек, задравший кверху лицо, мне показалось — я хорошо его увидел: коричневое лицо с белыми глазами, а потом бочки и тюки на палубе, стянутые канатами, все это стремительно проскочило мимо нас… Я не знаю, сколько это длилось, но, когда я увидел, что мы миновали грузовое суденышко, оно оставалось у нас на корме, я почувствовал — все на мне мокрое, от волос до рубашки. Но опомниться не успел — в рубку вскочил Ник-Ник; он застегивал на ходу брюки, видимо, надел их стремительно, но был без рубахи, с голой волосатой грудью. Ничего не спрашивая, он выбежал на крыло мостика и скомандовал:
— Стоп машина!
— Есть стоп машина! — повторил я.
Когда «Чайковский» остановился, Ник-Ник приказал:
— Запросите у них, нужна ли какая-нибудь помощь!
Я не стал поднимать флаги, это долго, схватил фонарь и, хоть уже было достаточно светло, все же решил, что вспышки мои заметят! Их заметили и прочли и тут же ответили тоже вспышками: «Благодарим, в помощи не нуждаемся».
— Пожелайте им счастливого пути! — приказал Ник-Ник и тут же отдал команду, чтобы «Чайковский» двинулся вперед.
Он неторопливо прошелся по рубке, заглянул в обе карты, потом подошел к локатору и, повернувшись ко мне, сказал спокойно:
— Станьте на руль, — и тут же обратился к Сане: — Сходите, Егорычев, ко мне в каюту, принесите, что надеть.
— Есть! — сказал Егорычев.
Ник-Ник старался держаться ко мне вполоборота, а потом просто стал спиной, закинув за нее руки и сложив ладонь в ладонь. И я догадался, почему он так вел себя: когда он вбежал полуголый в рубку, мне бросилась в глаза татуировка на его груди — якорь, а над ним надпись: «На вечные времена», но я сразу же забыл о ней, а сейчас вспомнил и невольно усмехнулся, и он тут же, словно почувствовав мою усмешку, строго спросил:
— Почему у вас был выключен локатор?
— Стало светло, товарищ капитан.
— Туман вы в расчет не взяли… Ну хорошо. — Он говорил со мной, не оборачиваясь. — Надеюсь, вы понимаете сами, что создали аварийную ситуацию. Разбирать сейчас ничего не будем. Я снимаю вас с вахты.
Мне оставалось не более четверти часа, и не во времени было дело, а сам факт снятия капитаном штурмана с мостика уже означал акт недоверия, за которым должно было последовать самое строгое взыскание… И я тут не мог возражать, я знал, как знали и все другие штурмана: нам нельзя ошибаться, ведь пароход тонет только один раз… Я записал все, что велел Ник-Ник, в вахтенный журнал, и когда Егорычев принес ему форменную рубашку и он, надев ее, смог повернуться ко мне лицом, он подошел к штурманскому столику и поставил свою подпись.
За бортом сменяются моря, проходят страны и континенты, а на пароходе, как в маленьком поселке, стоящем на земле, — своя работа, своя любовь, свои горести и неудачи… Так плывет по морю пароход.
Часть третья КАПИТАНЫ, КАПИТАНЫ, КАПИТАНЫ
Глава восьмая ЕХАЛ ЗАЯЦ НА АВТОМОБИЛЕ
Я стоял в каюте капитана перед письменным столом, за которым сидел Ник-Ник и оглядывал меня с простодушным любопытством в коричневых глазах, поглаживая при этом ладонью баки, оголенный подбородок его был вздернут вверх. Он не предложил мне сесть и словно чего-то ждал, и я ждал; наконец, он вздохнул с сожалением и сказал:
— Я бы хотел, чтоб вы сами перечислили те нарушения, что совершили за одну вахту.
Я был готов к этому, потому что совсем недавно, лежа у себя в каюте, прикидывал, в чем мои провинности. Их было много: я позволил себе уйти в свои мысли, отрешиться от дела, когда все четыре часа должен был отдать целиком судовождению, не отрываясь ни на мгновение; я отключил локатор; я не заметил судна в море, что грозило столкновением, а это наиболее опасный вид аварии; я не сообщил, что мы входим в полосу тумана, капитану, и, наконец, я не услышал первого доклада рулевого — так был занят размышлениями. Но об этом Ник-Ник не знал, об этом мне сообщил Саня, когда мы остались вдвоем, но я не захотел ничего скрывать — семь бед, один ответ.
Ник-Ник внимательно слушал. Я видел на лице его сочувствие, но теперь я гнал, как обманчив бывает этот взгляд, и держался настороже.
— Прекрасно, — сказал он, когда я закончил свои объяснения. — Надеюсь, вы понимаете, что я стою перед необходимостью наложить на вас взыскание вплоть до понижения в должности, даже…
Он не договорил, по я знал: речь могла идти и об увольнении. Правда, столкновение мною было предотвращено и мы не врезались в грузовое суденышко, следовавшее под флагом Либерии, но это в расчет не принималось: ведь если бы случилась авария, дело бы пахло судом в первую очередь для капитана, потому-то он и имел право наказывать, даже когда только возникала возможность аварии, ну, а тут до нее оставалось несколько минут.
— Понимаю, — ответил я.
На душе у меня было скверно. Я считал себя неплохим штурманом, да и не только я, мои товарищи по мореходке говорили, что я прирожденный моряк, а в это понятие всегда входило и чутье к опасности, которое я вдруг утратил. И Лука Иванович не раз похваливал меня. Он любил нас учить, поручая капитанское место, сам становился к рулю или превращался в вахтенного помощника; он любил размышлять о том, что штурман, получив образование, должен уметь его отдать, а не быть просто исполнителем капитанских команд. Если бы я сорвался на другом, ну, напился бы, что ли, хотя не очень люблю спиртное, все же и то было бы легче, но проколоться на прямом своем деле… хуже этого ничего быть не может.
Ник-Ник встал из-за стола и прошел мимо меня к открытому иллюминатору. Впереди, прямо по носу парохода, было чистое море, дать просматривалась хорошо, и там, на горизонте, небо горело, как отполированная сталь.
Он стоял долго, глядя в море, и я боялся шевельнуться — ведь ему нужно было принять решение. Почему это, когда пакостно на душе, то и тело кажется липким, загрязненным и хочется подставить его под сильные струи воды?
Он оторвался от иллюминатора и быстро вернулся к письменному столу, открыл нижний ящик, склонился над ним и вынул оттуда кожаную папочку с медным замком; прежде чем открыть его, опять подумал, словно прикидывал: а стоит ли? Но потом все же решился и вытащил из папочки фотографию, приклеенную на серый картон.
— Подойдите сюда, — позвал он.
Я подошел, взглянул на фотографию и обомлел: точно такая же висела у нас дома в рамке под стеклом, в простенке между окнами, и когда я просыпался по утрам и поворачивался, чтобы взглянуть на небо, какая там погода, то всякий раз видел и эту фотографию. Так было с той поры, как я себя помню, и я знал на ней каждую черточку. Знал, что она сделана в немецком городе Ростоке в 1945 году в мастерской Ганса Вайна — его фамилия значилась в правом углу, — и запечатлен на фото экипаж тральщика, на котором служил отец; они снялись в два ряда: верхние — средний комсостав — стояли, старшие офицеры сидели, а трое матросов лежали возле их ног; левым, который подпирал ладонью подбородок, был мой отец.
— Это ваш? — спросил Ник-Ник, показывая мне на отца.
Я до того был растерян, что сумел лишь протянуть:
— Угу…
— Ну, а вот это мой, — указал он на офицера, сидящего справа от командира, и как только он это указал, то я сразу же вспомнил, что у высокого лейтенанта со строгими глазами и впрямь фамилия Сабуров; я же знал их всех, они были переписаны на обороте фотографии, я с детства выучил весь список, хотя мне это и не нужно было. Да, того лейтенанта звали Николай Сабуров, но мне и мысли не приходили каким-то образом связывать его с Ник-Ником, ну мало ли в стране Сабуровых…
Это кого хочешь может потрясти. Я и стоял потрясенный, хотя ничего удивительного тут не было — ведь в то время флот был крохотный и многие моряки хорошо знали друг друга, а мы считаем, что и сейчас мир тесен.
— Вот так, — задумчиво произнес Ник-Ник, взял фотографию, бережно положил ее в папочку, щелкнул замком и спрятал в стол. — А теперь поговорим всерьез, — сказал он и указал на диван: — Садитесь.
Я сел, да мне уж и трудно было стоять, у меня ослабли ноги. Ник-Ник еще раз прошелся по своей каюте и сказал тихо:
— Я не буду накладывать на вас взыскание. Но не потому, что питаю к вам какую-то симпатию… Наказание часто искупает вину. А я не хочу, чтобы вы считали, что искупили ее. Просто вы будете знать: еще нечто подобное, и вы вообще лишитесь диплома штурмана. Вот это я хочу, чтобы вы усвоили. И, надеюсь, если вас будут спрашивать товарищи, почему вы так легко отделались, то вы сумеете объяснить, что еще ни от чего не отделались… У вас больше нет права на ошибку.
Не знаю, почему, сидя перед ним вот в таком состоянии, я внезапно спросил:
— А раньше было? — Может быть, страсть задавать дурацкие вопросы оказалась в этот момент выше меня.
— Раньше? — спросил он, и у него в глазах появилось хорошо знакомое всем веселое выражение, которого у нас начали побаиваться. — Да, по если учитывать, что право на ошибку ничего общего не имеет с одобрением ее или оправданием.
Вот тут я вздрогнул, потому что именно об этом думал на мостике, когда чуть не произошло столкновение, именно об этом я тогда думал, но не мог найти такую простую и точную завершенность мысли, которую сейчас высказал Ник-Ник.
— Вы не согласны? — спросил он.
— В том-то и дело, что согласен, — сказал я.
— Ну, вот как хорошо! — кивнул он и улыбнулся, подошел к холодильнику, достал из него примороженную бутылку боржоми, открыл и, налив в стаканы, протянул один мне. — Я показал, вам эту фотографию, — сказал он мягко, — чтобы напомнить: мы с вами пришли на флот не случайно. За нами слишком много стоит, дорогой мой помощник… Мы ведь с вами знали все, когда шли в мореходки. Знали и что такое капитан, и что такое по многу месяцев в море. И про матерей наших все знали… Стало быть, брались за дело сознательно, в отличие от тех, кто погнался за внешней дешевкой или поддался на уговоры. А когда человек идет на какое-то дело сознательно, у него должна быть своя цель… какое-то свое стремление, чтоб улучшить это долго…
Он сел за кофейный столик, расставив длинные ноги, и отпил несколько глотков из стакана, покрытого мелкими пузырьками, отпил с наслаждением, прикрывая глаза.
— Я не спрашиваю, какая у вас цель. Захотите, когда-нибудь сами скажете. Что же касается меня, то я вижу возможность нашего флота стать не только самым крупным в мире, но и самым доходным. И тут есть каналы. И бункеровка в открытом море. И техническая перевооруженность… Сейчас я занимаюсь только нашим судном. Здесь нужно навести порядок. Еще немного, и мы кое-чего добьемся… Но пройдет время, и я бы хотел вас и других штурманов привлечь к тем разработкам, которые у меня наметаны. Это я вам для того, чтобы вы знали — нам будет над чем поломать голову. Вот пока и все… Если у вас вопросов нет… — тут он улыбнулся.
Я встал, понимая, что пора покидать каюту, и уже хотел было попрощаться, как сказал:
— Есть вопрос, товарищ капитан.
— Ну? — спросил он.
— А где тот… лейтенант Николай Сабуров?
— Ловит бычков в Одессе, — улыбнулся Ник-Ник. — А что?
— Я бы хотел его увидеть.
— Пойдете в отпуск, дам вам адрес, — ответил Ник-Ник к протянул мне руку. — Надеюсь, мы поняли друг друга.
Мы подходили к Маврикию по густо-фиолетовому морю. Такой яростно-чернильной окраски воды я еще нигде не видывал в Индийском океане. Остров возник, как мираж, как большое, упавшее на поверхность волн жемчужное облако, хотя небо вокруг было чисто, и в центре этого облака притаился городок. Он четко был виден, как нарисованный, словно контуры каждого домика старательно обвели тушью. Когда подошли ближе, городок исчез, и остров показался диким, со скалистыми фантастическими берегами, ядовито-зеленой травой и рваными, со множеством уступов горами, но потом и этот пейзаж изменился: открылась ухоженная земля с зарослями сахарного тростника, пальмами и бухтой, и в конце ее, у подножия горы, разбросал город Порт-Луи свои домики и извилистые улочки.
Еще издали, глядя на лоцманский катер в бинокль, Ник-Ник сказал:
— Не иначе, сам капитан порта…
Я тоже взглянул в бинокль и увидел на палубе катера кудрявого человека в белой морской форме; на рукавах его сверкали золотом четыре нашивки — как у нашего капитана, — фуражку, всю отороченную золотыми знаками, он держал в руках. И только когда он поднялся на мостик, мы сообразили, что это всего лишь лоцман. Отдавая команды, он радостно улыбался, показывая крепкие зубы; он был из черных креолов, потомок то ли голландцев, то ли французов и африканских рабов.
Когда он кончил проводку, капитан приказал, чтоб я отвел его в кают-компанию, где был для него накрыт стол. Он с удовольствием выпил красного вина, и мы без всякого труда разговорились. Болтал он по-английски со странным акцентом, но я понимал его. Когда он узнал, что я впервые на Маврикии, то он тут же замахал руками, начал перечислять, что я должен увидеть, и стал рассказывать, как богат этот остров всякими историями… Сначала мне показалось — он импровизирует. На мгновение он задумывался, и на его темном лбу вздувалась крепкая поперечная жилка, потом он вскидывал вверх палец, затем взмахивал рукой, словно погонял лошадь, и, высказав фразу, заливисто, совсем по-детски, смеялся; да, это было похоже на импровизацию, но потом он уверял меня, что все рассказанное им — обыкновенные маврикийские сказки. Иногда он разыгрывал передо мной целые сценки.
…— Ехал заяц на автомобиле, — говорил он и при этом сужал глаза и делал вид, что крутит баранку руля. — Ехал по берегу и видит — плывет кит. «Ой, — крикнул он, — такой рыбы не бывает! Этого не может быть!» Тогда кит засмеялся и выпустил фонтан воды. «Это таких маленьких существ, как ты, в автомобилях не бывает», — ответил кит. «Но, но, — сказал заяц, — не в величине дело, а в крепости духа. Я могу с вами поспорить, уважаемая рыба, кто сильней». Кит опять засмеялся. «Хорошо, — сказал заяц, — сейчас я принесу трос, и мы будем тянуть друг друга. Тогда посмотрим, кто сильней!» И помчался на своем автомобиле заяц в лес, где жил слон. «Послушайте, мистер, — сказал ему заяц, — я давно вам хотел сказать: если у существа такая большая голова и маленький хвостик, он не может быть сильным». Рассмеялся слон. «Хорошо, — сказал заяц. — Вот конец троса, обвяжите себя им, а я обвяжусь другим концом, и когда я дам команду — тяните. Посмотрим, кто кого перетянет». — «Посмотрим», — ответил слон. Связал заяц слона и кита тросом, а сам спрятался в кустах и приказал: «Тяните!» И они как потянут! Так тянули, что трос лопнул. Слон ударился о деревья. «Ну вот, — сказал ему заяц, — я же предупреждал: не надо спорить с тем, кто сильнее тебя…» А кит оказался на берегу и поранился. «Ай-я-яй! — сказал заяц. — Я очень сожалею, что так случилось. Все-таки вы не рыба, если очутились на берегу, а не уплыли в море. Но, наверное, вы не станете снова кичиться, что такой большой!»
Он так хорошо смеялся, рассказав эту историю, что удержаться от смеха было просто нельзя.
— А вот еще, — сказал лоцман и, прищурившись, изобразил на своем лице хитрость. — Кончилась мода на автомобили, и все снова стали разъезжать на лошадях. И как-то собралось большое общество в королевском дворце. И вдруг королевская дочка спросила у зайца: «А вы не знаете, почему это нет сегодня улитки?» — «О, — сказал заяц, — конечно, знаю. Она у меня служит вместо лошади». Все страшно удивились и попросили зайца, чтоб он проехал на улитке под окнами дворца. Побежал заяц в лес, лег на дорогу, дождался, когда приползла сюда улитка, и принялся стонать: «Ой, умираю!» Испугалась улитка, предложила зайцу помощь. «Вези меня в больницу, — сказал заяц, — быстрее только». Он залез на улитку и сказал: «Я так слаб! Дай мне уздечку, чтоб я за нее держался… Ну, и кнут дай, чтоб я ручкой его показывал, куда меня везти, а то говорить мне очень трудно». Улитка все это дала зайцу и поползла. «Быстрее! — закричал он. — Больница закрывается в четыре часа». Хотела улитка его сбросить, да уздечка режет рот, удары кнута оглушают. И поскакала улитка. А из окна дворца наблюдало общество, и все говорили: «А смотри-ка, нас заяц и здесь обскакал!» Смешно? — спросил лоцман.
— Смешно, — сказал я.
— Я рад, — сказал лоцман и опять захохотал, яростно сверкая белыми зубами. — Очень вкусный обед. Спасибо! — И он быстро оглядел стол и смущенно сказал: — Можно, я кое-что возьму с собой? У меня семеро детей.
— Сима, — позвал я. — Собери что-нибудь…
— Я слышала, — ответила Сима и вынесла лоцману пакет.
Я проводил его до трапа и, прощаясь, сказал:
— У вас очень богатая форма. Мы даже приняли вас за капитана порта.
Он засмеялся и ответил:
— У нас тут так — чем богаче упаковка, тем бедней содержание. — И, подмигнув, добавил: — Ехал заяц на автомобиле…
Жемчужным облаком, упавшим на море, возник впервые передо мной Маврикий.
Едва я сменился с вахты, умылся и переоделся, как ко мне постучали, и я увидел в дверях Нестерова. Он стоял, улыбаясь, цепко сжимая трубку, и одет был в новенький белый китель.
— Какой праздник? — спросил я.
— Есть праздник, — ответил он. — Нина вышла в Одесском порту. А оттуда самолетом, — и уже дома.
— Так быстро? — удивился я.
— Они же через Суэцкий канал… Слушай, Костя, я договорился с Аленкой. Вытянем по коктейлю, а?
— Если наткнемся на первого помощника, кто будет объясняться?
— Я буду объясняться, — ответил Нестеров и засмеялся: — Чудак, нам иногда разрешается посещать салоны.
— Вот, иногда! — поднял я палец. — А мне теперь, прежде чем громко крикнуть, и то надо оглядываться.
— Я отвечаю, — сказал Нестеров. — Идем…
Мы прошли прогулочной палубой в музыкальный салон. В это время здесь всегда много народу, все столики вокруг полукруглой эстрады заняты — файфоклок, священный пятичасовой чай. Англичанин может пропустить все, что угодно, только не его; правда, на этот раз мы везли австралийцев, но у них прочно укоренились английские обычаи. Ехали в большинстве своем пожилые люди, давно не бывшие в Европе и рискнувшие на такое путешествие. Эти пассажиры отличались от тех, кто населял каюты парохода, когда мы шли в Австралию, — там было много молодежи, большинство из них переселенцы, двинувшиеся в поисках счастья на южный континент, — но и наши нынешние пассажиры не уставали развлекаться; сейчас они сидели в креслах, потягивали из чашек чай, похрустывая бисквитами, и вели неторопливую беседу.
Бар Аленки размещался наверху, здесь было полутемно и прохладно. Она ждала нас, одетая в красную кофточку с бархатным черным бантом, помахала из-за стойки рукой и указала нам на столик в углу — он предназначался для офицеров парохода, главным образом для пассажирской службы.
— Я вам сейчас такую вкуснятину сделаю! — подмигнула она нам.
Мы сели. Нестеров набил трубку, и Аленка принесла нам два бокала с коктейлями.
— Сама придумала, — сказала она. — Потом скажете, понравилось ли.
Я отпил глоток. Действительно, коктейль был вкусный, а Нестеров к нему не притронулся, задымил трубкой.
— Это хорошо, что она уже дома, — сказал он. — А то я беспокоился… Почему так: когда сам в море — все нормально, а когда кто-то из близких уходит — тревожно… Ты это заметил?
Но я не стал ему отвечать, я подумал — вот он сидит напротив меня, довольный, счастливый, все горести, что принесла ему разлука, отошли, и теперь у него одна забота: а как там Нина? Но ведь и эта забота может принести радость, а вот с Юрой все иначе, он пережил гораздо больше, а еще предстоит перенести боль и другому человеку — Леше, и неизвестно, чем это кончится. Неужто так всегда — радости одних вырастают на бедах других?
— Мы с тобой давно не разговаривали, — сказал я. — И ты мне ничего не говоришь: как ты относишься к Юре?
Он не ожидал этого. Он был сейчас занят собой, он то и дело вынимал из кармана радиограмму, но тут же свертывал ее, потому что, наверное, знал наизусть.
— К Юре? — переспросил он, выпустил облачко Душистого дыма и, прищурившись, задумался, потом сказал: — Честно говоря, Костя, мне его жалко… Вообще в нем много жалкого… По не это главное.
— А что?
Он опять задумался и, помолчав, сказал:
— Понимаешь, есть вот такие люди… я не знаю, сумею ли я объяснить… которые стараются все делать правильно… очень правильно. Но эта правильность иногда оборачивается пакостью. Мне о нем Нина много рассказывала. Еще про студенческие его годы… Ты вот посмотри, у него каждый шаг вроде бы очень верный. Он и рапорт этот написал, исходя из железного закона. А вот что из этой правильности получилось… Ты понимаешь, о чем я?
— Понимаю, — сказал я. — Но ведь и ты все делаешь правильно.
— Может быть. Но однажды я на этом обжегся… Однажды я понял, что есть такая формальная правильность, которая для успокоения совести существует, а на самом деле она полная дрянь. И, может быть, страшнее ее ничего нет.
— Как же ты это понял?
— Помнишь, я тебе рассказывал, ко мне друг пришел с затонувшего «Урана». Он посидел со мной и извинился, потому что трусом считал меня когда-то и так назвал перед командой… Вот он ушел от меня, и я стал размышлять: все меня сейчас считают правым. Не пошел в море на неверно загруженном пароходе. Это, мол, другим пример. Все так считают… А я все время чувствовал — тут какая-то закорючка. Что-то уж очень мне душу жмет. И он меня, мой друг, сам того не зная, к этой мысли подвигнул… Да, конечно, я прав был, что высказал все напрямую капитану, и что рапорт написал, и в пароходство пожаловался, но… Речь-то о жизни людей шла. Я все это сделал и пошел спать домой, а пароход со смертельной опасностью в море ушел. И вот тут-то мне биться и биться до конца. Хоть в Москву лететь к министру, хоть куда… Вот так, Костенька, я вроде бы нрав… а ведь это правда такая — формальная, что ли… Ее очень легко напоказ выставлять… Если бы я истинно был прав, то люди не погибли бы.
Неторопливо пили пассажиры чай внизу под нами, вели свои спокойные беседы, негромко звучала музыка небольшого оркестра, девушки-официантки разносили бисквиты, а я сидел и думал: это же надо так жестко относиться к себе! Обычно человек находит в душе своей оправдание поступкам — это, как я где-то вычитал, одна из защитных реакций нервной системы, — а Нестеров ищет свою вину там, где вроде бы и нет ее.
— Так ты и ходишь со своей виной? — спросил я.
— Так и хожу.
— Тебе это нужно?
— Нужно… Слушай, Костя, я тебя не заставляю принимать мои мысли. Каждый может размышлять, как хочет. Но для себя я знаю — нельзя цепляться за правила. Ими легче всего прикрываться и, прикрываясь, прослыть правдолюбцем. Недаром ведь кем-то уже сказано: все было по закону, а вышла гадость. Да и когда цепляются только за правила, поневоле приходят к крайностям… Вот от сих до сих. И тут уж забывают, что правила эти существуют, конечно же, ради человеческого блага. Для этого они и были выдуманы. Но крайности тем и отличны, что они заслоняют конечную цель, а выдвигают на первый план иную — соблюдение… Такой путь, Костя, легче, он прямолинеен, но он убивает человека.
— Вот так ты думаешь о Юре? — спросил я.
— Думал, — поправил он.
— Ну, а сейчас?
— А сейчас… — Он улыбнулся и повращал в пальцах стакан с коктейлем. — Поживем — посмотрим… Но его здорово тряхнуло. Когда человек проходит через такое, в нем обязательно что-то должно измениться. — И, сузив глаза, он засмеялся. — Мы же с тобой, Костя, не психологи и не профессора. Мы моряки…
— Ну и что?
— А ничего… Просто в море каждый должен быть перед собой честен.
— А на берегу?
— Мы там мало живем, — снова улыбнулся он.
И вот тут, глядя в его узкие веселые глаза, я спросил:
— А ты женишься на ней?
— Я бы этого хотел, — тотчас ответил он.
— Но ведь и Юрка ее любит, — сказал я. — Он очень сильно ее любит… Может быть, поэтому все и случилось…
— Да, конечно, — согласился Нестеров. — По ведь каждый по-своему борется за любовь.
Пили чай пассажиры. Многих из них я уже знал хорошо, потому что встречался с ними то на палубе, то в салонах, иногда их приводили администраторы на мостик, чтобы показать, как управляется турбоход. Наискосок от меня сидел маленький старик с бородкой клинышком и острыми, развевающимися в обе стороны усами; у него были большие, тронутые желтыми прожилками глаза, но в них еще сохранилось почти детское изумление — он был художник, иногда выходил на палубу с мольбертом и писал странные картины, иссеченные мелкими мазками кисти. Рядом с ним сидел крепкий загорелый человек с седыми баками и тяжелыми складками у глаз — полковник в отставке. Он рассказывал мне, как воевал на Окинаве в составе американских войск, а за ним тесной группой восседали индусы… Они пили чай, эти разные люди, каждый со своей непонятной мне судьбой…
Подбежала Аленка, присела перед нами на корточки.
— Ну как, мальчики, коктейль?
— Очень вкусно, — сказал я.
По она тут же взглянула на стакан Нестерова, увидела, что он так и стоит нетронутым, удивилась:
— Ну, Петя, а ты что?
— Сейчас, сейчас, — сказал он и смутился.
— Вы, наверное, про любовь говорили. Ага? — с любопытством спросила Аленка, сморщив остренький носик.
— Только про нее, — ответил я.
— Ну, мальчики, это нечестно. Я ведь тоже хочу послушать.
— Свою пора заводить, — наставительно сказал Нестеров.
Мы огибали мыс Доброй Надежды. Шторм бушевал в этих краях; огромные антрацитные валы поднимались перед носом парохода, их поверхность рябило множеством мелких воли; вздымаясь вверх, они выбрасывали к низкому, словно покрытому гарью небу рваные струи воды, и те, набрав высоту, обессиленно падали на белые гребни, соединяясь с пеной; вдали грохотало, будто шторм огромной своей силой бился о грудь каменного мыса, — ведь недаром же звали его когда-то мысом Бурь, — и о его уступы разбивалось множество кораблей, идущих под разными флагами.
Ветер выл вокруг парохода, и в вое этом слышались разные голоса: и плач ребенка, и стоны раненых людей, и треск корабельной оснастки, и отдаленный гул канонады, будто все эти звуки хранились, собранные воедино где-то в убежище южноафриканских берегов, а сейчас доносились к нам на устрашение. Вот здесь, в этих водах, я и получил одну из самых печальных вестей, вообще когда-либо полученных мною в дальнем плавании…
Когда в конце дневной вахты на мостик поднялся первый помощник Виктор Степанович, я сразу насторожился. Наверное, он это заметил, тут же постарался сделать все, чтоб я успокоился: подошел к карте, посмотрел на нашу точку, покачал головой, на которой торчал его всегдашний хохолок.
— Ничего штормит, — сказал он. — Так, пожалуй, и к Кейптауну не подойдем… Как?
— Подойдем, — ответил я. — Мы да не подойдем, тогда кто же?
— Да, конечно, — сказал он и вышел на крыло мостика, взялся обеими руками за ограждение и так остановился, задумавшись, но я чувствовал — он все время наблюдает за мной. Я не выдержал и решил спросить его напрямую; вышел из рубки, стал с ним рядом, но так ревело вокруг, что мне пришлось к нему склониться и крикнуть в ухо:
— Что случилось?
Он вздрогнул, замотал головой, показывая, что ничего не слышит, тогда я указал ему на рубку, приглашая его туда, но в это время появился на мостике старпом — надо было идти сдавать вахту.
Я спросил у старпома:
— Вы не знаете, что случилось?
— Я спал, — сказал он. — А что?
Я кивнул в сторону Виктора Степановича. Старпом вгляделся в него пристально, как тот стоит, напряженно держась за ограждение, наклонив вперед голову и сжимая челюсти.
— Да, что-то есть, — согласился старпом и тут же забыл об этом, потому что стрелка часов двигалась и надо было делать свое штурманское дело.
И я на какое-то время забыл о первом помощнике, пока показывал записи в журнале и точки на карте, но, когда стал спускаться по трапу, Виктор Степанович догнал меня, дружески обнял за плечи и сказал:
— Зайдемте к вам в каюту… Небольшой разговор.
Мы прошли ко мне. Виктор Степанович сразу же сел, потом жалобно попросил:
— Нет ли у вас сигареты?
Я улыбнулся: он замучил всех своими просьбами. Бросил курить, у себя сигарет не держал, но стоило при нем кому-нибудь закурить, как он не мог удержаться: видимо, желание было сильнее его, и тогда он всех стал просить, чтобы ему даже по самой жалобной просьбе не давали и окурка.
— Не могу, Виктор Степанович, — сказал я. — Сами просили.
— Черт с ним, что просил! — внезапно вскипел он и уже резко приказал. — Дайте закурить!
Мне ничего не оставалось, как протянуть ему пачку с сигаретами. Он жадно схватил одну, нервно размял в пальцах и только после того, как сделал глубокую затяжку, взглянул на меня, глаза у него стали мутными и сердитыми.
— Плохие новости, — хрипло сказал он. — Я пришел вам сообщить… Так мы решили с капитаном… бы ведь его ближе всех знали…
— Кого?
— Луку Ивановича, — сказал он.
Я еще ничего не понимал, но мне стало страшно, я это хорошо запомнил, как нездоровый озноб прошел по моей коже, оставив игольчатые следы, и стянуло на затылке и лбу.
— Что с ним? — спросил я.
И тогда, морщась, словно дым сигареты мешал ему произнести слова, Виктор Степанович сказал:
— Умер.
Еще не осознав значимости услышанного, не поняв его истинного смысла, я лишь почувствовал — грянула бода, огромная, непоправимая.
— Как? — спросил я, опускаясь рядом с Виктором Степановичем на диван.
— У себя… на «Перове», — тихо сказал он. — Подробности не сообщили… только — на посту… на работе. Вот… — И он закашлялся, громко, надрывно, трясясь всем телом, и сразу же пот выступил на его лице.
И только тут дошло до меня — вот ведь что сделалось на этом свете: умер Лука Иванович, умер, как это было когда-то с моим отцом, умер где-то в море, и больше никогда его нигде не будет, и это прояснение случившегося было как удар, и, наверное, я сразу же потерял на какое-то время сознание, потому что почувствовал вкус теплой воды во рту и увидел перед собой руку Виктора Степановича, сжимавшую стакан; я резко отбросил от себя его руку и рванулся вперед, стукнувшись о стол коленом. Эта боль привела меня немного в себя, и я с трудом подавил желание бежать, я не знал, куда я должен поспеть, это был нервный порыв — сорваться с места и мчаться, словно можно было еще чем-то помочь ему. Но бежать было некуда, между мной и Лукой Ивановичем половина земного шара.
— Когда это случилось? — спросил я.
— Его похоронили два дня назад… Капитан приказал через час в кают-компании провести гражданскую панихиду. Вот мы и решили вам и еще нескольким офицерам сказать заранее, чтоб не было неожиданностью.
«Вот же что случилось, — думал я. — Вот что случилось…» — и вспомнил о матери. Я подумал: ох, как плохо, если она узнает без меня, ей ведь никто и помочь не сможет. И я вспомнил, как тяжко все было, когда умер вот так же отец, и что теперь все предстоит пережить и пройти сызнова, от начала до конца, за пядью пядь, потому что Лука Иванович слишком много значил в моей жизни.
— Вы не захотите сказать несколько слов? — осторожно спросил Виктор Степанович.
Я посмотрел на него, на его бледное лицо с запавшими глазами, на всю его усталую фигуру, и сказал:
— Нет… Зачем же?.. Теперь уж поздно…
По приказу капитана все офицеры собрались в кают-компании. Возле электрического камина стоял большой портрет Луки Ивановича — его сделал сегодня наш судовой фотограф. Лука Иванович на нем был строг, в парадном кителе, смотрел без своей обычной насмешливой хитрости, резко выделялся его нос с горбинкой, покрытый темными пятнами, и необычный узор морщин на лбу; фотографию обрамляла темная лента, и на ней внизу белым было написано: «Капитан Л. И. Кунцев»…
Все молча стояли и ждали, Нестеров протиснулся ко мне, встал рядом, сжав локоть и этим показывая — мол, я здесь, не беспокойся, и мне стало неприятно: да что вы все лезете опекать, будто я такой уж тут слабонервный! К тому же, что вы знаете о наших отношениях, ничего не знаете, и проникнуть в них всерьез никто никогда не сумеет… Вошли Ник-Ник и Виктор Степанович, прошли к портрету, и Ник-Ник, оглядев бегло офицеров коричневыми мягкими глазами, сказал негромко:
— Товарищи, умер Лука Иванович Кунцев, недавний капитан «Чайковского», умер в море, на своем посту, как подобает настоящему моряку…
Он говорил не спеша, и голос его журчал, как журчит в погожий день волна за бортом. Он вспоминал, какой путь прошел Лука Иванович, и какой это был долгий путь от войны до наших дней, и все, что говорил Ник-Ник, я мысленно представлял: и как он приехал в Одессу, бежав из родительского дома, и потом трудился среди старых мариманов и бродяг, и как плавал в войну сначала по Черному морю, а потом уж на Дальнем Востоке, я представлял и слышал голос не только Ник-Ника, а Луки Ивановича:
«…Да какой там диплом, какой диплом, Костенька. Моряков жуть как не хватало, а грузы надо было везти из Ванкувера, из Сан-Франциско, военные грузы. Ледяная, считай, дорога. Японцы проливы все то закроют, то откроют, маяки погасили, поставили минные поля. Как по ущельям пароходы шли. А потом, кроме грузов, стали мы суда получать у американцев типа „Либерти“. Вот и делили команду надвое: часть на своем пароходе оставалась, а часть на „американце“ уходила. Ну, новый капитан нужен, новый старпом, новые помощники. Из матросов выдвигали. Так и я вот капитаном стал. Дипломов у нас не было, начальник пароходства на риск пошел: писал гарантийное письмо капитану порта, что, мол, доверяет такому-то и такому-то водить судно… И все равно людей не хватало. Без выходных работали, с опасным перегрузом — в северных водах под тропическую марку. Американцы смотрели на нас, ничего не понимали. А нам хоть бы что — ведь мальчишками еще были. Это я потом за парту сел, когда уж вдосталь капитаном наработался…»
Журчал голос Ник-Ника, он говорил о Луке Ивановиче, но разве можно рассказать о человеческой жизни, когда в ней столько дней, минут, мгновений, все они сплетаются меж собой и спорят порой непримиримо, и нельзя иногда понять, за какой стороной правота… И глаза матери возникли передо мной, большие, остановившиеся, когда я закричал: «Нет! Нет!», и крик мой летел над заливом, над портом, и та детская моя вина опять возникла во мне, вина перед человеком, которого уж не было на свете, и подступила комом к горлу, перехватила дыхание, еще чуть-чуть, и я уж не выдержу… И в это время в мозгу моем вспыхнула фраза: «Ехал заяц на автомобиле…» Я уже и не помнил, откуда эта фраза, но она завращалась в мыслях моих: «Ехал заяц на автомобиле… ехал заяц на автомобиле… ехал заяц на автомобиле…» Я не мог определить, какой тут смысл, да и не задумывался над этим, просто вертелось в голове: «Ехал заяц на автомобиле…» И вдруг я понят: еще немного — и закричу эту фразу во весь голос, и шепнул Нестерову:
— Выйдем…
Он опять сжал мой локоть и сказал:
— Капитан тебя просит к нему зайти… Пойдем, провожу.
Мы вдвоем стояли возле стола в кабинете каюты капитана. За иллюминатором гудел шторм, стены и подволок поскрипывали, Ник-Ник поставил три рюмки на мокрую скатерть, чтоб они не соскользнули при качке, налил водки сначала в ту, что стояла на отшибе, и прикрыл ее куском черного хлеба, потом уж в две другие, он указал мне кивком головы, чтобы я взял свою… Я еще никогда не видел его таким, лицо его словно сделалось беспомощным, глаза смотрели с грустью, и он, волнуясь, покусывал губу.
— Давайте помянем его, — тихо сказал Ник-Ник и посмотрел на рюмку, прикрытую хлебом, так, словно Лука Иванович еще мог войти сюда и выпить. — И вот что еще я вам должен сказать… Когда мы здесь прощались, — он обвел рукой, сжимавшей рюмку, каюту, — Лука Иванович сказал мне… он к вам относился, как к сыну. Он ничего не просил, он так сказал, и все… Надеюсь, вам это ближе и понятней… Вечная ему память.
И если бы я не выпил этой рюмки, не выпил бы ее одним большим глотком, то, пожалуй, не сдержался бы, пожалуй, заревел на весь пароход.
— Рано они уходят, — тихо и грустно сказал Ник-Ник. — Это их война догоняет.
Едва я заступил в ночную вахту, как на мостик поднялся капитан. Он встал впереди, взявшись за ограждение, и стал смотреть в черное глухое море, над которым не было ни луны, ни звезд, только свет прожекторов выхватывал из черноты тяжелые, угольные волны. В дикой тьме шел наш турбоход, и гудел, ревел вокруг него шторм. Изредка капитан подходил к локатору и ЭВМ, взглядывал на мелькание цифр, на зеленую стрелку развертки и опять возвращался на свое место. Мы простояли с ним вместе вахту молча, и так же молча он ушел, когда просветлело над морем и справа по борту свинцовые облака окрасились в грязно-желтый цвет… Я был благодарен ему за молчание.
Глава девятая ОСТАЮТСЯ НА МОСТИКЕ
И все-таки мы встретились в Лас-Пальмасе на Канарских островах, но до этого был Кейптаун, а потом Дакар и экваториальные воды Атлантики. Они были тихи много дней, с черной зеркальной поверхностью, в которой часто отражались белые облака; словно из небытия, как большие стрекозы, вырывались из этой глади стайки летающих рыб, и четко был отбит горизонт; небо и море не сливались, имели резкую границу, и она казалась близкой. Солнце вставало с правого борта; оно стремительно взлетало в тусклую синеву, словно его выталкивала из воды неведомая сила, и так же быстро садилось в конце дня, выбрасывая в небо зеленые лучи, будто там зажигались мощные прожектора, и лучи эти держались долго и гасли, когда вверху уже вспыхивали крупные звезды.
К острову Гран-Канария мы подошли ночью и встали ка рейдовую стоянку. Остров был в огнях, они поднимались вверх уступами и дрожали, словно это горело множество свечей, и ночной остров напоминал огромный именинный пирог. И вот, когда был включен радиотелефон и в нем послышались голоса портовых властей, я отчетливо услышал слово «Перов», а потом узнал и голос радиста; он что-то кричал по-английски и вдруг крикнул по-русски: «Привет „Чайковскому“!», и наш радист ответил ему, но тут же занялся своими делами, а я уж ни о чем не мог думать, только о них… Они здесь, в Лос-Пальмасе, они здесь совсем рядом. Когда все, кто был свободен, разошлись с мостика, я задержал Нестерова.
— Побудь, Петя, на вахте… Очень прошу, пять минут! — и тут же скатился по трапу вниз, ворвался в радиорубку и поманил Махмуда.
Он смотрел на меня, насупив черные лохматые брови.
— Махмуд, милый человек, сделай один раз… за всю жизнь один раз. Свяжи с «Перовым»… «Деда» мне к телефону. Понимаешь, «деда»!
Махмуд сурово смотрел на меня. Я испугался — он сейчас откажет, ведь не каждый возьмет на себя такое.
— Очень нужно? — спросил он.
— Смертельно, — сказал я.
— Иди на мостик, — хмуро сказал он. — Я тебе туда подам… Только тихо. Представляешь?
— Спасибо, Махмуд, я этого не забуду! — ответил я.
Но он уже меня не слушал, а я стремительно взлетел и верх по трапу к радиотелефону.
Я ждал, вглядываясь в берег, слушая треск в динамике. Я боялся одного: а вдруг сейчас «Перов» начнет отходить или нет на нем Леши, ведь он мог остаться на берегу, — я ничего не знаю; я ждал, и долгими, очень долгими были эти минуты, и вдруг услышал сдавленный голос Махмуда:
— На мостике?.. Говори…
И секунды не прошло — так мне показалось, — как раздался сонный, недовольный голос Леши:
— Да, слушают на «Перове».
— Леша… Лешенька, здравствуй, «дед»… — Я не мог владеть своим голосом, он сорвался, и даже мне почудилось — пропал и я больше не произнесу ни слова, и тут же Леша, потеряв сразу сонливость, четко произнес:
— Костя?.. Ну, молодец! Здравствуй!..
— Я… Я… Я…
— Да ты успокойся, чудак, мы еще тут сутки… Я все узнал. Вы завтра в шесть швартуетесь к причалу. Я подъеду к трапу.
— Кончай, ребята! — ворвался голос Махмуда.
— До завтра, Леша! — крикнул я.
— До завтра, — ответил он.
Я сжимал в руке трубку, не в силах повесить ее на место, мне казалось, она еще соединяет меня с Лешей, и вглядывался в островные огни, где-то там были и огни «Перова».
— Поговорил? — услышал я за спиной и увидел Нестерова.
Он стоял в полутьме, сжимая зубами трубку, и она тлела темно-красным, слабо освещая его лицо.
— Это он? — тихо спросил Нестеров.
— Он, — ответил я.
— Это хорошо, — сказал Нестеров и пошел к выходу.
…Я не спал в эту ночь. Как только кончилась моя вахта, штурманы поднялись на мостик, и мы в рассветной полумгле двинулись в гавань, и вставало в оплывших от красноты облаках солнце, и я жадно вглядывался в берег. Много кораблей стояло в гавани, часть из них заслонялась высотными домами, но все же я увидел «Перова», когда мы сделали медленный разворот направо. Я увидел его в бинокль. Он стоял, неказистый, с черным бортом, возле двух роскошных лайнеров, и все во мне всколыхнулось, будто это был не теплоход, а берег родного порта… Прозвучала команда капитана, и я тут же опустил бинокль — мне нельзя было смотреть по сторонам и уходить в свои мысли, мы двигались к причалу.
Прошло еще часа три, пока мы встретились с Лешей. До этого мне пришлось сходить к Виктору Степановичу — он у нас ведал увольнением на берег, — он понял меня с полуслова и сказал:
— Да, вам это надо…
Леша подъехал к трапу на машине, и я видел, как он вышел из нее, что-то сказав шоферу. Он шел вперевалку, в белой форменной безрукавке, оглаживая рукой бородку, и я кинулся к нему навстречу. Он засмеялся и прижал меня к себе; от него пахло, как всегда, машинным маслом.
— Ты можешь со мной ехать?
— Да.
— Давай тогда в машину. Это морской агент. Мне надо к ним в контору. Ненадолго… Там они нам должны одну деталь поставить. А потом он нас подвезет, и мы поговорим… Идет?
— Идет…
Мы сели в машину и, проехав мимо высокой каменной стены, по которой тянулись толстые гофрированные шланги — для подачи бункера и воды на пароходы, — выскочили из ворот порта и оказались на зеленой улице, где вздымались вверх пальмы, горели на клумбах яркие цветы. Мы помчались мимо больших афиш, на которых свирепые быки, увенчанные яркими венками, целились рогами в плащи матадоров, и шофер наш, он же морской агент, длинноволосый парень — испанец с узенькими усиками, пытался втолковать нам по-английски, где и что тут находится, где дом Колумба, в котором жил великий мореплаватель, останавливаясь на ремонт своих кораблей, где отели и пляжи, и рассказывал, что на острове когда-то обитало белокурое племя гордых гуанчей, которых сейчас и не осталось-то на земле, потому что, сопротивляясь конкистадорам, они бросались со скал в пропасть, предпочитая смерть плену и рабству. Кто они были, эти гуанчи, так и непонятно до сих пор; может быть, именно такие люди населяли Атлантиду, если она действительно существовала, ведь не случайно Гран-Канария называлась прежде Антлантис, — все это он объяснял, но я плохо его слушал, потому что думал только об одном: что мне расскажет Леша?
Мы остановились у двухэтажного серого здания; витрины его были завешаны фотографиями кораблей, это и была контора морского агентства. Леша и длинноволосый парень ушли, а я сидел, ждал, наблюдая за потоком машин! Открывались на улицах магазины, бойкие индийцы поднимали жалюзи витрин — наступало утро на этом испанском острове, где не бывает лета и зимы, а только весна, воздух чист и прозрачен и зелень ярка.
Они вернулись быстро. Агент-испанец был доволен, потирал руки, насвистывал бесшабашную песенку, сел к рулю и, обернувшись ко мне, бойко подмигнул и лихо сорвал машину с места.
— Куда мы? — спросил я.
— Сказал, что повезет к кратеру погасшего вулкана, — ответил Леша.
По правде говоря, мне было все равно, куда ехать, был бы рядом Леша, и мы стали подниматься вверх по чистеньким, уютным улочкам и вскоре оказались за городом. Дорога поползла спиралью в гору, мимо стоящих в густой зелени двухэтажных домиков, мимо небольших бассейнов, банановых рощ, а Леша рассказывал. Он рассказывал, как не стало Луки Ивановича.
Четверо суток Лука Иванович не сходил с мостика; изредка ложился прямо в одежде на узкий диван в штурманской и, подремав там немного, снова шел в рубку. «Перов» возвращался из Штатов по северной Атлантике через полосу зимних штормов.
Густые туманы висели над океаном; они разрывались местами, как плотные облака, и тогда из этих разрывов летел завихряемый ветром мокрый снег, начисто заслоняя даль. Не умолкал гудок «Перова», включенный на автомат, изредка слышались ответные гудки или бой колокола, непрерывно работали оба локатора… По вьюжному зимнему морю шли пароходы — вечные трудяги, везли грузы и людей, и не спали на них капитаны — в такие дни их постоянное место на мостике.
Но никто не знал, что Лука Иванович вот уже второй день болен и приказал судовому врачу даже не заикаться об этом… На четвертый день, когда экипаж порядком устал от скверной погоды, получили радиограмму, что на сухогрузе «Ирпень», что шел встречным курсом в страны Латинской Америки, родился мальчик. «Ирпень» уже семь месяцев плавал без захода в свой порт, и неизвестно было, когда он в него вернется. И случилось так, что не ссадили с сухогруза вовремя буфетчицу, вот она и родила на теплоходе, да еще в такую погоду… Радиограмма не содержала в себе приказа идти к сухогрузу, из пароходства пока запрашивали: возьмет ли это на себя «Перов», потому что к «Ирпени» ближе был идущий в порт лесовоз и он бы мог взять ребенка, но у «Перова» ход был на несколько узлов больше. Наверное, Лука Иванович мог бы и отказаться, так как еще и сам был серьезно болен, но…
Суда встретились в море, когда волна была не так уж сильна, но снег валил крепкий. «Перов» ошвартовался к правому борту «Ирпени», оттуда спустили штормтрап. Первой сошла мать, худенькая женщина; она радостно всем улыбалась, наверное, была довольна, что через недельку будет дома. Потом стал спускаться матрос, привязав к груди завернутого в теплое ребенка, поддерживая рукой и осторожно хватаясь за балясины. И вот тут Лука Иванович не выдержал, спустился с мостика на ботдек. Ему все казалось, что матрос лез неловко, и он волновался, стоя внизу.
Когда матрос ступил было на палубу и хотел протянуть ребенка матери, пароход качнуло, и Лука Иванович, который стоял неподалеку от штормтрапа, метнулся вперед. Он успел взять ребенка, но сам не удержался на скользкой палубе, сильно ударился о стену надстройки, но ребенка не уронил.
Он с трудом поднялся на мостик. «Перов» отошел от «Ирпени», просигналил сухогрузу, желая ему счастливого пути, и окунулся в густой туман.
Всю ночь Лука Иванович не покидал мостика — такая дрянная была погода, а встречных судов много, что и на секунду нельзя было отвлечься. Утром к завтраку он спустился в кают-компанию, и все увидели, какое у него нездоровое лицо и как он осунулся.
Лука Иванович быстро поел и опять поднялся в рубку, вызвал к себе врача, спросил, как чувствует себя ребенок, и врач сказал ему, что у матери плохо с молоком, а на борту есть только порошковое.
— Будем спешить. Надо ведь накормить ребенка досыта, — сказал Лука Иванович.
Врач попробовал заикнуться, что не худо бы самому Луке Ивановичу лечь в постель, но он не обратил на слова врача никакого внимания.
А погода все ухудшалась и ухудшалась, мокрый снег валил на палубу, обвисал на снастях.
Где-то в полдень Лука Иванович вышел на крыло мостика, сказал вахтенному помощнику, что ему трудно дышать, надо бы хлебнуть свежего ветра. Прошло около часа, когда вахтенный спохватился и обратил внимание, что Лука Иванович стоит неподвижно, занесенный снегом. Он подумал, что капитан сумел заснуть, прижавшись грудью к ограждению, и вышел к нему.
А Лука Иванович был уже мертв. Он умер стоя, на крыле мостика.
В каюте его нашли короткое завещание, написанное месяца за два до этого; может, уже тогда он чувствовал себя плохо. В завещании он просил похоронить его на земле…
Мы поднимались все выше и выше широкой каменистой дорогой, по краю она была ограждена, по откосам рос низкий кустарник. А Леша все рассказывал:
— Все то, что у него было, — в каюте, все с собой… Потом я на берегу пошел к нему домой, у него однокомнатная квартирка в доме плавсостава. Ничего в ней нет… Кровать, стол, шкаф… Даже телевизора нет. Видно, не любил он эту квартирку, не ухаживал за ней. Знаешь ведь, как у него в каюте. Всегда следил, чтоб уютно было. Да ведь он и не жил совсем в своей квартирке. Он как-то мне сказал: я на берегу одинокий, только в море — человек. Что же поделаешь — так вот жизнь прошла…
Агент наш внезапно остановил машину, чуть не ткнувшись в стенку, сложенную из шершавых камней, и, указав вперед, сказал:
— Кратер…
Мы вышли из машины и подошли к обрыву, и перед нами открылась большая серая котловина. Ни одно деревце не росло в ней; пепельная каменистая земля, и внизу, на самом дне этой котловины, стояло несколько домиков, тянулось небольшое вспаханное поле и длинный сарай.
— Что это? — спросил Леша.
— Ферма, — ответил агент и тут же объяснил, что эту землю купил один крестьянин; на ней можно получать хорошие урожаи картофеля, потому он здесь завел ферму и разводит свиней.
С высоты горы видны были домики Лас-Пальмаса, песчаные пляжи, рощи и беспредельная синева моря, а там, внизу, жили люди и, просыпаясь, видели серую землю и серую дорогу.
— Ему там хорошо? — спросил я.
— Это надо спросить у него, — улыбнулся агент. — Не все ведь любят зелень и солнце.
«Может быть», — подумал я и отвернулся от кратера, стал смотреть в сторону моря, где было празднично и ярко, и тут я вспомнил про Иру и подумал: а как она все это перенесла?
— Ты был у его дочери? — спросил я Лешу.
Он повернулся ко мне, и я увидел удивление в его печальных глазах и тут же подумал, что он может и не знать ничего про Иру, ведь Лука Иванович не делился об этом ни с кем, только со мной, и тот ее приход на «Перов» был единственным.
— У него есть дочь, — сказал я.
Леша сжал бородку своей широкой ладонью и выжидающе смотрел на меня, и я видел по нему, что он действительно ничего не знал, и может статься так — она до сих пор в неведении, что отца ее уже нет в живых.
А спустя полчаса мы сидели в маленькой придорожной таверне. Здесь было опрятно и прохладно. Лысый хозяин с густыми черными усами принес нам красного вина и воды, чтобы можно было пить его, разбавляя, и утолять жажду; услышав незнакомую речь, показал на витринку, где лежали знаменитые канарские кружева, по агент наш что-то сказал хозяину по-испански, и тот, поклонившись вежливо, отошел от столика; агент пытался нам еще что-то рассказать, но вскоре понял — он только мешает, и замолчал. А мы сидели друг против друга, и я увидел, что Леша изменился за это время: лицо его и прежде выглядело худощавым, а теперь щеки еще больше запали, и пегая бородка отросла, только глаза оставались прежними — печальными. Мы так давно не виделись, и о многом нам еще нужно было поговорить, и я не знал, о чем еще спрашивать, и он не знал, отпивал вино лениво, медленными глотками, но я все-таки решился и спросил то, что давно уж хотел:
— А как у тебя… с Ниной?
Он посмотрел на меня и чуть приметно усмехнулся:
— Но ты же все знаешь.
— Да, — сказал я. — Все, что было на пароходе. Но потом…
— Я ее видел, — сказал Леша. — Перед отходом… Она приезжала ко мне, — он говорил это неторопливо, как о чем-то очень простом.
— Ну и что? — спросил я.
— А ничего, — сказал он и улыбнулся мне. — Она все рассказала, и я подумал, что так, наверное, и должно быть… Мы ведь очень мало знали с ней друг друга.
— Ты простил ее?
И тогда он снова улыбнулся:
— Ты странный парень, Костя… Того, кто уходит от тебя, никакими силами не удержишь. Да и не надо… А любовь… любовь ведь не нуждается в прощении… Давай не будем больше об этом. Теперь все в прошлом. Расскажи-ка лучше, как ты живешь.
Он все-таки повез меня к «Перову». Агент остановил машину возле небольшой белой постройки, и, когда мы вышли из нее, я увидел черный борт теплохода со знакомой надписью, да и все мне здесь было знакомо, каждый сантиметр палубы, каждая заклепка, и матроса я увидел знакомого — Сидорчука. Он сидел на корточках и стравливал на асфальте двух небольших круглых крабов; они яростно вцеплялись друг в друга клешнями, и у Сидорчука, следившего за поединком, светился в глазах азарт; он не слышал, как к нему подошел в белой безрукавке морячок с длинными светлыми волосами и короткими усиками над пухлой губой, и сказал сердито:
— Что же это вы, Сидорчук, а?
Матрос вскочил и захлопал глазами.
— А что?
— Ведь не годится животных мучить.
— Это не животные, это крабы, товарищ капитан!
Я удивился: капитан был немногим старше меня; пожалуй, года на два, во всяком случае, ему не было еще тридцати, и Леша понял меня, склонился и шепнул:
— А он ничего мужик… До Луки ему еще далеко, но ничего… Морячок хороший.
— Когда же он успел?
— А чего тут успевать?.. Экзамены сдал, капитаны рекомендовали. Так и надо. А что?
Капитан увидел нас, подошел, спросил Лешу:
— Ну, как съездили?
Леша стал объяснять, что все в порядке, деталь поставят сегодня же, и тут же представил меня, и капитан, пожимая мне руку, сказал:
— Да, я о вас слышал… Мне уж здесь, на «Перове», о вас рассказывали.
Я не знаю, что там ему обо мне рассказывали, но мне было приятно — вот он, оказывается, знает меня, да и вообще обо мне помнят на первом моем судне.
Мы прошли в каюту к Леше, и я сразу же увидел на письменном столе фотографию Нины. Это была все та же фотография, которая стояла здесь полтора года назад; она порядком выцвела, покоробилась в правом нижнем углу, по Леша не убрал ее. Наверное, привык постоянно видеть перед собой, без нее стол может показаться пустым, а может быть, он не убирал ее по другим причинам — разве у него узнаешь толком, он всегда отличался сдержанным спокойствием, и мне оно нравилось в нем.
Я сел в кресло, в которое всегда садился, когда приходил в эту каюту поболтать, и мне почудилось: еще мгновение — и в открытую дверь заглянет Лука Иванович и, по обычаю своему, спросит:
«Ну, малыши, философствуем?»
Но вместо Луки Ивановича заглянул вахтенный помощник капитана, о чем свидетельствовала повязка на его рукаве, и сказал:
— Товарищ стармех, к вам офицер с «Чайковского». Прикажете пропустить?
Леша в это время доставал из холодильника банку с соком; он посмотрел сначала на меня, словно хотел убедиться, на месте ли я, а то, может быть, вышел случайно и это обо мне речь, потом повернулся к вахтенному и, пожав плечами, сказал:
— Ну, давай…
И едва скрылся вахтенный, как в дверях возник Нестеров. Он переступил комингс, скользнул краем глаза по мне — видимо, не ожидал здесь увидеть — и, сжимая в левой руке горящую трубку, правую протянул Леше и сказал:
— Я Нестеров…
Леша все еще держал банку с соком, руки Нестерову не протянул, а пошел к столу, поставил банку и теперь уже внимательно посмотрел на Нестерова. Я видел: ему и в самом деле было интересно его разглядывать, и потому он не торопился.
— Очень хорошо, — сказал Леша. — Ну, и чем обязан?
Нестеров торопливо затянулся дымком из трубки, глаза его сузились — так всегда у него бывало, когда он начинал беспокоиться, — и сказал:
— Я полагал… нам есть о чем поговорить. Я бы не хотел, чтоб оставались неясности…
— Какие у ж тут неясности, — спокойно сказал Леша. — Она сообщила мне, и… Впрочем, я бы не хотел заниматься здесь выяснением отношений. — Он сжал широкой ладонью бородку и вдруг твердо сказал. — Я все понимаю, Нестеров, но вы зря сюда пришли.
— Почему?
— Да потому, что мне неприятно вас видеть, — ответил Леша. — Возможно, вы хороший человек, к плохому бы она, вероятно, не ушла, но видеть мне вас неприятно, а говорить тем более…
Вот этого Нестеров, конечно, не ожидал. Он мгновенно побледнел, скулы его заострились, рука сжала трубку так, что я испугался — он может ее раздавить, потом кровь вновь прихлынула к щекам, окрасив их в нормальный цвет, и он сказал, словно выдохнул:
— Жаль, — и суетливо повернулся, вышел из каюты, и я слышал, как быстро простучали его шаги по палубе.
А Леша неторопливо, будто его прервали по какому-то малозначительному делу, открыл банку с соком, разлил его по стаканам, и, когда мы выпили по глотку, он спросил:
— Ты мне так и не рассказал, Костя, как твоя работа. Ты ведь там что-то марковал с океанографами?
Он знал, что я этим интересуюсь, и я ему стал рассказывать: у меня пока еще очень мало данных, и я вряд ли сумею закончить то, что задумал; лучше бы я занялся навигацией, новыми приборами — это ближе к моей практике, особенно сейчас интересно пользование ЭВМ. Он слушал очень внимательно и, когда я закончил, сказал:
— Давай мы с тобой придумаем такую штуку. Спишемся и пойдем вместе в отпуск… Ну, не совпадет где-то недели на две. А остальное можно побыть вместе. Хорошо?
И я ему ответил, что не надо и списываться: в отпуск я пойду, как только мы придем в порт, и было бы хорошо, чтобы и он, как вернется из рейса, тоже бы сошел.
— Так и будет, — сказал Леша. — Вот тогда наговоримся.
Мне надо было спешить, до нашего парохода довольно далеко отсюда.
— Тебя агент отвезет, я его предупредил, — сказал Леша.
Он проводил меня до трапа. Прежде чем сесть в машину, я еще раз оглядел «Перов» и подумал: все-таки он постарел, наш теплоход; корабли ведь тоже старятся, как и люди, только, пожалуй, быстрее…
И снова мы ехали чистенькими улицами, на которые бросали густые тени пальмы, сверкали витрины, струились фонтаны, и внезапно среди движущейся толпы я увидел знакомое лицо и тотчас крикнул агенту, чтобы он остановил машину: по тротуару шел, дымя трубкой, Нестеров. Я позвал его. Он остановился и, наткнувшись на меня взглядом, заспешил к машине.
Некоторое время мы ехали молча, он курил и поглядывал в окно, наконец, он сказал негромко:
— Скверно как все вышло… Очень скверно…
А я думал: «Чего же ты пошел туда? Не знаешь Леши, а пошел. Хоть бы спросил меня, и я бы тогда сказал, что не надо ходить».
— Он правильно сделал, — сказал Нестеров. — Я бы, наверное, сам так сделал…
— Так зачем же ты пошел? — не выдержал я.
— Казалось, так будет честней. — Он болезненно поморщился и вздохнул. — Ну, это же надо — сколько тебя жизнь по носу ни бьет, а все мало… все еще неуч.
За высокой портовой стеной вздымался белый борт нашего «Чайковского»…
«…Здравствуй, здравствуй, мой странничек! А у меня хорошее настроение; всю неделю мне везло и было много радостей, а самых главных две… Но я начну с последней. Была у меня очень важная гостья… Вдруг приехала Оля и привезла с собой… ну, никак не угадаешь! Так вот, привезла она вашу Нину. Оказывается, они учились вместе в „инязе“, и Нина пришла к ней с просьбой помочь ей узнать, как устроиться на работу. Конечно же, они разговорились. Оля узнала, что Нина с „Чайковского“, и тут же повезла ее ко мне. Я-то уж все о ней знала по твоим письмам, но представляла ее другой. Она мне, Костенька, понравилась. Она хоть и строга на вид, но добра. Ну, сам понимаешь, в нее вцепилась и, пока все о тебе не выспросила, не отпустила. Она сказала мне, что поедет обязательно встречать „Перов“, ей очень нужно повидаться с Лешей. А так она бодра и спокойна.
Ну, а еще до нее был у меня в гостях Лука Иванович, заезжал на день. Так у них там вышло, что „Перов“ на пять дней оставался в порту и ему можно было отлучиться. Он гостил у меня весь день, и я его накормила хорошим обедом. Сходили мы вместе с ним в кино. Он был веселый, но я видела — грустно ему, и подумала: не болен ли? Так и сейчас думаю: наверное, болен, но скрывает. Я ведь знаю, что капитаны умеют это скрывать, чего только не делают, чтобы пройти врачей в бассейновой поликлинике, да и за много лет там свои знакомства образуются, врачи ведь тоже люди и понимают: если капитан хочет плавать, то мешать ему не надо. Вот часто и не мешают.
Я сказала Луке Ивановичу: хватит уж по морям скитаться, ведь недаром говорят — и кораблю нужна пристань, пора на берег, ну, в капитаны-наставники его всегда возьмут. А он только смеялся: да куда мне на берег, я ведь не знаю, сколько килограмм сахару стоит, сколько картошка на рынке, меня все обманывать будут. Почему, Костенька, так трудно с моря уходить?.. Ведь вы же все его сами ругаете, говорите, что сыты им по горло, а уйти никто не может. Хоть бы раз мне самой поплавать, тогда, может быть, пойму… Провожала я его хорошо, он был доволен и обещал еще заезжать, как только выпадет случай…»
…От португальских берегов повеяло прохладой и запахом цветов, море по-прежнему было тихим, хотя над ним и висело серое небо, но оно было высоким, и даль проглядывалась далеко. На палубе в синей куртке и кепке с длинным полукруглым козырьком стоял художник, которого я уже давно отметил для себя в среде пассажиров. Он дымил кривой, старенькой трубкой и, вздернув кверху острую бородку, долго смотрел на полотно, стоящее на походном мольберте, и, словно прицелившись, делал кистью на нем мазок.
Я подошел к нему, стал за его спиной; он не обернулся, наверно увлеченный своей работой. Это была пестрая картина из множества мелких ярких мазков. На ней изображено было море, и в нем вырастали, стушевывая очертания, парусные клипера, каноэ, бригантины и пассажирский лайнер; странным образом они соединялись в один большой корабль, будто он сумел вобрать в себя черты различных судов, бороздивших море, и где-то вдали обозначен был туманный берег и над ним облако, как взмах руки.
— Как будет называться эта картина? — спросил я.
Художник повернулся. Его большие глаза с желтыми прожилками посмотрели на меня, но он не ответил, отошел от мольберта, сел на стул вперед к спинке, сложив на нее руки, сам уставился на картину.
— Не знаю, — наконец сказал он и тут же спросил: — Вам нравится?
— Нравится, — искренне ответил я.
Мне и в самом деле нравилась эта картина. Она была веселая, и море на ней состояло из всех цветов, какие есть на свете, и я подумал: это правильно, потому что море очень переменчиво и, чтобы изобразить его разноцветие, может и не хватить красок, что положил художник на холст.
— Посидите со мной, — попросил он и указал на стул.
Я сел. Некоторое время мы молча смотрели на проплывающий мимо берег.
— Это Лиссабон? — спросил он.
Да, это был Лиссабон. С палубы можно было разглядеть гору, покрытую лесом, и на вершине ее белую крепость; возможно, это была обсерватория, а у подножия горы разбросаны были кубообразные здания. Видимо, город основной своей частью был скрыт от нас, но с берега струилась в море широкая полоса серого дыма; она расширялась, поднимаясь вверх, и там сливалась с наволочью неба.
— Вот и Европа, — сказал художник, пригладив пальцем свои острые седые усы, прихваченные снизу ржавчиной табака. — А вам не приходило на ум, когда смотришь да карту, какая Европа, в сущности, маленькая по отношению к миру?
— Приходило, — признался я.
— Ну, тогда вам должно было прийти на ум и другое, — улыбнулся он. — Какая ни маленькая Европа, но любое извержсние политического вулкана на ней — и трясет весь мир. А когда в Африке или в Океании гибнут целые народы, то сюда долетает лишь слабое эхо страданий. Иногда вопль боли или надежды просто тонет в безмолвии… Не очень-то справедливо для человечества, а?
Мне нравилось, как он говорил, попыхивая старенькой трубкой и поглядывая на меня большими добрыми глазами.
— Поэтому картина еще плоха, — сказал он. — Когда я писал, то думал об этом, но у меня не очень-то получилось.
Вдоль берегов в сторону Лиссабона шло опрятное оранжевое суденышко, над ним беспокойно кружили чайки. Дома уже исчезали из поля нашего зрения. По-прежнему была видна то ли крепость, то ли обсерватория на вершине горы, но берега уже казались менее обжитыми, хотя проплывала перед нами древняя-древняя земля.
— Мне нравится на ней море, — сказал я. — Его здесь много, и оно разное.
— Да, его вообще слишком много на планете, — сказал он, пыхнув трубкой. — Человеку не нужно столько соленой воды. Ему не хватает земли, хотя на континентах полным-полно пустынь, диких зарослей и почти необитаемых мест. Берега ойкумены не так уж велики… Но даже в их рамках мы не можем жить спокойно.
— Это в каком смысле? — спросил я.
— Как вы догадываетесь, я уже одной ногой стою не на палубе, — усмехнулся он. — Семьдесят шесть лет — это серьезно. А?.. И сколько войн!.. И тем не менее каждый день я тревожусь: а вдруг начнется новая? Странно, но это так — войны боятся больше старики, хотя им-то и не придется на нее идти, а молодежь беспечна, но она-то в первую очередь гибнет под пулями… Как вы считаете?
— Я не беспечен, — ответил я. — Мы и в детстве не играли в солдатики.
— Если это так, то прекрасно, — кивнул он и, попыхтев трубкой, посмотрел на берег; а мы забирали все мористее, и серой дымкой заволакивалась португальская земля. — Когда человек долго живет, то ему не хочется покидать этот мир, но те, кто умирает преждевременно, на поле боя, перед такими вина человечества неискупима. Их смерть вызывает болезненное сознание, что она была противоестественной, что могло быть иначе. А воспитание войной — примирение со смертью. Оно всегда означало покорность и самоотречение, удушало все порывы, которые возникали на надеждах. Смерть — знамение несвободы и поражения.
Он говорил это странно, как бы отрешившись от меня, и произносил слова, будто отпуская их на волю, за борт, заранее зная — они утонут в этой серой воде; он словно размышлял сам с собой, а я ему был ненужен. Но я понимал его мысли и потому сказал:
— У меня недавно умер друг… капитан.
Он болезненно сморщился, в его больших глазах с желтыми прожилками появилось сочувствие.
— А разве капитаны умирают? — спросил он. — Мне говорили: считается — они просто покидают мостик.
Я подумал и сказал:
— По-моему, наоборот: он умер, но остался на мостике.
— Почему? — с любопытством спросил художник.
— Я его ученик… У него есть еще другие ученики.
— Он был выдающимся капитаном?
— Обыкновенным, — сказал я. — Самым обыкновенным капитаном. Но разве у обыкновенных капитанов не может быть своих учеников?
Я встал, мне надо было уходить с прогулочной палубы, и художник поднялся со своего стула, поддернув козырек фуражки. Он посмотрел на картину, прищурился на нее, словно целясь, и спросил:
— Вам вправду она нравится?
— Да, и очень.
— Тогда знаете что, — сказал художник, — возьмите ее с собой. Как мой подарок.
— Ну, уж это зачем… не надо, — смущенно произнес я.
А он рассмеялся.
— Ну, ну, — сказал он, — когда дарит художник, нельзя отказываться. Да к тому же все равно мне некому ее оставлять… Я пережил своих детей. — И он запыхтел своей трубкой.
Махмуд принес мне радиограмму вечером; она шла несколько дней, потому что с «Перова» ее отправили в порт, а уж из порта к нам на «Чайковский».
«Дневники фотографии вещи Луки Ивановича хранятся у меня на берегу Увидишь Иру сообщи ей об этом Когда вернусь передам Счастливого плавания До встречи в отпуску Леша».
«Чайковский» вернулся в Европу, не более двух недель нам оставалось до дому…
Глава десятая ПЕЙЗАЖ РАННЕЙ ВЕСНОЙ
Родной порт… Вот уж и лоцман на борту, наш лоцман, многие знают его на мостике, и едва он входит в рубку, как кричат ему весело:
— Привет, Игнат Васильевич!
Он потирает розовые щеки, прихваченные на холодном ветру, сбрасывает брезентовый плащ и отвечает хриплым голосом:
— Здорово, ребятки! С прибытием!
Он становится рядом с капитаном, они пожимают друг другу руки, и все в рубке ждут не столько его команд — вот уж прозвучала одна, — сколько рассказов о всяких береговых новостях: он ведь первый, кто может сообщить об этом. А Игнат Васильевич, видать, лоцман опытный, он заранее знал о пашем приходе и всерьез подготовился — поинтересовался, у кого и как из штурманов обстоят дела дома и кого будут встречать сегодня на причале. Конечно же, первые новости у него для капитана:
— Твой младший с ангиной отлежал. Погоды у нас были сырые, многих ребятишек прихватило. Но сейчас ничего. Однако мать на причал не пустила…
Все продумал Игнат Васильевич: знал, что у капитана может дрогнуть сердце при швартовке, если не увидит он на причале рядом с женой своего любимца младшего, потому с этого сразу и начал и, высказан капитану все, не забывая подавать команды, теперь уже стал обращаться к штурманам. У нас вход в порт по пропускам, и список встречающих родственников утверждает капитан порта; видимо. Игнат Васильевич обстоятельно познакомился с этим списком… Но я не слушал его, я смотрел, как надвигались на нас знакомые до мелочей припортовые постройки, а за ними дома, как разворачивались причалы, возле которых стояли знакомые суда. Мне не надо было его слушать — меня никто не должен был встречать; матери я дал радиограмму, чтоб она не трогалась с места, потому что я оформляюсь в отпуск и сам прибуду к ней. Да, встречать меня было некому, и тут некого было корить, но все же во мне шевельнулась зависть к другим штурманам; трудно приходить к родному причалу и не увидеть человека, который ждал бы только тебя… И все же я услышал от лоцмана свою фамилию, он окликнул меня и сказал:
— А тебя там дочка Луки Ивановича поджидает… Ира.
И сразу кто-то выкрикнул:
— Помнящая!
В рубке рассмеялись; впрочем, после каждого сообщения лоцмана все дружно смеялись, хотя ничего смешного он не говорил, но так моряки выражали свое одобрение товарищу, радовались, что его ждут те, о ком они наслышались в пути.
Мы шли к причалу, и он медленно надвигался на нас. Вон уж видно стало длинное серое строение, флаг над ним, люди возле ступеней, а на прогулочной палубе нашего парохода выстроился духовой оркестр, чтобы, когда начнется швартовка, грянуть марш; все ближе и ближе причал, от которого мы ушли восемь месяцев назад, и ближе родная земля, о которой столько думано-передумано за бессонные ночи на разных широтах… Я стоял на мостике, было такое впечатление — где-то за спиной оставался, вращаясь, шар земной со своими морями и океанами, островами и континентами, населенный разными людьми, со своими страстями и обычаями, со своими радостями и невзгодами; люди копали землю, срывали бананы, гремели металлом в портах, мчались на автомобилях, растирали в ладонях зерно, целовались на перекрестках улиц, рвали струны гитар, кромсали ножами рыбу, играли в теннис и крокет, они делали свои дела и развлекались, — земной шар, и он вдруг спрессовался, стал маленьким, крохотным по сравнению с тем огромным, что ожидало меня впереди, и порт, который прежде виделся мне точкой на карте, вдруг необычайно вырос — это был берег, тот самый берег, к которому так давно стремился я в мыслях своих, и он был во много раз шире и просторней для меня, чем вся планета, хотя на самом деле был только частицей ее… И вот уж грянул оркестр, капитан подавал команды, а на причале стояла толпа, женщины поднимали на руки детей, махали нам платками, косынками, шапками, а был серенький день, моросил мелкий дождь, но никто его не замечал, казалось, над портом сияло солнце, но так всегда кажется, когда пристаешь к родной земле.
— Сначала поедем к нам, ты оставишь вещи, — сказала Ира, — потом на могилу отца.
Она все знала, а я думал в пути — мне придется ей первому принести эту тяжелую весть, и подбирал слова, какие я должен буду сказать ей. Эти слова мне казались ничтожными, и, отчаявшись, я подумал, что решу на месте, как ей сообщить.
Она долго ждала на причале. Я уже кричал ей, чтобы пошла, укрылась где-нибудь или приходила бы часа через два: ведь когда прибывает судно в порт, то торопятся только моряки, а таможенникам, медикам, представителям пароходства спешить некуда, у них рабочий день, и они спокойно делают свои дела, забывая о том, как давно мы не были дома. Но Ира не ушла с причала, она так и ждала, на этот раз в длинной оранжевой куртке, и, когда я наконец сошел, она решительно подошла ко мне и, словно мы с ней и в самом деле были близкими людьми, не обращая ни на кого внимания, поцеловала меня в губы и сказала:
— Здравствуй, Костя. Я тебя ждала.
Мы вышли из порта, взяли такси и поехали улицами города. Было еще начало марта, мокрый асфальт освобождался от снега, но в парках и скверах у комлей деревьев лежали его томные грудки. Я жадно оглядывал дома и витрины и видел новые вывески, читал названия незнакомых фильмов, что шли сейчас в кинотеатрах, а местами и не узнавал улиц: на них стояли новые дома, и эти дома мне казались чужими. Ира не мешала мне, она сидела молча.
Остановились в старой части города, возле серого кубообразного здания, и я подумал: наверное, и не бывал прежде ни разу в этом тихом переулке. Мы выгрузились, поднялись на лифте, Ира открыла двери своим ключом, и, когда мы вошли, в теплую прихожую, где пахло шубами, кофе и пирогами, Ира крикнула:
— Ма! Мы здесь!
Из комнаты вышла к нам невысокая женщина, на ходу снимая передник и вытирая о него руки, и, когда она приветливо посмотрела на меня, я удивился — как была похожа эта женщина на мою маму. Такие же большие серые глаза и темные волосы с сединой, они и уложены были так же, как любила это делать мама, — волнистые с правой стороны и чуть приглаженные с левой, только у мамы не было таких резких складок возле уголков рта и этой продольной морщинки на высоком лбу.
— Александра Петровна, — сказала она мне, протягивая руку. — А про вас я все знаю, Костя…
Вот какая она была, эта женщина, что ушла от Луки Ивановича, не выдержав одиночества, а может быть, и полюбив другого человека. Но у меня не было к этой женщине в душе ничего плохого, теперь я знал, как сложно все в каждой человеческой судьбе, и что судить ее другой жизнью никогда нельзя. И она, эта невысокая женщина, смотрела на меня с добром.
— Проходите, Костя. Не стесняйтесь, — сказала она.
А я и не стеснялся, я сразу почувствовал себя легко, словно и прежде бывал в этом доме. Ира взяла меня за руку и повела в комнату. Здесь было уютно и чисто и, что сразу бросалось в глаза, много цветов: зеленый плющ полз по стенкам, рядом с окном на столике стояло множество кактусов, а на полу неподалеку от балконной двери — ящичек, где были уложены красивые камни, и меж ними вздымали стебли неизвестные мне растения. Я вспомнил, что отец Иры биолог, может быть, он даже ботаник, и поэтому в доме столько зелени.
— Садись, где хочешь, — сказала Ира, указывая на стулья, стоящие вокруг стола. — Сейчас тебя пирогами с грибами будем угощать. Это у нас дома умеют. Специально так грибы с осени закатываем, чтоб их можно было весной жарить. А потом, мама сказала, что наши моряки, когда приходят домой, то на грибы набрасываются и еще на селедку… Мы тебе и водки купили. Ты выпьешь?
— Не хочется, — сказал я.
— Вот те раз! А все говорят: моряки это очень любят, потому что им в плавании нельзя.
Я засмеялся, сказал:
— А ты здорово обогатилась знаниями о моряках!
— Ну а как же, я все-таки дочка капитана!
Дома у себя она была совсем не такой, как на «Перове», вернее, какой появилась у нас. Нет, ее нельзя было назвать строгой, когда она и в этот раз сняла очки, то открылись веселые, играющие зелеными искорками глаза, с ней мне было легко и просто. И еще — ей очень шел серенький, из шерсти, но сделанный под «джинсовый» костюм.
Пришла Александра Петровна, принесла тарелки с кусками пирога и селедкой и, конечно же, с черным хлебом, по которому я действительно соскучился, и Ира тотчас пожаловалась:
— Ма! Он не хочет пить.
— Как же так, — огорчилась Александра Петровна. — Сегодня надо, сегодня и я с вами…
И мы все-таки немного выпили, а потом втроем ели пироги и, я уже не помню почему, много смеялись, и, когда мы с Ирой собрались уходить, Александра Петровна сказала:
— Жаль, что Бориса Сергеевича нет. Он был бы рад вас увидеть, Костя. Он сейчас в Новосибирске, они там какой-то эксперимент заложили…
…Мы долго шли влажной дорожкой кладбища. Дождь уже прошел, и в серых облаках появились голубые просветы. Мы шли мимо высоких старых лип, стволы и темные ветви их блестели, а внизу лежал пористый снег, и пахло почему-то свежими огурцами, и этот уже было утраченный в моей памяти запах отдался радостью узнавания, и тогда я на какое-то мгновение забыл, в каком печальном месте мы находимся, а только увидел деревья, черные оголенные ветви, голубые просветы, весь этот пейзаж ранней весны на земле, и только сейчас впервые по-настоящему осознал — я на берегу…
Мы прошли к дальнему углу кладбища, здесь возвышалась небольшая могила. На ней не было памятника, и черная земля вперемешку с песчаником немного осела, стоял только столбик со звездой и якорем, и была надпись: «Капитан Лука Иванович Кунцев». Я знал: нужно, чтобы прошел год, и тогда только можно будет привести в порядок могилу, но все равно этот неухоженный холмик земли вызывал во мне тоску, хотелось украсить его, но мы лишь положили рядом со столбиком несколько веточек мимоз, которые купили в ларьке у входа на кладбище.
— Вот как случилось, — тихо сказала Ира. — Только нашла его и потеряла.
Она вся съежилась, и плечи ее при этом сделались беспомощными. Мне захотелось защитить их, я обнял ее, она тут же прижалась ко мне и заплакала. Она плакала тихо, не всхлипывая, и так мы стояли с ней вдвоем возле этой могилы, и мне не верилось, что он там лежит.
«Капитан Лука Иванович Кунцев» — было написано черной краской на дощечке, и это была правда, потому что большую часть своей жизни он действительно был капитаном, день и ночь, ни на минуту не покидая вахты. Он был обыкновенным капитаном — я правильно сказал об этом художнику на пароходе, — он не открывал ни новых земель, ни новых линий, ни морских дорог, он водил трудовые, рабочие пароходы, перевозил грузы и людей, не совершив ни одного героического поступка, за который можно было бы повесить его портрет хотя бы в зал Выставки Морского флота в Москве. Но все-таки есть разные капитаны: есть те, о ком многие годы люди вспоминают хорошо только за отзывчивость и добро, потому что жизнь в море всегда бывает освещена их отношением к людям, и есть другие — те, кому важна лишь дарованная положением полнота власти, кто, глядя с высоты мостика, унижает других, самодурствует, тешит свое самолюбие, — есть и такие капитаны, но о них почти не вспоминают…
Я обнимал Иру и думал: как было бы трудно жить, если бы за нами никто не стоял, потому что твоя судьба лишь продолжение тех, кто ушел из этого мира, как будет она продолжением других, кто придет потом, и как невозможно было бы жить, если бы нам не оставляли ушедшие тепло души своей, и потому-то, наверное, нет ничего важнее на свете, как суметь сберечь его, хотя и входит оно в простое понятие — обыкновенный.
Мы долго стояли над могилой капитана и когда двинулись в обратный путь к воротам кладбища, то окончательно распогодило, хрупкие синие тени от деревьев и ветвей пересекли дорожку, и по ней змеились ручейки, тянувшиеся от талого снега.
Тишина оставалась за спиной, когда мы вышли на улицу. Здесь грохотали машины, звенел трамвай, разворачивались на площади троллейбусы и блестели стекла в окнах домов, здесь был другой мир, наполненный звуками, голосами и беспокойными криками воробьев. Я шел, ощущая под ногами твердость асфальта, она была непривычной после зыбкой палубы; я не знаю, почему, но в чужих портах не чувствуешь этой твердости, а только на своем берегу, — наверное, это еще одна из загадок ощущений.
— Когда твой поезд? — спросила Ира.
— Через четыре часа.
— Тогда мы, может, куда-нибудь сходим? — предложила Ира.
— Нет, — сказал я. — Если можно, мы просто побродим по городу. Вот так-то, Помнящая.
— Почему? — удивленно спросила она.
И я ей объяснил, что так зовут ее на пароходе, и когда Махмуд стучит ко мне в дверь с радиограммой в руке, то неизменно кричит: «Эй, Костя, тебе привет от Помнящей!»
— А что? — засмеялась Ира. — Мне нравится…
И с этой минуты она стала веселой, подхватила меня под руку, и мы зашагали с ней по улице, все удаляясь и удаляясь от места печали, и весенние звуки города окружали нас…
И мы говорили:
— У нас девочки все повально читают Фолкнера. Ты, конечно, знаешь?
— Я, конечно, знаю. Я читал его на английском.
— Ого! Тогда ты мне расскажешь все, что я не поняла.
— Конечно, я расскажу тебе все, что ты не поняла.
— И еще о Штатах… Может быть, я туда поеду, когда защищу диплом. У нас обмен студентами.
— Ну, тогда по возвращении ты мне расскажешь о Штатах. Я видел только Нью-Йорк и то одним глазом.
— Обидно. А?
— Не очень, потому что еще все впереди…
И мы говорили:
— Я в детстве дружила с мальчишками. Знаешь, как дралась! Я все их тайны знала. Может, потому мне потом никто всерьез не понравился… А у тебя была любовь?
— У меня была любовь, когда я учился в школе.
— А потом?
— А что было потом, я тебе не скажу.
— В школе — это не считается.
— Ну, как посмотреть!
— Как ни смотри, а не считается. В школе у всех бывает… А вот потом… Ну и пожалуйста, можешь не говорить… Ну да, понимаю, что глупо, но все равно обидно.
И мы говорили:
— Костя, а почему так?.. Я ведь трудно схожусь с людьми. Иногда бываю страшной букой. Как мама говорит — «и на козе не подъедешь». А тебя-то видела один раз, и ты совсем свой, свой… Почему?
— Потому что и ты совсем своя.
— Неужели из-за отца и… твоей мамы?
— Вот этого я уж не знаю… Просто так случилось.
— Ну и хорошо, что случилось…
А мы все шли и шли по улицам, через их шум и звон, через их суету и журчание мутных ручьев…
А потом она провожала меня на вокзале.
— Знаешь, — сказала она, — а ведь у меня сейчас диплом, и я скоро с ним покончу. Тогда будет много свободного времени. И, если хочешь, я приеду к тебе в гости… Я бы хотела взглянуть на твою маму.
— Я бы тоже хотел, чтобы ты на нее взглянула.
— Тогда жди меня.
— Конечно, — сказал я, — буду тебя ждать, если ты пришлешь телеграмму и не забудешь подписаться, как всегда.
— Теперь я только так и буду подписываться… Ну вот, тебе пора. Будь здоров, Костя.
— И ты… будь здорова… Подожди!
— Я жду…
— Я очень буду тебя ждать, Ирка.
— И я… Ну до чего же хорошо, когда к тебе возвращаются!
— Но ведь и возвращаться хорошо.
— Беги! Смотри — он трогается! Счастливого пути, Костя!
«…А потом эти дни, недели, месяцы складывались в нечто огромное, что зовется — ожиданием, по в нем нет пустоты, странник ты мой, оно, как и все в мире, наполнено своим движением, своими мыслями и своей борьбой, и тут главное — не дать победить над собой унынию, потому что оно может увести от конечной цели, ради которой ты и вооружился терпением, ради радостей встреч. Ты можешь сказать, Костенька, что я исповедую примирение с обстоятельствами, но разве вся жизнь человеческая не соткана из ожиданий и надежд, и когда исчезают они, то, наверное, и останавливается твой путь…»
Я просыпаюсь уже не первый день с тревожной мыслью: «А не проспал ли я вахту?», но вижу два узких окна, оголенные ветви тополей за ними и успокаиваюсь; потом мой взгляд останавливается на простенке, где висит под стеклом маленькая фотография на сером картоне, изготовленная в немецком городе Ростоке. Я прислушиваюсь и различаю среди слабых звуков осторожные шаги матери… Я дома, вот уж скоро неделя, как я дома, — хорошо, что мой приезд совпал с весенними школьными каникулами, и мама все эти дни со мной. Мы уж наговорились вдосталь, и вот я ловлю себя на странной мысли: мне хочется в море. Нет, не то чтобы я сейчас же сорвался с места, взял чемодан и мчался бы в порт, вовсе нет, просто это желание тайно зародилось во мне и особенно тревожит по утрам.
Я знаю, у меня еще все впереди: и приезд Леши, и приезд Иры, и наше путешествие с мамой к черноморским берегам — я ведь ей обещал это, и все же… Я прикрываю глаза и представляю, как идет сейчас наш «Чайковский» к берегам Америки, к гигантскому порту на Гудзоне, и мне видится палуба в хорошую, солнечную погоду, — как это было, когда я впервые шел в Штаты, — и множество парней и девушек на ней, длинноволосые, бородатые, стриженые, американские парни и девушки, а рядом с ними наши ребята — физики, они едут в Нью-Йорк на какой-то конгресс, и в центре их — высокий негр с амулетом на голой груди играет на гитаре и поет балладу о деревянных кораблях. Я уже много раз слышал эту песню от американцев: она о том, что есть один всем понятный язык на свете — это язык любви, и я вижу, как слушает задумчиво их Юра, поправляя растопыренными пальцами очки, а на мостике, вглядываясь в даль, стоит Ник-Ник; хоть и спокойно море, но он стоит так же, как стоял в ту ночь, когда была моя вахта в шторм перед мысом Добром Надежды, и рядом с ним держит вахту, попыхивая трубкой, Нестеров… Наверное, не по морю я тоскую, а по всем этим людям.
Мне в детстве объяснили: три четверти мира состоит из океанов, и суша слишком ограниченное пространство для человека, потому-то те, кто истинно любил свободу, покидали берега, чтобы увидеть беспредельность простора, узнать неповторимую его суровость и умиротворение покоя, закалить себя в терпении и утвердить прочную уверенность — никогда не сдаваться перед стихией. Все это я усвоил с детства, свято поверив в отцовские рассказы, но сейчас я должен сам все оценить, сам решить, верен ли мой путь, по которому идти мне до конца, ведь если на войне как на войне, то в море как в море.




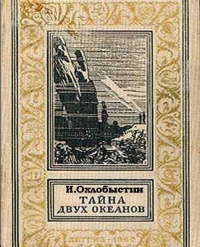
Комментарии к книге «Сказки дальних странствий», Иосиф Абрамович Герасимов
Всего 0 комментариев