ПРИХОДИ К НАМ НА МОРЕ!
В. М. Каменцев, министр рыбного хозяйства СССР ОКЕАН, ХАРАКТЕР, ПРОФЕССИЯ
И в наши дни не состарилась мудрая заповедь древних: плавать — значит жить. 365 миллионов квадратных километров необозримых океанских просторов пересекают трассы, проложенные моряками.
А с чего, собственно, началось мореплавание? Как так получилось, что первобытный человек, преодолев страх, сел на бревно и отправился в первое свое путешествие по воде? Что руководило им? Любопытство? Желание раздвинуть рамки известного ему мира? Вряд ли. Слишком велико было чувство страха перед непонятным голубым простором, чтобы заставить первобытного человека покинуть земную твердь. Нужен был очень сильный и веский стимул для этого. Им оказалась необходимость добывать себе пищу.
Ведь охота и сегодня не всегда бывает удачной. А что говорить об охоте, когда в руках человека была всего лишь палка или каменный топор? Рядом же, буквально у самого берега, безмятежно плескалась рыба. И наш первобытный предок рискнул… Так рыболовство породило мореплавание.
С тех пор минули десятки тысяч лет. Сегодня только наша страна насчитывает около двадцати тысяч рыболовных судов. Более полумиллиона советских людей, в основном молодых, задорных, сильных, пытливых — их средний возраст 25 лет — трудятся на рыбопромысловом флоте. И флот этот непрерывно растет, расширяются районы промысла. Наши рыболовные суда теперь уже работают по всей акватории Мирового океана, раскрывая всё новые и новые промысловые районы и глубинные клады доселе неведомых объектов промысла — удивительная неиссякаемая новь открытий!
Мы возлагаем большие надежды на молодежь, связываем с ней будущее рыбной промышленности и хозяйства, потому что намечаем грандиозные программы освоения биологических богатств океана, а выполнить их без энтузиазма молодого поколения невозможно.
Но вместе с тем много ли молодые люди, которые стоят перед выбором своего жизненного пути, знают о рыбацкой профессии? Об условиях, в которых приходится жить и трудиться в океане долгие месяцы? Думаю, что немного. Да к тому же еще о нашей работе им становится известно, как говорится, «из вторых рук». Это на земле работа каждого на виду, а рыбаки трудятся в десятках тысяч миль рт родного дома.
Не зря говорят, что океан для моряка — самый лучший учитель. Он учит людей смелости, выносливости, упорству, ответственности, чувству товарищества. Другими словами, учит быть Человеком. А еще океан учит горячо и беззаветно любить свою Родину, далекий дом, берег.
Первый же шторм выявляет человеческий характер: либо измученный беспрерывной качкой человек навсегда зарекается ступать на борт судна, либо на всю жизнь «заболевает» морем, уже не может жить без вздымающихся вокруг валов, без уходящей из-под ног палубы. Другой доли он для себя не хочет.
Встречаются, конечно, в море и лодыри, рвачи, трусы, любители «длинного» рубля. Но море недолго терпит их. Большинство таких случайных людей сбегают с судна уже после первого рейса. Но я веду речь о Рыбаках с большой буквы, о тех, кого я давно и искренне люблю, с кем не раз бывал в настоящем деле.
Я совсем не хочу скрывать того, что рыбацкая доля трудна, очень трудна, не собираюсь прятать будничность жизни на судне за романтикой южных экзотических портов, за очарованием тихих закатов, дыханием свежих бризов… Нет. Даже при самых благоприятных условиях прожить полгода вдалеке от семьи, от берега — и то нелегко. А тут капризный океан, каждодневная и тяжелая физическая работа. Рыбаки частенько забираются в такие глухие места Мирового океана, что по нескольку месяцев не видят ни встречного судна, ни нового человека.
Поэтому люди, работающие на судах океанического промысла, отдавая должное труженикам всех других морских профессий, с законной гордостью вспоминают старинное флотское присловье: рыбак — вдвойне моряк. Вдвойне потому, что любой из них, начиная от капитан-директора и кончая палубным юнгой, должен быть и чисто морским специалистом и специалистом рыбопромыслового дела.
Вроде бы странно это звучит в наши дни, но, по сути дела, рыбак — всегда первопроходец. Ведь в отличие от сухогрузов, танкеров и пассажирских судов рыбацкие сейнеры прокладывают свои дороги не по писанным на картах путям, а по «маршрутам» закономерностей миграций рыб и местам их обитания. А они меняются. Вот и попробуй по всяким видимым и невидимым приметам, порой по интуиции, выработанной годами рыбацкой практики, вывести свое судно точно в район скопления рыбных косяков. Поэтому штурман современного рыболовного траулера просто не может не быть высококвалифицированным судоводителем. Ко всему прочему, приведя свое судно в район промысла, штурман обязан еще и взять рыбный косяк, порою скрытый более чем километровой толщей воды.
Другой пример. Старший механик транспортного рефрижератора, понятно, в первую очередь отвечает за главную энергетическую установку и обслуживающие ее системы. Однако во время промысла в его ведении находится и морозильная техника, создающая в трюме, вмещающем десятки вагонов готовой продукции, температуру до тридцати градусов мороза.
Рыборазделочный цех крупнотоннажного траулера или плавучего рыбоконсервного завода — это комплекс сложнейших машин и механизмов, сотни метров транспортных линий, десятки приводов, редукторов, блокирующих устройств и самодвижущихся грузовых тележек. Со всей этой умной и отнюдь не простой техникой должен быть на «ты» любой матрос-рыбообработчик. А командиры судовых служб обязаны знать ее до малейших деталей, ведь они отвечают за бесперебойную работу всего технологического оборудования. Причем в условиях, где практически нет никакой возможности получить какую-либо помощь извне.
В океане каждый специалист должен быть в постоянной готовности устранить любые помехи в ритмичной, безотказной работе взаимосвязанных машин и механизмов. Здесь, на судне, и выявляются полностью накопленные тобою знания и опыт, здесь же они и обогащаются непредвиденными явлениями и обстоятельствами.
И все-таки главное, что определяет специфику работы наших экипажей, придает ей особый азарт и увлекательность, воспитывает спайку, коллективизм, — это сам промысел, добыча океанических рыбных богатств. Порой смотришь в восторженные глаза рыбаков, радуешься вместе с ними удаче и понимаешь, что для них смысл жизни и заключается именно в том, чтобы открыть новое, найти большее и суметь, используя все возможности техники, взять «настоящую» рыбу и выиграть поединок у океана.
На новых крупнотоннажных траулерах, конечно же, работать полегче: тут и промысловая палуба поднята повыше, стало быть, волны ее почти не заливают, и качает меньше, и механизированы многие рабочие процессы. Но все равно нет спокойной жизни у рыбаков: ведь косяк может быть обнаружен в любую минуту дня и ночи, и в любую минуту добытчики должны быть готовы по первой же команде спустить трал в воду — рыба ждать не будет. А когда приборы «пишут» один косяк за другим, тут уж на траулере вообще забывают, что такое сон, еда, отдых.
Однако труднее достается рыба добытчикам на ярусном лове, особенно на тунцеловных ботах. Даже в тихую погоду бот сильно качает, на его палубу то и дело обрушиваются волны. Устоять на ногах и то проблема. Но ведь надо не стоять на месте, а работать. И как работать! Гудит ярусоподъемник, на стол ложатся витки хребтины, к борту непрерывно подходят все новые и новые поводцы с крючками. Только успевай поворачиваться. А выборка яруса длится не час и не два, с полудня до полудня. И все время на ногах, на зыбкой палубе, под непрерывным соленым душем…
Захватывающ по своей азартности и драматичности кошельковый лов, особенно при добыче таких подвижных рыб, как скумбрия. Обнаружен косяк… Весь личный состав мгновенно занимает свои штатные места и изготавливается к замету. Экипаж превращается в один чуткий организм, реагирующий только на команды капитана, послушно выполняющий его волю. Здесь капитан, как в бою, должен учитывать все: и направление ветра, и наличие течений, и характер движения косяка, и мореходные качества своего судна, и многое-многое другое. Нужно произвести замет так, чтобы невод выстелить по поверхности воды в форме строгого овала (кстати, иным кошельковым неводом можно спокойно накрыть здание МГУ на Ленинских горах в Москве). Скумбрия должна оказаться внутри обметанного пространства, кольцо невода должно замкнуться до того, как к «воротам» его подойдет рыба, косяк не должен уйти под нижнюю подбору невода, а сеть — не попасть на винт судна.
Вот почему при замете «кошелька» все решает мастерство, опыт капитана и сработанность экипажа. И по этой же самой причине рыбаки, в совершенстве владеющие новейшей техникой и прогрессивными орудиями лова, тем не менее остаются по духу своему традиционными моряками: очень темпераментными, азартными, влюбленными в свою морскую «рыбалку» и… чуточку суеверными.
На небольших рыболовных судах штатных обработчиков рыбы нет, исключая мастера. Улов обрабатывают все свободные от вахты, включая капитана и его помощников. На больших же судах, особенно на плавбазах, в службе обработки состоит несколько десятков, а то и сотен человек. Скажем, на плавучих консервных заводах численность экипажа, главным образом за счет обработчиков, достигает шестисот человек.
Вообще же перечень современных корабельных профессий насчитывает десятки наименований. Кстати, капитан и его помощники — это люди с высшим образованием. Вузовский диплом имеют, как правило, начальник радиостанции, механики, рефмеханики, электромеханики, ну и, конечно, судовой врач. Все чаще можно увидеть институтский ромбик и на груди помощника капитана по добыче и обработке. Сегодня на достаточно крупном рыболовном советском судне по меньшей мере два десятка моряков имеют высшее образование. Судовождение, эксплуатация судна, поиск и промысел рыбы становятся все более сложными, автоматизированными. Поэтому на рыбопромысловых судах появились новые специалисты: инженеры по автоматике, программисты-математики, специалисты по ЭВМ и другие.
Молодые моряки и даже многие рыбаки уже солидного возраста в океане успешно учатся, «без отрыва от производства» переходят из класса в класс, с курса на курс, сдают экзамены и зачеты, получают аттестаты зрелости и институтские дипломы. Есть у нас рыбаки, которые, не прекращая работы на океаническом лове, успешно защитили диссертации.
В море люди очень быстро «растут». Это связано прежде всего с постоянным пополнением флота рыбной промышленности новыми судами. Построили, например, на заводе новый пахнущий свежей краской траулер — и сразу же появляется несколько десятков вакансий: требуется капитан, старший механик, штурманы, механики… На эти должности с повышением выдвигаются моряки, хорошо зарекомендовавшие себя на промысле в море.
У нас в промышленности немало капитанов больших современных судов, возраст которых не превышает 25—28 лет. Часто ли вы встретите на берегу руководителя предприятия в таком возрасте? Думаю, что нет. А надо иметь в виду, что большой морозильный траулер — это немалое и очень серьезное предприятие. В качестве примера я могу назвать Михаила Малина. Он капитан СРТ-8202, промышляет в Атлантике, задание нынешней пятилетки его судно выполнило за три с небольшим года. Михаил еще не вышел из комсомольского возраста и в 1976 году стал лауреатом премии Ленинского комсомола. И таких людей, повторяю, у нас много.
Могу предугадать такой вопрос: найдется ли на судах рыбопромыслового флота место девушкам? Да, найдется. Женщины — рыбообработчицы на плавбазах, особенно на плавучих консервных заводах, составляют чуть ли не половину экипажа. На рыбопромысловых судах трудятся и женщины-врачи, научные работники, инженеры. Все они, как правило, еще очень молоды.
Вполне естественно, что мой молодой читатель может задать и такой вопрос: где же можно выучиться на рыбака? Отвечаю. В непосредственном ведении Министерства рыбного хозяйства СССР имеются крупные высшие учебные заведения — технические институты рыбной промышленности и хозяйства и высшие инженерные морские училища. Они находятся в города Калининграде, Астрахани, Владивостоке, Мурманске.
В вузах готовятся специалисты по добыче и обработке рыбы, судовые механики, инженеры по рефрижераторному оборудованию, ихтиологи, экономисты, инженеры-кораблестроители по проектированию и строительству рыболовных судов.
Для прохождения морской практики на бассейнах созданы отряды учебных судов океанического плавания. В числе учебных судов широкоизвестный четырехмачтовый барк «Крузенштерн» (самое крупное парусное судно в мире).
В ряде портовых городов, например, в Одессе, Петропавловске-Камчатском, в Клайпеде, Невельске, в Находке и Таллине, имеются средние учебные заведения — мореходные училища, также готовящие пополнение для флота рыбной промышленности. Кроме того, у нас есть специальные школы — учебные комбинаты, выпускающие матросов для рыбопромысловых судов, мастеров добычи и обработки.
Наша страна высоко ценит труд рыбаков. Более ста двадцати представителей этой почетной профессии носят звание Героев Социалистического Труда, многие из рыбаков являются депутатами Верховных Советов СССР и республик, областных, городских и районных Советов.
Думаю, что те молодые люди, которые решат связать свою судьбу с нашей промышленностью, с рыболовным флотом, не пожалеют о своем выборе. Желаю им счастливого плавания.
Назым Хикмет ЗАКОН МОРЯ
Считается, что море коварно, что морю, как и женщине, нельзя доверяться, и хотя им обоим пороки эти вовсе не свойственны, море, как и женщину, принято порицать. Это мнение проникло даже в художественную литературу. А точнее, быть может, такой взгляд на море как нечто коварное и недостойное доверия проник в жизнь не от моряков, не от рыбаков, ведущих схватку с ним, а, наоборот, каналами литературы. Именно поэтому такое мнение оказывается в конце концов не чем иным, как полированной литературной фразой.
Так почему же море вероломно? Почему же нельзя доверяться этой самой живой, самой красивой, самой созидательной в мире стихии?
Если море двумя ударами опрокидывает тех, кто, не понимая его языка, вознамерился одолеть его волны с трусливым сердцем в груди, то кто в этом виноват — море? Или те, кто его не понимает?
Море не прощает малейшего к себе пренебрежения, малейшего невежества. Море требует от нас знаний и мужества, мастерства и почтения к себе. …Каждый шторм на море заранее возвещает, когда он разразится. Если не понимаешь языка этих предупреждений, пеняй не на море, а на собственное самонадеянное невежество.
В море нельзя выходить с трясущимися поджилками, со смутной тревогой в сердце. Кто в море выходит с дрожью в руках, тот гибнет. Таков закон моря.
С. Белкин РЕПОРТАЖ С ПРОМЫСЛА Очерк
Это был теплый летний день, какой может быть только в середине декабря. Да, да, декабря. Мы промышляли рыбу в Южном полушарии. Вокруг нас простирался необозримый океан. Рыболовный траулер легко разрезал фиолетовую гладь воды, ежесуточно проглатывая свои 240 миль лазурного пространства. Был самый обычный день самого обычного рейса…
БЕЗРЫБЬЕ
Дню этому, казалось, не будет конца. Солнце неподвижно застыло в зените, вперив свое огненно-рыжее око в палубу нашего траулера, как бы пытаясь понять, зачем этим обуглившимся от загара людям в шортах и тапочках на босу ногу да в замысловатых шапочках на голове потребовалось уходить так далеко от дома.
А люди занимались своими будничными, привычными делами. Из ходовой рубки выглядывал с биноклем в руках молодой штурман Леша Воронцов. Широкое лицо его, обрамленное окладистой пушистой бородой, занимало чуть ли не все лобовое окно рубки, и за ним нельзя было увидеть стоявшего на штурвале Гену — худущего, долговязого курсанта Сахалинского мореходного училища, впервые попавшего в настоящий промысловый рейс.
На крыше рубки расположилась живописная группа моряков, которых по их пляжному виду можно было бы принять за праздных туристов, если бы не напряжение, с которым они, вооружившись сильными морскими биноклями, всматривались в неподвижную гладь океана. Даже на фоне своих темно-шоколадных товарищей эти моряки с биноклями отличались каким-то фантастическим загаром, а их лица от долгих контактов с дневным светилом напоминали иссушенный египетский пергамент. Это наблюдатели, которым доверена самая ответственная работа, определяющая успех рейса — поиск рыбы.
Оказывается, есть такие рыбы, которых очень трудно найти, даже пользуясь самыми совершенными электронными приборами. Они живут в верхних слоях воды. Поэтому на промысле некоторых поверхностных рыб, включая мелких тунцов, добычей которых занимался и наш траулер, лучшим и самым совершенным прибором продолжает оставаться человеческий глаз, вооруженный хорошим биноклем.
Работа наблюдателей при всей ее видимой приятности очень непростая и нелегкая, хотя, казалось бы, что может быть лучше: сиди себе, свесив с крыши рубки босые пятки, загорай, дыши свежим воздухом. Но попробуйте продолжительное время пристально всматриваться поверхность тропического океана. От нестерпимого блеска воды глаза быстро устают и начинают болеть, острота зрения притупляется, и поэтому вахта наблюдения самая короткая: час-два, не более. А смотреть приходится очень тщательно: не найдешь рыбу — вернешься в порт с пустыми трюмами, и полугодовой рейс пойдет насмарку.
На палубе почти что деревенская идиллия: сидят в кружок здоровенные бородачи, как мужички на завалинке, неторопливо и обстоятельно плетут «гаши» (петли на конце канатов) и ведут степенные разговоры. Сходство их с деревенскими жителями усиливается еще и тем, что величают они друг друга только по отчеству «Петрович, дай нож», «Трофимыч, подсоби» и т. д. Время от времени на палубе показывается разгоряченный механик Слава, весь в поту и соляре. Постоит минуту у борта, жадно вдохнет живительную морскую влагу, вытрет мокрый лоб и снова ныряет в свою механическую преисподнюю, где всегда жарко, душно и шумно.
На баке старший механик Данилыч плетет какую-то бесконечную сетку, которую он начал делать чуть ли не с первого дня плавания. Когда дед (так во все времена и на всех судах называли и называют старших механиков) плетет сетку, все спокойны: значит, в машинном отделении всё в порядке, все машины и механизмы работают нормально. А вот если дед сутками не вылезает из «машины», значит, что-то случилось. Так что пусть уж лучше дед плетет!
Траулер блещет чистотой и пахнет свежей краской, и это наводит опытного человека на грустные размышления: значит, рыбалка не клеится. И действительно, поржавевшие борта, грязная, много дней не драенная палуба, по которой толстые стальные тросы — ваеры прочертили черные линии, измученные, небритые, с покрасневшими от бессонницы глазами моряки — все это свидетельствует о том, что промысловая обстановка отличная, рыба идет как надо.
Зато беда, если судно вот такое — чистенькое и нарядное, как соискатель на защите диссертации. Ослепительно сверкает свеженадраенная палуба, на бортах ни следа ржавчины, весь траулер заново перекрашен от ватерлинии до клотика. И моряки словно на профсоюзной конференции: чистые, опрятные, выбритые. Бродят они как неприкаянные по судну, готовые взяться за любую работу, чтобы не киснуть от вынужденного безделья. Это и естественно, нет рыбы — нет того единственного, настоящего дела, ради которого они расстались на полгода со своими близкими, шли сюда, в такую чудовищную даль.
Океан, этот величавый колосс, вот уже несколько недель оставался пустым и безжизненным: ни одного косяка, ни одного встречного судна, ни одного события…
Именно в такую пору, когда неделями нет рыбы, моряк в основном и страдает от мучительной тоски по дому, от болезни, которую способно излечить только одно лекарство: неистовый, всепоглощающий труд.
Ничто, пожалуй, так не поражает новичка, попавшего в длительный рейс, как необыкновенная противоречивость его положения. Казалось бы, находящиеся на судне люди со всех сторон окружены водой, но из-за отсутствия на нашем траулере опреснительной установки моряки очень строго соблюдают режим экономии пресной воды. Баня и стирка лимитированы, а когда особенно поджимает — ограничивают даже умывание: подают воду в умывальники два раза в день на полчаса. Правда, на более крупных и более современных судах работает опреснительная установка, но все равно настоящая, береговая пресная вода расходуется по возможности бережно и рационально.
Далее. С одной стороны, тяжелый физический труд (наше вынужденное безделье — это ситуация совершенно нетипичная и, кстати, переносимая несравненно тяжелее, чем самая напряженная работа), полная отдача сил, нервов, воли, непредвиденные опасности, большие психологические перегрузки, связанные с тоской по берегу, дому, семье. А с другой стороны, как это ни парадоксально, жизнь моряка донельзя простая, бездумная. Ему не нужно ходить или ездить на работу (вышел на палубу или поднялся в рубку — вот ты и на рабочем месте); не нужно заботиться об одежде, пище, развлечениях — все это ему «положено». Моряку не нужно выполнять домашние дела, переживать из-за двойки сына, бегать по аптекам за дефицитным лекарством, стоять в очередях, толкаться в городском транспорте.
Одним словом, жизнь его — это непостижимое сочетание трудностей, опасностей и… беззаботности.
Многие считают, что перед мореплавателями постоянно открываются неведомые острова, сказочные страны, коралловые рифы и атоллы с пальмами. Да, все это иногда появляется на горизонте. Бывает даже, что рыбаки заходят в экзотические страны. Но каждодневно-то они видят вокруг себя одно и то же: пустынный океан, безоблачное небо, неизменно горячее солнце. И так в течение всего тропического рейса. И решительно никаких впечатлений: изо дня в день один и тот же освященный традициями распорядок, одни и те же лица, одни и те же механизмы и помещения. В этом унылом однообразии любая мелочь, любой новый предмет или явление вызывают самый живой интерес; проплыло ли мимо бревно, села птичка на мачту, стайка ли летучих рыбок выпорхнула из-под носа траулера — зрителей хоть отбавляй. Ну, а если встретился корабль или на горизонте показались окутанные туманной дымкой острова — это уже значительное событие.
И я затрудняюсь сказать, у кого более насыщенная событиями жизнь: то ли у скромного служащего, который ежедневно в 8 часов утра, дожевывая на ходу бутерброд и привычно поцеловав жену, спешит на автобус, за пять минут до звонка садится на рабочее место, надевает нарукавники и весь день пишет бумажки, или у лихого штурмана, который обошел земной шар во всех возможных направлениях, десятки раз пересекал экватор, и побывал в портах с завораживающими слух названиями: Манила, Монтевидео, Санта-Крус.
И действительно, при всей романтике моряцкой жизни в океане слишком много буден — очень тягучих и слегка подслащенных сознанием, что ты сейчас, скажем, где-то у берегов Новой Гвинеи или Мадагаскара. Хотя сами берега даже в сильный бинокль можно скорее угадать, чем разглядеть. А праздников, ярких событий в море мало. Да и сами представления о праздниках в море и на берегу очень расходятся. Например, в море не существует выходных дней. Для моряков, чья служба связана с несением вахт (штурманы, механики, рефмеханики, машинисты и т. д.), жизнь выглядит весьма однообразно: 4 часа вахта, 8 часов отдых, 4 часа вахта, 8 часов отдых. И так весь рейс «от звонка до звонка», без праздников и выходных. У других членов экипажа теоретически существует рабочий день. Но это понятие весьма условное — ведь рыба не согласует с профсоюзными органами свое поведение, повадки и привычки: сегодня она «пожелала пойматься» утром, завтра — ближе к вечеру, потом неделю вообще не ловится, а затем рыба решила перейти на круглосуточный режим попадания в рыбацкие сети. Вот и приходится подстраиваться: то люди бесцельно слоняются по палубе, читают художественную литературу, плетут мочалки и авоськи, то сутками не покидают палубу. Заскочит моряк в каюту, рухнет обессиленный на койку, а через два часа его уже поднимают — надо идти принимать улов.
Но сегодня о таком труде можно было только мечтать как о несбыточном счастье. Океан угнетал своим равнодушным великолепием, покоем, лишал малейших надежд на удачу, на элементарное рыбацкое везение.
Тяжелее всех, пожалуй, переживал это затянувшееся безрыбье молодой рефмеханик Ваня Черняков. За месяц до выхода в рейс он женился, причем невесту свою на Дальний Восток он привез совсем с другого конца света — из Белоруссии. Только слепая, безрассудная любовь могла заставить Таню, совсем юную и не приспособленную к жизни девочку, уехать от родителей, от подружек, от привычного мира в эту невероятную даль, где совсем другая природа, чужие люди, неустроенность. Но все это было не страшно, пока она чувствовала на себе обжигающе влюбленные глаза красивого крепкого парня, ощущала рядом его мускулистые плечи А теперь он ушел в рейс оставив ее совсем одну среди незнакомых людей в крошечной комнатушке на берегу Тихого океана. И добро бы нормальный рейс: работать не покладая рук, выдать полтора плана и по-человечески вернуться домой, чтобы и перед конторой стыдно не было, и деньги получить приличные. Тогда и комнатушку можно было бы обставить новой мебелью, и к родителям в Белоруссию съездить, и на юге отдохнуть. А с такой рыбалкой… Уж лучше бы в клуб ночным сторожем устроиться — больше заработаешь и дома каждый день.
Дед очень переживал за своего подопечного и как мог пытался его успокоить:
— Ну что ты терзаешь себя? Радоваться надо, что тебя дома молодая жена ждет и будет ждать столько, сколько потребуется. Она ведь у тебя сильная, позавидовать можно. Вот скажи, сколько ты уже писем от нее получил?
— Семьдесят два.
— Ну и не совестно тебе после этого киснуть? Подумаешь! Мировая скорбь! Ведь это такое счастье — знать, что тебя дома ждут и любят.
Но в такие лирические беседы дед пускался только с рефом. Все его остальные подчиненные плавали уже много лет привыкли к своей рыбацкой доле и тосковали по дому гораздо меньше.
Ну, а если дед замечал, что у какого-нибудь моториста или механика появилось в глазах отсутствующее выражение, он немедленно пресекал эти нездоровые настроения вопросом «А ты сегодня замер в расходной цистерне делал?» Или: «Ну как, перебрал поршень?»
И человек сразу опускался с небес на землю, спешил в машинное отделение, чтобы еще раз сделать очередной замер или притереть клапана.
Когда экипаж страдает от безрыбья, самым необходимым и незаменимым на корабле человеком становится боцман. Он обладает удивительной способностью врачевать любые психические недуги единственным безотказно действующим средством — работой. И в этом плане боцман сильнее и изобретательнее любого другого корабельного начальника: и деда, и мастера добычи, и мастера обработки. У боцмана всегда есть дело, которым он может загрузить неограниченное количество членов экипажа: очистить от ржавчины корпус и механизмы, покрасить весь корабль от киля до клотика, изготовить плавательный бассейн, скамейки, столы, надраить палубу, произвести генеральную уборку — все эти мероприятия осуществляются через боцмана.
Результаты боцманского врачевания поразительны. Только что стоял человек, уединившись на баке, рассеянно смотрел, как нос траулера рассекает воду, мысли его витали где-то за шесть тысяч миль у дверей родного дома. А теперь сидит по распоряжению боцмана высоко на мачте со страховочным поясом на бедрах и драит мачту мыльной водой. Он и песни запел, и зубоскалит с товарищами, сидящими на палубе и по инициативе того же боцмана занятыми каким-то совершенно неотложным делом, и в нем совершенно не осталось даже малейших признаков былой хандры. Вот что такое настоящий боцман! Самого же боцмана я никогда не видел в состоянии лирической прострации. Потому что на хандру у него просто не хватает времени: на его плечах лежит весь корабль с бортами, палубами, кнехтами, гальюнами, кладовками и каютами.
Немало нелестных слов адресуют боцману матросы: называют его и «драконом», и «скопидомом», и другими столь же обидными прозвищами. Но попробуй быть другим, если снабжение на рейс дают в обрез — ровно столько, сколько положено, а в море в магазин не сходишь, на склад не попадешь и нужно рассчитывать только на то, что есть на судне. Вот и приходится быть «драконом» и «скопидомом» — зимой снег у боцмана и тот по скудной норме.
А еще приходится ему быть изворотливым негоциантом и дипломатом — это когда в море происходит встреча двух наших судов. Сразу после швартовки бортами начинаются десятки диалогов: капитан с капитаном, «дед» с «дедом», радист с радистом, а боцман с боцманом. И разговор их сразу вливается в русло морских дефицитов.
— Слушай, у тебя белила есть?
— Есть-то есть, да ведь теперь, сам знаешь, каково их добывать.
— Ну дай мне ведерко. А я тебе хлорки!
— Хлорка — это хорошо. А вот как у тебя с кистями?
— Да, кисти — это сложный вопрос. Ну, дам парочку в придачу к хлорке.
— Ну ладно, договорились! Ты мне четыре кисти и пяток веников.
— Ишь куда хватил! Веники! Вот сходи в лес и наруби! А как у тебя с гвоздями?
И такие дипломатические переговоры, полные недомолвок, подначек и иезуитских вывертов, продолжаются до того момента, пока суда не расходятся. А результаты переговоров всегда одинаковы, оба боцмана уносят в свои тайные закрома добытые трофеи, причем каждый из них искренне радуется, как ему здорово удалось провести своего незадачливого коллегу.
Ну, а насчет «дракона» — это все выдумки нерадивых матросов, которые поленились или не сумели выполнить порученную им работу так, как нужно — то есть на совесть и с полной отдачей сил. Это понимают решительно все, в том числе и командный состав, и самые исполнительные и добросовестные матросы, но… кличка «дракон» от этого не упраздняется, она только приобретает дружелюбный и вполне доброжелательный смысл.
Но если над боцманом у нас на траулере всегда найдутся охотники пошутить, позубоскалить над его плюшкинскими наклонностями, то никому и в голову даже не придет похихикать над Макарычем, старшим мастером добычи, хотя и гоняет он моряков несравненно жестче, чем боцман. Кажется невозможным, чтобы в одном человеке было столько мускулов и сухожилий. Когда смотришь на ладони Макарыча, тебя не оставляет мысль, что ими можно было бы вместо кирпича отлично драить палубу, а ребром такой ладони запросто перерубить мачту. Эти руки я никогда не видел в праздном состоянии. Даже ложку за обедом он держит так, как будто бы это не ложка, а рыболовная снасть. Если нет рыбалки, Макарыч чинит снасти, изготовляет какие-то замысловатые ловушки для рыбаков-любителей, плетет гамаки — чтобы спать не в душной каюте, а на свежем воздухе, на верхнем мостике. Причем делает это он не для себя, а для всех, кто попросит. И своих подчиненных Макарыч воспитывает в таком же спартанском духе: в море — никакого отдыха вне зависимости от того, есть ли рыба или нет работа всегда найдется.
Море приучило Макарыча не показывать своих чувств: смотришь на него — и видишь абсолютно спокойного человека, будто он специально за этим и пришел сюда за 6000 миль от Родины, чтобы неделями не видеть ни одного рыбьего хвоста. И только, пожалуй, по преувеличенной заинтересованности, с какой Макарыч осматривает и пересматривает свои снасти, можно догадываться, как тяжело дается ему это затянувшееся безрыбье.
Кончается очередной день. Над океаном повеяло приятной прохладой. Моряки, в свежевыстиранных рубашках и отутюженных шортах, чистые и выбритые, рассаживаются за столы, установленные на верхней палубе, чтобы за долгими разговорами и не менее долгими настольными играми добить еще один праздный вечер.
СПАСИБО ТЕБЕ, КАШАЛОТ!
Кончался очередной день рейса — такой же обычный и невыразительный, как и предыдущие. Было часов 6 вечера. Солнце уже «шло на посадку», когда наблюдатели заметили несколько бревен, плывущих навстречу судну. Об этом немедленно сообщили в ходовую рубку по трем причинам: во-первых, при этом потрясающем однообразии даже бревна — это тоже событие; во-вторых, если судно наскочит на бревна, можно повредить корпус или винт и, в-третьих, около плавающих предметов часто концентрируются косяки рыбы.
Как всегда в подобных случаях, сразу же к штатным наблюдателям присоединился десяток добровольцев, и все стали с интересом рассматривать эти бревна. И каково же было удивление, когда бревна начали фонтанировать. Они оказались не поваленными ураганом деревьями, а живыми кашалотами! Видимо, чтобы окончательно развеять наши заблуждения, на поверхности появилась ужасно некрасивая голова одного из морских гигантов, похожая на авиационную бомбу эдак тонн на десять, и начала открывать и закрывать свой рот, напоминающий ковш гигантского экскаватора. Создалось впечатление, что кашалот исполнял песню. Потом он нырнул и продемонстрировал нам свой хвост. Затем этот хвост начал шлепать по воде с такой силой, что брызги взлетали вверх метров на двадцать.
Пока кашалоты развлекали нас, в стороне показался еще один здоровенный кит, пасшийся в гордом одиночестве на солидном расстоянии от своих расшалившихся собратьев. Но что это? Вокруг него внезапно закипела вода, и на поверхности появился косяк тунцов — эдаких резвых бычков килограммов по пятьдесят. Они были в превосходном настроении, выпрыгивали из воды в полный рост и, выполнив свой трюк, шлепались о поверхность океана, уступая место новым исполнителям. Видимо, вместе с китом они охотились на какую-то рыбную мелкоту.
Решение идти в замет было принято мгновенно. То, что в неводе может запутаться кит и разворотить всю сеть, — это капитана не пугало: он хорошо знал, что киты никогда не попадают в сети — почувствовав опасность, они ныряют на большую глубину и уходят из зоны обмета. А вот с точки зрения рыбалки присутствие кита даже полезно: тунцы во время замета будут держаться около этого гиганта и не станут метаться в разных направлениях.
Быстро спустили бот, на него передали капроновый трос, привязанный к неводу, уложенному в виде высокого, неуклюжего горба на корме траулера. Наше судно начало набирать скорость: малый ход, средний, полный, самый полный… Траулер задрожал словно под ударами пневматических молотков. Казалось, что двигатель вот-вот выпрыгнет из корпуса. Судно поравнялось с косяком.
— Отдать невод! — Помощник мастера добычи, стоявший на корме, отдал стопор, и огромный невод шуршащим каскадом капронового полотна начал сходить в воду. Все дальше отходит траулер от стоящего на месте ботика, и вскоре на воде начал вырисовываться белоснежный овал поплавков образующих верхнюю кромку невода.
Сначала тунцы, увлеченные охотой, не замечали судна, не слышали грохота двигателя и шума сходящего в воду невода, но когда траулер описал половину окружности вокруг косяка, они забеспокоились и бросились наперерез курсу судна. Мы были готовы к этому, и, когда косяк приблизился, старший помощник капитана, стоявший на баке, выстрелил в воду две сигнальные ракеты. Волшебное голубое пламя взметнулось в толще воды. На поверхности забурлили пузырьки отходящих газов. Косяк буквально на месте развернулся и пошел в обратную сторону. Но это было не страшно — там сеть опустилась уже на полную глубину.
Когда закончили замет, перед нами возникло редкое и волнующее зрелище: безмятежно плавающий кит, окруженный стаей играющих тунцов, и все это — в обрамлении из белых пробковых поплавков. Вскоре кит исчез — наверное, шум стягиваемого стального троса насторожил его, и он счел за благо занырнуть — только его и видели. Косяк тоже исчез. Всех мучил вопрос: последовали ли тунцы за китом и поднырнули ли под нижнюю кромку невода или просто слегка приглубились?
На капитана Ивана Данилыча было страшно смотреть. Босиком, в одних трусах, он метался по верхнему мостику, напоминая взмыленного коня во время скачек, боксера на ринге — одним словом, бойца во время жаркой схватки. Его огромная двухметровая фигура загромождала весь мостик. Можно было залюбоваться очень выразительными, экспансивными жестами капитана — для связи с ботом. Правда, для этой цели имелась переносная радиостанция, но Данилыч приучил экипаж бота понимать капитанские распоряжения без современных технических средств, а по взмахам его рук, по положению корпуса. Ну, а если на боте, не дай бог, что-то делали не так, Данилыч засовывал в рот четыре пальца и молодецким посвистом наставлял моряков на путь истинный.
Капитан заметно нервничал и подгонял мастеров добычи: «Быстрее, ребята, берите невод, быстрее…» Макарыч и его помощник и без того понимали, что нужно торопиться, и вместе со своими подчиненными — матросами промысловой команды — работали на пределах своих возможностей.
В воде оставалось уже совсем немного невода, но на поверхности не было ни одного тунца, что дало основание нашим штатным пессимистам высказать рабочую гипотезу, что берем пустыря. И вдруг один из матросов закричал что-то нечленораздельное, показывая за борт. Все посмотрели и обмерли: вода забурлила, и на поверхность воды внутри невода всплыл большой косяк. Встревоженные рыбы вслед за вожаком начали совершать сверхскоростные броски в разные стороны, но всюду натыкались на прочное полотно сети.
Нужно было видеть ликование, неуемную радость, восторг людей, впервые за много дней познавших радость победы. Капитан приказал остановить выборку. Пустили в дело каплер — большой черпак, сделанный из сети. Его, словно ведро в колодец, опускали в невод и каждый раз выгружали на палубу несколько больших, неистово бившихся тунцов.
Теперь хозяином положения стал мастер обработки. Под его руководством приступили к разделке и заморозке рыбы. Работали всю ночь в сумасшедшем темпе — на открытой палубе при тридцатиградусной жаре долго рыбу не продержишь.
Улов оказался настолько крупным, что вся рыба не поместилась в морозильные камеры, поэтому значительную часть тунца уложили в трюм, куда предварительно нагнали холод, и там хранили его до тех пор, пока шла заморозка улова. Когда первую «порцию» тунца заморозили, шатающиеся от усталости матросы «выбили» его из камер и, поместив твердокаменные тушки в рогожные мешки, уложили в трюм, а освободившиеся камеры загрузили следующей партией тунца.
И снова потекли обычные, будничные дни, но теперь уже в настоящем промысловом режиме: утром замет, вечером второй замет, потом разделка улова, заморозка, «выбивка» камер. На протяжении многих дней на палубе не было видно ни одного доминошника, почти никто не смотрел кино, судно как бы вымерло, и только иногда мелькнет небритая тень с воспаленными от бессонницы глазами и снова исчезнет в трюме или в морозилке.
И люди, и траулер очень сильно изменились внешне: ребята похудели, осунулись, еще больше почернели, почти не следили за своей внешностью. Судно тоже очень быстро утратило свой парадный вид: борта поржавели, палуба почернела, каюты не прибраны. Зато настроение у моряков боевое, бодрое. Трюмы начали быстро наполняться первоклассной рыбой. Если так пойдет и дальше, значит, рейс кончится успешно, и домой мы вернемся не горе-рыбаками, а победителями, не стыдно будет людям в глаза смотреть. А за все спасибо кашалоту! Если бы не он, может быть, до сих пор ходили бы как неприкаянные по морям-океанам — чистенькие, свеженькие, как туристы в круизе. Спасибо тебе, кашалот!
ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ
В этот день команда освободилась довольно рано: с утра сделали один замет, к обеду управились со всем уловом, после обеда боцман выгнал всех на драйку палубы, и часов в 6 вечера один за другим моряки начали «выходить в свет»: часть из них расположилась за деревянными столами, предусмотрительно сколоченными боцманской командой в начале рейса; другие — на крышке люка; третьи уселись прямо на палубе, аппетитно пахнувшей свежевымытым деревом.
По кругу идет пачка сигарет, и начинаются долгие и неторопливые рыбацкие посиделки. О чем только не услышишь в этом импровизированном дискуссионном клубе: и о международном положении, и об иностранных портах, и о проделках моряков на берегу. Иногда чувствуется, несет рассказчик несусветную чушь, но все равно слушатели воспринимают рассказ с самым неподдельным интересом и охотно от души смеются, если увлеченный рассказчик «зальет» что-то особенно сногсшибательное.
— Был у меня друг, боцман, — плетет нить своего рассказа один из матросов. — Приехал после рейса в Находку, увидел на аэродроме заблудившуюся корову и привязал ее за рога к вертолету. Вертолет взлетел вместе с рогами… Потом штраф боцман уплатил — пятьсот рублей — за порчу домашнего скота…
Чушь несусветная, но дружный хохот взрывает ночную тишину.
С мачты испуганно взлетает, громко хлопая крыльями, присевшая отдохнуть большая птица.
— А у нас на судне медведь был, — выступает новый рассказчик. — Как какая-нибудь проверка или инспекция, мы его сразу выставим к парадному трапу и полное спокойствие. Никто не идет…
Когда я первый раз попал на судно, я не мог понять, почему эти здоровенные и вполне взрослые люди могут так самозабвенно и так долго предаваться пустопорожней болтовне, в которой подчас так трудно отделить правду от вымысла. И только потом я понял глубокий смысл этих разговоров. В научно-фантастических романах авторы нередко подвергают своих героев-звездолетчиков анабиозу, то есть усыпляют их на много лет, чтобы не подвергать космических путешественников самому страшному виду пытки — испытанию временем. Так вот морская травля — это и есть своеобразный анабиоз. Послушает моряк десяток невероятнейших баек, сам наговорит с три короба, насмеется, насмешит других — глядишь, и еще один вечер прошел.
На верхнем мостике по вечерам у нас собирается самая серьезная публика. Здесь наш «мозговой» центр. Под тентом, где висит яркая электрическая лампочка, стоит пара маленьких столиков. Один из них постоянно ангажирует матрос Никита, который готовится к поступлению в институт и ежедневно решает десятки математических задач. Рядом с ним в импровизированном гамаке пристроился рефмеханик Ваня, который дал клятву своей молодой жене, что за рейс проработает двадцать пять параграфов учебника английского языка. За другим столиком засел штурман Леша с красными то ли от загара, то ли от умственного перенапряжения ушами. Он делает контрольную работу по теоретической механике за второй курс Дальневосточного рыбного института. Несколько матросов, живописно расположившись на тюфяках, читают книги, взятые из судовой библиотеки.
Снизу раздаются взрывы хохота, перебранка доминошников, занятых «разбором полета» после очередной проигранной партии, а здесь академическая тишина, как в столичной библиотеке. Равномерно стучит дизель, слегка покачивается электрическая лампочка, вырывая из кромешной тропической тьмы сосредоточенные лица «интеллектуалов». Каждый занят своим делом.
Часов около девяти с палубы начинают доноситься нетерпеливые голоса: «Пора фильм запускать!», «Давай фильму!» Фильмы… Я нигде не видел, чтобы люди так страстно увлекались кино, как на флоте. Порою даже приходит в голову совершенно нелепая мысль: как же люди ходили в море до изобретения кинематографа?
В первый же день рейса в кают-компании монтируют киноустановку, и все время плавания она работает с предельной нагрузкой. Как обычно, на борту среднетоннажного траулера имеется тридцать — сорок фильмов, так что можно открывать грандиозный кинофестиваль. Но на фильмы набрасываются с такой жадностью (с первого же дня плавания, пока идем в район промысла, наши киновечера начинаются часов в семнадцать и продолжаются далеко за полночь), что число непросмотренных лент катастрофически тает. Как-то я не поленился и записал в свой дневник названия фильмов, просмотренных неутомимыми зрителями за один такой вечер:
«Война и мир» (2 серии);
«Руслан и Людмила» (2 серии);
«Русское поле»;
«Человек в штатском»;
«Я — следователь».
В кают-компании не продохнуть, из-за шума двигателей половина речи героев не слышна, но моряки сидят (или лежат, чтобы не загораживать экран сидящим сзади) не шелохнувшись и смотрят, смотрят очень экспансивно, как мальчишки-второклашки, остро реагируя на все, что происходит на экране.
По мере приближения к экватору кино переносится на палубу — на мачте подвешивают большой экран, около лебедок ставят проектор, и кинозал готов. Правда, к тому времени все фильмы уже досконально изучены, причем настолько, что моряки разговаривают друг с другом в основном цитатами из полюбившихся и выученных наизусть фильмов. Но сколько бы раз ни крутили любимую ленту — можно быть уверенным, что кинозал будет переполнен.
А видели бы вы, как проходят переговоры об обмене фильмами, когда в море встречаются два советских судна! Мы уже говорили, как хитроумно, в несколько туров, проводят дипломатические переговоры боцманы. Так на фоне уполномоченных по обмену фильмами боцманы выглядят желторотыми птенцами! Ведь сколько нужно иметь профессионального опыта, выдержки, изощренности, чтобы выведать, какими фильмами располагает партнер, заставить его раскрыть свои карты и в то же время ни в коем случае не проторговать свои самые заветные ленты! Но финал этих переговоров — точно такой же, как и у боцманов: стороны расходятся, крайне довольные тем, что им здорово удалось одурачить друг друга… И команда безмерно счастлива: после того, как корабли разошлись, на борту оказалось десятка два совершенно новых фильмов, которые можно смотреть снова и снова.
Море есть море. Оно накладывает особый отпечаток на каждого профессионального моряка, и не случайно, что у всех них вырабатывается немало общих черт, вызывающих уважение, а порою — улыбку. Например, подавляющее большинство людей, работающих на судах, отличает исключительная добросовестность, очень ответственное отношение к труду. Если моряку что-то поручили или о чем-то попросили его, можно не сомневаться, что все будет сделано так хорошо, как это только возможно.
Моряки, как правило, никогда не спрашивают, нужно ли помочь. Молча, без лишних слов, они включаются в работу, не корысти ради, а просто так, из-за остро развитого чувства локтя, взаимной выручки. И это вполне объяснимо: находясь на судне, вдали от берега, вдали от других людей, все члены экипажа зависят друг от друга и очень хорошо понимают, что от согласованности их действий, от чувства ответственности, от их взаимовыручки зависит все: и уловы, и жизнь на корабле, и в конечном счете их жизнь в буквальном смысле этого слова.
КАПИТАН
Еще будучи учеником начальной школы, я очень часто рисовал в своем воображении капитана корабля — мужественного, решительного человека, наделенного кучей всяческих добродетелей. Одним словом, капитан представлялся мне неизменно таким, каким его изображал Жюль Верн и другие авторы доступных мне в ту пору приключенческих романов. Для меня капитан был всегда героем, первопроходцем, сильным и справедливым, смелым, отчаянным человеком.
И вот настало время, когда я лично познакомился с капитаном, причем не на берегу, где он сидит за бокалом шампанского при всех регалиях и рассказывает очарованным слушателям, а особенно слушательницам, удивительные морские истории и приключения из собственной жизни. Нет, я получил возможность познакомиться с капитаном в его повседневной работе, когда он один на один с океаном, один на один с кораблем и его экипажем. Капитаном во время шторма, при замете, при швартовке, на собрании, в иностранном порту, за партией в шахматы… И увиденное произвело на меня гораздо большее впечатление, чем все читанное мною о капитанах каравелл, бригантин и чайных клипперов и даже о самом капитане Немо.
Да, действительно каждое плавание в эпоху парусного флота было подвигом. На утлых суденышках капитаны уходили в полную неизвестность, не имея элементарных навигационных приборов, нормальной пищи, они жестоко страдали от жажды, от отсутствия примитивных жизненных благ и удобств, постоянно вступали в яростные схватки то с ветрами, то с пиратами, а порою и с мятежниками на собственном судне. Безусловно, в этих условиях капитан должен был обладать поистине необыкновенными, сверхъестественными качествами.
Так что же, может быть, сейчас работа капитана легче? Не спешите отвечать утвердительно. Да, современный капитан живет в комфорте. У него отдельная каюта, а точнее — целая квартира на судне: кабинет, спальня, ванная. У капитана есть свой холодильник, радиоприемник, телефон; каждое утро к нему приходит дневальный и делает уборку. А сколько прав у капитана! Ни один человек не может быть зачислен в штат судна без согласия капитана. Все его распоряжения обязательны для выполнения и обсуждению не подлежат. Он может поощрять, наказывать, даже уволить провинившегося члена экипажа, отправив его на попутном судне домой. Если в море рождается ребенок, капитан составляет акт о рождении, если член экипажа или пассажир умер на борту судна, капитан составляет акт о смерти. Одним словом, капитан на судне — наивысшая инстанция решительно по всем вопросам.
Но вместе с тем ни одна профессия, ни одна должность не накладывает на человека такого бремени ответственности. Прежде всего, капитан — это штурман высшего класса, и он лично отвечает за безопасность судовождения. Как только возникает трудная ситуация: нужно проходить канал, шлюз, узкий проход, произвести швартовку, разойтись с близко идущим судном — капитан обязан находиться на мостике и лично руководить маневром. В любое время дня и ночи его помощники обязаны поднять капитана и пригласить его в ходовую рубку, если возникает хоть малейшая угроза безопасности судна. На чьей бы вахте ни произошла авария, кто бы ни был в ней виновен — ответственность в первую очередь несет капитан, и с него всегда взыскивают строже, чем с других.
Но капитан — это не только штурман. Капитан рыболовного судна — это опытный рыбак, который лично руководит промысловой работой траулера или сейнера. Мы с вами уже немного видели, как работает капитан во время замета. Ведь это настоящий главнокомандующий на поле боя, держащий в своих руках все нити боевых операций. Матросы и командный состав, определяясь на то или иное судно, прежде всего интересуются, кто капитан. Попадешь к хорошему капитану — значит, будет богатый улов, хороший заработок, слава и почет.
Капитан утверждает расстановку людей по вахтам, по тревогам, отвечает за техническую исправность судна, за его пожарную безопасность, чистоту, порядок, за бытовые условия моряков… Одним словом, за все. За границей капитан является полпредом своей Родины, которому страна доверила представлять и защищать ее интересы.
Но и это еще не все. Любое советское рыбопромысловое судно — это социалистическое предприятие, которое должно быть рентабельным и приносить государству доход. Значит, капитан, являясь директором этого своеобразного предприятия (кстати, на крупных рыбопромысловых судах высшая должность так и называется «капитан-директор»), обязан хорошо разбираться в вопросах хозяйственной деятельности, иметь основательную экономическую подготовку.
Итак, капитан нашего времени — это высокоэрудированный специалист, превосходно знающий штурманское, а на рыболовных судах — и промысловое дело; хорошо разбирающийся в технических вопросах — теории и устройстве корабля, радиотехнике, электронике; имеющий основательную подготовку в юридических, экономических и хозяйственных вопросах. И кроме того, унаследовавший от капитанов старинных парусников такие замечательные качества, как мужество, решительность, чувство высокой ответственности, умение подчинить своей воле большой и очень самобытный коллектив моряков, повести его за собой.
Так уж получилось, что за время долгого рейса я очень сдружился с капитаном нашего траулера, потому что даже среди других капитанов (а я повидал их немало в своих частых рыбацких рейсах) он показался мне личностью необыкновенной. И поэтому я с особенным интересом наблюдал, как он работает, как ведет себя в самых разнообразных ситуациях: и во время промысла, и на отдыхе, и в иностранных портах, и т. д.
Сразу после утреннего чая Данилыч спешил на верхний мостик и, вооружась мощным биноклем, принимался самым тщательным образом осматривать горизонт.
— А ну, ребята, у вас глаза получше, — льстил он наблюдателям. — Посмотрите-ка справа по борту 15°. Мне кажется, там чайки кружат.
Бинокли обратились в указанном направлении, а в следующую минуту судно уже шло на чаек, и по траулеру рокотал усиленный современной радиотехникой громовой бас Данилыча:
— Команде к замету приготовиться! Спустить бот! Быстрее, быстрее, ребята!
— Я считаю, — поделился со мной Данилыч, наблюдая, как матросы хорошо отработанными движениями спускают бот и заканчивают последние приготовления к замету, — что поиск и промысел нужно вести очень активно, прямо-таки агрессивно. Чем больше людей участвует в поиске, тем лучше. И капитан должен почаще в бинокль поглядывать: во-первых, лишняя пара глаз, а во-вторых, личный пример — все видят, что капитан сам заинтересован, сам ищет. Капитан должен быть больше всех заинтересован, чтобы поиск велся хорошо. Я даже приз установил: кто первый обнаружит десять косяков, тому кок торт печет.
Тем временем судно подошло к большому косяку, который ослепительно сверкал на солнце. Бурлящее, клокочущее пятно медленно перемещалось по застывшей глади удивительно спокойного океана. Данилыч весь напрягся, ушел в себя, словно охотник перед решающим выстрелом или командир ракетной установки за мгновение до команды «Огонь!».
— Отдать невод!
И снова, уже в который раз, я не смог не залюбоваться этим прекрасным, захватывающим зрелищем, когда по синей поверхности океана на твоих глазах выстеливается огромный овал из белых поплавков невода, обрамляющий стремительный косяк тунцов.
Некоторые специалисты, проработавшие много лет на лове скумбрии и других рыб, держащихся на глубине, пренебрежительно относятся к тунцовому промыслу: подумаешь, рыбалка, весь косяк на поверхности. — ума особого не надо. А сделать, круг около косяка вполне можно и медведя научить, не только штурмана. Вот на скумбрии — это другое дело, все по приборам или по наводке с самолета. Тут уж соображать надо!
О вкусах, конечно, трудно спорить, но, на мой взгляд, гораздо увлекательнее и драматичнее выглядит именно такая рыбалка, когда ты собственными глазами видишь «дичь» — быструю, осторожную, мчишься ей наперерез, делаешь головокружительные маневры, чтобы сбить ее с толку, закружить, запутать. Промысел этот требует очень высокой квалификации, железной выдержки, крепких нервов, но зато какое удовлетворение получает команда, когда поединок с косяком оканчивается в пользу человека, и результатом его является каскад серебристых рыб, льющихся из невода на палубу. Ради таких минут стоит жить, стоит ходить в шестимесячные рейсы, стоит рыбачить!
Замет оказался на редкость удачным. Пойманной рыбе не было конца. Мелкие тунцы с черными продольными полосками около брюшка, за что их называют полосатыми тунцами или ласково полосатиками, сыпались на палубу. И Данилыч был тут же, на палубе, среди матросов. Забыв про свой высокий пост и неотложные капитанские дела, он самозабвенно занимался обработкой улова, придирчиво следя, чтобы от этой грязной работы не отлынивали «интеллигенты», как он шутливо называл штурманов, начальника радиостанции, рефмеханика.
Капитаны бывают разные. Одни по своей натуре замкнутые, суровые, из своей каюты выходят только «по производственной необходимости». Данилыч же все свободное время проводит среди команды. То, вооружась наждаком и напильником, обрабатывает какую-нибудь замысловатую раковину, то шлифует зуб кашалота, то забивает с моряками «козла» или же ведет шахматную баталию. Когда Данилыч впервые пригласил меня сыграть с ним партию в шахматы, я начал разыгрывать дебют, так сказать, несколько снисходительно, полагая, что сильные шахматисты в море встречаются довольно редко. И только с треском проиграв партию, а за ней и еще две, я понял, как жестоко ошибался.
Я очень любил проводить вечера в его каюте. И чего там только не было! Диковинные раковины, кораллы, кокосовые орехи, мастерски обработанные искусными руками капитана, клинок с рукояткой из зуба кашалота. А еще капитан пел, аккомпанируя себе на гитаре, и это было чудесно. Голос у Данилыча могучий и очень сильный, но пел он тихо, бережно, обращаясь с песней словно с хрупкой девичьей ладошкой, вложенной в его геркулесовы ручищи.
Однажды, когда капитан отмечал день своего рождения, он открыл себя с еще одной, совершенно неожиданной стороны. Где-то часа в три утра, когда мы пили холодное сухое вино и закусывали кокосовыми плодами, Данилыч вдруг достал из письменного стола большую общую тетрадь в красной обложке, долго и задумчиво листал ее и вдруг нерешительно пробасил:
— Хотите, я вам свои стихи почитаю?
Стихи были нескладные, но настолько самобытные, искренние и мудрые, что мы слушали затаив дыхание. Да, капитан-поэт — это, пожалуй, встречается не так часто…
И все-таки это не высшая доблесть капитана — мастерски шлифовать кокосовые скорлупки, играть на гитаре и даже писать стихи. Самое главное, что я искал и нашел в Данилыче, — это удивительная способность создавать из моряков отлично сыгранный ансамбль, в котором каждый с полуслова и полужеста понимает дирижера и превосходно знает свою партию. За Данилычем закрепилась репутация «везучего». Да, действительно Данилыч никогда не был «в пролове», всегда его траулер возвращался домой с полными трюмами, даже когда другие суда приходили в порт с мизерными уловами. Что это? Везение? Повезти может один раз, два, а дальше это уже называется не везением, а высоким профессиональным мастерством в сочетании с каким-то сверхъестественным чутьем на рыбу и слаженностью команды.
ДОМОЙ!
Наш рейс подходил к концу. Это чувствовалось во всем: и в той озабоченности, с которой боцман осматривал каждую пядь вверенного ему корпуса судна, и в той напряженности, с какой наблюдатели вглядывались в горизонт — еще, еще хоть несколько тонн рыбы! — и, больше всего, в вечерних беседах на палубе. Если раньше на все разговоры, так или иначе связанные с возвращением домой, было наложено молчаливое табу, то теперь любые посиделки начинались примерно так: «А интересно, когда вернемся, снег еще будет или нет?» Или: «Вот придем домой, первое, что затребую у своей жены, — большую кастрюлю домашнего борща наварить. Соскучился — сил нет». Можно было уже подшутить и над молодоженом Ваней: «Ну, теперь во всем городе ни одного цветочка не найти — молодая жена нашего рефа их оптом скупила, чтобы на причал на грузовике привезти!», «И шампанское тоже, наверное, все скупила — ничего не останется». Рефмеханик молча слушал эту беззлобную травлю и счастливо улыбался.
Как-то вечером, на закате дня, мы проходили проливом, с берега подул ветер, и вдруг сладко и тревожно защемило сердце: ветер принес дивные запахи цветущей зелени, аромат цветов, легкий запах костра… Все моряки, которые были на палубе, бросились на левый борт и долго, с жадностью вдыхали эти забытые запахи. Вот чего так не хватает в морских бризах: их запахи живительны, но не живые…
После этого уже никому не хотелось разговаривать. Все разошлись по каютам и долго ворочались без сна. Разбередил души моряков этот аромат живой природы, вызвав в них новый прилив ностальгии — тоски по дому.
Все-таки рыбак океанического плавания — это не совсем обычный человек. Вот разговариваешь с каким-нибудь матросом или мотористом и узнаешь, что он уже десять лет не видел русского снега, то есть уходил осенью в море, а возвращался на берег уже ближе к лету. Всего же из последних десяти лет шесть лет чистого времени он провел в океане. И поэтому у моряка весьма своеобразное представление о времени. Он никогда не скажет «в прошлом году», «в позапрошлом году», а «в прошлом рейсе», «в позапрошлом рейсе».
И ко всему земному моряки относятся тоже не совсем обычно. Новичков, впервые попавших в море, поначалу очень удивляет, что в каютах «просоленных морских волков» всегда много зелени — целые оранжереи, за которыми они ухаживают так, как это не делала бы ни одна хозяйка. Некоторые энтузиасты даже пытаются выращивать в море овощи. Очень тепло на судах относятся ко всякого рода живности. Если залетит птица — она получает самый сердечный прием, ее накормят, напоят, если надо — подлечат. В море на судне часто можно увидеть пса или кота, которые пользуются всеобщей симпатией и очень хорошо знают правила хорошего морского тона: не разводят антисанитарию, не берут без спроса даже самые лакомые кусочки, не докучают своим добродушным хозяевам, а когда появляются какие-нибудь посторонние люди — на всякий случай прячутся, потому что санитарные органы не очень приветствуют превращение судна в плавучий зверинец.
Профессиональный моряк через несколько недель после возвращения на берег начинает задыхаться от городского смога, его оглушает лязг трамваев, грохот грузовиков, для него становятся невыносимыми очереди в магазинах, толчея в автобусах. Особенно его тянет в море дождливой осенью или зябкой зимой, тянет туда, где всегда тепло, где почти не бывает штормов, где сейчас так ласково и щедро светит солнце. И ведь это так здорово — уйти из этого неуютного, удушливого, шумного города в середине осени и вернуться весной.
Но пройдет два месяца рейса, и моряк с щемящей остротой начинает ощущать нехватку земных впечатлений. По-человечески можно, конечно, понять, что он скучает по жене, детям, друзьям, но оказывается, это далеко не все: ему уже не хватает тех самых опротивевших городских звуков и запахов, от которых он так стремительно бежал, ему не хватает и пестрой, шумной толпы, и пения птиц, и русского холода. И когда моряк начинает тихой ненавистью ненавидеть этот безмятежно ласковый океан, словно преданный пес лижущий своими волнами борта судна, это вечно синее небо, это вечное лето — значит, рейс подходит к концу.
И встречающим, наверное, трудно понять и поверить, что даже унылое небо, покрытое свинцовыми тучами, моряку гораздо милее и дороже, чем ясный лазурный небосвод в тропиках; что серые мокрые от мороси здания выглядят неизмеримо прекраснее белоснежных вилл и небоскребов в заморских портах; что уткнувшие носы в теплые кашне их бледнолицые и озябшие земляки выглядят гораздо симпатичнее загорелых европейцев в шортах и гольфах, лениво прогуливающихся по набережной Ила Бич в Порт-Морсби на Новой Гвинее или разъезжающих на роскошных автомобилях по магистрали Куин Элизабет Драйв в фиджийской столице Сува.
Здравствуйте, хорошие мои! Я вернулся! Жизнь прекрасна и удивительна, но особенно хороша она, когда после долгой, невообразимо долгой разлуки человек возвращается домой, где тебя очень ждут!
ПЛЕЩЕТ МОРСКАЯ ВОЛНА
О. Глушкин «АНТЕЙ» УХОДИТ НА РАССВЕТЕ Рассказ
Капитан рыболовного траулера «Антей» Антон Петрович Москалев в погоне за косяком ушел в сторону и в отдалении от группы своих судов взял больше сорока тонн скумбрии. В это время, как назло, скис двигатель, и проклятый дрейф, в суматохе не учтенный молодым штурманом, снес траулер. Сели на банку. Дело это на промысле получило широкую огласку, и Москалев понял, что ему придется расстаться с морем. Как всякий капитан, он был сдержан и внешне спокоен.
А на берегу в управлении начальник отдела кадров сказал:
— Вам лучше уйти самому.
И в тридцать восемь лет капитан «Антея» начал иную, совсем незнакомую ему жизнь.
Ему помогли друзья. Москалев довольно быстро устроился в дипломном отделе порта. Правда, оклад ему дали до смешного маленький, равный окладу жены, преподавательницы истории в школе, которая нисколько не удивилась, когда он принес первую получку, и сказала:
— На берегу все живут так, Антон. Придется отказаться от некоторых привычек.
— Например? — не понял он.
— Например, от поездок на работу в такси.
Но что он мог поделать, если таксисты сами останавливали машину, завидев его. Москалев до сих пор не сменил фуражку с «крабом» на шляпу. И половина таксистов так или иначе знали, что он капитан, некоторые из них раньше плавали с ним, а другие, постарше, помнили его молодого.
Москалева удивляла суетливость начальника дипломного отдела. Ефимов весь день проводил в поисках потерянных бумаг. Причем в эти поиски включался весь отдел, и, захлестнутый общей сумятицей, Антон Петрович тоже рылся в многочисленных папках, и пальцы у него становились серыми от пыли. В конце дня вдруг выяснялось, что нужная бумага лежит на столе у Ефимова. Все успокаивались. Вспоминали, что уже половина шестого, убирали документы в столы, женщины вынимали пудреницы и маленькие зеркальца, а мужчины смотрели в окно, в предвкушении освежающего пива с балыком и футбольного матча по телевизору.
Стоял август, и днем конторские комнаты накалялись, Ефимов ежеминутно вытирал пот со лба большим клетчатым платком или уходил на весь день «к начальству». Когда он уходил, в отделе начинались шушуканья, анекдоты, разговоры по телефону, и никто уже не искал бумажек. Этот шорох, разговоры и безмятежность изредка нарушали посетители. Они входили робко, здоровались почтительно и в нерешительности останавливались у двери, теребя в руках форменные фуражки. При их появлении все смолкали и принимались резво писать что-нибудь или листать папки, и никто не поднимал голову от стола, а вошедший краснел, смущался и осторожно, почти шепотом, говорил:
— Скажите, пожалуйста, к кому обратиться?..
И так как ближе всех к двери сидела инспектор Лямина, то отвечать волей-неволей приходилось ей. И она, царственно повернув голову, говорила посетителю, как провинившемуся ученику:
— Вы грамотны? Надо читать объявления. Ясно написано: прием с трех.
— Извините, — тушевался посетитель и пятился к двери, извините, пожалуйста, я приду позже.
Антону Петровичу хотелось встать из-за стола и мигом выдать нужную бумажку. Но ему пока не доверяли столь сложные дела и лишь иногда, когда в бумагах шла речь о непонятных лоциях или рыбах, обращались к нему, что значит то или иное слово, и он охотно объяснял.
Здесь же, в одном помещении, работали корректоры морских карт — это были, в основном, женщины, и разговоры у них были о покупках, о ценах, а по утрам создавалась очередь у телефона. Они звонили мужьям, беспокоясь, как те доехали на работу, помогали детям решать заданные в школе задачи, заказывали продукты в ближайшем гастрономе. Незаметным и неслышным в отделе был только инспектор по загранкадрам Семен Савельевич. Он молча заполнял толстые тетради, что-то подсчитывал и прерывался лишь затем, чтобы выкурить в коридоре очередную сигарету.
Поначалу он встретил Москалева настороженно и очень как-то обидно объяснил Москалеву цель его устройства в дипломном отделе:
— Это вы здорово придумали, именно здесь, смею уверить, прямой путь для восстановления ваших капитанских прав, все в руках начальства…
— Простите, Семен Савельевич, но у меня подобных целей не было, — прервал его Москалев.
Семен Савельевич смутился, принялся копаться в столе, и после этого разговора они долго присматривались друг к другу.
Город тонул в зелени. По утрам красный кирпич зданий и черепичные крыши в солнечном освещении казались только что созданными. Антон Петрович шел в свой дипломный отдел по тропе мимо зарастающего озера, сворачивал за кооперативным домом и пересекал шоссе около большой желтой цистерны с пивом, которую называли «буренушка». Здесь начинался порт, начинался с рассказов о штормах и ожидании транспортов, о счастливых фрахтах, об удачливых капитанах, со свежего, белого, тающего в жире копченого палтуса, припасенного в рейсе для корешей. Солнце вставало из-за перекрестий мачт. Протяжно гудели траулеры у входа в канал. Разносились звонкие голоса дикторов. Отсюда в город врывался запах сельди, слежавшейся соли, водорослей. От всего этого у Москалева щемило в горле, боль поднималась изнутри, захлестывала, и лишь усилием воли можно было отбросить ее, притвориться даже для самого себя, что это не волнует и что все в порядке.
Однажды Москалев заметил у «буренушки» чернобородого боцмана с «Антея» и понял, что его траулер вернулся в порт. Пройти мимо ему не позволили, подхватили со всех сторон, протянули кружки и, наверное, чтобы успокоить его, не обидеть, отдать ему должное, наперебой стали говорить, как плохо теперь без него, какой был «черный» рейс, как рыба уходила буквально из-под носа, как чуть не утонул корабельный кот Семеныч, любимец экипажа, и о том, что потеряли вибратор эхолота во второй половине рейса, так что искать рыбу было нечем и приходилось, как слепым, идти в кильватер соседу.
— Ладно, стоп, — сказал Антон Петрович, — я ведь знаю, никто больше вас не брал в этом районе.
— Разве мы с вами столько бы взяли, мы бы еще два раза по столько рванули!.. — возразил штурман Веня Волохов, совсем молодой паренек, рыжий до красноты и весь блестевший, как надраенная корабельная медяшка.
Москалев помнил его еще матросом.
— Да помолчи, дай Антона Петровича послушать, как у него тут? Когда к нам возвернетесь? — перебил Волохова боцман.
— Затяжная якорная стоянка, боцман, — сказал Москалев, посмотрел на часы и стал извиняться.
Его отпустили неохотно, но поняли — служба, договорились вечером отметить приход в ресторане «Балтика».
Боцман пошел проводить его до проходной порта. Шли молча и, чем ближе подходили к проходной, тем больше становилось людей, шагавших рядом, спешивших к большим воротам, украшенным плакатом, на котором усатый рыбак в зюйдвестке крутил колесо штурвала, а прямо за его спиной в сетях торчали огромные белые рыбины. У ворот ждали очереди грузовые машины, женщины с цветами стояли в сторонке около конторы, а слева, на площадке для личных машин, впритык друг к другу жались разноцветные «Жигули».
— Мы, Антон Петрович, всей командой вчера в партком ходили, — сказал боцман возле самых ворот.
Москалев промолчал.
— Ну, чтобы на «Антей» вас вернули…
— Излишне, боцман, — сказал Москалев, — прошу вас не делать этого. Каждый человек должен сам отвечать за свои грехи.
Ефимов появился в отделе после обеда. С его приходом женщины прекратили разговоры, а он принялся подписывать заготовленные распоряжения. Работа была привычна Ефимову, и выполнял он ее почти автоматически. Семь лет назад он перешел в порт из юридического отдела автоинспекции. Когда жаловались на работу его отдела, на затяжки с выдачей справок или не вовремя оформленные судовые документы, Ефимов возмущался:
— Сейчас модно стало обвинять в бюрократизме! Думают, если пришли с моря, заработали кучу денег — значит, герои! Спешите заказывать оркестры!
Женщины в отделе дружно соглашались с ним, особенно Лямина, и лишь новый работник капитан Москалев молчаливо, но явственно выражал свое несогласие. Ефимов был близорук и, когда волновался, обычно снимал пенсне и протирал стекла большим клетчатым платком. Однако напряженный взгляд Москалева он чувствовал и без пенсне. Ефимов уже понимал, что напрасно согласился принять Москалева в отдел и что теперь надо или как-то осторожно «приручить» его, или просто-напросто избавиться от него.
Работу Москалев успевал закончить до установленного срока, это заставляло других тоже поторапливаться. «Дам-ка я ему расчертить отчетные формы, — решил Ефимов, — и полезно, и времени у него не будет возмущаться». Ефимов поднялся и не спеша прошел к стеллажам, где хранились дела, сжатые красными картонными папками. Он еще решал, с какой формы отчета начать, когда дверь, отдела резко распахнулась. Ефимов спиной почувствовал необычность посетителя и заспешил к дверям, в которых стоял, оглядывая отдел голубоватыми глазами, низенький, почти квадратный человек с бородкой.
Москалев не сразу узнал в вошедшем начальника порта. Они встречались в Клайпеде лет десять назад. Евграф Васильевич, тогда еще молодой и юркий, работал в погрузрайоне.
Многие в отделе видели Евграфа Васильевича впервые. С тех пор как он поставил у себя в кабинете селектор, даже начальники отделов стали реже видеть его. И когда раздавался резкий звонок, похожий на судовую сирену, — это значило: Евграф Васильевич выходил на прямую связь с Ефимовым, при этом голос его, усиленный динамиком, был властным и не терпящим возражений. Звонок этот раздавался редко и всегда становился событием и темой разговора на целый день.
— До меня дошли жалобы, — пророкотал Евграф Васильевич, обращаясь не столько к Ефимову, сколько ко всем сидящим в отделе. — Волокиту здесь развели!
— Отдел работает, как отлаженный механизм, Евграф Васильевич! — начал скороговоркой Ефимов. — Любое дело, любые данные всегда под рукой.
— Механизм? А по чьей вине вчера до ночи стоял готовый к промыслу траулер? Судно задержали из-за бумажки! Мы существуем для флота, а не флот для нас!
— Евграф Васильевич, это все понимают, — поспешил согласиться Ефимов. — Мы всегда идем навстречу, мы делаем все, что зависит от нас!
Начальник порта посмотрел по очереди на каждого из сидящих в отделе.
— И вы здесь, капитан? — спросил он, заметив Москалева. — Впрочем, мне говорили о вас. Временно у нас решили отсидеться?
— Считаю, что временно, — спокойно ответил Москалев. — Много здесь излишней суеты и бумаг.
— Очень верно, Евграф Васильевич. Москалев здесь человек временный, ему трудно вникнуть, — вмешался в разговор Ефимов. — Мы все это очень чувствуем.
Евграф Васильевич повернулся к Ефимову, приподнял плечо, как боксер, и посмотрел так, что Ефимов сразу понял, что лучше бы ему было промолчать.
— Я даю вам неделю для налаживания четкой работы! — приказал Евграф Васильевич. — Неделю!
После его ухода в отделе долго стояла тишина, только было слышно, как за окном тренькают краны и скрипят стропы, сдавливая короба с замороженной рыбой. Потом заговорили все сразу, в основном о резкости начальника порта, вспомнили, что у него даже нет высшего образования и что он здесь недавно, а Ефимов уже, слава богу, семь лет.
— Не все зависит от образования, — сказал, ни к кому не обращаясь, Москалев. — Многое решает отношение к делу Траулер стоял из-за нашей проволочки.
— Ах вот как! — повернулся к нему Ефимов. — Теперь ясно, откуда у начальства такая информация. Наконец-то вы показали свое лицо! — крикнул он Москалеву. — Настучали руководству, опорочили целый коллектив!
— Спокойно, — сказал Москалев громко, — не надо нервничать. — Голос у него был явно не для конторского помещения. — На судне я этого не любил! И вам не советовал бы попасть на один траулер со мной! А здесь оставаться я не намерен. Сегодня же пишу заявление.
Москалев вышел в коридор, заставленный шкафами, присел на ветхий стул, выкинутый из отдела за ненадобностью, и закурил.
Здесь его и застал Семен Савельевич. Сморщенное его лицо было полно сочувствия, он смотрел сбоку на Москалева, как обычно сощурив глаза и сдвинув к переносице лохматые седые брови. И когда Москалев поднялся и двинулся к выходу, он еще долго смотрел ему вслед, а потом в окно, как Москалев пересекает размашистым шагом дорогу. И ему вспомнилось, как он тоже пришел сюда, в порт, после неприятностей, которые окружили его в институте на кафедре судостроения, где он был таким же резким, как этот капитан.
Вечером Москалев рассказал жене о том, что произошло в отделе. Пятнадцать лет они были женаты, и из пятнадцати лет, если сложить дни стоянок и отпусков, едва ли набиралось года четыре, когда они были вместе. Рита уже свыклась с этим и притерпелась. Жена капитана! Ей завидовали подруги, соседи, все, кто думал, что женой капитана быть легко, что можно не заботиться о деньгах, покупать в валютном магазине любые вещи, жить в комнатах, увешанных коврами. Жена капитана! Ведь даже в порту, в дни прихода, когда большинство жен сразу уезжали домой со своими мужьями, где их ждали домашний ужин, радость встречи, которую полностью можно ощутить только вдвоем, Рита знала, что и сейчас ей надо ждать. Капитан не мог уйти первым, она сидела в его каюте, а он продолжал свою работу, и в эти часы она ненавидела портнадзор, санинспектора, пожарников, ремонтников, многочисленные комиссии управлений, которые со всех сторон наступали на Антона. И в первую ночь они оставались на судне, а утром, когда она еще спала, каюта опять наполнялась людьми, теперь уже говорили о выгрузке рыбы, спорили за место у причала, просили отпуска. И только к ночи они вырывались наконец домой. Все это было.
Теперь Рита долго пыталась успокоить его, убеждала, что он найдет общий язык с Ефимовым, что надо просто перетерпеть, чтобы втянуться в иной ритм и жить в согласии с собой, как и все.
Ковры смягчали голоса, причудливые раковины поглощали звуки, пыхтел никелированный чайник, и ветер раздувал паруса учебного судна «Товарищ» на картине, вставленной в золоченую раму.
Рита понимала, что Антон не может приспособиться к береговой жизни, что у него что-то не ладится и день ото дня все больше наваливается на него тоска по морю. Он и раньше не был особо разговорчив, а теперь за вечер иногда не произносил ни слова, ночью часто вставал, шелестел газетами, и она с тревогой прислушивалась к его шагам, к шипению чайника, к звяканью посуды. Иногда она выходила к нему, садилась рядом, он обнимал ее, говорил что-нибудь ласковое, но чувствовалось, что ему не уйти от своих дум.
Они теперь были все время вместе, было приятно засыпать на его руке, а открыв глаза, видеть его рядом. Она давно мечтала об этом, но надо было еще привыкнуть к тому, что встречи между рейсами должна заменить размеренная жизнь вместе, столь же опасная для любви, как и долгая разлука. И теперь, видя, как мучается и не находит себе места Антон, она тоже подолгу искала решения, рассчитывала, как сделать так, чтобы он, оставаясь работать на берегу, забыл хотя бы на время о своем море.
В воскресенье с утра они шли на вокзал. Так они, не сговариваясь, решили: в выходной день — обязательно на побережье. Стояла осень, и они — он, она и сын Сеня — бродили вдоль пустых пляжей, наблюдая, как накатываются волны на песок и высокие сосны клонятся под ветром. Вдали, почти у самого горизонта, выступал в море мыс, поросший низкорослыми соснами, и прямо у мыса высилась башенка маяка. Волны выплескивались к обрывистому уступу берега, обнажая корни деревьев, песок пляжа становился темным от воды. Немногочисленные отдыхающие из санатория «Якорь» бродили по дощатому настилу, спускавшемуся к самой кромке воды. Иногда шальная волна подступала совсем близко, билась под досками, врываясь в щели. Сидящие на скамейках поджимали ноги, вытирали лица платком или смахивали соленые брызги ладонью.
Антон Петрович подолгу стоял на линии прибоя, вода лизала его башмаки, надвигалась и снова отступала.
— Пойдем, простудишься. Смотри, все ноги мокрые. — Рита брала его под руку.
Они поднимались по крутой дощатой лестнице, над которой смыкались кроны деревьев. Москалев шел легко, и его можно было принять за молодого парня, курсанта мореходки — бритый затылок, прямая стать, распахнутая флотская шинель. Он был таким, когда они впервые встретились на паруснике «Товарищ». Молодая пионервожатая привела тогда свой отряд на знаменитый парусник, мальчишки разбежались по судну, исчезли за надстройками, скрылись в коридорах, в рубке. Она попыталась угнаться за всеми сразу и сама запуталась в снастях, в крутых переходах, в многочисленных палубах.
— Курсант Москалев, — приказал вахтенный штурман, — помогите вожатой собрать детей!
Ей было тогда восемнадцать лет. Желтые, переливающиеся на солнце волосы падали на зеленую спортивную куртку.
— Ох, — сказала она, — Эдик залез на мачту!
Москалев доставил Эдика вниз. Потом они спускались по узким трапам, собирая отряд. Крепкие загорелые ноги вожатой быстро перебирали ступени.
Вечером они долго бродили по набережной. Солнце спускалось в залив, сливалось с водой и красной полосой опоясывало бухту, перекрестья мачт, портовые краны и низкие здания пакгаузов. Потом забрели в парк. Здесь они обнаружили пустующий деревянный домик. Запах яблок, разбросанных вокруг дома, рамы окон без стекол, деревянная табуретка.
— Помнишь тот домик, и как мы все время боялись, что придет сторож? — спросила Рита, когда они поднялись наверх мимо маленьких, почти игрушечных дач.
— Странно, — сказал Москалев, — и я тоже сейчас подумал об этом.
— Давай построим здесь дачу? — Похожую на тот домик?
— Да. И отсюда хорошо видно море.
Рита думала, что строительство дачи отвлечет Антона хотя бы на время, он забудется, у него появится какая-то цель. Но строить дачу Москалев категорически отказался. И тогда, уже позднее, к ней пришла другая мысль — уехать отсюда.
Теперь она подолгу простаивала перед застекленной витриной у городского рынка в толпе кутающихся в шали старушек. Доска пестрела объявлениями. Казалось, весь город собирался куда-то переселяться, а люди из других городов хотели занять места уехавших.
Когда живешь на одном месте, в одном городе, то кажется, что и все вокруг вот так же живут оседло. А сейчас, потолкавшись у рынка, Рита вдруг открыла, что большинство окружающих ее людей или заняты обменом, или собираются этим заняться.
Москалев, заметив появившиеся в доме тонкие книжечки в зеленой обложке — бюллетени по обмену, — спросил:
— Зачем стала выписывать эту ерунду?
— Понимаешь, — сказала она, — мне надоело жить в этом городе: дожди, сырость, Сеня часто болеет. Здесь ни разу не было ни настоящего лета, ни настоящей зимы.
— Нормальный мягкий климат, — сказал Москалев.
— Ты не замечаешь этого, ты вечно в своих морях, поживешь на берегу — и поймешь, что такое ежедневная слякоть.
Он подумал, что действительно не видел за все время, какая зима стоит в городе. Зимой он обычно бывал в рейсе и томился от палящего солнца и духоты тропиков.
Но уехать отсюда? Куда? Только если в город у другого моря. Что делать капитану в городах, рассыпанных по России среди, зеленых лугов, лесов и маленьких речушек? Ловить пескарей на удочку, преподавать в каком-нибудь техникуме или щелкать костяшками счетов в бухгалтерии?
Управление тралового флота, куда в службу главного капитана был принят новый инспектор Москалев, жило импульсами: приходы и отходы судов, квартальные и годовые отчеты, суматоха, и вдруг выдавался день или даже неделя, когда делать было абсолютно нечего: все отчеты сданы, в порту пусто — суда на промысле, и на ремонте одно-два судна, да и то где-нибудь в далеком порту.
Начальник управления выглядел много старше Москалева, хотя они были одногодки, из одного училища даже. Москалев пытался вспомнить, как звали начальника, и не мог. У начальника были прямые негнущиеся ноги, слегка прорисовывался животик, и тонкие пальцы не находили покоя. Из-за пальцев Москалев окончательно вспомнил его: он когда-то был комсоргом курса, и еще вспомнилась стройка под Волховом, где они были в одной бригаде. Начальник управления не помнил, видимо, и этого.
— Я знаю, вы опытный капитан. Место ваше, конечно, на промысле! — сказал он Москалеву. — Но коли уж так произошло… Вина ваша формально безусловная, решать вашу судьбу руководство еще будет, а уж если вы попали на берег, то не в дипломном же отделе вам отсиживаться. Здесь в службе очень нужны люди, знающие промысел. Мы с Евграфом Васильевичем этот вопрос утрясли. Народ у нас засиделся на своих местах, а вы еще полны промыслом, вы чувствуете его дыхание!
Они еще долго говорили о делах промысла, вспоминали обстановку во всех районах, рассматривали карты промысловых районов. Москалев, узнав, что на банке «Кампече» перестали работать еще зимой, удивился и вспомнил, как там брали стабильные уловы.
— Интересный район, но рискованный, — сказал начальник, — очень трудно с транспортами, возьмешь рыбу и с ней застрянешь. Если только договориться о сдаче продукции в Гаване. Вот бы вы мне этот вопрос и разработали подробно, а?
Антон Петрович чувствовал себя в службе главного капитана много увереннее, чем в дипломном отделе. Кругом были свои, знакомые штурманы, механики. Иногда и вправду работы было невпроворот, это было в дни пачкообразного прихода или отхода траулеров. Тогда Москалеву казалось, что контора превращается в сумасшедший дом. Главный капитан носился вдоль причалов на своем «Москвиче», пытаясь навести порядок, инспекторы не знали покоя, и Москалев в этой общей суматохе тоже бегал, тоже что-то выяснял, доставал справки, вызывал портнадзор, ублажал пожарников, санинспекцию и ругался с ремонтниками.
Осень стояла теплая и сухая, город, казалось, был весь желто-красным, мальчишки собирали коричневые полированные кругляшки каштанов. Опадали яблоки в садах, в этом году их уродилось столько, что их просто некуда было девать. И даже Рита, заразившись яблочной эпидемией, тоже принялась готовить вино и компоты из яблок, купив соковыжималку и «закатку», по вечерам приучала Москалева к домашним работам.
Переход Москалева в управление флотом обрадовал Риту, и по его рассказам она поняла, что именно на этой работе он наконец сможет успокоиться, найти себя. Все-таки связан с флотом, можно и не рваться в море, работают же вместе с ним капитаны, не он один.
Сеня постепенно привыкал к отцу, сближение их шло медленно, хотя Москалеву порой казалось, что его постоянное присутствие в доме не только не радует парня, а даже тяготит его. Сын вступил в тот возраст, когда человек обретает самостоятельность и старается не допускать родителей в свой мальчишеский мир, а мнение своих одноклассников ставит много выше суждений отца.
Сын не только повторял Москалева характером, но и внешне был точным слепком своего родителя. Та же легкая походка, та же настырность во всем. Первая стычка произошла из-за парикмахерской: сын ни в какую не хотел расставаться с вихрами, волосы курчавились сзади, как у девочки. Москалев не понимал современной моды. Его школьные годы совпали с войной, и тогда была единственная мода — «под ноль». Если вспоминать класс в мореходке, то первое, что появлялось перед глазами, — круглые стриженые затылки и торчащие уши. Было другое, военное детство.
А может, это судьба послала ему переход на берег? Вот ведь не заметил, как уже вырос сын. Ему нужен отец. И было бы здорово взять его через пару лет юнгой в рейс, показать настоящую мужскую жизнь, научить его этой жизни.
А пока они искали ему учебники для четвертого класса, купили новый ранец, костюм, были и другие заботы. Но даже эта новизна и занятость на работе, дома не могли утомить, закружить его настолько, чтобы он забыл стон переборок и дни больших уловов, когда спать приходилось по два-три часа в сутки.
По ночам он часто лежал с открытыми глазами и смотрел на отблески света, мелькавшие на подволоке (мысленно он всегда называл потолок подволоком). Он вспоминал корабли, на которых плавал. В тишине комнаты каждый медленно выплывал из темноты и каждый был красив по-своему: величественный барк «Товарищ», черный СРТ «Кашалот», как пробка ныряющий в волнах; транспортник «Муссон» — заграничный гость, с каютами под ореховое дерево и пустующим баром; ходкий, узконосый, с запахом пороха китобоец «Смирный»; голубой «Орион», валкий «Полесск» и, наконец, «Антей» — белоснежный траулер, легко послушный движению руля, пропахший рыбой.
«Антей» родился на его глазах и, может быть, поэтому был особенно ему дорог. Москалеву не забыть мига, когда траулер под трубы духового оркестра плавно сполз по стапелю, и впервые воды Балтики приняли на свою поверхность его просуриченный корпус. Это был супертраулер с просторной промысловой палубой, на которой можно было работать сразу с двумя тралами, и машина у него будь здоров — в «три тысячи лошадей»! Получить такое судно прямо из новостроя — мечта любого капитана!
И с первого же рейса пришла удача. Флот в тот раз «штормовал носом на волну» в океане и многие нетерпеливые капитаны уводили свои суда на юг. Остался один «Антей» да еще несколько судов из Мурманска — и пошел окунь.
Да и вообще не бывало, чтобы «Антей» пришел в порт без плана. Все шло отлично, если бы не тот последний злосчастный выход. Когда остановился главный двигатель, Москалев решил, что механики справятся быстро, как всегда. А надо было срочно вызвать буксир. Вот тут-то и была ошибка. Понадеялся на себя. В инспекции правы — капитан отвечает за все, и за двигатели тоже. И в который раз он увидел снова те минуты, когда потерявшая ход беспомощная масса траулера дрейфовала в тумане, и движение это было неотвратимо и уже ни от кого не зависело.
Служба главного капитана считалась основным отделом конторы, здесь начиналось выдвижение штурманов на капитанские мостики и вершился разбор аварий. Многочисленные инспекторы службы проверяли приходящие и отходящие суда, взбираясь по трапам следом за таможенниками. Если судно выходило из порта не вовремя, в первую очередь спрашивали с инспектора, иногда его вызывали даже к начальнику управления.
Однажды после разговора у начальника товарищ Москалева по работе инспектор Дарвин смахнул бумаги со стола и отчетливо сказал:
— К чертовой бабушке, чтобы я больше работал в этой конторе! Нашли ответчика. Я все-таки капитан, а не мальчик для битья! Завтра же пишу рапорт.
— Не кипятись, — сказал главный капитан, сдвинув к переносице густые брови. — Рвешься в море — не держу. Сам ведь хотел побыть на берегу! Только учти — здесь тоже надо иметь выдержку, как и на капитанском мостике. Если мы все разбежимся отсюда, что будет?
Москалев понимал, что Дарвин никуда не уйдет из конторы, он уже прижился здесь, рыбу ловить он не умел никогда, а вот бумажки писал складно, так же складно, как когда-то выступал на советах капитанов. Москалеву же каждая очередная бумажка давалась с трудом, и главный капитан понял, что заставлять Москалева писать приказы бесполезно, и давно махнул на него рукой. А однажды, не увидев Москалева в комнате, буркнул своему помощнику:
— Легче зайца научить играть на барабане, чем этого…
Здесь он заметил его и стушевался, но Москалев промолчал, достал сигареты и вышел в коридор.
Можно было бы напомнить главному капитану пятьдесят восьмой год и промысел у Фарер, те скалы, на которые он чуть было не посадил «Орск», и то, как «Кашалот» тащил его, несмотря на риск. Но зачем было сейчас вспоминать прошлое, прикрываться им. Каждый имеет свою память. Тем более, что главный капитан был настоящим главным, он знал назубок все уставы и наставления, он умел подбирать людей и умел отправлять траулеры на промысел.
Первый выговор в приказе Москалев получил за то, что задержал выход на промысел траулера «Цефей». Выговор был несправедливый, главный капитан понимал это. Москалев не подписал «добро» на отход, потому что на судно не завезли огнетушители. Все равно портнадзор не выпустил бы траулер. Но на утреннем совещании начальник отдела снабжения убедил всех, что огнетушители завезли ночью. Он говорил так искренне, так смотрел на всех чистыми голубыми глазами, так удивлялся, что не будь Москалев этой ночью в порту, он тоже поверил бы его словам.
И когда вышел приказ, Москалев весь день не знал, куда деться от стыдобы, ему казалось, что в управлении все разглядывают его. Дарвин потрепал его по плечу и сказал:
— Чудак, кто не работает, тот не ошибается. Если сосчитать, сколько я выговоров получил — шей торбу, а мне от них ни жарко ни холодно. Премию не режут — вот и дело! Плюнь на все! Поехали сегодня за город, машина у меня на ходу, в багажнике кое-что есть!
Дарвин жил легко и весело.
Существование Москалева в конторе вылилось в поток однообразных дней. Казалось, все забыли, что он — капитан, и если раньше, когда он приходил из рейса, начальники отделов тянули его нарасхват к себе, то сейчас, чтобы согласовать какую-нибудь никчемную бумажку, приходилось ждать очереди, переминаться с ноги на ногу перед столом, за которым сидели, не обращая на него внимания, что-то писали, говорили по телефонам.
Он несколько раз пытался поговорить с заместителем начальника управления о выходе в море, но всякий раз этот грузный, вечно занятый человек, страдающий астмой и ревматизмом, пыхтящий как паровоз, трубил, вытянув губы:
— Батенька мой, ну что вы… разве плохо на берегу, я тоже когда-то плавал и рвался на промысел, а что имею… ох-охо-хо… ревматизм, семьи нет…
В воскресенье Москалев ездил с сыном за грибами. Он разбудил Сеню рано, чтобы успеть на первый автобус, уходящий на косу. Коса была излюбленным местом грибников.
За окнами стояла еще густая тьма. Антон Петрович и Сеня наскоро поели и в автобусе, убаюканные тряской, заснули. Проснулись они, когда автобус ехал по косе и в редеющем тумане по обе стороны дороги, почти вплотную к ней мелькали березки. Чем дальше они ехали, тем становилось светлее, таял молочный туман, и скупое осеннее солнце прошивало его дымку первыми лучами. Асфальтовая светлая дорога, прямая, как четко проложенный курс, разрезала лес на две половины: та, что жалась к заливу, была низкая и болотистая, а в морской половине от постоянных ветров с запада все деревья были наклонены к дороге.
Москалевы вышли у рыбачьего поселка и двинулись в сторону молодого ельника по шуршащей, ломкой траве. Осенний лес сразу окружил их красно-желтыми листьями, грибными запахами и белыми нитями паутины. Они шли по узкой тропинке, пробираясь через колючий кустарник. Жухлые листья шуршали под ногами, вспыхивала яркой желтизной бузина и стелилась над полянами дымка тумана.
Желтые головки маслят, как кухтыли из воды, выглядывали из сухого голубоватого мха, маслята были крепкие, лоснящиеся и совсем молодые.
— Настоящая республика маслятия! — восхитился Сеня.
Азарт все дальше гнал грибников, лес закружил, они пробирались сквозь низкорослый ельник, быстрым шагом проходили просеки. Через несколько часов они так устали, что улеглись на сухой поляне, и Москалев, лежа на спине, смотрел на ясное осеннее небо с легкими перистыми облаками, на вершины сосен и впервые здесь, на берегу, почувствовал радужную гармонию мира, света и разумность всего происходящего. Покой этих мест опрокидывал ежедневные сомнения и раздумья. Сколько раз именно такой осенний лес видится в далеком рейсе!
Москалев достал из сумки еду, густо посолил свежие зеленые огурцы, нарезал колбасу, открыл банку шпрот, и они съели это все без остатка. Потом они долго бродили вдоль придорожной канавы, засыпанной палыми листьями, под которыми уютно примостились свинушки, и так увлеклись, что не сразу заметили, как вышли к дюнам. Горы желтого песка начинались отсюда и спускались полого вниз туда, где неумолчно волновалось Балтийское море. Песок тонко скрипел под ногами, идти становилось все труднее, Сеня остался сзади, а Москалев остановился на самой вершине дюны. Внизу, насколько хватало глаз, открывалось море, спокойное и светлое, с барашками пологих волн и криками чаек. Вдали два суденышка крутились у вешек, отмечавших места ставных неводов, и Москалев всматривался в них, стараясь определить, когда они начнут выборку сетей.
А утром в понедельник Москалев поднимался по трапу на «Антей», впервые не как капитан, а как инспектор, который должен дать оценку работе капитана и штурманов в рейсе. Траулер, только что вернувшийся с промысла, заслоненный огромными транспортами, прижался к причалу в самом дальнем углу порта, и первое, что поразило Москалева, — это обшивка, помятая так, что видны были шпангоуты, как ребра у исхудавшей лошади, и рубка, покрашенная только наполовину. Надвинув на глаза форменную фуражку, он медленно поднялся по трапу мимо бородатого вахтенного в тулупе, вдоль тралов, приготовленных к сдаче, по привычным ступенькам прошел вверх в каюту капитана.
Капитан, совсем молодой, стройный, с черными бакенбардами, поднялся из-за стола, и они обменялись рукопожатиями. Москалева он совсем не знал. Москалев сел на свое любимое место на диване у карты, вдохнул привычный запах своей каюты и прикрыл глаза.
— Вот судовые журналы, — сказал капитан «Антея», — акты водолазного осмотра, отчеты, регистровские документы. Что вам будет еще угодно, скажите.
Москалев перелистал журналы, в коротких записях между строк ему отчетливо виделся рейс — все вахты, удачи и проловы, сдача грузов, перебежки в поисках рыбы из квадрата в квадрат, заходы, — и все-таки он не нашел то, что явно должно было быть зафиксировано, и не одной строчкой, а кипой объяснительных.
— Где вы так помяли обшивку? — спросил он, оторвавшись от бумаг, и посмотрел на юношу, полудремавшего за столом.
Этот юноша был капитаном, и его года не давали повода для скидки: если ему доверили траулер, значит, он прошел свой путь к мостику.
— Обшивку? Видимо, это раньше, до меня, я ведь первый рейс на нем.
— Поднимите журнал прошлых рейсов, — сказал Москалев.
Он старался говорить мягко, спокойно, призвав на помощь всю выдержку. «Нельзя быть слишком строгим, успокойся, — сказал он сам себе, — в тебе просто говорит обида, борт помять может любой. Ты же знаешь, какие бывают швартовки к базам».
— Не надо, — согласился капитан «Антея». — Не надо журналов. Был навал на «Кронштадтскую славу».
— Пишите объяснение, — сказал Москалев.
Он ни разу не повысил голос, но все время ему казалось, что он излишне придирается, что капитан еще молод, и что надо смягчить все, и что вряд ли здесь есть чья-то вина. Иногда даже в полный штиль неожиданно приходит одиночная волна. Спокойно стоишь у базы, и вдруг траулер подбрасывает вверх, вровень с рубкой, а потом вниз и бьет по борту базы, как баскетбольный мяч по щиту.
Москалев ушел с судна, не заходя в другие каюты. Он нес в портфеле беду для «Антея», бумажки, которые смажут успех рейса, пятном падут не только на этого юношу с бакенбардами, но и на боцмана, и на старпома Евстигнеевича, может быть, на Веню Волохова, если была его вахта, и вообще на штурманскую службу. Москалев поймал себя на желании разжать пальцы. Портфель пойдет на дно сразу, захватить багром его не успеют, а если успеют, маслянистая вода превратит бумажки в ничто, и кому охота разбираться, был навал или нет. Судоремонтники вырежут помятые места, где надо — заварят, погреют горелками, постучат кувалдами. Потом покрасят так, что и следа не останется от вмятин.
— Понятно, — сказал главный капитан, прочитав акт осмотра «Антея». — Значит, усматриваете вину капитана?
Москалев стоял, повернувшись к окну, и смотрел на безлюдную площадь, где дождь пузырил лужи.
— Можете послать другого инспектора, — ответил Москалев.
— Не горячитесь, — сказал главный капитан, взял со стола акт осмотра, приподнял его двумя пальцами и смахнул в при открытый ящик стола.
После работы жена просила зайти за ней в школу. В просторных коридорах гулкого здания с высокими потолками Москалева окружили шум, беготня, резкие крики, смех. Казалось, он попал совсем в другой мир, не знающий ни минуты покоя и находящийся в постоянном и беспорядочном вращении. Но прозвенел звонок, и мигом все стихло, а из учительской медленной походкой двинулись учителя с кипами тетрадей под мышкой, с портфелями, глобусами, указками. Он дождался, когда они пройдут каждый в свой класс, и зашел в учительскую.
Рита сразу увидела его, сказала, чтобы он немного подождал, и продолжала что-то говорить пацану лет четырнадцати. Он был на добрую голову выше ее и стоял сбычившись, красный и взъерошенный.
— Представляешь, он уже курит, — сказала Рита, когда они спускались по лестнице.
— Я в его годы тоже покуривал, — сказал Москалев.
— Но ведь ты уже и работал в его годы, — возразила она.
На улице они внезапно попали под дождь. Небо было светлое, и ничто не предвещало дождя, он шел полосами, как будто мыл улицу, специально поливая ее, как поливают палубу во время большой корабельной приборки. Москалевы едва успели добежать до магазина, как дождь превратился в сплошной ливень.
В толпе у прилавка Антон Петрович увидел знакомое сморщенное лицо Семена Савельевича. Тот закивал и стал пробираться к нему. После знакомства с женой, обычных вопросов-ответов, Семен Савельевич сказал, что давно хотел повидать его и что очень рад, что вот так столкнулись в магазине.
— Дождь, в другое время я сюда не ходок, — сказал Семен Савельевич.
— Да и я тоже, — сказал Москалев.
Они отошли в сторону, за окном поднялся ветер, было видно, как он рябит лужи и вырывает зонтики у женщин.
— Самое главное, что я хочу сказать, пришли бумаги из инспекции по вашему случаю на «Антее», — сказал Семен Савельевич.
Москалев промолчал. Лицо у него было такое же, как всегда. Сухое, костистое. Разве что чуть бледнее, чем обыкновенно.
— Вы не виноваты! — возбужденно шептал старик. — Только бы Ефимов вам не подпортил. Он ведь за это строгача схлопотал. Может припомнить.
В службе все шло обычным чередом: главный капитан с утра сидел у начальника, Дарвин мыл во дворе машину, картограф читал свежую газету, комнату еще не успели наполнить дымом и колесо рабочего дня едва трогалось с места. Служба продолжала свою работу, флот на промысле делал свою.
Москалев решил пойти к начальнику управления. Пусть «пошевелят» Ефимова и оформляют как можно быстрее на судно.
Кончилось диспетчерское совещание. Зазвонили телефоны, отдел наполнился людьми, и через час, когда главный капитан распределил всем работу, расставил штурманов, переговорил с представителями портнадзора; он наконец оторвался от стола и заметил Москалева:
— В чем дело? Почему здесь? Для личных вопросов есть другое время! — и снова уткнулся в бумаги.
Партком занимал почти весь пятый этаж. Начинался он с просторного зала, где проходили собрания и семинары, а дальше прямо из этого зала можно было пройти к двум кабинетам, в меньшем из них сидела седоволосая женщина, ведавшая сектором партучета. Двери к ней никогда не закрывались, всегда здесь было полно народу — первые помощники с возвратившихся судов сдавали взносы, сверяли карточки, получали кипы плакатов — наглядную агитацию.
Сразу за этой комнатой был кабинет Власенко. Секретарь парткома управления Виктор Александрович Власенко четыре года ходил штурманом на танкерах, а потом его уговорили перейти в реффлот комсоргом, и с тех пор вот уже больше десяти лет он был на партийной работе. Москалев не раз встречался с ним на промысле, куда Власенко выходил на плавбазах с различными комиссиями. Власенко был неразговорчив и старался вмешиваться в события только в исключительных случаях, не давал зеленой улицы «рекордсменам», не корил мелкими попреками отстающих, но на флоте знали: слово Власенко — закон. Он старался не пропускать отходных собраний, приходил на суда, молча наблюдал суматоху последних погрузок и оформлений, потом садился в кают-компании, и люди шли туда перекурить, поговорить о жизни. Уходил он по трапу последним из провожающих и на прощание обычно говорил: «Чтобы на рыбе вам сидеть весь рейс, славяне!»
Когда Москалев вошел в кабинет, Власенко поднялся ему навстречу и пододвинул черное кожаное кресло.
— Садись, капитан, в ногах правды не бывает, — предложил он.
Москалев понял, что разговор будет длинным, уселся поудобнее и вытащил сигареты.
— Давай и я задымлю. — Власенко потянулся к пачке.
Они поговорили о погоде, потом о том, как плохо сейчас стало с выгрузкой на Северо-Западе.
— Виктор Александрович, я ведь давно собирался к вам за помощью, — сказал Москалев и постарался как можно спокойнее и короче изложить суть дела.
— Так вот, Антон Петрович, — сказал Власенко, — сейчас все документы у Ефимова. Там полный порядок, проволочек не будет. Начальник управления запрос специальный делал в Москву. Вины твоей никто не снимает — нарушение есть нарушение. Мы вошли с просьбой… — Власенко смотрел на него внимательно, будто впервые видел. — Ты фактически сколько на берегу? Полгода?
Москалев кивнул.
— Ну вот, я думаю, это правильно. Есть вина — есть наказание. Самоуверенность — вещь неплохая, но не всегда. Сообщил бы начальнику промрайона вовремя — не буксир, так любой другой траулер к тебе бы подскочил, не было бы всех этих перипетий. Но, думаю, свое ты получил, и справедливо. А вообще учти — капитанами разбрасываться мы не собираемся.
После этой встречи Антон Петрович твердо уверовал, что работать в службе ему осталось недолго, и теперь ему было даже как-то немного жаль главного капитана, Дарвина, инспекторов, которые притерпелись к работе на берегу, намертво кинув якорь в бумажном море.
По утрам становилось холодно, крыши покрывались инеем, беспрерывно дули порывистые ветры — приближалась зима, и было приятно думать, что ее встретишь не здесь, а где-нибудь в Центральной Атлантике, где в это время спадает жара и не надо ждать вечера, чтобы почувствовать прохладу на крыле мостика.
Через месяц закончился ремонт «Антея», судно поставили в док, заменили активный руль, выправили обшивку, и траулер ошвартовался за угольным причалом, выделяясь на фоне порыжевших водолеев белой надстройкой. У причала стояли грузовики с тралами для следующего рейса, краны подавали на борт кипы картонных коробов и связки бочек. Флаг отхода бился на мачте.
Третий штурман «Антея» Валерьянович шумел в диспетчерской, он занял сразу половину комнаты, диспетчер не знал, как его выпроводить, и был очень рад, когда туда заглянул Москалев и Валерьянович, прекратив спор, широко заулыбался, увидев своего старого капитана.
— Ну что, сегодня уходите? — спросил Москалев.
— Уйдешь тут, — сказал Валерьянович, — вот пока с этим договоришься — глотку порвешь: баржи у них для слива нет, совсем дошли.
— Ну, это мы сейчас уладим, — сказал Москалев.
— Надо бы пойти в торговый порт, там буфет работает, и за встречу, — предложил Валерьянович.
— Я на службе, — сказал Москалев, — а ты на отходе, отложим это дело.
— Какой отход! Еще капитана не назначили, — сказал Валерьянович. — Тот, молоденький, в баках, ушел, а нового пока утвердят, считай, неделю проваландаемся. Если бы вот вас — хоть завтра отходи. Да люди бы обрадовались, а то у нас сейчас все смотрят влево — как бы сорваться, держат нос по ветру, район новый, капитан — не знаем кто, первый раз такое на «Антее».
— А куда же вы своего капитана дели? — спросил Москалев.
— Сам ушел, чокнутый какой-то, подал заявление, хочет штурманом плавать, — сказал Валерьянович. — Спишусь и я, надоели мне все эти свистопляски, может, махну на новострой.
— Не мели ерунду, — сказал Москалев.
Он не представлял «Антея» без Валерьяновича и знал, что третий штурман не променяет свой траулер ни на какие новострой. Если уж штурманы, начнут бегать, искать выгоду, что тогда делать матросам? Антон Петрович не любил, когда менялся экипаж. Перед каждым рейсом он не уходил из отдела кадров, пока не добивался, чтобы в судовую роль включили всех, кого возможно, из прежнего экипажа. В кадрах, зная его настойчивость и бесполезность споров с ним, сдавались, и, хотя людей не хватало для других отходящих судов, матросов старались не дергать, не говоря уже о штурманах и механиках.
— Не кипятись, Валерьянович, — сказал Москалев, — все будет в порядке.
— Вон, видите, — Валерьянович показал в сторону двадцатого причала, — это «Балашово». Наш капитан там вторым сейчас, под выгрузку стали.
Они расстались у ремонтных мастерских. Валерьянович пошел на станцию испытания спасательных плотов, а Москалев вдоль причальной линии в сторону «Балашово».
На нем выгружали рыбу, белый парок вился над трюмами, короба с яркими этикетками медленно плыли в воздухе, сложенные один к одному, сжатые стропами. Выгрузка шла сразу из носовых и кормовых трюмов, тут же у борта стоял длинный ряд вагонов, и грузчики в зеленых ватниках швыряли короба по цепочке. Москалев пролез под вагоном и у самого борта почти столкнулся с бывшим капитаном «Антея». На «Балашово» они поднялись вместе. Темнело, в рубке был погашен свет, мерцали тускло огни судовых радиостанций, в широкие окна была видна освещенная люстрами палуба и огни стоящих рядом судов.
— Значит, решили уйти сами? Почему? Судно ведь на отходе, — сказал Москалев, подходя вплотную к бывшему капитану «Антея». В полумраке лицо молодого штурмана казалось зеленоватым и узким из-за бакенбардов.
— Я не смогу вернуться назад.
— Из-за меня?
— И из-за вас тоже. Команда ждет вас. Люди.
— Не надо устраивать детский сад. — Москалев резко шагнул к выходу из рубки, с силой отодвинул задрайку и вышел на палубу.
С утра Антон Петрович решил поговорить с начальником управления. Но шло диспетчерское совещание, и в этот раз оно затянулось до десяти часов, потому что в порту скопилось много судов; после совещания в кабинете остались доругиваться начальник отдела кадров и капитан «Омска», потом пришли какие-то представители института, потом командированный из Севастополя. Секретарша, маленькая, сморщенная женщина, тщетно пыталась заслонить дверь кабинета, и когда проскользнул в дверь начальник планового отдела с кучей радиограмм, Москалев решил не ждать и протиснулся под причитания секретарши вслед за ним.
— Что же вы, товарищи? Он занят. У него представители главка! Что же вы делаете?
Начальник управления был окружен с трех сторон. Двое подвижных, похожих друг на друга как близнецы представителей института требовали провести испытания рыбонасосной установки. Проверяющий из главка, который чувствовал себя в кабинете почти хозяином, сидел, закинув ногу на ногу так, что его красный носок оказался на уровне кромки стола. Командированный из Севастополя беспрерывно вытаскивал из портфеля бумаги. И бумаги эти ложились на стол как ленты, доставаемые фокусником из пустого цилиндра. Теперь и плановик, оттеснив командированного, приник к самому уху начальника.
Москалев встал у окна, выжидая промежуток, заминку, чтобы его заметили, чтобы можно было начать разговор.
Начальник подписывал радиограммы, слушая, что ему нашептывал плановик, кивал и поддакивал рассказам близнецов о рыбонасосах.
— Мы вам можем дать шестерни, вы нам — блоки, вот доверенность, вот письмо с гарантией оплаты, вот заказные ведомости, — скороговоркой говорил командированный.
— Вы не представляете, что это вам даст, вы даже подумать не можете об этом, это не чета норвежским насосам, норвежские — да они фарш вместо рыбы будут гнать, — говорил один из близнецов.
— Деньги на ветер, вот что, — сказал проверяющий из главка.
И тут начальник поднял узкое лицо от стола, пригладил короткие седые волосы и заметил Москалева.
— Кстати, очень кстати, — сказал он. — Вот капитан скажет, нужен вам рыбонасос?
— Без сомнения, — сказал Москалев и тут же, чтобы не пропустить момент, пока на него обратили внимание, подошел вплотную к столу, — «Антей» без капитана.
— Знаю, знаю, — сказал начальник. — Туда сегодня утром вернулся прежний капитан, но почему-то он настаивает, что пойдет старпомом. Он, между прочим, ученик Ивана Емельяновича. Начальника главка.
— Я Ивана Емельяновича знал, когда он еще старпомом на «Полесске» ходил.
— Ну-ну, — пробурчал начальник.
— А в рейс я готов хоть сейчас, — сказал Москалев.
— И это я знаю, тут за вас ходатаев больше, чем нужно, даже Власенко звонил, — сказал начальник, — решим все, только не сразу.
— Так ведь «Антей» на отходе.
— Вот туда установку, на «Антей», — обрадовался один из близнецов.
— Знаем мы ваши установки! — сказал представитель главка.
И в это время в кабинет вошли сразу один за другим человек двадцать, заполнили все, заняли стулья, диван, окружили стол, заговорили все разом — начиналось очередное совещание.
В коридоре вдоль стены стоял ряд сбитых между собой кресел, как в кинозале. Москалев сел, закурил. Шумно переговаривались проходящие мимо люди, бегали девушки с кипами бумаг и нарядов, проходили в мокрых плащах и беретах незнакомые люди. Видимо, дождь на улице, который с утра только накрапывал, хлынул на совесть. Около стенда новаторов производства главный бухгалтер, зажатый в угол снабженцами, подписывал накладные, секретарша металась в поисках диспетчера. Все гудело, шаркало, куда-то передвигалось, текло и рассеивалось по кабинетам. Москалев не замечал ничего, прикрыл глаза и втягивал дым. Капитана на «Антей» так вот сразу не найти. Наверное, сейчас Дарвин мечется по городу, объезжая отпускников. Но кого он найдет? Кому хочется сейчас сидеть в дождливом городе, если на юге еще можно греться у моря? Москалев перебрал в памяти всех свободных капитанов, и оказалось, что, во-первых, их не так много, а во-вторых, никого из них он не встречал в городе в последние дни. Значит, просто нет выбора, так почему же начальник сразу не сказал «да»? Может, он не знает положения или думает, что в резерве полно капитанов? Но пусть убедится сам, что в резерве пусто. Жалко времени, за эти часы можно было бы принять судно, самому оформить паспорт, связаться с портовыми властями, отыграть тревоги. Хорошо, если новый старпом на борту, если он разворачивается и делает свое дело. А потом обязательно надо посмотреть состав команды. Вчера в кадрах Москалев встретил Матвея Ивановича, старого своего матроса. Таких, как он, чтобы плавали подряд двадцать лет, днем с огнем не сыщешь, сейчас матрос идет на два-три рейса, за эти рейсы его можно, конечно, обучить, но самое обидное, что он уходит тогда, когда как раз становится настоящим матросом. А Матвей Иванович знал на судне все специальности, он так же легко заплетал тросы, как и стоял на руле, мог всегда заменить боцмана и был столяром высокого класса. Он как раз вышел из отпуска и наверняка еще не получил назначения.
Москалев увидел его в толпе резервистов в огромном коридоре перед отделом кадров. Матвей Иванович был ростом добрых два метра, и его красное обветренное кривоносое лицо плыло над головами. Он тоже увидел капитана и крикнул так, вполсилы:
— Антон Петрович!
Он даже, может быть, не крикнул, а просто сказал, но вышло это при его басе так, что все обернулись, расступились, образовав проход для них. И Антон Петрович сказал:
— Рад видеть вас, Матвей Иванович. С приходом или отходом, с чем поздравить?
— Пока ни с чем, сегодня из отпуска.
— И куда?
— Мне все одно, я уже на всех наших судах отмолотил, конечно, к вам бы… — Тут Матвей Иванович закашлялся, понял, что сказал что-то не то, и спросил: — А ведь вы теперь напрочно на службе?
— На якоре, — сказал Москалев. — Заходи ко мне домой. Помнишь где?
Очень жаль, подумал Москалев, что тогда не договорились твердо, попробуй сейчас заверни Матвея Ивановича на «Антей», если ему дали назначение на другой пароход. И хорошо бы уговорить второго механика Старкова не брать отпуск, всегда себя чувствуешь твердо, когда уверен в механиках, капитану и без двигунов полно хлопот, а в машине все должно работать четко, чтобы даже не думать, что там у тебя стучит и пыхтит, какие поршни ходят, в каких подшипниках валы крутятся. И Москалеву вспомнилось, как на «Кашалоте», когда ходили к Фарерам, задрало и подплавило подшипники и как Старков, весь почерневший, ночами сидел в машине и растачивал вкладыши. И когда Москалев спросил, что, может быть, стоит подойти к базе, попросить ремонтников, то Старков обиделся и сказал: «Не надо, капитан, в машину спускаться. Утром будет полный ход, и точка».
И нужен настоящий старпом, неизвестно, что представляет из себя ученик Ивана Емельяновича. Надо посмотреть в работе, на швартовках, на выходе на косяк, и если понадобится, то учить незаметно, без излишней опеки. А в общем-то, он, видимо, парень стоящий, если его нисколько не подпортило преждевременное капитанство.
Порт не знал перерывов в работе, и ночи его были заполнены отходами и перешвартовками, пожалуй, даже плотнее, чем дни. Много раз говорили о том, что все надо организовывать в светлое время суток, но так уж складывалось, что отходы затягивались допоздна, и наибольшее их число выпадало на промежуток с двадцати трех до нуля. В это время, когда начальники, успокоенные диспетчерами и наблюдающими, дремали у телевизоров или пили чай перед сном, в порту кипела работа. Полусонные представители пожарников, регистра, портнадзора, утомленные суетой дня, ставили последние подписи. Пограничники в зеленых фуражках, позевывая, спускались по трапам, и на смену им поднимались лоцманы в кожаных пальто. Буксиры, простоявшие весь день в напрасном ожидании у борта, сипло ревели, матросы скидывали в воду швартовы и поднимались на борт.
Москалев добрался в порт вечером на попутке. Молчаливый грузный человек за рулем вел машину с предельной скоростью, женщина дремала у него на плече, волосы женщины заполняли всю спинку сиденья. Из двух или трех фраз, которые они сказали, Москалев узнал, что человек спешил на отходящее судно и что назад машину должна вести женщина, у которой нет шоферских прав.
Он поблагодарил и отошел от машины сразу, чтобы не мешать прощанию. Если бы Рита знала, она тоже примчалась бы в порт, но зачем волновать ее заранее, когда все не ясно. Она, конечно, привыкла к внезапным отходам, но теперь это будет тяжелее.
Москалев прошел к проходной мимо большого бронзового якоря. Металл, блестящий от воды, был освещен прожектором, в луче которого дробились и просеивались нити дождя. Огромное тело якоря тянулось вверх и, казалось, невидимой цепью было подвешено к высокобортному небесному лайнеру. За проходной начиналось асфальтированное шоссе с журчащими потоками дождевых ручьев по краям. Шоссе, окруженное цехами завода, холодильниками, пакгаузами, уходило влево к заливу, и там, в дожде, по мерцающим разноцветным огням угадывались причалы. Среди этих огней двигались два: красный и белый. «Вдруг это «Антей»?» — испугался Москалев и остановился.
Вода в заливе подошла к самому краю свай, борта траулеров и плавбаз высоко поднялись над уровнем причалов и блестели, как рыцарские доспехи. Рельсы подкранового пути ровными стальными полосами уходили в темноту, туда, где высилось девятиэтажное здание холодильника.
Москалев прошел мимо доков и вышел к двадцатому причалу, где должен был стоять «Антей». Здесь в строю плотно прижатых один к другому корпусов была прогалина, темнота залива врывалась в нее, и тусклые огни поселка виднелись на том берегу канала. Москалев долго стоял у этого темного разрыва и смотрел на вязкую вздрагивающую от беспрерывного дождя воду. Он промок, вода проникла под плащ, за шиворот, штаны облепили ноги, волосы слиплись, набухли ботинки.
Неужели «Антей» ушел, успел уйти, пока велись переговоры, пока пришлось ждать конца дня, чтобы поговорить с начальником наедине? Ушел в те часы, когда он на такси метался между конторой и портом, чтобы убедиться, что цел морской паспорт, что даже прописку не надо менять, он прописан по последнему рейсу на «Антее»? Зачем тогда вся эта игра, зачем эти обещания час назад в пустом кабинете?
— Подумайте до завтра, я хотел бы, чтобы вы решили правильно. — Начальник управления сидел, согнувшись вперед, почти лежал телом на столе, выставив скрещенные пальцы рук. Яркие лампы дневного света освещали его белое узкое лицо. Он говорил очень убедительно, надо отдать ему должное, он умел говорить.
Москалев не мог найти зацепки для возражений, в его словах все было правильно. Блестели золотые капельки запонок на безупречно чистых манжетах, узел галстука слегка ослаблен, пиджак расстегнут. Тонкое, почти незаметное кольцо на безымянном пальце.
— Берег вам был как расплата за вашу ошибку, просчет. Свое вы получили. А теперь подойдите к этому делу по-другому. Вы здесь много нужнее, чем на промысле: там у вас одно судно, а здесь — десятки. Подумайте до завтра. «Антей» от вас не уйдет, а здесь я вам гарантирую полную поддержку!
Ветер ворвался в порт. Холодный ветер с норда дул между строем судов и стенами пакгаузов сильными порывами, так что казалось — попал в аэродинамическую трубу. Было трудно идти и еще труднее угадывать лужи в темноте, и тогда Москалев выбрался на подкрановые пути и засеменил по шпалам. Слева вдоль причалов застыли в дожде борта плавбаз и рефрижераторов. Вряд ли в такую погоду дают «добро» на выход, а если удалось уйти днем, то это тоже не лучший вариант, в такую погоду лучше совсем не выходить или быть дальше от берега. В открытом море ветер не так страшен, как в узкостях канала. Неужели «Антей» сейчас идет каналом? Москалев вышел к месту, где кончились причальные линии и высился круглый маяк, свет которого то вспыхивал, вырывая из темноты небо в темных клочковатых тучах, то гас, погружая пространство в еще большую темноту, густую и плотную, почти ощутимую настолько, что, казалось, бесполезно двигаться — перед тобой стена.
В диспетчерскую вела крутая лестница, похожая на трап. Медные перила, надраенные до блеска, металлические решетки ступенек. Ветер, ночь, моросящий дождь исчезли, крепкие кирпичные стены поглотили звуки, в здании, казалось, все вымерло. Москалев остановился и вытер лицо, платок тотчас стал мокрым. Из приоткрытой двери на шестом этаже доносились голоса. Он вошел в огромную комнату, уставленную светящимися пультами и заполненную стрекочущими телетайпами. Вода, стекая с плаща, образовала лужу у его ног.
Две женщины в одинаковых зеленых платьях дремали, подперев головы ладонями. Горбоносый человек с усиками, по-видимому диспетчер, размахивал руками и спорил с грузным пожилым лоцманом. Выждав промежуток в их споре, Москалев спросил про «Антей».
Диспетчер отошел от лоцмана и набросился на Москалева:
— «Антей», «Антей»! — закричал он. — Что у вас за контора? Когда будет порядок? Благодарите, что ветер, можно свалить все на ветер, а если было бы тихо? Куда бы ушел ваш «Антей»? До сих пор нет судовой роли, до сих пор нет капитана! Не известно, когда давать воду, сегодня уговорили подогнать баржу, переставили ваш «Антей» на отходный причал, а они стоят — и хоть бы что! И начальство все спит спокойно!
— Успокойтесь, — сказал Москалев. — Закажите буксиры и лоцмана на утро. И сообщите прогноз. Воду и топливо возьмем сегодня.
Москалев присел на стул, расстегнул мокрый плащ и только теперь почувствовал, как он устал, и подумал, что утром никто не сможет заставить его покинуть «Антей». А сейчас предстоит суматошная ночь перед отходом и придется наверстывать все, что было упущено.
М. Рейтман ПЕРВЫЙ
Он дает команды первым: Скорость, глубина и курс, На ученьях ли, маневрах — Первый залп! Атака! Пуск!.. Он — душа морских традиций. Там, где он, — там главный пост… Первым он за стол садится, В праздник скажет первый тост. …Но когда в бою неравном Красный дым над кораблем, Корабля сквозные раны Опоясаны огнем И, ломая когти-гребни, Волны лезут на спардек — Покидает борт последним Этот первый человек.М. Волков МОРЕХОДАМ
Залив не спал, он, как старик, ворчал, Встревоженный гудками пароходов. Надолго покидали мы причал, Горел маяк — гигантская свеча, Зажженная во славу мореходов. Вдали, как нож, — песчаная коса, Прибоем волн отточенная остро. Где кипень брызг уходит в небеса И облаков тугие паруса Наполнены дыханием норд-оста. Хотелось мне запомнить навсегда, Отбросив мыслей повседневных путы, Как бьется в борт упрямая вода, Как растворится темных скал гряда И ночь, вздыхая, встанет у каюты.Н. Суслович УТРО НА РЕЙДЕ
Почистив палубу песком, Лучами добрыми согреты, Надев тельняшки и береты, Встаем вдоль борта босиком. Подошвы наши холодят Чуть свет прошвабренные доски, И гюйсов светлые полоски На утренний залив глядят. Наш горизонт, как первый лист, — На нем ни тучек, ни морщинок. Стоим, безусые мужчины, И слышим, как поет горнист. Дежурного чеканный шаг, Спокойный голос командира. Над нами — посредине мира — На гафеле взметнулся флаг. А впереди гудят года, Валы гуляют в пенной гриве, И я не знаю, что счастливей Уже не стану никогда.В. Тюрин ЕСТЬ У МОРЯ СВОИ ЗАКОНЫ Рассказ
…И кружится у слабых голова.
Г. ПоженянС севера их не шибко большой остров круто обрывался в море. Здесь день и ночь с тихим шумом волны облизывали нагромождения здоровенных окатистых булыжников. А с другой стороны, с южной, в островок воткнулась бухточка. В ней среди лохматых водорослей густо хороводилась мелочишка трески и пикши. Тут же в затишке паслись длинноногие крабы, подстерегая зазевавшуюся рыбью молодь.
В эту бухточку и ходил Костя на рыбалку. «За свежачком» — как говорил старшина первой статьи Дородный. Костя ставил две удочки, нанизывал на них кусочки соленой до жути селедки и за час-полтора набрасывал ведерко некрупной тресочки на ужин. Больше не требовалось: сколько могут съесть четыре человека? А кроме них, матросов, на острове больше никого не было.
Окончив рыбалку, Костя не спешил на камбуз. Ему нравилось, забравшись на плоскую, как столешница, макушку острова, лежать в мягкой пепельно-белой перине ягельника и подолгу глядеть на стылое свинцовое море. Иногда ему везло: мимо острова, глухо гудя дизелями, проходили подводные лодки. Они шли настолько близко, что Костя даже мог рассмотреть лица людей, стоявших наверху рубки.
Не было в эти минуты человека на свете несчастнее его. Сосущая зависть к подводникам и горечь обиды на то, что он не с ними, не на лодках, делали настолько ненавистным этот остров с его отмеренной по минутам спокойной службой, что на первых порах Костя, бывало, даже плакал злыми тоскливыми слезами.
Он со стыдом вспоминал, как прошлым летом на выпускных экзаменах в школе выбрал тему сочинения: «И сейчас есть место подвигу». Даже умудрился что-то нагородить о своей будущей героической профессии подводника. А потом засыпался на конкурсе и не попал в военно-морское училище.
Третью неделю не уходит с неба солнце, третью неделю он перед ужином ловит рыбу и третью неделю с тоской выискивает в море рубки подводных лодок.
Смотав удочки и бросив их на берегу — кто их возьмет? — он вскарабкался наверх. Ветра не было совсем, и поэтому солнце, скуповатое на тепло даже сейчас, в июле, слегка припекало. Макушка сопки окрасилась неярким разноцветьем светло-сиреневых, белых и зеленых мхов. Среди лохматых узоров то тут, то там попадались островки хрупких и совсем мелких бледно-розовых цветов. Аккуратно переступая через них, Костя дошагал до обрыва и лег. Пришел и лег просто так, по привычке. Ждать было нечего: уже два дня шли флотские учения, и все лодки были далеко в море.
Командир части, отправляя Костю на остров, предупредил:
— Имейте в виду, служба там суровая, трудная. Если не чувствуете в себе достаточно мужества, скажите сразу. Оставим вас на материке, а туда пошлем другого.
Мужество… Для чего оно здесь? Даже вот теперь во время учения, когда люди в море воюют, на острове все также вовремя едят и вовремя спят. Старший матрос Барышев, как будто ничего не происходит, по-прежнему режет дурацкие фигурки из корневищ полярной березы. А Карпенко, если случается свободная минута, строчит письма своим заочным корреспонденткам. Только и разница, что этих свободных минут стало поменьше да еще старшина пункта Дородный перетащил свою койку в аппаратную и нынешнюю ночь спал не раздеваясь. Вот и вся война… Проще апельсина и скучнее таблицы умножения.
— Ере-емииин!.. — донесся от бухточки крик Карпенко.
В голосе его различимо слышались злость и нетерпение. Это было настолько не похоже на обычно медлительного увальня Карпенко, что сердце Кости екнуло сладкой надеждой — что-то случилось! — и он опрометью полетел вниз.
— Где тебя, салагу, черти носят?! Ну-ка, бегом к старшине! Орешь… орешь…
Костя даже не подумал обидеться на «салагу». Он схватил ведро и бросился бежать, полный радостного ожидания чего-то наконец нового и необычного.
На крыльце дома, крепко связанного из толстых бревен, спокойно покуривал Дородный. Он всегда был спокоен, этот малорослый и на первый взгляд чуточку нескладный старшина. Окна дома были отворены настежь, и в одном из них слышалась скороговорка морзянки.
— Товарищ старшина…
— Посиди, — прервал его Дородный и повернулся к окну: — Ну как?
— Никак. Не отвечают. У них, видно, сейчас сеанс связи с лодками. Не до нас, — ответил ему Барышев и снова застучал ключом.
— С кем это он? С базой? — спросил Костя.
— С базой.
— А чего не по телефону?
Дородный заплевал окурок и ловким, оттренированным щелчком отправил его метра за три прямо в железную бочку.
— Кабель сожгли, деятели. Вон видишь на том острове костер? Какие-то новенькие на рыбалку приехали. Старые все знают, где там кабель проложен.
Над соседним островом вился еле заметный прозрачный дымок. Их два острова, перегораживавших вход в длинную, вроде фиорда, бухту. Один, где стоял пункт, — побольше, а другой — поменьше. Маленький стоял у самого устья шумливой говоруньи-реки, и в токе пресной воды к нему скатывалась семга. Поэтому туда частенько наведывались рыбаки. Улов, правда, не всегда был удачным, зато подальше от глаз рыбнадзора. Через маленький же от усилительного пункта проходил кабель связи для укрывшейся в глубине бухты базы подводных лодок.
В окне тонко зачастила морзянка.
— Старшина! Есть! — крикнул Барышев и тут же по-деловитому спокойно начал переводить телеграфную дробь: «Торпедоловы… все… в море… Катер… сможет… выйти… через… час… Примите… меры… срочному… восстановлению… связи…»
— Выйдет через час, да до нас час с лишним, — зло хмыкнул Дородный. — В общем, стой там, иди сюда.
— Товарищ старшина, зачем нам катер ждать? — Косте не терпелось хоть чем-то разменять тоскливое островное однообразие. — У нас же двойка есть.
— Есть… В том-то вся и беда, что есть она и нет ее. Месяца полтора назад один деятель с такого же, как у нас, пункта пошел рыбачить на двойке и утонул. Сразу приказ: запретить пользоваться шлюпками. Вот и сейчас на базе словчили — срочно примите меры, а на чем туда добираться — молчок.
Дородный достал сигарету, прикурил, посмотрел на чистое, без облачка, небо и, как будто раздумывая про себя, проговорил:
— А погода-то хороша… И до маленького острова рукой подать. Проверено — четыреста сорок семь метров. А, Кость?
Костя обрадованно вскочил:
— Разрешите выполнять?
— Чего выполнять?
— Ну там… весла нести, жилеты.
…Двойку плавно раскачивало. На море даже в самую тихую погоду не затухает зыбь. Костя греб по всем правилам. Он плавно заносил весла для гребка и резко вынимал их из воды, подсчитывая про себя: «Два-а-а… Раз! Два-а-а… раз!» Старшина, понаблюдав за Костей, удивленно спросил:
— Где это ты так наловчился?
— В учебном отряде. Загребным в призовой шлюпке был.
«Два-а-а… раз! Два-а-а… Раз!» Костя чувствовал, как упругой свежестью наливается тело.
— У меня, товарищ старшина, и по самбо первый разряд.
Костя не собирался хвастаться. Он просто на всякий случай хотел предупредить старшину — на меня, мол, можно положиться. Тем более сам-то старшина силенкой не отличался.
— Иди ты?! — откровенно изумился Дородный. — И молчал, деятель! Вот кончится «война» — учить нас будешь.
— А чего же? Конечно, буду.
Маленький остров был не только меньше большого, но и пониже, берега были поплоще. Макушку его словно топором порубило на узкие и глубокие распадки. Над одним из них легким маревом струился прозрачный дымок.
— Так и есть! Прямо на кабеле расселись! — Старшина в сердцах выругался.
На берегу острова лежала лодка с навесным мотором. Свою двойку Дородный и Костя тоже выволокли, поставили рядом и пошли на дымок.
Возле большого костра полулежали двое разомлевших мужчин — лет по тридцать. Промеж них на газете с закуской стояла початая бутылка питьевого спирта. А у подножия обструганного ветрами валуна искрились осколки другой бутылки.
Один из рыбаков, крепыш с горбатым, чуть свернутым на сторону носом, первым увидел Дородного с Костей и с откровенной радостью компанейского подвыпившего человека крикнул:
— Глянь, Саня! Флот на подмогу топает!
Саня, не тронувшись с места, через плечо подмигнул морякам.
— Привет, корешки!
— Привет, привет… — Дородный поначалу думал было напуститься на рыбаков, но, встретив этакий неожиданный прием, поостыл.
— Вы первый раз, что ли, здесь?
— Впервой… Завез нас старый сюда, а сам надрался. Вон дрыхнет. — Саня кивнул рыжей кучерявой головой на щель распадка.
Из нее торчали сапоги с крупными шляпками гвоздей на подошве и вконец сбитыми каблуками. Сам рыбак с головой зарылся в латаный полушубок. Дородный подобрался к спящему, приоткрыл ворот полушубка и вернулся к костру.
— Так это же Николай Федорович. Разве он вас не предупредил, что здесь кабель проложен? Что здесь костер жечь нельзя?
Рыбаки переглянулись.
— Н-нет… Видать, не успел. Он уже с утра поддавши был. А чего такое?
— «Чего… чего»… — передразнил Саню старшина. — Кабель нам сожгли. Вот чего. Давайте-ка заливайте костер. Ведро есть?
— Ведро? В лодке, кажись. — Горбоносый поднялся, подошел к Дородному: — Слушай, флот, ты не думай, что мы это просто так. Я тоже служил. Скажи, Сань? Мы работяги, слесаря. Понял? Рабочий класс. Сейчас поможем. Учти! Во руки! Уважаешь? Правильно… Пойдем с нами выпьем.
Старшине совсем не хотелось ссориться, и он пообещал:
— Погоди. Вот дело сделаем — тогда и выпьем. — И обернулся к Косте: — Тащи ведро.
Земли на камнях почти не было, и кабель лежал просто прикрытый толстым слоем мха. Когда разбросали костер и разрыли мох, старшина протянул:
— Да-а… — Проволочная оплетка кабеля почернела как головешка на длине чуть ли не в метр. — Поглядите, деятели, что вы натворили.
Горбоносый взглянул и присвистнул.
— Саня, пойди-ка… Паразиты мы с тобой.
Саня, не думая вставать, поддакнул:
— Ясное дело — паразиты. Иди выпьем. Как это? Птице — крылья, морякам — парус, а нам — по сто грамм.
Они перебрались в соседний распадок, подальше от моряков, еще выпили и уже через несколько минут спали. Дородный с облегчением пробурчал:
— Угомонились, помощнички…
— А вы этого, Николая, как его по отечеству, знаете?
— Знаю. Мастером по добыче рыбы работает. Хороший мужик, только зашибает часто. Стихия нашла, говорит. Сегодня верно опять стихия. Ну, давай за дело!
— Подай… принеси… подогрей… — командовал Дородный, и Костя с удовольствием подавал, приносил, грел. И вообще до чего же приятно было чувствовать себя нужным человеком, без которого не обойтись. По-домашнему мирно, точно примус, гудела паяльная лампа.
Человек, впервые летом попавший в Заполярье, не ляжет спать, когда это по часам полагается делать, так же как и не проснется в свои привычные часы. Он теряет счет времени из-за солнца, которое светит напропалую, не разбирая, день ли это кончается или уже наступает новое утро. А вот старожила не проведет ясная желтизна ночи.
Дородный, не отрываясь от работы и ни разу не посмотрев на часы, чертыхнулся:
— Черт, поздно уже. Ну ничего, скоро конец.
Он припаял к кабелю один конец сростка, натянул на него чугунную муфту и принялся паять другой конец. Костя неотрывно следил за его руками. Вот ведь, что, казалось бы, срастить кабель, он тоже умел это делать — учили в отряде. Да и дома не один год радиолюбительствовал. А чтобы вот так, как старшина, жилка в жилку, краешек в краешек… Не сумел бы.
— Здоро́во, старшо́й! — За работой да за шумом лампы они не услышали, как подошел к ним Николай Федорович. Это был уже тронутый старостью человек с отвислыми морщинистыми мешочками под глазами. Он присел рядом.
— Здоров, — буркнул в ответ Дородный.
— Мои? — Николай Федорович кивнул на кабель.
— Твои.
— Не успел предупредить.
— Стихия?
— Она, зараза. Третий день уже.
Помолчали. Николай Федорович увидел осколки стекла у валуна и покачал головой.
— Нагадили. Ровно завтра помирать собираются.
Посидев еще немного, он молча поднялся и, потягиваясь на ходу, отправился за валун. Однако тут же вернулся.
— Эй, старшо́й, подь-ка сюда!
— Чего тебе?
— Я говорю — подь! — Голос его был полон тревоги.
Дородный, а вслед за ним и Костя подошли к рыбаку.
— Вон он шторм идет. — Николай Федорович ткнул пальцем на северо-восток.
Оттуда из-за горизонта серыми рваными лохмотьями прямо на них летели обрывки низких туч. Опережая их, пока еще далекие, но уже различимые глазом, забелели на воде первые барашки.
— Сейчас тут будет. Тикать надо. Своих будить побегу.
Дородный досадливо плюнул:
— Чтоб тебя! Не успели! Еще бы каких-нибудь полчасика…
Костя пока толком не понимал, чего забеспокоились старик и Дородный.
— А может, успеем?
— Черта с два ты успеешь. Видишь, откуда дует? Через пятнадцать минут такое начнется, что… — и вздохнул: — Теперь здесь загорать придется. Хорошо хоть, бушлаты догадались с собой взять. Аа-а, ладно, пошли работу кончать.
Горизонт пропал. Его заволокло тугой мокрой мглой. Первый порыв студеного ветра долетел до острова. Костя зябко вздрогнул, сунул руки в карманы и как-то совсем невзначай позавидовал Барышеву и Карпенко.
Николай Федорович пытался добудиться своих друзей. Он тряс их за плечи, колотил сапогом по пяткам. Но те пригрелись, разоспались и в ответ на все его старания только бормотали что-то невнятное. Наконец проснулся вихрастый Саня. Он сел, не разлепляя глаз, помотал головой и поежился.
— Проснись, Саня! Беда!
— Какая тебе еще беда? — недовольно проворчал Саня и мгновенно вскочил.
Море, лишь недавно катившее неслышную зыбь, угрюмо встопорщилось седыми от ветра волнами. Хмурое клочковатое небо пласталось почти по самой воде. Оно окутало, скрыло от глаз большого острова, сопки на недалеком материковом берегу, и казалось, что во всем мире остался только этот островок и на нем они, пятеро.
Саня осмотрелся, не понимая, что происходит, и вдруг испугался. Он растерянно спросил Николая Федоровича:
— А… как же?.. Как же мы?!
Старик знал, что теперь отсюда никуда не денешься. Прислонившись к камню, он неторопливо и обстоятельно разминал «беломорину».
— Завез, старый!.. — взъярился Саня. — Лодка! Лодка где?!
Он метнулся было бежать, но Николай Федорович ухватил его за рукав телогрейки.
— Куда тебя понесло?! Жизнь, что ли, в тягость стала?
Саня вырвался из цепких пальцев старика, отошел в сторону и сел, обхватив голову руками.
«И дурак ты вроде не дурак, — продолжал про себя Николай Федорович. — И умным тебя не назовешь. Гусь тоже нашелся… Этак я еще даве мог плюнуть на вас обоих и утикать один. Тем паче лодке хозяин я».
Работа подходила к концу. Дородный и Костя залили муфту мастикой, вновь укрыли кабель мхом, собрали инструмент и только теперь почувствовали, как похолодало. Вокруг потемнело, засвинцовело, и никак невозможно было поверить, что еще час тому назад было ясное небо и их ласкало солнце.
Ветер нес крупные хлопья не то полузамерзшего дождя, не то полурастаявшего снега.
— Да, Костя, влипли мы с тобой в историю, — улыбнулся Дородный. За три года службы на острове насмотрелся он всякого и привык ко всему. Беспокоило его только одно: как там ребята на пункте? Справятся ли с вахтой без него?
Ветер донес горький аромат дыма. Даже от одного его запаха стало как-то теплее, пахнуло жильем, человеком. Дородный поднял сумку с инструментом и обрадованно сказал:
— Молотки. Снова запалили. Побежим греться.
В расщелине скалы, закрытой с севера осыпью обрушившихся камней, рыбаки разожгли небольшой костерок. Здесь не пронизывало ветром, хотя тоже было холодно и сверху падали рыхлые мокрые хлопья.
Горбоносый, замерзнув со сна, жался поближе к огню.
— И вы здесь? — с откровенным огорчением удивился он.
— А я тебе о чем толкую? — недовольно поморщился Саня.
И все трое сразу примолкли. Дородный бросил сумку к костру и сел на нее. Костя устроился рядом. У костра установилось молчание. Оно было трудным, гнетущим. Дородный и Костя поняли, что до них здесь шел какой-то крупный разговор.
Николай Федорович покряхтел, устраиваясь поудобнее, распрямил затекшие ноги и потер колени:
— Как погода ломается, стонут, треклятые… Ну, вот что, мужики, я старше вас всех и не первый десяток лет на Севере. Слушайте меня внимательно. Задуло крепко, в одни сутки не кончится. Бывает и по неделе такое.
Старик помолчал, потер колени, а у Кости от его слов опять засаднила мысль о тепле, оставленном там, на пункте.
— Харчей небось с собой не захватили? — спросил Николай Федорович Дородного, заранее зная, что спрашивает впустую. — Законно. Откуда было угадать, что случится такое. — Он развязал свой рюкзак, осторожно вынул из него непочатую бутылку спирта, отставил ее в сторону, а все остальное вывалил перед собой. Большой кус соленой семги в белой ветошке, несколько картофелин, сваренных в мундире, полкруга колбасы, хлеб и флягу с водой. — Сыпь у кого что есть! — приказал он.
Горбоносый опрокинул свой чемоданчик и хмуро пошутил:
— Этим… Зиганшину и его ребятам легче было: баяном питались. А у нас только сапоги. Суп-лапша домашняя из голенищ. Слушай-ка, Саня, ты вроде не имел привычки сапоги мазать гуталином? А то от моих на версту воняет. В заправку не пойдут.
Саня не слушал. Он медленно шуровал в рюкзаке. Не торопясь вынимал один за другим свертки. Последней извлек бутылку со спиртом, взболтнул, посмотрел сквозь нее на свет и сунул рюкзак за спину.
— Все.
Николай Федорович сгреб продукты в кучу и спросил, обращаясь сразу ко всем:
— Кому, мужики, харч доверим? — Никто не ответил. — А? Старшо́й?
— Да что я, Николай Федорович? Мы с Костей иждивенцы.
— Из головы брось, — осерчал старик.
— А чего тут думать? Давай хозяйствуй, Федорыч. Ты нас сюда привез, ты и корми. — Горбоносый взял стариков рюкзак и начал запихивать в него небогатые припасы.
— Делить буду на пять ден. Там, бог даст, распогодится. Вот только с водицей туго. — Николай Федорович кивнул на свою и горбоносого фляги. — Литра полтора, больше не будет. Придется терпеть, мужики.
Он натуго завязал рюкзак, взял бутылку со спиртом, поласкал ее в бугристой ладони:
— Э-эх, голуба… — и, широко размахнувшись, забросил ее далеко в волны. Наклонился за другой.
— Ты чего это, старый? — Саня даже подскочил. — Никак, чокнулся?
— После его впятеро больше на воду тянет. А так соблазну не будет.
Костя только теперь понял, что засели они тут всерьез и надолго. Не будь это так — кто же станет выбрасывать спирт? И Костя почувствовал, как в его душу закрался колючий страх. От этого стало еще холоднее и бесприютней.
Саня молчком поднялся, прихватил рюкзак и ушел, а минут через двадцать вернулся с охапкой мха. Им был набит и рюкзак. Когда он разгрузился, Николай Федорович попросил:
— Дай-ка рюкзачок. — И тоже отправился промышлять себе на постель.
Костя прислушивался к тоскливому завыванию ветра над головой и все никак не мог заставить себя вылезти из расщелины. Еще минуточку… Еще… Его сковало какое-то странное оцепенение. Знал, что надо идти за мхом, знал, что рано или поздно пойдет, но еще минуточку… еще…
Уже вернулся и, подсушив мох, свернулся калачиком на мягкой подстилке горбоносый:
— Знать бы такое дело — картишки захватил бы.
Принес мох и Дородный. Бросив его, он подсел к Косте, обнял его за плечи и встряхнул:
— Ты чего это, Костя? Хочешь, пойдем вместе?
— Нет. Я сейчас. Один.
Как только он по камням выбрался наверх, слякотный, промозглый ветер сразу же облепил все тело, пробравшись даже сквозь бушлат. На голове под беретом свело кожу. Желание сейчас же, сию же секунду скатиться обратно к костру было настолько мучительно нестерпимым, что Костя, испугавшись его, побежал навстречу ветру подальше от тепла. Здесь он упал на колени и начал торопливо, жадно захватывая в горсть побольше, рвать мох. Скорее, скорее, скорее! Он не заметил, что насквозь промочил брюки и что за его спиной стоит и посмеивается с полным рюкзаком мха в руках Дородный.
— Может, хватит, Кость? Настрогал ты столько, что и десятерым не унести.
От неожиданности Костя вздрогнул, распрямился, подставив ветру лицо, и вдруг совершенно неожиданно почувствовал: а ведь вроде и не холодно. То ли от того, что работал, то ли от того, что он не один.
Николай Федорович встретил их храпом. Как и давеча в распадке, спал старик, с головой завернувшись в полушубок. «Пар костей не ломит», — любил говорить он и никогда, даже в самую теплую летнюю пору, не выезжал на рыбалку без своей латаной-перелатаной, прожженной овчины.
Саня и горбоносый маялись, тоже пытаясь заснуть. Одежонка у них — телогрейки — пожиже полушубка, и поэтому лежали они скрючившись, уткнув носы в колени. Спины пекло жаром костра, а в лицо стыло дышали камни.
Мох словно губка пропитался влагой. Костя разложил его на просушку поближе к костру, а сам присел на корточки, глядя на языки пламени. Удивительное дело: он впервые по-настоящему увидел костер. В далеком детстве обнаружили у него туберкулез, потом все прошло. Но с той поры родители всячески оберегали его от туристских походов или, упаси боже, от пионерских лагерей. Там можно простудиться. Летом он выезжал на благоустроенную дачу с водопроводом, газом и электричеством. И вот только сейчас рассмотрел он всю прелесть красок пламени. Оказалось, что оно не красное и не желтое, а вместе и красное, и желтое, и оранжевое, и белое, и синее, и фиолетовое. Но прежде всего — щедро теплое.
— Ну как, Костя? — Дородный сидел прямо на голых камнях и с наслаждением сосал сигарету. Его, казалось, не брал никакой холод.
— Терпимо. — Костя даже улыбнулся.
— Пойдем-ка, пока твоя перина сохнет, по дровишки.
Старшина ясно видел, что в душе Кости зреет перелом. Уже прошло недавнее оцепенелое безразличие, а теперь ему нужен был толчок, какое-нибудь активное действие.
— Только давай договоримся так: ты будешь обходить берег с одной стороны, а я — с другой. Добро?
— Добро.
Страсть как не хотелось уходить от тепла, но старшина уже поднялся и зашагал прочь. Костя с благодарностью посмотрел ему вслед: Дородный выбрал для себя наветренный берег.
Распахнув бушлат, Костя грудью подсунулся к самому огню и, когда груди и лицу стало нестерпимо жарко, доверху застегнулся: «поднабрал тепла про запас». Но хватило его на несколько первых шагов. Как только Костя показался из расщелины, ветер пронизал его насквозь, и он побежал, стремясь поскорее укрыться за обрывистым краем островка.
Вся неширокая плоская часть берега до обрыва была сплошь завалена округлыми камнями. Одни из них величиной с кулак, другие — в рост человека. И, глядя на них, поневоле думалось: какой же силы должен быть шторм, чтобы выбросить их так далеко от уреза воды? Между камнями море нашвыряло обломки ящиков, клепку от бочек, металлические, стеклянные и пенопластовые поплавки от рыбацких сетей, бревна, доски. Чего здесь только не было, и все это побито, покорежено. Лишь стеклянные шары — поплавки каким-то чудом остались целыми.
За обрывом было тихо, и Костя неторопливо шагал, выискивая что посуше. В основном его интересовали клепка и ящики. Доски тащить удобнее, но как их сунешь в костер? Они попадались как на подбор двухдюймовые — без топора не расправишься.
Он уже насобирал охапку дров, когда его осенило: болван ты, болван, а сумка-то с инструментом! Зубило есть, ручник, ножовка по металлу Чего же еще надо? Костя бросил клепку, ящичные планки и повернул обратно за досками.
Одна из них лежала особо высоко. «Высохла что твоя вобла», подумал Костя и потянул ее к себе. Доска была новехонькая, не знавшая еще гвоздей и, судя по весу, действительно сухая. Он уже совсем подтянул ее, когда концом задел еле заметную пирамидку из небольших окатышей. Они развалились и обнажили никелированную головку термоса. Отшвырнув доску, Костя полез вверх. «Кто-то спрятал и забыл», — мелькнула догадка.
Термос сам по себе его не интересовал — это чужое. Гораздо важнее было другое — есть в нем что-нибудь или нет? Старик предупредил, что у них всего лишь полтора литра воды. А это был литровый китайский термос. Точь-в-точь как у них дома: голубой в ярко-красных цветах. Костя ухватил его за ручку, выдернул из окатышей и рассмеялся от радости: термос был тяжелый, полнехонький.
— Живем! — крикнул Костя и тут же осекся: крышка термоса была теплой. Он еще раз ощупал крышку — да, теплая — и в недоумении стал отвинчивать ее. Из-под пробки вместе с паром вырвался аромат крепко настоянного чая.
«Вот же сволочь, заначил…» — Костя завинтил термос и присел, почувствовав, как обида свернулась где-то внутри горьким клубком. Будто его обворовал кто-то свой, близкий. И не потому было обидно, что именно от него или от старшины спрятали чай. Нет, не в этом дело. Им могли его просто не дать, не зря же старшина сказал, что они оба иждивенцы. Нет, это кто-то припрятал для себя, для одного. А он-то после дележа смотрел на них какими глазами! «Только не Николай Федорович!» — твердо решил Костя.
Ну, а что же дальше? Оставить термос здесь? Или выбросить в море? Или просто чай вылить, а термос положить обратно? Он впервые столкнулся с чем-то гаденьким и никак не мог решить — как же правильно поступить? В конце концов есть старшина, он где-то недалеко, он поопытнее, посоветует.
Захватив термос с собой. Костя заторопился по берегу навстречу Дородному. Пока он торопливо скакал с камня на камень, его неотступно преследовал аромат чая, и он все больше и больше распалялся, смачно предвкушая, как они со старшиной, поставив термос у костра, небрежно скажут: «Кто-то кипяточек на берегу забыл». Интересно, признается кто или нет?
А Дородного все не было и не было. Обрыв, обглоданный волнами, то падал к берегу длинной ровной стеной, то выпирал почти до самой воды острыми углами. Угол, еще один угол, и Костя выскочил прямо в вой ветра и кипень волн. Они добегали почти до обрыва, ломались, а дальше все, что от них оставалось, насквозь продрогший ветер горстями швырял на остров, разносил далеко надо мхами. Пришлось уже не скакать, а идти по насквозь промокшим камням, да и то по-над самым обрывом. Двадцать, тридцать метров и брюки стали прилипать к ногам. В спешке Костя не замечал холода. Прежде всего надо было найти старшину, а он куда-то запропал. Вот и еще один угол. Он весь в воде и лишь на несколько секунд от волны до волны оголяется его подножье. Волны взметываются, рушась о гранит, почти до самого верха обрыва.
Случается, что человек в минуту душевного подъема решается на безрассудство. Косте не терпелось показать свою находку старшине. И он решился. Волна, еще волна. Теперь эта отходит — можно бежать. Уже за углом его почти по колени залило, но теперь безразлично — вымок он уже до того. Обрыв опять отступил, можно было бежать по сухому. И Костя побежал. Поворот, а за ним старшина. Недалеко, метрах в ста. Если крикнуть — услышит. Старшина тяжело, чуть ли не выше головы, нагрузился дровами. Костя уже открыл рот, чтобы окликнуть его, как вдруг подумал: а что, если он прикажет положить на место? Мы, скажет, всего-навсего иждивенцы, и их дело, что и куда прятать.
Стоило остановиться, как мокрые брюки облепили тело, озноб пополз вверх до самого ворота бушлата. Костю передернуло. «А что, если действительно старшина прикажет положить термос на место?» Чай был горячий, с ошеломляюще вкусным запахом… И Костя не стал окликать старшину. Он его еще догонит, успеет. Только два глоточка, всего лишь два…
Дородный скрылся за поворотом. Костя отвернул колпак, выдернул пробку и прямо из горла, торопясь и обжигаясь, хлебнул раз, другой. Никогда раньше не представлял он себе, что чай — это так здорово. Оглушающе здорово!
— Ах ты падло! Щенок! — услышал он где-то над собой. — За это!.. За это!..
Костя сунул термос за спину и обернулся на голос. По самому краю обрыва суетливо бегал Саня. Прыгнуть он боялся: недолго и ноги переломать, искал спуска поположе. Костя почувствовал, как у него загорелись уши — будто поймали его за руку в чужом кармане.
— Подлюга! — Саня съехал вниз и теперь крупными прыжками бежал на Костю.
Заткнув термос пробкой, Костя отставил его в сторону, чтобы не мешал, и стоял, ожидая рыжего. Драки он не хотел, но и не боялся ее: до флота, в народной дружине, самбо пригождалось не раз.
Рыжий был в ярости. Знал, что шепнет пацан старику или горбоносому о спрятанном термосе — и ему будет туго. У Заполярья, как и у моря, свои законы.
Еще не добежав до Кости, рыжий замахнулся, а когда осталось шаг-полтора, обрушил кулак на его до странности спокойное лицо.
— А-а… щенок! — выдохнул зло Саня. И вдруг земля вырвалась у него из-под ног. Он плюхнулся на камни, звонко стукнулся о них затылком и на какую-то долю секунды окунулся в темень.
Лежал он неудобно, тихо, и Костю обдало страхом: не убил ли? Случайно, но кто будет разбираться? Он сделал шаг к нему, когда раздробившаяся волна хлестнула Саню по лицу и тот открыл глаза, ошалелые и ненавидящие. Зацепив первый попавшийся под руку булыжник, Саня завопил:
— Не подходи! Я за себя не отвечаю!
А Костя и не думал подходить. Он был счастлив то того, что рыжий жив, что все обошлось благополучно. Но ощущение это было мимолетным. Опалив, оно пропало, уступив место брезгливому стыду за все: и за термос, и за эти глотки чая, и за нелепую драку. «Опоганился, — даже не подумалось, а четко сформулировалось в голове, — опоганился!» На глаза попалась цветастая боковина термоса, и Костя поймал себя на мысли, что сейчас для него нет более ненавистного предмета, чем этот термос, что…
Он не успел додумать, как большой булыжник смял цветы и термос, стеклянно дзинькнув, покатился вниз к воде. Неплотно заткнутая пробка выскочила, и из горлышка вместе с зеркально поблескивавшими кусочками стекла толчками выплескивался чай. Оба, и Костя и Саня, не двигаясь, смотрели на термос, а он, дребезжа, медленно перекатывался с камня на камень, пока не очутился в водяной круговерти. Саня успокоенно сел и ухмыльнулся:
— Концы в воду. Пойди теперь докажи, щенок.
Только сейчас до Кости дошло, почему рыжий разбил термос.
— Подонок, — бросил он и, отвернувшись, пошел вдоль берега.
Выждав, пока Костя отойдет подальше, Саня начал кричать ему вслед:
— Жу-лик! У меня же спер, мой чай пил, а я подонок! Тебя, гад…
Порыв ветра скомкал последние слова рыжего, но и то, что успел расслышать Костя, заставило его посмотреть на себя со стороны и вдруг с горечью до слез понять, что он сам-то… подонок. И все из-за какой-то пары глотков…
Он шел, машинально переставляя ноги, и не замечал ни холода, ни ветра. На душе было пусто и тоскливо. У самой расщелины вспомнил о дровах и поплелся обратно. Это было даже хорошо, хотелось побыть одному.
Но сколько ни броди, а холод гнал к костру. Дородный дремал. Когда Костя подошел, он поплотнее закутался в бушлат и сонно спросил:
— Чего так долго?
— Да так…
Рыжий сидел у самого огня. От брюк его и сапог валил пар. Костя постелил погуще мох и тоже сел сушиться напротив Сани.
Как-то, когда еще Костя учился в школе, приснился ему сон, настолько кошмарный, что и до сих пор при одном воспоминании о нем становилось муторно. Приснилось, что связался Костя с какими-то жуликами, ограбили они квартиру и попались. И вот сидит он на скамье подсудимых, прямо перед ним отец, мать, Оля, ее родители, тренер Борис Исакович. Сидит он и казнится: зачем это ему было нужно? Любил, был любим, а теперь кто? Хотел стать подводником — стал заключенным. Как сейчас помнит Костя — проснулся в холодной испарине и долго, долго никак не мог прийти в себя, все никак не верилось в счастье пробуждения.
Вот проснуться бы и сейчас, чтобы и термос, и рыжий, и драка с ним были только дурным сном. Чтобы мог он перед своей совестью сказать: первое испытание выдержал на пять баллов. Но нет. Саня сидел напротив и изредка через языки пламени посматривал на Костю, нудно мусоля про себя одну и ту же мысль: продаст или не продаст?
Утром посветлело. Небо чуть приподнялось, перестала сыпать сверху слякоть. Зато ветер прибавлял и прибавлял.
Стало слышно, как расходившиеся волны гоняют по берегу тяжелые камни.
Наконец сон сморил Костю, и он заклевал носом. Близкого воя корабельной сирены он не слышал. Зато Дородный вскочил, будто его подбросило. Сразу же проснулся и Николай Федорович.
— Никак, пароход кричит?
— Вроде да. — Дородный, прислушиваясь, вытянулся, замер, напоминая легавую собаку в стойке.
И вновь, теперь уже не сквозь сон, услышали они высокий голос сирены. Сдернув с головы спящего Кости берет, старшина одним духом по каменной осыпи взобрался наверх. Николай Федорович видел, что старшина, держа вместо флагов береты, кому-то «писал» семафором.
Еще стоя наверху, Дородный закричал:
— Подъем! За нами пришли!
Саня не спал, он все слышал, но не пошевелился, продолжал бездумно смотреть в огонь. Костя встал, пошатнулся со сна, привалился к скале и опять, но теперь уже стоя, задремал.
— Прийти-то пришли, а как снимут? — усомнился горбоносый.
— Снимут. На надувной шлюпке. Они ее по волне на тросе к острову пустят. Приказано с собой ничего не брать, оставить на острове. Переправляться по одному. Ясно?
— Ясно. Давай, старшой, командуй. Только я на острову останусь. Лодку куда я дену? — Николай Федорович пнул рюкзак с продуктами. — Харча на одного хватит, а стишает — я и твое хозяйство вам на пункт доставлю.
— Ну, смотри, Федорыч, тебе виднее.
Большой морской буксир, подрабатывая винтами, удерживался недалеко от берега. Он, как на качелях, то задирал к небу корму, то вздыбливал на гребень волны обшитый по привальному брусу веревочным кранцем по-утиному широкий нос. Ветер гнал к острову оранжевую надувную лодку.
А на берегу, обдаваемые водяной пылью, продрогшие, ждали ее люди. Пятеро. Старик тоже пришел проводить. Ждали молча, каждый погруженный в свои мысли.
«Продаст щенок или не продаст? Надо к нему пока поближе держаться».
«Ой, трус! Подонок! Из-за каких-то двух глотков чая!»
«Молодцы ребята, догадались сообщить на базу. Вот только нафитиляют мне теперь за двойку…»
«Может, тоже со стариком остаться? На этой живопырке утонуть ничего не стоит».
«Пень старый! И что меня дернуло спирт выбрасывать? Сейчас-то как бы в пору был!»
Ю. Иванов ДЕВОЧКА С ОСТРОВА СЕЙБЛ Повесть
— Док! А ну собирай свою санитарную сумку, — загремел в телефонной трубке могучий, рокочущий бас капитана. — Сигнал бедствия с острова Сейбл получили: подозрение на острый аппендицит. Обращаются островитяне ко «всем-всем» о помощи, а ближайшие «все-все» — это мы. Пойдешь на остров?
— Пойду?! Конечно, пойду! — радостно заорал я в трубку. — Сейчас подготовлю необходимый инструмент… Минут через десять буду готов.
— Не суетись. До острова еще несколько часов хода, — сказал капитан.
Вскоре я был готов.
Поднялся в ходовую рубку. Пощелкивал эхолот. Капитан, сидя на откидном стульчике, листал лоцию, вахтенный штурман следил за глубинами, а радист вызывал остров Сейбл на шестнадцатом канале радиотелефона.
— «…При подходах производить непрерывные промеры глубин, — громко читал капитан. — Пройдя банку Мидл-Банк, соблюдать особую осторожность…»
— Восемьсот… восемьсот… семьсот… — бубнил вахтенный штурман, вглядываясь в ленту эхолота. — Четыреста… четыреста…
— Хорошее место для стоянки — одна-две мили от северного берега острова… Слышите, старпом? — крикнул капитан.
— Туда и проложен курс, — отозвался из открытой двери штурманской рубки старший помощник капитана. Склонившись над штурманским столом, он разглядывал карту. — Что там локатор? Зацепился за остров?
— Уже вижу, — сказал навигатор, вжавшись лицом в раструб радиолокатора. — До острова восемнадцать миль.
— Хорошее место для стоянки, — повторил капитан. — «Глубина от девяти до восемнадцати метров. Грунт: песок, хорошо держит якорь». При смене ветра — немедленно уходить, опасаясь сильного волнения.
— Триста… двести пятьдесят… двести метров, — бубнил штурман.
— До острова десять миль, — сообщил радионавигатор.
— Самый малый! — приказал капитан и, захлопнув лоцию, соскочил со стульчика.
— Остров на шестнадцатом канале, — сказал радист и протянул трубку радиотелефона капитану: — Говорят, что уже видят нас, что уже спустили на воду свою шлюпку. Спрашивают: хирург ли наш врач?
— Спустили свою шлюпку? Ну и ладненько, — сказал капитан. — Нам меньше забот. Док, переговори! Ты ведь лучше всех по-английски чешешь…
— Алло, алло! Маринершиф на связи! — проговорил я в трубку и услышал шорох, поскрипывание, острое потрескивание. — Я врач-хирург рыболовного траулера «Сириус». Сообщите, что с больным…
— …острые боли внизу живота, справа. Тошнота, головокружение, слабость… — донесся чей-то встревоженный голос. — Нужна срочная консультация… Подозрение на острый аппендицит…
— Сто метров под килем… восемьдесят, — докладывал штурман.
— Вижу идущую навстречу шлюпку. — Капитан оторвал от глаз бинокль. — Ишь мчит… Старпом, стоит ли становиться на якорь?
— А зачем? — спросил старпом, выходя из штурманской.
— И я так думаю, — согласился капитан. — Командуй. Пускай боцман парадный трап майнает.
— Боцман! Майнай парадный тр-рап! — прорычал в микрофон старпом. И тотчас с палубы послышался недовольный голос боцмана:
— Ишь, парадный! Он что — старик какой? И по штормтрапу спустится.
Сделав свирепое лицо и выглядывая в открытое лобовое окно, старпом возвысил голос:
— Боцман?! Что споришь, стар-рая калоша… — Покосился на капитана, капитан отвернулся. — Говорю: майнай пар-радный. Приказ капитана!
Я пожал руки капитану, старпому, совсем еще юному штурману, которого мы все ласково звали Шуриком, и вышел из ходовой рубки. Траулер едва заметно скользил по сине-зеленой, усыпанной солнечными бликами, спокойной воде. Матросы толпились на верхнем пеленгаторном мостике, глядели на золотистую полоску земли. Раздувая пенные усы, неслась к траулеру широкая, глубоко сидящая в воде шлюпка. Трое мужчин в ярко-красных штормовых куртках сидели возле двигателя в корме и все трое дымили трубками. Один из них махнул рукой, поднялся и пошел в нос посудины. Смуглые, обветренные лица, чей-то веселый прищур светлых глаз, чья-то добрая улыбка.
Скрежеща в блоках, раскачиваясь, трап закачался подо мной, запружинил. Сильные руки подхватили, потянули к себе, и я спрыгнул в шлюпку. Сверху опустилась моя сумка с медикаментами и инструментами, борт траулера откатился в сторону. Капитан, старпом и штурман стояли на крыле мостика, и я махнул рукой: до встречи!.. А сердце сжалось черт знает отчего… От страха? Нет. От грусти? Пожалуй, тоже нет. Какая тут грусть: много ли пройдет времени, когда опять я поднимусь на палубу своего траулера? И все же, такое бывало уже не раз, сердце слегка сжалось в невольной тревоге. На какой-то срок я расставался с родным, привычным миром, расставался со своей обжитой, уютной каютой, с этим траулером, частичкой моей Родины, и с людьми, к которым уже привык за долгие месяцы рейса.
Сердце слегка сжалось, а потом отпустило. Я увидел протянутую мне широкую, грубую ладонь и пожал ее:
— Зови меня Джо, дружище, — сказал мужчина и улыбнулся.
И я улыбнулся ему и стиснул крепкую ладонь, вгляделся в лицо говорящего, а было оно широким, большеротым, чертовски добрым. Из-под лохматой кепки, надвинутой на самые глаза, на меня весело смотрели два маленьких цепких глаза, одно ухо было примято кепкой, а второе смешно торчало в сторону, и на мочке его был вытатуирован маленький синий якорек. Пошарив возле себя, мужчина, назвавшийся именем Джо, протянул мне спасательный жилет:
— Надень, дружок. Давай помогу… Знакомься: этот, высокий, — Бен, а рыжий — Алекс… Эй, Бен, скажи русскому хоть словечко.
— Бен, — произнес сухощавый, бровастый, остроглазый мужчина и сердито добавил: — Иди-ка в корму, Джо. Шлюпка носом в воду зарывается.
Громоздкий, неповоротливый, как платяной шкаф, Джо добродушно улыбнулся. Топая громадными ножищами, он прошел в корму и устроился рядом с третьим островитянином, огненно-рыжим, краснолицым мужчиной, который, встретившись со мной взглядом, приветственно помахал возле своего рыжего мясистого уха короткопалой ладонью: привет!
Траулер уходил к горизонту. Шлюпка приближалась к острову. Чем ближе к берегу, тем волны становились круче. Когда шлюпка вкатывалась на очередную волну, был виден остров: песчаные дюны, зеленая трава, мерно колышущаяся под порывами теплого, дующего с моря ветра, несколько домов в низинке, группка людей на берегу. Волны с громом выкатывались на песчаный пляж и долго катились по нему Становилось страшновато: ни пирса, ни причала. Прямо на песок выбрасываться будем?
Ревел мощный двигатель. Шлюпка со все нарастающей скоростью неслась к берегу. Вдруг я уловил запах земли. Втянул с жадностью носом воздух: пахло сеном! Ах, какой запах!.. Все ближе берег, все ближе. Я уже слышал тяжкий гром наката и весь сжался, приготовился к броску через борт, как только шлюпка коснется килем дна. Люди что-то кричали с берега, махали руками. Среди них там плясала и прыгала девочка, метались над ее худенькими плечиками расплеснутые ветром, вздыбленные желтые, как песок дюн, волосы.
Шлюпка взлетела на гребень пенной волны и вместе с ней ринулась к пляжу.. Гром, плеск, скрежет днища о гальку С неожиданной для такого громоздкого тела сноровкой толстяк Джо махнул в воду и, вцепившись в левый борт медвежьей хваткой, со страшной силой поволок шлюпку на песок. И Бен и рыжий выскочили из шлюпки. Рывок, еще один… Пенный, остро пахнущий морскими глубинами, насыщенный песком и клочьями морских водорослей вал поднялся стеной, стеклянно заблестел и рухнул. Шлюпка, омытая бурлящей пеной, шевельнулась, вода потянула ее в океан, но люди оказались сильнее воды. «Хоп!» — заорал толстяк Джо и затопал в воде, поволок шлюпку.
Все. Здравствуй, незнакомый, таинственный остров Сейбл!
Мы быстро шли по нагретому солнцем песку. Время от времени я посматривал в океан: траулер уже скрылся за горизонтом. Мужчины шли молча, а девочка, мелькая синей юбчонкой и загорелыми икрами, то забегала вперед и, оборачиваясь, разглядывала меня, то вприпрыжку спешила рядом. Лицо у нее было озабоченным, а широко расставленные глаза сияли лучиками солнца. Отбрасывая со лба тяжелые пряди волос, она выкрикивала:
— Эй, а вы действительно врач?
— Врач, врач. Если ты болеешь — вылечу.
— Ха-ха, я никогда не болею! Я даже зимой, когда выпадает снег, бегаю босиком. И все — ничего! Но вы смотрите вылечите отца, капитана Френсиса. Слышите?
— Что, это твой отец?
— Иес! И толстяк Джо, он тоже мой отец. И вот Бен — тоже. И мистер Хофпул, и рыжий Алекс. Эй, Алекс, ведь верно?
— Что верно, то верно: мы все ее отцы, а она — наша дочь, — сказал рыжий Алекс. И прикрикнул на девочку: — Перестань-ка болтать. А то русский хирург укоротит тебе язык.
— Ха-ха! Русский? Он добрый. Я это вижу по его лицу. — Девочка подбежала ко мне, улыбнувшись своим большим веселым ртом, заглянула в мои глаза и потянула сумку. — Давай понесу. Ты действительно русский, да?
— Послушай-ка, отстань от русского, — сказал рыжий Алекс и, опережая всех, направился к крайнему из трех дому.
Груда поплавков-бобинцев. Красных, синих, желтых, круглых, квадратных, четырехугольных. Гора спасательных кругов. «Омега», «Бисмарк», «Санта-Катарина» — уловили глаза надписи на некоторых из них… Куча полузасыпанных песком спасательных поясов и жилетов. Обломки весел, шлюпочных рулей, пробитые и целые бочонки-анкерки для пресной воды. Откуда все это? Океан повыбрасывал на берег?
— Вот мы и пришли, — сказала девочка. — Входите!
Рыжий Алекс толкнул дверь бревенчатого дома, и я вошел в сумеречную, остро пахнущую валерьянкой прохладность.
Больной лежал на громоздкой деревянной кровати в большой комнате дома, возле окна. Это был костлявый, широкоплечий мужчина. Мутные от боли, страдающие глаза, сухие, искусанные губы, короткое, жаркое дыхание. Я осторожно дотронулся до низа живота больного, и тот замычал сквозь крепко стиснутые, желтые от табака зубы. У двери комнаты столпились, затихли мужчины; толстяк Джо мял в своих ручищах кепку, улыбаясь жалко и растерянно, девочка стояла чуть в сторонке, настороженно сверкали ее глаза.
— Быстро освободите стол от посуды, — сказал я и стал стягивать куртку. — Необходима срочная операция. Кто будет помогать?..
Рыжий Алекс, рванувшись к уставленному тарелками и бутылками столу, ухватился за края грязной скатерти, потянул ее и, оглядываясь, отрицательно покачал головой: нет-нет, я не могу. Он вышел из комнаты. За ним ушел и Бен, и еще один из мужчин, а толстяк Джо показал мне свои громадные, неповоротливые ручищи, и я сам понял: какой же из него помощник?
— Эй, давайте я! — окликнула меня девочка и слизнула розовым языком росинки с верхней губы. — Я ничего не боюсь. И крови не боюсь. Когда толстяк Джо разрезал себе руку ножом, я ее быстро забинтовала.
— Хорошо. Подойди ко мне, — сказал я, торопливо вынимая из сумки инструменты и бутылки со спиртом, эфиром, йодом. — Как тебя звать?
— Виктория. Хотя нет: меня звать… — Девочка нахмурила лоб, сосредоточилась. — Вот! Для тебя я буду — Арика. Рика!
— Что значит для меня? Ну хорошо. Вода готова?
— Эй, Джо! Русский спрашивает, вода готова? — крикнула девочка в приоткрытую дверь.
— Иес, сэр! — медведем проревел из кухни толстяк Джо. Что-то там зазвенело, стукнуло, послышался тихий вздох — ошпарился, что ли? — и в комнату просунулся Джо с громадным медным чайником: — Вот, сэр. Горячая вода…
— Быстрее таз. Лейте мне на руки.
— Иди, Джо, я сама. Но далеко не уходи! — скомандовала девочка с именем — для меня — Рика.
Она поставила на табуретке тазик, я намылил руки, и она начала лить воду. Спросила:
— А вы сделаете так, чтобы капитану Френсису не было больно? Он мой отец, и я очень его люблю.
— Что ты болтаешь? Лей-лей… Этот у тебя отец, тот отец… Хорошо. Спасибо. Ну-ка, намыливай лапки и ты. И мой как следует. Так кто же твой отец? Джо? Бен?
— Они все мои отцы. Все, кто живет тут, на станции Майн-Стейшен, — Джо, Бен, Алекс, и капитан Френсис, и мистер Грегори — они все мои отцы, а я их дочь. Вот! И еще у меня есть отцы: трое на станции Ист-Пойнт, двое — на Уэст-Пойнт и двое на станции Уоллес. Двенадцать отцов! А я их дочь. Но это и так и не так, все они мне отцы и… И никто!
— Ну, всё, Рика, кончай свои сказки. Завязывай мне халат. Так, теперь надевай вот этот халат. Он длинноват, правда… Держи. Это марлевая маска на лицо… А, черт! Джо и кто-нибудь там еще! Положите больного на стол и разденьте. Осторожнее. Да не топочите вы ногами!.. Потерпи, дружок, потерпи. Сейчас, я сделаю уколы, и боль пройдет. Выйдите все! Рика, лей на живот Френку…
— Мистеру капитану Френсису, сэр.
— …Лей капитану спирт на живот. Вот так. Молодец. Подай теперь вон ту марлевую подушечку. Спокойно, не торопись. Минутку… Как себя чувствуете, капитан? Вот я тут жму, боли не ощущаете?
— Не-ет… — пробормотал больной. — Боль отошла. Так хорошо.
— Закройте глаза. Рика, бутылочку с эфиром. Да, вот эту. Капитан, считайте до десяти.
— Раз… два… три… четыре… пя-ать… ше…
— Заснул капитан. Рика — скальпель. Нет, другой. Если тебе будет неприятно, не гляди, что я тут делаю. Хорошо?
— Хорошо. А вы…
— Все. Больше ни слова!
Вовремя мы тут оказались, у острова Сейбл, со своим траулером. И вовремя я высадился на берег. Час-два промедления — и отправился бы капитан Френсис к праотцам. Повозился я с ним! А девчушка — чудо! Чертовски понятливая: уже в середине операции она знала названия инструментов и безошибочно подавала мне то, что я просил. Смелая. Глядела на располосованное брюхо капитана и только белела да зубы сжимала. Много у меня было добровольных помощников при таких делах, и помню, как мертвели от вида страшной раны бравые штурманы и отчаянные боцманы, как валились они с ног в самый ответственный момент.
Ну, вот и все, капитан. Можете улыбаться. «Ведь улыбка — это флаг корабля-аа…» Жив будешь, правда, денька два-три придется понаблюдать за тобой; что ж, побуду на острове, подышу земным воздухом, на травке поваляюсь. Стягивая рану нитками, я тихонечко засвистел сквозь зубы, улыбнулся Рике, и та тоже улыбнулась, вздохнула облегченно, а потом, хватаясь за спинки стульев, пошла из дома на чистый воздух.
И мне бы передохнуть. Как устали ноги. Ч-черт, ну и духота!
— Эй, Джо, — позвал я, и когда боком-боком, будто опасаясь, как бы не своротить своим крутым плечищем косяк двери, вошел Джо, а за ним показалась и рыжая голова Алекса, я сказал: — Вот что, ребята, осторожненько положите капитана на койку. Подождите, уже и схватили! Поправлю простыни… Во-от так… Что? Все будет о’кэй, Джо. Настанет день, и капитан Френсис поднимется в ходовую рубку своего корабля.
— Сэр, глотните, — сказал Джо, вытягивая из заднего кармана обвислых брюк плоскую, с выемкой для ягодицы бутылку. — Лучшее виски, какое есть на этом острове, сэр.
— Спасибо, Джо… Б-р-рр, ну и гадость. Это виски, случаем, не настояно на старых галошах и еловых шишках? И все же: спасибо. Пойду и я на воздух, поброжу.
— В одиночку бы не ходили, сэр.
— Нет-нет, все же один. Я недалеко.
— Не задерживайтесь, сэр. Мы готовим большой ужин, сэр. И потом… — Джо, поддергивая штаны, проводил меня до двери и махнул рукой в сторону океана: — Видите те белесые тучки? Боюсь, что к вечеру подует северный ветер и разыграется буря, сэр.
— Я все понял, дружище. Но уж такая привычка: после операции мне надо хоть с часик побыть одному.
Ветерок, едва приметный с утра, окрепчал, взматерел. Ну и пожалуйста: дуй! Теперь ты можешь реветь, беситься!.. Мне было хорошо. Хорошо оттого, что кончилось мое столь длительное профессиональное безделье, что люди обратились ко мне за помощью и я помог. И теперь, если, тьфу-тьфу, не возникнет какого-нибудь осложнения, человек будет жить и когда-нибудь вспомнит про меня, улыбнется и, может, пожелает мне счастья. И придет пора, я вспомню про капитана Френсиса, про остров и этих, еще не знакомых мне людей, про глазастую девчонку Рику, и на душе станет хорошо и грустно.
Хлопали на ветру полосатые тельняшки и выгоревшие до белизны брюки. Кто-то из островитян занимался стиркой, развесил свое белье на веревке. Несколько низкорослых, с длинными гривами лошадей стояли возле дома за загородкой, глядели в мою сторону, широко раздували ноздри — видно, почуяли чужого, совсем с чужим, непривычным для этих мест запахом человека. Я засмеялся, помахал рукой лошадям: да-да, я пропах рыбой. Все мы там, от камбузного матроса до капитана, пропахли, провоняли рыбой!..
Хорошо мне! Повернувшись к ветру спиной, я закурил сигарету и увидел, как Рика шмыгнула за угол дома. Я подождал немного, она выглянула и, увидев, что я заметил ее, подбежала к веревке с бельем и со строгим выражением лица стала снимать заштопанные тельняшки и белые, в заплатах на коленях и задах брюки. Подсматривает она, что ли, за мной? Подсматривай, девчонка с острова Сейбл! Мы еще с тобой поговорим, и ты расскажешь про своих двенадцать отцов, и еще — почему для других ты Виктория, а для меня — Рика.
Ах, хорошо! И хорошо, что поднимается ветер. Пускай-ка он заревет, загудит, пускай он раскачает море и пускай волны выбрасываются на берег! Летние штормы в этих широтах коротки, сутки-двое, а потом все стихнет — и надолго.
Я осмотрелся. Сразу же за домами — а было их тут три, и возле одного из них виднелась радиомачта («там радиостанция», — догадался я), — сразу же за домами вздымалась дюна. На ее вершине стояла металлическая башня маяка с «вороньим» гнездом. Видно, во время шторма оттуда ведется наблюдение за океаном…
А жилых-то дома два, третий — сарай. Дверь была приоткрыта, я заглянул вовнутрь. В одном углу — электродвижок и щит с рубильником, аккумуляторы на стеллажах. Тут у них своя маленькая электростанция. В другом углу — спасательный бот на кильблоках и две небольшие шлюпочки. Весла, мачты, смолисто-вкусно пахнущие бухты пеньковых тросов. Закрыв дверь, я отправился на берег океана.
Шлюпка, на которой меня встречали островитяне, была поставлена на эстакаду с рельсами. Вернее, на рельсах стояла небольшая тележка, а уже на ней — шлюпка. Эстакада круто спускалась в океан, она как бы рассекала волны, выкатывающиеся на берег. Все это для того, чтобы можно было выйти в море и во время шторма. Однако смелости, видно, этим мужикам с острова не занимать.
Якоря. Груда якорей. Маленькие и большие, двух- и четырехлапые якоря-кошки… Каким судам служили вы? При каких обстоятельствах океан рвал цепи, выдирал вас из грунта и выбрасывал на эту пустынную песчаную землю?
Шлюпка, разбитая в щепы. Рыбацкая «дорка» с проломанным бортом. Крошечный ялик с оторванной кормой. А там, дальше, торчат из песка деревянные ребра разрушенной волнами, ветрами и временем шхуны. Щепки, опилки. Дрова! Печально. Я похлопал ладонью смолянистый шпангоут и пошел по берегу, по самой кромке прилива. Громыхали волны, и я чувствовал, как земля вздрагивала от напора воды. Шипя, вороша мелкие, битые раковины, волны катились к моим ногам, а потом, оставляя на песке мыльно-пузырящуюся пену, неохотно откатывались в океан, чтобы снова с яростью ринуться на пляж.
Оглянулся — синяя юбчонка мелькнула за ребрами шпангоутов разбитой шхуны. Ах ты, маленький шпион, что ты выслеживаешь меня? Что хочешь узнать обо мне? Я вздохнул.
Как-то скверно сложилась жизнь — уже под тридцать, а все еще один. Нет, не то чтобы я сторонился женщин, но судьба сводила меня с такими, которые не очень-то спешили выходить замуж. Хотя что сваливать на женщин? На берегу-то месяц-два, можно ли за этот коротенький огрызок времени познакомиться с серьезной девчонкой, узнать ее, полюбить?..
Я снова оглянулся: Рика неторопливо шла по моим следам, что-то искала. Или делала вид, что ей надо что-то найти на берегу.
Ветер становился все сильнее, он просто продувал меня насквозь, и я решил свернуть, уйти за дюны, спрятаться от ветра. К тому же интересно было посмотреть, а что предпримет девчонка? Вот и небольшая ложбина среди обрывистых песчаных гор. Подгоняемый ветром в спину, я полез по сыпучему песчаному откосу и вдруг услышал негромкий крик. Обернулся. Рика бежала, махала руками, будто пыталась меня остановить. Я засмеялся: «Ага, плутовка, значит, ты все же выслеживала меня?..» И полез в гору быстрее. «Эй, если хочешь, догоняй!..»
— А-аа-а! — донеслось с берега.
С высоты дюны открывался великолепный вид. Внизу и чуть правее лежало синее, все подернутое серебристой рябью озеро. Вправо и влево от него уходила зеленая, покрытая высокой, плавно колышущейся травой долина. Обрамляя ее, поднимались, где выше, где ниже, ярко-желтые песчаные дюны. Ветер дул со стороны океана, и над дюнами курились мутные песчаные смерчики. Зеленый, солнечный мир! Все тут — и океан, и озеро, и зеленая трава, и песчаные горы! Стайка уток взметнулась с озера и перелетела к другому его краю. Лошади! Метрах в двухстах от озера неторопливо передвигался, будто плыл в траве, табун лошадей. Хорошо были видны черные спины и желтые, будто овсяные, гривы и хвосты. Прерии… Но зачем островитянам столько лошадей?
— Погоди-ии!.. — послышался зов девочки.
— А догони, догони! — отозвался я и побежал вниз с дюны.
Жесткая, шершавая трава стеганула по коленям. Взметнулись в воздух бабочки и сердито жужжащие жучки. Какое удовольствие после пяти месяцев разлуки с сушей бежать по траве… В каждом рейсе я мечтаю: «Вернусь в порт и, не заезжая в свою пустую холостяцкую квартиренку, на такси — и в лес! В поле!..» Вот так мечтаю я, но, вернувшись в родной порт, беру такси и мчусь домой. А потом, еще не сбросив плащ, хватаю запыленную телефонную трубку и звоню друзьям, звоню знакомым женщинам.
— Остановись! Остано-овись!..
— Ну, догони! Догони-и!
— Кони! Ко-они!
Я оглянулся. Подхватив юбчонку, чтобы не мешала, мелькая угловатыми детскими коленками, Рика стремительно бежала следом за мной, прыгала через холмики и ямки, вот упала, вскочила и снова побежала. Что-то было в ее лице такое, что я замедлил бег. Остановился. При чем тут кони? О чем она?
— Кони!.. Теперь… скорее к озеру… в дюны не успеем! — Она задыхалась. Лицо ее горело красными пятнами, на щеке багровела царапина. Дернула меня за руку — Бежим! Потопчут!
И тут я почувствовал, как тяжко колыхнулась земля. Поглядел вправо: кони неслись в нашу сторону. Развевались гривы и хвосты, кони стлались над землей, ног их видно не было, и они будто стремительно плыли в зеленых волнах травы. Чуть не плача, Рика что было силы рванула меня за руку и побежала к озеру. Я бросился следом. Гул многих копыт накатывался. Мне казалось, что на своем затылке я уже чувствую жаркое дыхание взбесившихся коней. Под ногами запружинило. Вот и вода. Рика с разбегу прыгнула в воду, нырнула и поплыла от берега. Я нырнул, проплыл под водой с десяток метров, вынырнул. Рядом крутилась девочка. Откидывая волосы на спину, она захохотала, а потом крикнула.
— Ну что? Ну что?.. Будешь один уходить?
— А чего они? Чего?
— А дикие они кони! И долина их… к-ха… их территория!
Кони плотным косяком стояли на берегу. Я видел их пылающие глаза, вздрагивающие ноздри. По шерстистым бокам и шеям коней пробегали нервные судороги. Ух вы!
— А не поплывут за нами?
— Не-ет… Ой, я замерзла. Сейчас я их уведу. А ты плыви во-он в ту бухточку. Жди там…
— А как же они? Не тронут тебя?
— Меня? Ха-ха! Они не трогают ни меня, ни толстяка Джо.
— А что же ты? В воду?
— Д-да тебя ув-водила. Ну, плыви!
Девочка направилась к берегу, нащупала ногами дно и пошла к берегу. Она что-то покрикивала ласковое, успокоительное, и лошади, подняв головы и поставив торчком уши, прислушивались к детскому голосу, фыркали, но в этом фырканье слышалось дружелюбие, а не злость. История! Хорош бы я был под конскими копытами… Ага, вот и дно. Нащупав ногами твердое песчаное дно, я ринулся вдоль берега к указанной бухточке, а Рика выскочила из воды и подошла к одной из лошадей, похлопала ее по боку. Потом уцепилась за косматую гриву, что-то крикнула, подпрыгнула и вскарабкалась на лошадь. Поскакала! И все остальные лошади, а было их тут с полсотни, с мягким и тугим громом копыт унеслись следом.
Вода была ледяной, меня всего трясло, когда я выбрался на берег и, шурша травой, отошел чуть от озера. Сигареты, конечно, превратились в кашу, но зажигалка работала исправно, и, набрав мелких сухих сучьев, я соорудил костерок. Он разгорелся жарким, почти бездымным пламенем. Я стащил с себя брюки и рубаху, протянул к огню руки. Где-то выше моей головы и этого озера проносились со стороны океана потоки воздуха, в их сильных порывах, мотаясь из стороны в сторону, как комки серой бумаги, летели чайки и с успокоенными голосами опускались на воду: прятались от шторма. У подножия дюн бродили несколько лошадей, а возле них резвились тонконогие лохматенькие жеребята. Покидая матерей, они, смешно вздрагивая задними ногами, носились друг за дружкой. Приятно было наблюдать за их играми.
Подбежала Рика. Потянула с себя облепивший ее свитер, скинула юбчонку. Протянула мне: давай выжмем! Мы скрутили ее вещички в жгут. Я развесил их на палки, воткнутые в песок, а Рика встала на коленки, протянула к огню руки, потом выжала, как белье, волосы и пошевелила пальцами: расческа есть? Торопливо, рывками поглядывая на небо, она расчесала волосы, и я посмотрел на небо: все оно оплеталось прозрачно-серебристой паутиной и солнце сияло уже неярко, оно теперь было похоже на больной, с бельмом глаз. Быть шторму на море. Сколько раз я видел вот такое солнце, возвещающее скверную погоду.
Тут один из жеребят, вскидывая передние ноги, подскакал к огню и ткнулся Рике в шею волосатой мордочкой, а она схватила его за мордочку, засмеялась, прижалась к ней щекой. Жеребенок рванулся, отскочил, мотнул коротким хвостом и поскакал прочь, поскакал, оглядываясь на девочку, будто зовя ее с собой. И Рика побежала за ним, начала ловить, а мама-лошадь подняла голову и добродушно фыркала. И еще один жеребенок подскакал, только не рыжеватый, а почти черный и с золотистой гривой, и они там все втроем прыгали и носились, а потом Рика подбежала к костру, бросилась на живот и, подперев лицо ладонями, уставилась в огонь.
— А сюда дикие кони не набегут? — спросил я.
— Нет. Теперь они видят — я тут, с тобой.
— Скажи, Рика, а откуда тут эти лошади появились?
— О, это ужас как интересно! Отец Фернандо рассказывал. Лет тому двести назад корабль из Европы в Америку плыл. Парусный. Большой-большой. И в трюме он вез много-много лошадей. И вдруг туман. Тут у нас ого какие туманы бывают! Вышел из дома, три шага сделал и — ау! — потерялся… Ну вот, корабль разбился на рифах. У острова. И потонул. И лошади потонули. Лишь несколько лошадей выплыли… А потом понарождались.
Мне хотелось расспросить, ее о многом, и в первую очередь о ней самой — что это за двенадцать отцов, почему? И вообще — откуда она тут? Чья? И я спросил ее:
— Скажи: тут живут одни мужчины? Что-то я не видел женщин…
— Угу. Одни мужчины. Есть какой-то закон. В общем, отец Фернандо говорил мне: «Девочка, закон Канады запрещает жить на этом острове женщинам». А почему — я не знаю. Не сказал мне об этом отец. Вот он сегодня придет, и ты у него узнаешь… Ага, вещи уже подсохли. Давай-ка одеваться, да пойдем. А то ка-ак начнут нас разыскивать.
— Пойдем. Между прочим, очень хочется есть! — Я натянул еще сыроватые брюки, а потом и рубаху.
Ветер все усиливался. Он бурно катился по траве, и она то опадала, то распрямлялась. Лошади ушли и увели своих малышей. На озере было белым-бело от чаек. Рика втиснулась в юбку, надела свитер, кивнула: пошли. И я кивнул и спросил:
— В лоции про остров Сейбл… Знаешь, что такое лоция?
— Знаю-знаю! Однажды на берег старинный сундук выкинулся. Думали, что в нем разные вещи, а там — старинные книги. Про разные-разные страны, моря и порты. И отец Фернандо сказал: лоции.
— Точно. Так вот, в лоции про остров Сейбл сказано, что тут живут спасатели. Вот тут, твои… гм, отцы — так и живут на разных спасательных станциях?
— Угу. Я ж говорила: пятеро — здесь, трое — на Ист-Пойнт, двое — на Уэст-Пойнт… Знаешь, сколько у острова погибло кораблей? Ну, всего-всего? Пятьсот! А может, даже и больше.
— Ого! И сейчас гибнут?
— Пойдем. Покажу тебе сейчас что-то. — Она взяла меня за руку и повела к дюнам.
Сильный ветер дул в лицо. Мы поднялись по песчаному откосу, и я увидел впереди еще несколько дюн, а за ними — фиолетовую ширь океана, всю в белых пенных полосах катящихся к острову волн. Рика дернула меня за руку, мы сбежали вниз, в маленькую лощинку, зажатую между двумя песчаными горами, и я увидел холмики, воткнутые в землю весла, деревянные кресты, якоря, штурвалы.
— Тут лежат моряки, — сказала Рика. — Отец Фернандо сказал: десять тысяч. И сейчас гибнут. Вот весной море вынесло на берег троих. Двух мужчин и женщину. Мо-олодень-кую, ха-арошенькую… Вот их тут и похоронили.
Мы подошли к свежему холмику. На обломке доски, вкопанной в землю, химическим карандашом было написано: «Трое неизвестных из океана. Господи, прими их души».
«Капитан шхуны «Уильям», — прочитал я выцарапанную на ободе штурвала надпись. «Боцман Говард», «Юнга Макс Вениг. Погиб, спасая судового котенка», — было вырезано ножом на обломке реи. И котенок вырезан. Ушастый, смешной котик. На могиле юнги лежали синие, немного увядшие ирисы, а вся могила была облицована мелкими камешками.
— Откуда известно, почему погиб юнга? — спросил я.
— Волны вынесли его на песок. В руках он сжимал рыжего котика, — сказала Рика и, присев, поправила один из камней. — Толстяк Джо, он у нас радист, стал разыскивать судно. Ну, на котором кто-то там пропал. И разыскал. Это был германский танкер «Гамбург». Радист германский нам сказал: да, котик упал за борт, а юнга — за ним… Похороните, говорят, у себя. Он одинокий мальчик.
— Какой смелый, добрый мальчик.
— Мы его так и похоронили — с котиком в руках. Толстяк Джо вначале играл на трубе, а потом плакал… Пойдем отсюда. — Она сильно дернула меня за руку и потянула мимо печальных памятников чьим-то несостоявшимся человеческим жизням.
Ветер усиливался. Он нес с собой песок, сек лицо, глядеть стало невозможно. Сгибаясь пополам, помогая друг другу, мы поднялись на прибрежную дюну и увидели внизу кипящую воду, а вдали по берегу — красные крыши домов спасательной станции. Тоскливая, свинцовая сумеречность расплывалась над островом; тяжелые черно-фиолетовые тучи чудовищным стадом ползли по небу, ползли, кажется, чуть ли не цепляясь за волны. Кое-где среди них виднелись алые прорехи предзакатного неба, и этот пылающий свет вселял в душу еще большую тревогу… «Как-то там мой «Сириус»?» — подумал я и окинул взглядом горизонт, будто надеялся увидеть знакомый остроносый силуэт своего трудяги-траулера. Нет, не видно! Да и откуда он может быть тут? Лишь только меня высадили, капитан увел траулер в открытый океан. Кто не знает морской поговорки: «Дальше в море, меньше горя»? А тем более тут, у этого кладбища кораблей…
Рика что-то крикнула мне, я не понял, она потянула меня за штанину и скатилась с дюны вниз, к воде. Надвинув берет на самые брови, я последовал за ней.
Отряхивая песок, Рика вскочила на ноги. Вся она была тоненькая, напряженная; ветер облепил ее юбкой, она была вся как туго натянутая струна, а волосы трепыхались на ветру, как флаг в очень свежую погоду.
— Гляди, я сейчас буду с ним играть. — Рика протянула руку к океану. — Он будет меня ловить, а я буду убегать! — Подняв руки над головой, она бросилась навстречу кипящей воде и закричала: — Эе-ей! А ну поймай меня, поймай!..
Волна встала стеной, потом круто изогнулась. Она в этот момент напоминала живое гривастое чудовище. Она будто приподнялась на пятки, вытянулась, изогнулась гладким, блестящим горбом… Рика чуть попятилась. Волна с громом обрушилась на твердый, утрамбованный ударами воды песок и, кипя пенными водоворотами, ринулась на девочку. Повернувшись, Рика побежала прочь. Я попытался схватить ее за руку, девочка увернулась. Лицо ее горело, что-то безумное чувствовалось в ее взгляде. Шурша, извиваясь, оставляя на камнях и песке хлопья пены, волна отхлынула в океан, и Рика побежала за ней следом. А к берегу неслась еще более страшная волна! Она накатывалась на остров с грохотом и скоростью курьерского поезда, а та, которая лишь только плескалась возле моих ног, подбиралась, усасывалась под основание гигантской волнищи, вздымающейся над головой девочки… На какое-то мгновение я увидел дно, обнажившееся метров на двадцать, и четкие следы, уходящие к основанию волны, и маленькую, напрягающуюся, вытянувшуюся навстречу волне фигурку. Увидел и закричал:
— Назад, назад!.. — и побежал к ней.
Рика метнулась к берегу. В какое-то из мгновений мне казалось, что водяной вал, изогнувшийся козырьком, обрушится прямо на нее, но Рика оказалась проворнее воды. Грохнуло. Бурно всплеснулась вода. Она кипела вокруг наших колен. Схватив девочку за руку, я тянул ее на берег, ноги утопали в разжиженном, по-живому шевелящемся под ступнями песке.
— Отпусти! Не хватай меня! — выкрикивала Рика, но не мне, а океану и пинала воду, топтала ее: — Отпусти! Не боюсь тебя, не боюсь!..
Утробно ворча, вода откатилась, потянула за собой прибрежный хлам. Рика вдруг как-то вся обмякла, притихла. Я обнял ее за худенькое плечико. Все ее тело била мелкая, нервная, а может, просто от холода дрожь. Прижав девочку к себе, закрывая от пронизывающего ветра, я повел ее по берегу к домам и спешащему навстречу толстяку Джо. А Рика обхватила меня тонкой рукой за пояс и, что-то шепча, выглядывала из-за меня в сторону океана.
— Как наш больной? — спросил я, входя следом за толстяком Джо в дом капитана Френсиса. — Спит?
— Спит наш больной, — ответил Джо и шлепнул Рику. — Опять океан дразнила?
— Какие у него холодные, цепкие руки… — пробормотала девочка. — Много-много холодных, липких рук. Я чувствовала, как они хватали меня за ноги. Б-ррр!
— Глотни. — Толстяк Джо выволок из заднего кармана свою плоскую бутыль. — Промок? Сейчас я дам что-нибудь.
Я глотнул. Ветер выл, толкался сырыми толчками в стены, рвал крышу, тоненько, надсадно позвякивал стеклами, ныл и стонал под дверью… Да, глоток сейчас в самую пору. И переодеться бы во что-нибудь сухое…
Толстяк Джо подошел к большому, сколоченному из грубо оструганных досок платяному шкафу и распахнул дверку. И я увидел десятка три сюртуков, курток, пиджаков и рубах. Тут же висели пальто, черные и зеленые шинели, красные, клетчатые, полосатые плащи.
— Гардероб, однако, у капитана Френсиса, — сказал я.
— Все океан дарит, — пробурчал толстяк Джо, вытягивая то пиджак, то куртку, и, коротко взглядывая на меня, прикидывал, подойдет ли по размеру. — Все наш океан-кормилец.
— Не с… мертвых ли? — похолодев, спросил я и глотнул еще разок. — Тогда уж лучше…
— Что на мертвых, то все уходит вместе с ними в землю, — ответил Джо и протянул мне светло-синюю с золотыми пуговицами и слегка потускневшими нашивками на рукавах куртку. — Во. В самый раз будет. Держи. А вот и рубашечка белая. Рика, а ты переоделась?
— Ага. Переоделась, — отозвалась из соседней комнаты девочка. — Наготовили уже чего поесть?
— Вот тебе еще брюки, — сказал Джо. — Давайте-ка, док, побыстрее, все уже приготовлено.
— Что, уже все приготовлено? — переспросил я, надевая рубаху. Она пришлась мне в самый раз. И брюки тоже. А капитанская куртка была сшита, наверное, у лучших портных Плимута и будто специально на меня. — Вот и все.
Капитан Френсис лежал на спине и бурно храпел.
Я пощупал его лоб: температура нормальная. Думаю, что через два дня он уже сможет встать.
Толстяк Джо тронул меня за плечо. Из соседней комнаты вышла Рика. Улыбнулась мне. Глаза в сумраке казались черными-пречерными и большими-большими. Как уголья в затухающем костре горели в них красные искры отсветов лампы.
Между домами был ветряной водоворот. Тугие потоки ревущего воздуха незримыми волнами клубились, взметались и спадали. Бросаясь на ветер то боком, то грудью, я брел следом за толстяком Джо. Тот шел, проламываясь сквозь воздушный поток, будто ледокол через льды. Фигура!.. Рика пряталась за его обширной спиной и могучим задом. Раздвигая ветер выставленным вперед правым плечом, Джо двигался к соседнему дому, а я пытался попасть к нему в кильватер.
Громыхнула дверь. Толстяк Джо распахнул вторую, Рика скользнула в яркий свет и тепло большой комнаты, за ней вошел и я. Слева в стене пылал камин. В его каменное жерло были насованы целые бревна. Красные блики плясали по сколоченному из широченных сучковатых досок полу. Четверо мужчин поднялись из кресел и со стульев. Были тут уже знакомые мне рыжий Алекс, бровастый лысый Бен, длинный и тощий, похожий на высушенную треску мистер Грегори и низенький, широкоплечий, неповоротливый, как сундук, мужчина в очках. «Наверняка ученый папаша Рики со станции Уэст-Пойнт», — подумал я и, как впоследствии оказалось, не ошибся.
— Не будем терять времени понапрасну. — прогудел толстяк Джо. — Док, ваше место в центре. Как почетного гостя. Рика…
— Я сяду рядом с доком. Вот! — сказала девочка и, отодвинув массивный стул, сработанный, кажется, не из дерева, а из железа, устроилась рядом со мной.
Застучали стулья, задвигались черные угловатые тени на стенах, жаркий огонь камина, чьи-то расплывчатые, смутные лица на картинах… Какие-то неведомые, блеклые города, странные размытые пейзажи. Старинный мушкет на одной из стен, шпага в ножнах, позеленевшая подзорная труба. Я повернул голову. На одной полке тесными рядами стояли книги в кожаных переплетах. На другой — батарея пустых бутылок. В каждой из них — свернутые, скукожившиеся или закрученные жгутиками бумажки.
— Эй, тебя ждут, — позвала меня Рика. — Я уже положила мясо. Вот вилка и нож.
— За тебя, док. За то, чтобы человек всегда откликался на зов другого человека, — рявкнул толстяк Джо, поднимая сверкнувший в бликах огня хрустальный фужер. — Пьем, друзья.
Я взял фужер в руки, и от одного моего прикосновения он тихонечко запел. Стекло было таким тонким, что оно не виделось, а лишь ощущалось. Изображение корабля? Надпись? Я повернул фужер другой стороной и прочитал надпись: «Харгрейв». Фирма такая?
— Корабль был такой, — сказала Рика, видя, как я читаю надпись. — Трехмачтовый барк. Он погиб возле острова в 1857 году. Да, отец Фернандо?
— Все правильно, моя девочка, — подтвердил тот. Нос у отца Фернандо был картофелиной, щеки будто шрапнелью побиты. Видно, переболел когда-то оспой. Облизнув губы, отец Фернандо продолжил: — По имеющимся сведениям, барк «Харгрейв» налетел на мель Стейшен-Банк и разломился пополам. Все сорок членов экипажа погибли. Ящик с посудой был найден пять лет назад. Идет Бен по берегу, глядь: на песке окованный медью угол торчит. Откопали. А там, в полусгнивших стружках, вот эти фужеры.
— Все пока тихо, Тонни? — спросил тут толстяк Джо.
— Все пока тихо, Джо, — послышалось в ответ.
Я огляделся и увидел то, на что не обратил внимания раньше: приоткрытую дверь, по-видимому, радиорубки. Кто-то там шевельнулся, дверь открылась, и на пороге появился мужчина с наушниками на голове. Второй радист, наверное. Махнув мне рукой — мол, привет! — он попросил:
— Джо, плесни бокальчик. В глотке все пересохло.
— За капитана Френсиса, — предложил тост рыжий Алекс.
— Чтобы он выздоровел побыстрее, наш капитан.
Ел я с оловянной тарелки. Тоже, наверное, с какого-то корабля. И вилки, и ножи. Черт знает что! А это что за странная карта? Возле двери в радиорубку висела на стене очень большая, от пола до потолка, карта. А, это же остров Сейбл! Озеро посредине. А вдоль берегов острова — флотилия кораблей, шхун, пароходов, яхт. Надписи. Цифры. Погибшие корабли?
— А где же пароход нашего уважаемого капитана Френсиса? — спросил я. — Или… или его тоже океан вынес на берег?
— Все именно так, как вы сказали, — произнес Фернандо и поправил вилкой сползшие очки. — Его лесовоз «Марта Гросс» погиб двенадцать лет назад. И вся команда… — Фернандо с хрустом разгрыз кость. — Такое несчастье, сэр: в тот рейс он взял свою жену и шестнадцатилетнего сына, сэр. Были летние каникулы… М-да… Лишь один он в живых и остался. Отходили мы его, похоронили тех, кого океан вынес на берег. И жену его Мануэлу, и сына Герберта. Остался он с нами. Сказал: «Буду жить тут, буду… возле своих. Буду спасателем, чтобы поменьше гибло в океане чьих-то детей…» Отчаянный капитан. Когда случается несчастье — его не останавливает никакой шторм: спускает бот по слипу и — вперед! Навстречу волнам! Участвовал в спасении уже сорока моряков… Эй, Джо! Давай-ка выпьем за тех, кого мы выволокли из океана.
— Картины… тоже из океана? — спросил я Рику.
— Угу. Вода подпортила краску, — ответила девочка, орудуя вилкой. — Иногда я гляжу-гляжу на какую-нибудь из них, и так хочется узнать: а что это за город? А что это за лес? Или лицо?
— За души рабов божьих, — произнес высушенный, как вяленая треска, отец Грегори.
— Поп? — тихо спросил я отца Фернандо.
— Пастор. Вернее, был им, — словоохотливо пояснил мой сосед и немного понизил голос. — Двадцать лет произносил страстные проповеди в церкви святого Мартина в Галифаксе. Спасал души рабов божьих. Но однажды прочитал в газете «Галифакс Стар», что на остров Сейбл требуются люди. На спасательную станцию. Поразмышлял-поразмышлял наш отец Грегори и решил, что больше принесет пользы, если будет спасать не души, а самих людей. Многих он уже спас. Как почта придет, шлют ему поклоны и добрые пожелания десятки людей из самых разных уголков нашей землицы. И мне шлют, И Алексу, и нашему толстяку Джо.
— А вы тут как оказались?
— О, со мной дело сложнее… Гм… Видите ли, были у меня нелады с полицией… — Фернандо вынул из кармана большой носовой клетчатый платок, протер стекла и как-то ловко набросил очки на свой могучий, толстый нос. Грустно улыбнулся мне. — М-да, случилась одна неприятность в молодости… Вот я и подыскал себе уголок потише, да так и прожил тут пятнадцать лет. Сам себя определил на эту каторгу. Сижу в своей комнате на станции, размышляю, философствую… Вот Рику французскому языку учу.
— А рыжий Алекс?
— Эй, отец Алекс, русский про тебя спрашивает, — сказала Рика. Она прислушивалась к нашему разговору с Фернандо. — Откуда ты тут взялся?
— Пусть я сгнию тут на этом пр-роклятом острове, но я дождусь! — выкрикнул рыжий Алекс и ударил кулаком по крышке стола. Звякнула посуда, один из фужеров упал. Видно, Алекс выпил лишнего. — Я дождусь, когда на берег выкатится бочонок, набитый золотыми дукатами! — Он поглядел в мою сторону. — Вот для чего я живу тут, русский. А откуда взялся? Какая разница? Они: и эта гора мяса и костей Джо, и капитан, и пастор — все они считают меня выжившим из ума. Чер-рта с два… Это они выжили из ума, они! Ведь какой разумный человек будет торчать на этом огрызке земли лишь ради святой, как они болтают, необходимости спасать чьи-то жизни? Ха-ха! К черту! Друзья, вы помните про трюмы фрегата «Коппелии»? Помните? — Он задохнулся, лицо у Алекса стало красно-бурым, а маленькие, красноватые глазки были похожи в этот момент на две перезрелые, готовые вот-вот лопнуть, клюквины. Он схватил бронзовый с фигурной ручкой жбанчик, в котором было вино, и начал пить прямо через край.
— Фрегат «Коппелия», как говорят, вез из Франции в Америку жалованье французским солдатам. В золотых монетах, — тихо сказал мне отец Фернандо. — Разбился и погиб тот фрегат на Мидл-Банк. Пять различных экспедиций пытались разыскать его, но… Но может, все это легенда?
— Легенда? Ха-ха! Черта с два! Глядите, что я недавно нашел на берегу.
Мотнув лохматой рыжей головой, Алекс нагнулся и сунул руку за голенище сапога. Кривясь, чертыхаясь, торопясь, порылся там и вынул нечто, не то обломок оленьего рога, не то какой-то черенок. Алекс разжал свой громадный, поросший золотыми волосами кулачище. Рукоятка ножа? Согнул большой палец, нажал на металлический пупырышек. Послышался легкий, звучный щелчок, и из рукоятки выскользнуло блестящее лезвие ножа. Алекс резко взмахнул рукой, и нож, слегка вибрируя, вонзился в стол.
— Читайте! Видите, что написано на ноже? — гремел Алекс. — «Коппелия», вот что написано на нем! И настанет такое время, настанет, друзья мои, океан отхлынет, да-да, я это вижу, вижу!.. Океан отхлынет, а на сыром песке останется лежать, да-да… останется лежать окованный позеленевшей медью, весь обросший ракушками бочонок. Нет, не с вином…
— Было такое? — спросил я у отца Фернандо.
— Было. Вот же пьем: виски из океана. Оттого и привкус солоноватой горечи. Видно, немного океанской воды просочилось через пробку.
— …Нет, черт возьми, не с вином, а с золотыми монетами! И тогда — прощай, проклятый остров! Не так ли, друзья?
— Что ж, мы тебя проводим всей гурьбой, Алекс, — загудел толстяк Джо. — Мы останемся тут. И я, и Фернандо, и капитан, и мистер Грегори, да и все остальные. И Рика-Кетти-Рита-Дален… уф, ну и имя ты себе придумала, противная девчонка!.. и Рози-Анна-Мари…
— Элен-Ольга-Ло-Катрин-Сьюзанн-Рика… — закончила девочка и зевнула. — Ну неужели так трудно запомнить? Конечно же, я останусь тут. Разве я брошу тебя, отец Джо, и тебя, отец Фернандо, и тебя, отец Грегори, и тебя, отец Бен… А вот отец Алекс, неужели ты уедешь и оставишь меня тут?
— Что? Черта с два! Я возьму тебя с собой. Я куплю тебе маленькую лошадку-пони, построю красивый дом, мы будем ездить с тобой в Европу и… — Алекс опять пододвинул к себе бронзовую посудину и приложился к ней.
— Я останусь тут, — сказала твердо Рика.
— Выпьем за это. За нашу девчонку, — так громко сказал толстяк Джо, что его голос перекрыл и шум бури, доносящейся из-за стен дома, и посвистывание ветра на чердаке, и треск смолистых поленьев в камине.
Я поглядел на него. Лицо Джо, освещенное пламенем камина, было обращено к девочке. Толстое, губастое, с широким приплюснутым носом, оно было таким добрым, открытым, что я невольно улыбнулся. И вообще весь он такой могучий, брюхатый, какой-то вызывающе неряшливый: сползшие брюки поддерживались лишь одной лямкой подтяжек, вторая была, видимо, оторвана, да и эта крепилась к большущей белой пуговице, нашитой черными в узлах и петлях нитками к верху брюк, рубаха, выпирающая наружу. Одна щека тщательно выбритая, а другая — щетинистая. Не добрился, что ли? Добрый, неуклюжий медведь-панда, вот кого мне напоминал в этот момент один из отцов Рики, толстяк Джо. Он был столь симпатичен своей открытой добротой, что хотелось глядеть и глядеть на него. Сжимая громадной лапищей фужер с вином, Джо провозгласил еще раз:
— За самую хорошую девчонку, за самую смелую девчонку, за нашу дочку.
— Рудовоз «Король Георг Четвертый» терпит бедствие! — крикнул в этот момент из двери радиорубки радист. — Район каньона Корсер.
В комнате стало тихо. Ударялся в стены дома ветер, выл, всплескивал языками пламени огонь в камине, позвякивали стекла в окне. Мы все, как по команде, поглядели в черное окно, в сторону беснующегося океана. «Как-то там мой «Сириус»?» — подумал я. И еще подумал о том, что, будь верующим, я помолился бы всем богам, чтобы не случилось беды с моим судном. И чтобы выстояли в схватке со штормом моряки рудовоза «Король Георг Четвертый», чтобы не поглотили их многокилометровые глубины каньона Корсер.
Потом в этой напряженной тишине мы все поглядели на бывшего пастора отца Грегори, и тот поднялся из-за стола. Прямой, как палка, высушенный до желтизны, он кивнул всем и ушел в соседнюю комнату.
— Господи, не погуби души и тела моряков рудовоза «Король Георг Четвертый»… — послышалось из-за неплотно прикрытой двери. — И всех бедствующих в морях и океанах.
— Иду спать, — сказала Рика. — Спокойной ночи, отец Джо. — Она поднялась из-за стола и, подойдя к толстяку, поцеловала его. Сказала, подергав белую пуговицу: — Ну зачем же ты пришивал сам? Принеси мне завтра свои брюки… Вот и тут еще дырка. Зачиню. — Она поцеловала его, а тот обнял девочку и погладил широкой, как лопата, рукой по спине, волосам. Хлопнул по заду.
— Иди!
Потом Рика попрощалась с молчаливым Беном, с Алексом, который так стиснул девочку, что она пискнула, будто мышонок. Подошла к отцу Фернандо. Тот, взяв ее ладонями за лицо, заглянул в глаза, улыбнулся.
— Расскажу тебе сегодня новую сказку дядюшки Римуса, — сказал он. — Перед вахтой.
— Нет. Сегодня ко мне придет русский доктор. — Рика поглядела на меня, попросила: — Приходи, а? Я буду ждать.
— Приду, — ответил я. — Вот покурю немного у камина и приду.
Рика жила в доме капитана Френсиса. И мне постелили там, чтобы я был ближе к больному. Подбросив в камин толстых поленьев, Джо сказал, что пойдет проверит, надежно ли укреплена на слипе спасательная шлюпка, да подышит немного соленым ветром. «Утробу свежим воздухом промыть надо».
Ушел Алекс. Стих в своей комнате пастор Грегори, скрипнули там пружины матраца. Ворочался, кашлял в радиорубке радист. Попискивало там, потрескивало. Приборы работали. Порой радист переговаривался с кем-то азбукой Морзе, и в проеме двери нервно вспыхивала и гасла контрольная лампа.
— Через полчаса и мне на вахту, — сказал отец Фернандо и пододвинул к камину кресло. Кивнул на второе: — Подсаживайтесь к огню, док.
— Если можно, несколько слов об истории острова, — попросил я.
— О, с удовольствием! Итак, основные вехи. Открыт остров почти пятьсот лет тому назад португальцами и назван «Санта Крус». Позже португальцы же дали ему нынешнее название «Сейбл». Значит — «Песчаный».
Порой холодные сквознячки прокатывались по комнате и порывы ветра усиливались. Отец Фернандо замолкал, прислушивался. Потом продолжал свой рассказ:
— В 1598 году на острове появились первые поселенцы. Увы, это была сложная публика. Пятьдесят отъявленных негодяев. Преступники, осужденные во Франции на казнь. Среди них оказалась и одна женщина. Предание гласит, что именно из-за нее преступники и повели друг с другом ожесточенную, кровавую войну. Через пять лет в живых на острове осталось лишь одиннадцать человек. С тех пор существует закон, запрещающий проживание на острове женщин…
Опять могучий порыв ветра качнул дом, и отец Фернандо замолк. Протянул к огню руки. Потер ладонь о ладонь. Сказал:
— Лет сто на острове орудовали пираты. Они давали фальшивые сигналы огнем: путь свободен! Корабли шли на эти сигналы и погибали. В 1801 году британское адмиралтейство оборудовало на острове спасательную станцию. Вот, пожалуй, очень кратко и вся история острова Сейбл. Если, конечно, не считать страшных и трагических историй кораблей и людей, нашедших тут свою могилу. — Он поднялся. Снял с вешалки и накинул на плечи длинный плащ. Пробормотал: — Хорошо, что хоть дождя нет… Да и так продует всего.
В дверях он столкнулся с Беном. У того было красное, исхлестанное ветром лицо.
— Все нормально. В океане — ни огонька, — буркнул Бен и, стягивая на ходу куртку, отправился в свою комнату.
Гул ветра. Гомон недалеких волн. Шорохи на чердаке, скрип половиц.
Я бродил по скудно освещенному огнем камина помещению, ждал толстяка Джо. Вглядывался в туманные, расплывчатые лики людей на картинах. Женщина с открытой грудью. Синие-пресиние, будто живые глаза глядели на меня из глубины темного, зеленовато-синего, как морские глубины, полотна… Удивительно — лицо едва ощутимо, чуть приметны полусмытые водой пухлые губы, а вот глаза сохранились. Живут! Пейзаж. Лес. Горы. Залито все сине-зеленой водой…
Я подошел к полке с книгами. Взял одну из них, тяжелую, как кирпич, ощутил ладонью шероховатость кожи обложки и подумал: «Чьи руки, где и когда брали в последний раз эту книгу?» Потянул за обложку, но она не открылась. Я попытался открыть книгу посредине, но ничего не получалось, страницы будто срослись, книга склеилась. И я поставил ее на место. О чем в ней рассказывается? Может, это те лоции, о которых говорила Рика? Тайна.
Потом я стал разглядывать бутылки. На бумажке сквозь мутноватость стекла одной из них можно было прочитать несколько строк по-английски: «Милая, милая Жанна, прощай, прощай навеки…» Кто тот, написавший эти строки? Что произошло в океане? Где та Жанна, которой послано это письмо? Всё тайны, тайны. Одна… пять… десять… четырнадцать бутылок. И в каждой — отчаянное прощальное письмо, тоскливый крик души, крик боли и любви. Бутылки… Кто-то пил вино, налитое в них, кто-то веселился, а потом… Стеклянные гробики с посланиями из океана, с последним прощальным зовом. И всё — тайны океана.
Хлопнула дверь. Дробно зазвенели стекла в раме. Джо.
Он натолкал в камин сухих смолистых поленьев. Поставив бутылку, я глядел, как он выкатил щепкой из огня пылающий уголь прямо себе в ладонь и потом, щуря глаза, закурил толстую длинную сигару.
Я подошел к зловещей карте погибших возле острова кораблей. «Джорджия» — 1863 год… «Фельмоут», «Лаура», «Эдда Корхум», «Ямайка», «Иоганна», «Сандер Ника»… — Холодок прокатился по моей спине. — «Джесси Вуд», «Эфес», «Адонис», «Сириус»… Что-что? — Я разгладил ладонью жесткую бумагу: — «Сириус»… Фу, черт… 1861 год». Вытер испарину, выступившую на лбу, и пошел к огню, сел в кресло, потянул из кармана сигареты. Спросил:
— Ну, а вы как тут очутились, Джо?
— Из любви к музыке, — усмехнувшись, ответил тот.
Я подождал немного, думал, что он пояснит свои слова, но толстяк Джо глядел в огонь, попыхивал сигарой и молчал. И тогда я спросил его:
— Джо! А кто это придумал Рике такое длиннющее имя?
— Да она сама. — Джо вынул сигару изо рта, сколупнул корявым черным пальцем табачинку с оттопыренной губы. И вновь потянул в себя дым. Выдохнул тугое синее облако в камин. — Для меня она — Вика, для отца Фернандо — Катрин. Понимаете? Она будто одна, и будто у каждого из нас тут по дочери. И для нас и для тех спасателей, которые обитают на другом краю острова… — Он сплюнул, облизал губы. — Через месяц Рика уйдет на станцию Уэст-Пойнт и будет жить там у отца Фернандо. Потом она переберется на другую станцию к отцам Рене и Максу, если бы не шторм, они бы приехали сегодня сюда. Так вот, а потом опять вернется… — Он помолчал, улыбнулся. — Мы все ее очень любим, док. Да что любим: она как… — Джо поразмышлял: — Она как солнечный лучик… Вот уйдет Рика к Фернандо, и я буду каждый день считать, когда же она вернется. И буду, как мальчишка, раза два в неделю бегать за десять миль к ней на станцию Уэст-Пойнт, а отец Фернандо станет ревновать ее ко мне и погонит меня назад. А потом он будет прибегать сюда, проверять, как она учит французский… — Джо грузно встал, налил в фужер вина, подал мне. Сел в кресло, оно сокрушенно застонало под его могучим задом.
Мы выпили по глотку. Я поболтал вино во рту языком и, зажмурившись, представил себе, как где-то в далеком порту на парусный корабль грузили бочонки. Как тот корабль, кренясь и раскачиваясь, шел к берегам далекой Америки. Потом как разрушался он под ударами свирепых волн, тонул. И бочонки лежали на дне. Сколько? Сто лет? Двести? А потом волны выбросили один из них на берег. Да, я явственно ощутил горьковато-соленый привкус морской воды. Чертовщина!
Толстяк Джо пошуровал кочергой, и столб искр унесся в дымоход. Он улыбался. Он все время улыбался. Вот и сейчас: кому? Огню, греющему нас? Девочке, о которой рассказывал? Но вот помрачнел, нахмурился:
— А осенью мы отвозим ее в Галифакс. Она учится там в гимназии Альбрехта. Невозможно пережить эти длинные, штормовые и холодные зимние месяцы, эти месяцы без нее.
— Как она попала на остров? Тут какая-то тайна?
— Это ужасная тайна, док, — немного помедлив и понизив голос, сказал Джо. Оглянулся. И я тоже осмотрелся. Две наши громадные черные тени шевельнулись на стенах и потолке: — По закону она лишь моя, понимаете, моя дочь! Ведь это я нашел ее на моем, понимаете, моем участке.
— Простите, старина. А что это за ваш участок?
— Тут все просто, док. Весь остров, а точнее — все побережье острова разделено на двенадцать секторов. Понимаете? И каждый сектор принадлежит кому-либо из нас. И вот после шторма мы садимся на лошадей и объезжаем остров. Правда, мы и так каждый день объезжаем весь остров, смотрим, не вынесло ли кого из океана, но после шторма океан обязательно что-нибудь да выносит. Глядишь — монета, а там — труба подзорная, а там — книга старинная или еще что-нибудь. Понимаете?
— Понимаю. Все понимаю. И вот…
— И вот иду я и вижу — небольшой, надувной плотик лежит. А в нем… — Джо жадно затянулся дымом. Продолжил вдруг охрипшим голосом: — А в нем, в воде, вода и в плотик налилась, девочка в одной нижней с кружавчиками рубашонке. Подбежал, нагнулся: думал, мертвая, а она дышит. Схватил я ребенка, прижал к себе, закутал в куртку и побежал. Я десять миль бежал, док, десять миль. И все молил бога: «Если ты есть, пускай она не умрет, пускай выживет». Мне казалось, что сердце мое взорвется, а вены лопнут и кровь фонтанами хлынет из ушей и ноздрей! Принес. Растер шерстяным шарфом, потом спиртом, потом напоил ее грогом. И она открыла глаза. Улыбнулась, протянула руки и обняла меня за шею. И заснула. Сутки спала, док, сутки! И я не шевельнулся… Собрались мы все, со всего острова. Открывает она глаза и говорит: «Где я?» — «А ты откуда? — спрашиваю я. — Как звать?» Она думала, думала, вспоминала, вспоминала, а потом говорит: «А я не знаю, откуда я. Звать? Не знаю, как меня звать…» — Джо поднялся из кресла, прошелся по комнате, и доски пола прогнулись под ним, заскрипели. Рухнул в кресло. Продолжил: — У нее отшибло память, док. Начисто. Она все-все позабыла. Такое ведь бывает?
— Бывает. От нервного потрясения.
— Она ничего не помнит, док, ну абсолютно ничего! Сообщили мы в Галифакс: мол, нашли девочку, лет примерно столько-то, имени своего и фамилии не помнит. Попытайтесь, мол, разыскать родственников. Искали-искали — не нашли. И тогда мы решили, док, удочерить ее. Все вместе, все двенадцать. Вот так и появилось у девчонки двенадцать отцов. Для меня она — Вика, для Фернандо — Катрин…
Вдруг хлопнула дверь и на пороге дома показалась Рика. Она была босиком и закутана в клетчатый плед. Сведя брови, девочка мотнула головой, забрасывая за спину спутанные ветром волосы, и сказала:
— Эй, русский! Я тебя жду-жду, а ты…
— Иду-иду, — поспешно сказал я и поднялся.
— Вы не очень-то засиживайтесь, — ревниво пробурчал Джо.
Вспыхивал и гас маяк, и его яркий свет вырывал на мгновение из темноты крыши домов, ближайшие дюны и серо-зеленые валы, бурно накатывающиеся на берег. Ветер несся над водой и сушей, кажется, с той же силой, но не резкими нарастающими порывами, а ровно, и в этой ровности движения воздушных масс ощущалась усталость. Наверняка к утру ветер пойдет на убыль. Тем не менее я с трудом открыл дверь в дом, а когда мы вошли с Рикой в прихожую, дверь с грохотом захлопнулась за нашими спинами.
В большой комнате, где лежал капитан Френсис, неярко горела настольная лампа. Я взял ее, подошел к постели. Раскинув руки, капитан спал. Одеяло, обнажая широкую грудь и повязку, сползло на пол. Медальон на тоненькой золотой цепочке был открыт. Может, капитан просыпался и смотрел что-то хранящееся в нем? Я потрогал лоб спящего. Температура была нормальной. Рика стояла рядом, я слышал ее дыхание.
— Хочу поглядеть. — Рика протянула руку к медальону. — Он никому никогда не показывал.
Она положила медальон на ладонь. Я приблизил свет. Там, внутри, были две маленькие фотографии. На одной — симпатичная улыбающаяся женщина и очень серьезный глазастый мальчик. Жена и сын. Кто же еще? На другой фотографии — пароход, вспарывающий воду моря.
— Это его пароход. «Марта Гросс». Вот, — сказала Рика и закрыла крышку медальона. — Пойдем, я замерзла. Ты посиди возле меня, ладно? Расскажи о себе. Мне отчего-то сегодня грустно.
— Хорошо. Мне тоже отчего-то не очень весело. А где моя койка?
— Идем, провожу. Бери лампу.
Я накрыл капитана одеялом. Поправил подушку.
Свет скользнул по стенам. Картины. Модели кораблей.
Скрипнули петли двери. Еще одна большая комната, заставленная койками Койки застланы одинаковыми одеялами. Я взглянул на Рику.
— Это помещение для пострадавших, — сказала она. — А вот эта — моя комната. А рядом — твоя. Зайдем?
Она потянула ручку Дверь скрипнула на петлях. Я поднял лампу и увидел небольшую комнатушку с окном на океан. Стол. Шкаф. Деревянная кровать у стены. Мой саквояж на столе.
— Спокойной ночи, да? — спросил я девочку.
— Я, наверное, сегодня не засну. Столько событий, — ответила она.
— Знаешь, ты такая хорошая девчонка, что мне хочется тебе что-нибудь подарить. На память, — сказал я и, подойдя к столу, поставил на него лампу. Открыл саквояж. А, вот удача! Раковина. Я достал ее, протянул Рике: — Я сам добыл ее у коралловых рифов острова Маврикий. Тут таких нет. Держи.
— Где-то я видела такую ракушку. — Рика нахмурилась, закусила губу. Все лицо ее напряглось в страшном усилии что-то обнаружить в своей памяти. Мотнула головой, и волосы ее рассыпались по худеньким плечам. — Нет. Ничего не помню. Проводи меня в комнату. Потом все уберешь.
Ее комната была еще меньше, чем моя. Рика нырнула под одеяло, и я сел на край кровати. Ветер стихал. Черные тучи лопнули, расползлись, как старая, гнилая материя, и в их рваных прорехах ярко и мощно засияла луна. В комнате пахло уютным керосиновым теплом и пряными сухими травами. В пазу пострекотывал сверчок. Вдруг вроде бы как чьи-то шаги послышались: под окном заскрипел гравий. И Рика встрепенулась, а потом, натягивая одеяло на грудь, сказала:
— Это мальчик с котенком.
— Какой еще мальчик… с котенком?
— Ну тот. Из океана…
— Спи, глупышка. Я пошел.
— Он часто ходит под окнами дома. Подойдет, привстанет и заглядывает в комнату. Хо-олодный такой, за-амерзший. И котишку на руках держит, — спокойно проговорила Рика и зевнула, прикрыв рот ладошкой. — Он всегда после шторма… А после сильной бури они тут все толпами ходят. Ну, эти, моряки и другие погибшие… И тогда капитан крепко-крепко запирает двери, и я сплю с капитаном. Или с Джо. А капитан мне говорил, что и жена его ходит. Вся голубая-голубая. И волосы у нее до земли… отросли за эти годы, но только не черные-черные, как были, а белые-белые… Ну, иди, спи.
— Спокойной ночи, Рика. — Я погладил ее по голове. Наклонился, она обняла меня за шею, стиснула. Я сжал зубы. Наверное, если бы у меня были дети, я бы очень любил их.
— Раковина, — услышал я шепот Рики. — Где-то я такую же видела. Но где?
Неспокойная была ночь. Стонал капитан Френсис, и я ходил к нему, давал пить и поправлял одеяло, которое он сбрасывал на пол. Ветер то утихал, то вновь пытался набрать сил и налетал с океана, ударялся в стены, с тонким щенячьим попискиванием сочился под двери и через стыки непромазанных замазкой оконных стекол. Тучи неслись по небу, и луна то исчезала, то вновь начинала светить ярким, судорожным светом. Кто-то бродил под окнами. Я натягивал одеяло на голову и старался дышать ровно, неторопливо, стискивал веки и считал до тысячи, но сон не шел… Бедный мальчик с котенком… Ему там холодно. Все бродит и бродит под окнами дома, прижимает к груди мокрого, замерзшего котишку… Пустить его, что ли, в дом? Пускай обогреется… Кажется, я вставал и, отдернув штору, глядел в окно и совершенно явственно видел худенького, вихрастого мальчика с рыжим котенком в руках. И голубую женщину с белыми до земли волосами видел. Мальчишку лет восьми, веснушчатого вела она, а тот жался к ней и смотрел-смотрел на меня своими большущими строгими глазами. А за женщиной брел, оставляя на песке глубокие следы, высокий мужчина в камзоле с золотыми пуговицами и треуголке. Скуластый, с жестким взглядом прищуренных глаз, он шел и глядел в сторону океана.
Кажется, я постучал в стекло: эй, моряк! И тот повернулся, кивнул мне. И прошел мимо, а волны набежали на песок и всосали его следы, потом отхлынули — и следы исчезли. И многие другие шли вдоль по берегу. И одиночки, и группками. Шли легкие, невесомые, прозрачные, будто из стекла или тумана. Сколько их! Я прижимался лбом к стеклу и вглядывался в лица, пытаясь найти знакомые черты… Три года назад погиб в океане мой приятель Валька Комков. Может, и Валька Комков бредет мимо дома, в котором я ночую?..
Посреди ночи из комнаты Рики послышался крик.
Я открыл глаза. Вытер лоб. Фу, черт!.. Приснится же такое! Видно, лишнего вчера выпил… Хотя и всего-то… Но, наверное, морская вода придает алкоголю особую крепость. Кто-то кричал или мне показалось? Завернувшись в одеяло, я вошел в комнату Рики.
Девочка сидела в постели. В лунном свете лицо ее казалось необыкновенно белым, и на этом белом лице ярко и четко выделялись широко раскрытые, полные ужаса глаза. Увидев меня, она рванулась, протянула руки.
— Что с тобой, малышка? — Она вся дрожала. — Приснилось что-нибудь, да? Вот и мне…
— Ра-аковина… Я вспо-омнила, вспомнила…
— Что ты вспомнила, что?
— Нет-нет… — Она заплакала.
Я сидел рядом, поглаживал ей спину. Потом услышал, как она облегченно вздохнула и стихла. Я ушел к себе.
Ржание лошади. Смех. Чьи-то голоса. Топот ног. Я открыл глаза. В распахнутое окно упруго вливался морской воздух, шевелил занавески. Ярко светило солнце. Шмель летал по комнате и туго гудел, как маленький самолет.
Потянулся за часами: уже восьмой час! Проспал такое утро! А как-то мой капитан Френсис?.. Рика? Что она вспомнила? Мальчик с котенком… Я его видел совершенно отчетливо: коротенькая курточка, руки, вылезшие из рукавов. Если бы у меня был сын, он бы тоже любил природу, животных, птиц, котят. Я бы воспитал его таким: добрым и смелым, я рассказывал бы ему про далекие страны, про та, какая зеленая-презеленая вода в Андамском море, какие высоченные волны в середке Индийского океана и про Малай-базар в Сингапуре. А если бы девочка, она была бы такой, как Рика. Я бы сам укладывал ее спать, гладил, рассказывал ей всякие морские были-небылицы, собирал на далеких островах красивые ракушки и дарил бы Рике… или — Катеньке, Анечке… Ах, ч-черт!..
— Док, завтракать! — загремел из соседней комнаты голос толстяка Джо. — Ты проснулся? К тебе можно?
— Входи. Штаны уже натягиваю, — сказал я.
Под мощным ударом ладони дверь комнаты распахнулась, и вошел краснолицый, сияющий, пахнущий морем и жареной рыбой Джо. Он опустился на стул, который чуть не рассыпался под ним, и потянул из прожженного кармана рубахи недокуренную сигару. Разжег ее. Задымил. Скрестил на необъятной груди мускулистые ручищи и весело заговорил:
— Все в порядке на рудовозе «Король Георг Четвертый»! Выкарабкались. Не сожрал их океан! И никто не погиб, не отдал богу душу в эту ночку. И с «Сириусом» я переговаривался: спрашивали, как дела. Не стал я тебя тормошить, сказал, что все о’кей! Привет до нового радиосеанса.
— Как капитан?
— Ха! Капитан уже поднялся. Говорит: у него все заросло.
— Что? Я вот ему поднимусь! Капитан! Немедленно в постель! — закричал я, втоптывая ногу в ботинок. — А, Рика, здравствуй…
— Доброе утро. Идите завтракать. — Девочка заглянула в комнату. Лицо у нее было бледным, под глазами лежала синева. — Все готово.
— Послушай, что с тобой? — спросил ее толстяк Джо и схватил за руку, потянул к себе. Рика уткнулась ему лицом в шею. — Девочка ты моя… Тебе нездоровится? Доктор, поглядите, может, она заболела? Ведь она сегодня еще ни разу не улыбнулась.
— Пусти, — сказала Рика и, вырвавшись из его рук, метнулась из комнаты.
А капитан Френсис действительно уже поднялся. Когда я выглянул из комнаты, он вошел в дом. Он опирался на трость и шагал очень медленно и осторожно, но лицо его сияло от счастья.
— Черт бы вас побрал, капитан, — сказал я. — Хотите, чтобы швы разошлись?
— Ложусь, док, ложусь, — смиренно пробормотал капитан и осторожно опустился на койку. — Спасибо тебе, дружище. Как это по-морскому, по-братски: прийти вот так на сигнал бедствия…
— Оставьте, капитан. Ложитесь. Вот так. Дайте-ка я погляжу, как шов…
— Не люблю болтать, док. Да-да, я больше люблю молчать, но сейчас мне хочется говорить добрые слова. Сегодня я открыл глаза и подумал: жив. Солнце светило в окно, трава шуршала, волны гремели. Чайки кричали. Я жив! И знаете, о чем я думал? Вот вы помогли мне в невероятно трудную для меня минуту, и я… знаете, что теперь должен сделать я? Я должен нести людям еще больше добра, чем нес и давал раньше. Ведь это так важно — отозваться на зов терпящего бедствие. И клянусь вам…
— Капитан! Я и не думал, что ты можешь произнести столько слов за один прием. — Толстяк Джо засмеялся, вытащил бутылку из заднего кармана отвислых брюк и протянул мне, но я отстранил его руку. И тогда Джо сказал: — Хлебни ты, капитан. И отдыхай. Рика тебе сейчас принесет кусище трески. И мы пойдем набьем трюмы, а потом я возьму трубу и сыграю. В честь твоего выздоровления. В честь экипажа рудовоза, выдержавшего схватку со штормом. В честь синего неба, солнца и шороха травы, черт возьми!
Завтракали втроем. И Бен, и Грегори, и отец Фернандо отправились в объезд острова, а второй радист спал после ночной вахты.
В просторной кухне золотисто сияли свежевымытые полы, на полках стояла разная утварь, висели медные, начищенные до жаркого блеска кастрюли и кастрюльки. В большой печи гудел огонь. Было жарко. Рика распахнула окно и дверь. Тугой теплый и пахнущий морскими водорослями и сеном воздух прокатывался по кухне. В окно был виден все еще неспокойный океан, чайки, сидящие на берегу, а в открытую дверь — золотисто-желтые холмы, зеленая трава на их склонах. Лошадь и жеребенок стояли на склоне, и ветер красиво шевелил золотистую гриву лошади. А у порога кухни толпились с десяток маленьких черных кур во главе с крупным огненно-красным петухом.
Ели жареную треску с вареной картошкой.
— Чего выпустила птиц из курятника? — спросил толстяк Джо, прямо рукой вытаскивая из сковороды самый большой кусище рыбы.
— А пускай погуляют, — сказала Рика и прикрикнула на Джо: — Опять в сковородку с руками? Вот же вилка.
— Прости, девочка, — пробормотал Джо и облизал пальцы.
— Отец Джо! — Рика строго свела брови. — Вот же салфетка.
— Да-да, милая. — Джо схватил салфетку, вытер губы и потом трубно сморкнулся в нее и, видя, как Рика уставилась ему в лицо, поспешно спросил: — Тебе нужно в чем-нибудь помочь?
— Когда я тебя приучу умению вести себя за столом? — сердито сказала Рика. — В приличную компанию тебя не пустишь… И вот: откуда у тебя новая дыра?!
Толстяк Джо скосил глаза. Сидел он за столом в одной тельняшке. На боку зияла дыра. И в этой дыре матово светилась кожа, на которой виднелась четкая синяя татуировка. Чья-то хорошенькая головка с большими синими глазами выглядывала из дыры…
— Натягивал, а ткань: тр-рр-ыы! — сказал Джо. — Рика! Что с тобой? Я никогда не видел тебя такой злой.
— Надоели вы мне все, — сказала Рика и швырнула вилку. — Вы все как дети! Все на вас рвется, трещит: тр-ры! Пачкаетесь, как поросята, что ни день, то стирка. Что ни день, то гора белья. А простыни?! — Она повернулась ко мне, в глазах ее стояли слезы. — Стираю-стираю, глажу-глажу… Постелю, а он… — Рика ткнула в сторону Джо пальцем, — бух в постель в одежде. В сырой! В грязной!
Покраснев, с великим смущением на лице толстяк, зацепившись за угол и чуть не опрокинув стол, вылез из-за стола и подошел к Рике. Попытался ее обнять, но она оттолкнула его:
— Отойди! Ненавижу! Ну погляди, погляди на себя…
Толстяк Джо оглядел себя. Смущенно улыбаясь, развел руками.
— Ничего не видишь, да? А ширинку кто будет застегивать, кто?
— Пуговички потерялись… — пробормотал Джо, стыдливо прикрываясь ладонями. — Я ее булавкой, а она…
— «По-отерялись… Бу-улавкой»! У нас что, на острове есть магазин? Я что, могу пойти и купить пуговичку? Вот пришью тебе сегодня пуговицы! Медные. С пушками! Снимай брюки…
— Но, милая моя…
— Снимай, снимай… некогда мне. Сейчас я уйду с доком на свой участок. — Рика поднялась из-за стола, поспешно стала убирать посуду. Глаза ее сверкали от ярости. Она швырялась тарелками и вилками. Остановилась. Выкрикнула: — Ну, быстрее же! Мне еще гладить, шить, штопать. Мне еще кормить кур и лошадей и мыть два дома. Мне еще поливать картошку, полоть ягоды, мне еще…
— Я все сделаю, я помогу.. — Толстяк Джо грузно прыгал на одной ноге, пытаясь выпутать вторую из штанины.
Снял наконец-то. Схватив брюки, Рика ушла в дом. А мы с Джо убрали все, я протер стол тряпкой и подмел. Джо топтался рядом, помогал, но как-то все у него плохо получалось. Вилки падали на пол, веником он шаркал с такой яростью, что мусор улетал к противоположной стене кухни. Отобрав у него веник, я сказал:
— Иди-ка покури…
— Пойду-ка, — согласился Джо. А потом воскликнул: — А! Пойдем-ка мы с тобой поиграем на трубе! Пока она там пришивает…
— Вот и порядок в кухне. На какой еще трубе?
— О, у меня самая большая в мире духовая труба, — сказал толстяк Джо и, схватив меня за рукав, потянул к двери. — Когда я играю, то говорят: звуки слышны в Канаде. А до Канады — более двухсот миль. — Лицо у Джо сияло. — Не веришь? А вот пойдем-ка, пойдем.
— Так без брюк и пойдешь? И куда идти-то?
— А какая разница: в брюках или без? Куда идти? Да во-он на эту дюну. Там у меня кресло стоит.
Трусы у толстяка Джо были сшиты из старой тельняшки. Весь полосатый, как тигр, в громадных ботинках на босу ногу, с сигарой, которую он уже успел закурить, Джо заспешил к маленькому сарайчику, примыкавшему к дому. Распахнул дверь. Я заглянул и увидел нечто громадное, медное, ярко сверкающее, как бы возлежащее на старой деревянной кровати. Что-то бормоча — по тону голоса я понял: нежное и доброе, — Джо вошел в сарайчик, наклонился и, слегка закряхтев, ухватился, поднял и понес, как ребенка, невероятных размеров трубищу.
В жизни я такой не видел. Когда, закрывая дверь, Джо поставил трубу на землю, ее жерлообразный раструб был еще на полметра выше его головы. Улыбнувшись мне — какая великанша, какая красавица! — Джо нежно обтер сияющее тело трубы рукавом тельняшки, обнял, прижался толстым лицом к металлу. А потом, слегка побагровев, подхватил трубу и зашагал в сторону дюны.
Откос был крутой, осыпающийся. Толстяк шумно дышал, по его лицу и медно-красной шее лился пот, а воздух, нагретый телом, слегка дрожал и колебался над ним, и я подумал о том, что небольшой планер мог бы сейчас кружить и парить в теплых воздушных потоках, согретых громадным горячим телом Джо.
Но вот и вершина. Свежий ветер, сильный тут, над дюной, овеял наши лица. Лежала внизу зеленая долина, чуть дальше виднелась свинцовая пластина озера, еще дальше — дюны, и среди них — одна, самая высокая, золотисто-белая, а позади нас и там, впереди, за дюнами, простирался синий-пресиний, кое-где расчерченный белыми лентами пены океан. А в долине паслись лошади. Вправо от нас — один косяк, влево — другой. Жеребята носились друг за дружкой, выпрыгивали из высокой травы, брыкались, валялись на берегу озера.
Мы прошли еще с десяток шагов, и с облегченным вздохом Джо опустился в промятое кресло. Оно стояло прямо на песке, и ножки увязли до самого сиденья. Придерживая трубу одной рукой, Джо ухватился за спинку кресла и, рванув, выдернул его из песка. Сел. Поставил трубу на колени. Уперся в мундштук толстыми губами и, зажмурившись, вдул воздух в гигантский медный механизм. И труба оглушительно рявкнула. Лошади в долине подняли головы, прислушались.
Я опустился на траву. Могучие, рокочущие звуки поплыли над островом. Что играл Джо, какую мелодию — понять было невозможно. Закрыв глаза, раздувая толстые, лоснящиеся от пота щеки, он дул и дул и перебирал толстыми, короткими пальцами. Нет, подобного концерта мне слышать еще не приходилось… Я поднял глаза выше раструба, и мне показалось, что увидел, как поток воздуха стремительно выплескивается из трубы.
— Гляди, гляди, док, — радостно сказал мне толстяк Джо, оторвавшись на минуту от мундштука. Курнув сигару, которая лежала на песке и слегка дымила, как затухающая головешка, Джо показал мне рукой в долину: — Идут. О, как они любят мою игру!
Дикие лошади подходили к дюне. Помахивая гривами и хвостами, задирая головы, наверное, чтобы увидеть музыканта, они торопились на необыкновенный концерт. Джо заиграл вновь. Лошади подходили все ближе и ближе. Я с любопытством разглядывал их добрые мохнатые морды, их большие карие глаза. Длиннющие гривы, которые никто никогда не подстригал, длиннющие, до самой земли, хвосты. Остановились метрах в двадцати от нас. Слушают, подняв уши торчком. Фыркают, всплескивают хвостами, отгоняя назойливых слепней.
— Сейчас можно подойти к любой, — сказал Джо, отрываясь от мундштука. — И можно гладить. Садиться верхом. А они — ничего. Они будто гипнотизируются музыкой. И такое состояние у них день-два. И вот… — Джо опять схватил сигару, вздохнул несколько раз и выдохнул дым, — и вот, когда надо накосить сена в долине… для наших, одомашненных, лошадей, я поднимаюсь и играю на трубе. А потом мы идем и косим.
— Играл когда-то в оркестре? — спросил я.
— Нет. Любитель, — торжественно и серьезно ответил Джо. И улыбнулся печально. — Все мои беды от этой трубы. Это уж точно, док. Было мне лет двадцать, когда я увидел ее в магазине. И мне захотелось играть на ней. Купил. Начал учиться играть. Гонят меня все! Уж больно звук силен. Жил-то ведь я в большом городе, в большом доме. Пришлось играть в подвале. Играю, а весь дом сотрясается. Играл на чердаке. Погнали и оттуда. «Звуки кровлю разрушают», — заявил домовладелец. Ездил играть на пустырях, свалках, помойках. Да какое — ездил! Ходил, таскал трубу через весь город — ведь с ней ни в такси, ни в автобус. И вот когда узнал, что на острове Сейбл на спасательной станции есть вакантное место, — поехал. Играю вот тут. И сочиняю. Вот послушай, док. Концерт называется «Остров в океане».
Кинув сигару на песок, Джо обхватил трубу руками, прижал ее пылающее, сияющее тело к своему необъятному животу и выдул такие мощные звуки, что мне показалось, будто это ревет супертанкер, расчищающий себе дорогу в узком Маллакском проливе.
— Однажды был сильный туман. А ревун острова, укрепленный на башне Ист-Флашстаф, вышел из строя. — Толстяк Джо составил трубу с колен на песок и, обнимая ее правой рукой, левой поглаживал по сияющему боку. — Так вот: туман. Три траулера ползают возле острова, а там еще какое-то судно прет из Канады в Европу. И — прямо на наш остров… А ревун молчит! Взял тогда я свою трубу, поднялся на дюну и затрубил. Я трубил восемнадцать часов, док. Я думал, что умру в тот страшный день. Но я знал, что суда могут сбиться в тумане с курса, и трубил, трубил, трубил. Рассеялся туман. Друзья уволокли меня в дом на руках. Я проболел, док, неделю. Я выдул из себя все силы… А, плевать. В этом ли дело? Радиограмму мы получили с канадского теплохода. «Вышел строя радиолокатор, компас. Сбились курса. Шли прямо остров Сейбл. Счастью услышали работу вашего могучего тифона. Благодарим вас…» — Толстяк Джо засмеялся, поцеловал трубу сочным поцелуем, потом потер это место рукавом тельняшки. — И знаешь еще что, док: я болел, и Рика…
— Рика?
— Ну да, Вика-Рика, она ухаживала за мной, она ночами не спала, дежурила возле. Мы были целую неделю рядышком, друг возле друга. И это было… — не окончив рассказа, толстяк Джо схватил трубу и рывком взгромоздил ее себе на колени. Громко сказал: — Концерт называется «Девочка из океана».
— Джо-оо! — послышалось в это время из-под дюны.
Размахивая брюками, к нам поднималась Рика. Петух и куры бежали за ней. Рика останавливалась, махала на них руками, но куры не возвращались к дому.
— На, надевай. Как не стыдно! — Рика кинула толстяку Джо его брюки, а сама, подхватив горсть песка, швырнула в петуха и кур. Заквохтав, Петька принял на себя удар и лишь слегка попятился, всем своим видом показывая, что назад ни он, ни его воинство не повернет. Рика поглядела на меня. Развела руками: — Вот так всегда. Если не запру их в курятнике, так и идут за мной, так и идут!
— Да и пускай идут, — робко сказал толстяк Джо. Удерживая одной рукой трубу, он пытался надеть брюки. Топтался, прыгал на одном месте, тыкаясь толстой волосатой ножищей в широченную, как картофельный мешок, штанину. Я ухватился за трубу, и Джо, благодарно взглянув на меня, быстренько оделся. — А куда ты собралась?
— Я свожу дока на гору Риггинг. Покажу ему Морскую Деву. И… — Она поглядела на меня. — Послушай, русский, ты когда-нибудь слышал, как кричат потопленные корабли?
— А разве такое бывает?
— Бывает. А ты, отец Джо, отправляйся домой. Картошку надо полить. Да как следует полей, не как в прошлый раз.
— Хорошо, детка, хорошо. — Толстяк Джо вытер губы рукавом тельняшки и, увидев строгий взгляд девочки, торопливо выдернул из кармана носовой платок. Встряхнув, развернул его. Отчего-то посредине платка оказалась черная безобразная дыра. Видимо, Джо сунул еще горящую сигару в карман. Скомкав платок, засопев, как высунувшийся из проруби морж, Джо с кряхтением взгромоздил на себя трубу и, оставляя глубокие следы, стал спускаться с дюны.
— Вот живи тут с ними… С такими! — выкрикнула Рика и дернула меня за рукав: пошли. И сама быстро пошла. Резким движением отбросив волосы на спину, сердито продолжила: — Как дети! Все на них рвется, носки дырявятся, пуговицы теряются. Ужас! Едят — руки о скатерть вытирают. А отец Джо! О! Он когда-нибудь устроит пожар на Майн-Стейшен, устроит! Засыпает с сигарой во рту. То нос спалил, в другой раз — губы сжег, в третий — горящий пепел упал на одеяло. Сплю. Чувствую — паленой ватой пахнет… Кши! Кши! — нагнувшись, она кинула песком в кур, и те остановились, но стоило нам пойти, как и петух и куры плотной толпой ринулись за нами. Рика засмеялась, а потом посерьезнела. Сведя брови, продолжила: — Чувствую, паленой ватой пахнет. Вскакиваю. Дым валит от одеяла, а отец Джо спит, как ни в чем не бывало. Ужас! А отец Фернандо?! Тот читает перед сном. При свече. Да так и забывает. Спит. А однажды свечка упала. Помню: заснула и вдруг просыпаюсь. И думаю — не погасил он свечку, упала она! И вот-вот пожар будет! А ночь, ветер… Вскочила я — и бегом к отцу Фернандо. А это шесть миль… И точно: спит. Книга на груди. А свеча уже наклонилась… Послушай, давай побежим? Может, удерем от кур, а?
— Беги. Догоню!
Взвизгнув, Рика ринулась вперед. Замелькали черные трусики. Волосы прыгали по спине, развевались столбом. Я гнался за ней с изяществом носорога, тянулся к ней рукой, а Рика оглядывалась, хохотала и ловко увертывалась. Позади, вздымая облако пыли, порой взлетая, всквохтывая, неслись табуном куры. Впереди них, как конь на стипль-чезе, петух. Птицы немного поотстали, но, судя по решительному виду петуха, сдаваться не собирались.
Девочка вдруг споткнулась и упала врастяжку. Вскрикнула. Схватилась за коленку. Я опустился рядом. Она сильно ударилась, содрала с коленки кожу. Побелела, стиснула зубы.
— Ну-ка, убери руки. — Я достал индивидуальный пакет, который всегда таскаю с собой в кармане куртки. — Дай подую, и все пройдет.
Она вдруг закрыла лицо ладонями.
— Будь мужественной. Ведь не так уж и больно, а?
— Я не от боли, нет… — проговорила она. — Просто мне… мне очень-очень плохо. Произошло ужасное, ужасное!
— Что же произошло, что? Ну-ка, вытяни ногу. Не давит?
— Я не могу сказать, не могу.
— Ну и не надо. Гляди, куры нас настигают.
Петух и куры мчались изо всех сил. Нагнали. Остановились шагах в пяти от нас. Петух встряхнулся, а за ним и куры. Облако пыли и перьев повисло в воздухе.
Рика улыбнулась, утерла ладошкой слезы, как-то робко, с непонятным для меня немым вопросом взглянула в мое лицо. О чем-то хотела спросить? Или хотела сказать что-то очень важное? Протянула руку, и я помог ей подняться. Потопала ногой. Потом, пошарив в кармане куртки, достала синюю, немного выцветшую ленту и, откинув волосы на спину, попросила:
— Завяжи. Конским хвостиком.
Я завязал. И подумал, что если б у меня был ребенок, девочка, я бы по утрам приходил ее будить, заплетал ей волосы в одну или две толстые косы, я бы расчесывал их гребенкой или делал бы вот такой конский хвостик.
— Спасибо. Ты знаешь, ноге совсем не больно.
— Куда мы торопимся? Не надо бежать.
— Ага, пойдем, — согласилась Рика и, как бы продолжая начатый рассказ про своих отцов, сказала: — Или вот капитан Френсис. Порой с ним что-то случается по ночам. Обычно во время сильных штормов. Он вдруг поднимается и уходит из дома. Он вроде бы как спит. И не спит. Он поднимается и идет к берегу. Прямо на волны! Однажды я недосмотрела, а он поднялся и ушел. И пошел в океан. И волны сшибли его, и тогда он проснулся. Он только мне говорил, больше никому. И я тебе скажу, а ты никому, ладно?
— Даю слово. Здесь — никому…
— Отец капитан Френсис говорит, что во время шторма по ночам за ним приходит его жена Мануэла и зовет его с собой. В океан. И мальчик, его сын, тоже зовет. И вот однажды… — Она остановилась, посмотрела в океан.
Мы шли по вершинам песчаных холмов. Внизу лежал вылизанный волнами, утрамбованный пляж, а дальше кипела и бурлила вода. Ветер почти стих, но океан еще не мог успокоиться. Волны накатывались из океана, рушились на берег, взгромыхивали. Зеленый океан расстилался до горизонта. Страшное зеленое чудовище… чудовище, которое невозможно не любить и… и не ненавидеть! Сощурив глаза, Вика-Рика постояла немного, потерла забинтованную коленку и продолжила свой рассказ:
— И вот однажды я была на станции Ист-Пойнт. Это — пятнадцать миль от станции Майн-Стейшен. Еще днем начался шторм. Я говорю отцу Роберту, такой отец у меня там: «Отец, надо идти. Капитан, Френсис поднимется ночью и уйдет в океан!» А отец Роберт отвечает: «Кетти, одну я тебя не отпущу, а мне надо быть тут. Видишь — шторм. Мало ли что случится. Я должен находиться на станции. Вот что мы сделаем: я позвоню Джо. Пускай-ка там как следует запрут двери дома и окна. И пускай-ка Джо поглядывает за капитаном». Позвонил он. А шторм все сильнее. Стало темно. Ветер. Дождь. Отец Роберт дежурит в радиорубке, отец Феликс и отец Анджей, их там трое на станции, легли спать. И я легла. Закрою глаза, а сама вижу — капитан поднимается и идет в океан. Ужас! Не могу спать. Оделась и через окно скок! А темнотища-а… Ничего не вижу. И только молнии трах, трах, и гром такой, что кажется, земля разламывается…
— Подожди, я закурю. Давай посидим немного, а?
— Давай. — Она опустилась рядом со мной.
Я закурил и обнял ее за плечи. Я слушал ее, и сердце мое билось учащеннее. И какое-то чувство большой светлой радости испытывал я в этот момент. Какой мужественный человечек, сколько у нее любви к другим людям, она вся соткана из… как это выразиться… заботы и любви к другим. Все в ней настроено на добрый, душевный отзыв.
Широко раздувая ноздри, вдыхая запахи океана, Рика продолжила свой рассказ:
— Дождь. Темно… Ужас! И я пошла. На мне был плащ, я сбросила его — тяжело. И побежала. Я падала, кувыркалась, я исцарапала себе все лицо и ноги. Уф! Часа три бежала. Гляжу: дверь в доме открыта. Койка пустая. Теплая еще, — значит, только поднялся и ушел. Я побежала к океану. Кричу «Отец! Отец!» И вижу: идет. И прямо — на волны. Я побежала, схватила его за руку, плачу, тяну, а он то на меня смотрит — чувствую: не видит, — то куда-то возле себя поглядит и бормочет: «Я иду, иду…» И тут волна ка-ак ударила. Ка-ак накрыла нас… И уносит нас в океан. И тут он проснулся. Подхватил меня и поплыл к берегу. Встал на ноги, прижал меня к себе. Весь дрожит, оглядывается на океан, а потом — бегом домой. Вот тогда-то мне и сказал: «Мануэла вошла в дом. Взяла меня за руку и повела». Представляешь?..
Она закусила губу, задумалась, подперла лицо ладонями.
— И вот я взяла бы вдруг да и уехала с острова, — сказала она немного погодя. Удивленно и тревожно подняла брови. — Но как? Как бросить отца Джо? Вот он возьмет и опять заснет с сигарой. И… вообще. Ведь я люблю его, люблю! — Рика сорвала травинку, закусила острыми зубами. Лицо ее исказилось болезненной гримасой. — И отца капитана Френсиса. И отца Фернандо. Кому он будет рассказывать «Сказки дядюшки Римуса»? Кому будет читать книжки? Уеду, а он… а они…
— Рика, а зачем тебе уезжать? Что произошло?
— Что произошло? Многое произошло, — ответила она и быстро, решительно взглянула на меня, будто собираясь сказать нечто очень важное. Мотнула головой. Отвернулась и обхватила коленки ног руками. — Вот в той стороне живет злой Холодный ветер. Он начинает дуть на остров с осени. Дует, дует, дует. Ветер несет ледяные брызги воды. Они ударяются в стены домов. И прирастают. Знаешь, зимой все стены покрываются льдом. Однажды дверь примерзла к косяку. Да! Мы колотились, колотились… — Она опять задумалась. — А кто им будет шить и стирать? Штопать? А Алекс… если за ним не следить, он столько пьет. Или вот: куры. Это я развела. Кто их будет кормить-поить? Как быть? Как поступить?
— Что как быть? О чем ты?
— Идем, — сказала она. — Скоро отлив. Мы должны быть на холме Риггинг во время отлива. А вот и мой участок! Пойдем вниз.
Мы спустились с дюны на песок пляжа. Вдоль дюн виднелись конские следы. В некоторых местах волны захлестывали на берег так далеко, что смыли следы. И казалось, что лошадь то скакала по сырому песку, то вдруг взлетала, как мифический крылатый конь, и летела вдоль дюн, взмахивая большими, широкими крыльями.
— Это был утренний объезд.
— Поиски морских сокровищ после шторма? — спросил я.
— Нет. Просто раз в сутки делается со станций объезд острова. Так положено: мало ли что. Вдруг людей выбросит? А сокровища? Летние штормы обычно ничего не приносят. Как говорил отец Фернандо — летом волна бежит по самой поверхности океана. А вот осенью, зимой и весной поднимается из глубин. И загребает все, что там оказывается. Понимаешь? И несет, несет к берегу.
Куры и петух все тем же плотным отрядом топали позади нас. Порой Петька останавливался и с утробным довольным коканьем показывал курам небольшую, но приятную находку. Рыбку, оглушенную прибоем и выброшенную на берег, маленького пупырчатого осьминога или раковинку. И куры, толкаясь и вскудахтывая, расклевывали раковину, а потом, по команде петуха, устремлялись за нами следом.
Круг спасательный с надписью «Эстаралла. Гавана», сломанное весло. Пустая канистра из-под бензина, чей-то ботинок. Продранная на ладони перчатка. А вот — большущая треска. Петька ее заметил еще издали и припустил во весь дух, обогнал нас и, подзывая замешкавшихся кур, запрыгал возле рыбины, захлопал крыльями: «Сюда, сюда! Глядите, что я нашел!..» Черным смерчем пронеслись куры. Рика засмеялась, схватила меня за руку, и мы тоже побежали, этим своим бегом несколько озадачив петуха. Вначале он рванулся за нами, но куры и не подумали следовать за ним — плотно обступив рыбину, они потрошили ее. Петух подпрыгнул, захлопал крыльями, он возмущенно что-то выкрикивал на своем петушином языке.
— Он кричит: «Куры, как вам не стыдно! Мы же собирались совершить интереснейшее путешествие. А вы-то, вы?! Вам бы лишь свои желудки набить! Мне стыдно за вас», — на бегу сочинил я.
Рика засмеялась, задумалась.
— Ты все-таки смешно выдумываешь. Если бы ты был моим настоящим отцом…
— Если бы я был твоим отцом… — пробормотал я и вздохнул.
Мы пошли шагом. Говорить было трудно, волны заглушали голоса. И мы шли молча и посматривали во все стороны: а что же еще выкинул океан? Вот вся запутавшаяся в громадный зеленый ком валяется рыбацкая сеть. Оглядев ее, Рика сказала, что это очень хорошая сеть. Ею можно огородить маленький огород с картофелем, а то куры вечно пробираются на него и разрывают посадки. А потом мы обнаружили несколько металлических, похожих на громадные бусины кухтылей-поплавков. Откровенно говоря, мне очень хотелось увидеть на песке древнюю книгу или окованный медью бочонок. С вином. Я бы привез его на «Сириус», мы бы сели в кают-компании: мой сиплоголосый капитан, вечно пахнущий машинным маслом стармех, и наш юный штурман Шурик, и…
— Вот и холм Риггинг. Поднимаемся.
И тут я выковырнул из песка черный толстый сучок. Обломок сгоревшей коряжки, что ли? Наклонился: трубка. Поднял ее — тяжелую, будто вырезанную из железного дерева, сырую, пахнущую не табаком, а океаном. Отряхнул от песка и, достав платок, вытер, потом выбил песок из несколько прогорелого жерла. Рика стояла рядом и, приподнимаясь на носки, заглядывала мне в руки. Колечко, потемневшее у основания чубука. Я потер его платком, и колечко слегка посветлело. Надпись какая-то. Потер еще сильнее и прочитал: «Мэри Энн» — было вырезано на колечке.
— Странно. Мэри Энн курила эту трубку? — сказал я Рике.
— «Мэри Энн» — назывался корабль. Он погиб в 1852 году. И отмечен на карте спасательной станции. Пошли?
Стиснув трубку зубами, ощущая ее сырую горьковатость, я стал подниматься следом за девочкой по крутому откосу холма Риггинг.
— Подожди. Дай мне твой носовой платок. — Рика потянула меня, заставляя опуститься на колени. — Сейчас я завяжу тебе глаза и поведу за собой. А потом ты что-то увидишь. А пока — не подглядывай.
Она плотно завязала мне глаза, проверила, не могу ли я что-либо подсмотреть через щелочки, но я и не желал этого, взяла за руку и повела.
Глухой, равномерный рокот доносился со стороны океана. Шуршал и поскрипывал песок под ногами. Порой мы пересекали участки, покрытые травой, и трава путалась в ногах, хлестала по коленям.
Все круче, круче подъем. Я слышал напряженное дыхание девочки и вскрики чаек, пролетающих над нашими головами, и заливистое стрекотание кузнечиков — порой они выскакивали из травы и ударялись то в руку, то в бок, и веселое попискивание каких-то небольших островных птиц. Когда я поворачивал лицо в сторону океана, то улавливал его влажное, пахнущее остро и тревожно дыхание, а когда поворачивался в сторону долины, которая, по моим представлениям, находилась слева от меня, по другую сторону холма Риггинг, то ощущал густой, сочный запах разогретой солнцем травы и едва уловимый пряный запах диких цветов.
— Еще немножко. Еще… — время от времени говорила Рика. — И сейчас будет такое! Ого, какое сейчас будет…
— Ты плутовка. Куда ты меня ведешь, Вика-Рика-Катрин?
— А вот сейчас! А вот сейчас! Ага, вот мы почти и пришли… Еще десять шагов. Мы уже на вершине! Стой! Пригнись, я развяжу платок. Не открывай глаза пока, не открывай. Ну, а теперь — открывай!
— Что же я сейчас увижу? — сказал я и открыл глаза. И невольно воскликнул: — А, ч-черт… вот это да!
Передо мной стояла обнаженная женщина. Вернее — не стояла, а как бы летела или тянулась длинными, тонкими руками к океану. Деревянная женщина-великанша, фигура величиной примерно в два человеческих роста. У нее было грубое, резко очерченное, с крупными чертами лицо. Нос с горбинкой, выпуклые губы, громадные, немного скошенные к вискам, будто сощурившиеся от ветра, дующего с океана, очень выразительные глаза. Небольшие груди, как форштевень судна, рассекали потоки воздуха, а тело было изящным, с тонкими бедрами, переходящими в рыбий хвост. За спиной женщины вздыбливались деревянные попорченные червем-древоточцем волосы. И все тело-деревянной женщины было пробито черными отверстиями, будто кто-то расстреливал это гибкое и могучее тело из винтовок.
Я сел на песок. Рика опустилась рядом. Достав пачку с сигаретами, я распотрошил две и набил ими трубку. Щелкнула зажигалка. Я почмокал губами, распаляя трубку, и почувствовал, как в мои легкие вошел воздух из трубки, воздух горький и соленый. Я будто ощутил дыхание морских глубин. А потом пошел теплый дым… Какая женщина!.. Трубка!.. Кто и когда дымил этой трубкой в последний раз? Капитан гибнущего корабля? Все уже покинули судно, лишь он один оставался в полуразрушенной ходовой рубке, все еще пытался удержать на курсе тонущий корабль. И стискивал, сжимал зубами трубку… Как все странно. И эта девочка… И эта женщина…
— Откуда она? Кто она?
— Это было прошлой осенью. После шторма. Я пошла на свой участок. — Рика сняла туфли, вытряхнула из них песок и, подогнув под себя ноги, поглядела на фигуру. — Иду. И вдруг чувствую: кто-то смотрит на меня из воды. Ужас! И вижу — голова торчит из волн… И то скроется, то покажется. И гляди-ит, гляди-ит… Отлив был. Я замерла, стою жду. Вода все отходила, отходила, а женщина все поднималась из воды, поднималась. И тянула ко мне руки, тянула. И я подумала: это моя мама. Ведь я — из океана, и вот она пришла за мной. Я закричала и побежала, а мне казалось, что она бежит за мной. — Рика как-то криво усмехнулась и мотнула головой, ветер все время набрасывал ей на лицо прядки волос. — Прибежала я на станцию, кричу: «Моя мама из океана! Она пришла за мной, пришла!» Отправились мы все на берег океана. А потом отец Джо привел двух лошадей и веревку принес. И все вместе мы вытащили эту женщину. Рука одна у нее была сломана, так Джо сделал ей руку. Месяца два женщина из океана стояла на берегу, сохла, а потом все мои двенадцать отцов втащили ее сюда. Вот.
— Эта фигура украшала нос какого-то парусного корабля, — сказал я. — Они укреплялись на форштевнях под бушпритом.
— Ага. Так и отец Фернандо мне говорил.
— И было такое поверье: если кораблю угрожает опасность, а команда не замечает беды, фигура оживает и кричит страшным голосом. Видно, эта деревянная женщина не заметила опасности. И корабль разбился…
— Ага. Все это так. Но все же мне долго казалось, что это моя мама. Отец — не Джо, не Грегори или там капитан Френсис, нет: мой отец — океан, а она — моя мать. И я так всегда думала, и почти каждый день приходила сюда, и разговаривала с моей Деревянной Мамой, и мне казалось, что она понимает меня, и то улыбается, то хмурится. Ужас! Все так было до вчерашнего дня. Но теперь…
Рика закусила губу. Попыхивая трубкой, которая хотя еще и держала в себе сырость морских глубин, но уже ожила, разогрелась, я ждал, что девочка продолжит свой рассказ, и глядел то на ее лицо, то на лицо деревянной женщины и улавливал сходные черточки в линии губ, носа, в разрезе глаз. Да, Рика так похожа на нее! Эту, из океана. «Ч-черт… И на меня начинает все э т о действовать, — тут же подумал я. — Нет-нет, никакого сходства. И лицо у женщины деревянно-жесткое, грубое, ожесточенное, а у Рики… хотя и у Рики… и у нее в лице ощущается не свойственная такому возрасту суровость. Ей не хватает ласки. Вот что! Все ее отцы дружны с ней, все ее любят. Но ей нужен — один, очень добрый, очень понятливый отец. Душа ребенка тоскует по ласке, нежности и постоянном, добром внимании». А о чем я подумал, имея в виду слово э т о? А, вот о чем! Все они тут, обитатели острова, несколько свихнуты, все они в какой-то степени не очень нормальные люди. И капитан, к которому приходит зеленая, прозрачная женщина, и добряк Джо с его трубой, и рыжий Алекс с его надеждой на бочонок с золотом. И Рика… Потеря памяти? Да и может ли устоять нервная система у любого человека, оказавшегося один на один среди бушующих волн? Да-да. Все э т о действует и на меня. Проживи я тут какое-то время — и настанет день, когда я увижу, как деревянная женщина улыбается мне.
— Но теперь… — опять начала Рика.
— Что же теперь?
— А теперь… а теперь послушай. Ты слышишь, как шелестят деревянные волосы Женщины из Океана?
— Слышу, — сказал я и поднялся.
Вечерело. Солнце клонилось к горизонту, и над океаном, островом, долиной и дюнами расплывался алый свет. Солнечные блики будто омывали тело деревянной женщины и наполняли его живым теплом. И лицо.. Оно жило, жило! Деревянная женщина глядела в океан и тянулась к нему руками, звала его к себе короткими, согнутыми пальцами, просила: «Забери меня, забери!»
Чертовщина. Еще немного, и о н а заговорит со мной. Я протянул руку и дотронулся до деревянной груди. И показалось мне, будто я уловил тяжелый и ровный стук деревянного сердца. Отдернув руку, я вернулся к Рике и сел рядом. Задымил трубкой. Голова слегка кружилась. Мне все время хотелось смотреть и смотреть на деревянную женщину, но усилием воли я не поворачивал голову.
— Вот сейчас будет самое главное. Самое страшное, — сказала Рика.
— Что еще сейчас будет, что? — Мой голос сел от табака, и я не спросил, а как-то просипел: — А не пора ли нам домой? Как-то там капитан Френсис?
— Да-да. Скоро мы пойдем домой. Но вначале ты должен увидеть э т о. И услышать э т о.
Она зябко повела плечами. Я снял куртку, накинул ей на плечи и, обняв, прижал к себе. Рика замерла, притаилась, как замерзший воробей под стрехой. Все лицо ее было полно ожидания, а в глазах прыгали и переливались золотистые огоньки.
Слабый вздох пронесся над океаном Может, это ветер прошелестел в траве? Нет, ветер почти совсем стих, и волны уже не грохотали, а лишь вяло всплескивались — начавшийся отлив убил в них силу и ярость.
И снова вздох. Рика шевельнулась и повела глазами влево.
И я посмотрел влево. И увидел, как из волн поднимается ржавый корпус судна. Погнутые леера. Зазубренный железный борт, рыжий от ржавчины якорный клюз и в нем лохматая от водорослей и ракушечника якорная цепь.
Еще вздох Тяжкий, долгий.
— Траулер «Дженни Рей». Погиб в 1954 году, — сказала Рика. — Это он так вздыхает.
— Вода выливается из него, воздух врывается в нутро. А потом волны выжимают воду и…
— Траулер вздыхает, — упрямо повторила Рика. — А вот и труба парохода «Хаймбелл» показалась. О, этот сейчас застонет!
И я увидел толстую и короткую трубу. И обломок мачты. А потом — край рубки. Отлив был стремительным, на мелководье вода всегда быстро уходит от берега, и уходит далеко. И потопленный, разрушенный океаном и временем пароход как бы выплывал из волн. Резкий и протяжный звук разнесся над водой. Я вздрогнул и почувствовал, как Рика прижалась ко мне. Да, это напоминало стон! Не зверя, не человека — странный, жуткий стон растерзанного железного существа.
— «Джейсти Ловитт». Во-он, видишь? Бушприт задрала… — шептала Рика. — А правее — обломки корабля «Гардона», а рядом — мачты «Адельфии». А вот и «Гид» показался, а там, мористее, — рубка «Арга».
Океан отступал от берега, и из воды показывались черные с дырами иллюминаторов корпуса траулеров и пароходов и осклизлые, со сломанными мачтами и реями, с путаницей обвислых, заросших водорослями вант, корабли. Сколько их! Какую страшную жатву собрал тут океан!
Любой моряк знает, что каждый год в морях и океанах гибнут, а порой и пропадают без вести, не сообщив о своей судьбе ни единым сигналом, сотни больших и маленьких кораблей. Смертельная опасность ходит, а вернее, плывет за любым моряком в течение каждого рейса. Но как солдат, идущий в бой и знающий, что его могут убить, но верящий, что убьют-то не его, так и моряк верит, что хотя в морях и океанах гибнут многие и многие суда, а с ними и многие-многие моряки, но его-то траулер, его судно никогда не погибнет и что он — конкретный живой человек — будет всегда жив-здоров и обязательно вернется в родной порт. И шагнет с трапа, опьяненный сиянием глаз любимой, оглушенный ее жарким шепотом: «Родной, наконец-то! Я так ждала!»
Все это так. И я верил и верю в свою счастливую морскую судьбу, верю, что меня положат в землю, что моей могилой не будут черные океанские глубины. Но в этот момент при виде стольких погибших кораблей мной овладел страх. Сколько их! Когда-то красивых, стремительных, поющих вантами и гудящих парусами. Как ровно и уверенно погромыхивали живые, маслено посверкивающие, дышащие жаром в чреве этих разрушенных судовых корпусов машины. Моряки стояли на вахтах. Офицеры собирались в салонах, бренчали расстроенные пианино. Кто-то по ночам стоял на палубе под шлюпкой и любовался луной, купающейся в кильватерной струе…
— Больше не могу, — сказал я и поднялся. — Идем.
— Ты слышишь? Стонут. Они кричат, вздыхают, — сказала Рика. Она вцепилась мне в руку. — Ты только погляди, сколько погибших кораблей… Не ходи больше в море: теперь я буду думать и о тебе и беспокоиться… А мне и так тяжело!
— Идем, Рика!
— Подожди. Я тебе что-то скажу. Важное! — Она подняла искривленное гримасой лицо и выкрикнула: — Я все вспомнила!
— Что ты вспомнила?
— Ты мне раковину подарил, да? А я и раньше видела такую. А тут… И вдруг вспомнила: такую раковину мне привез с моря отец. И я вдруг увидела его. Он поднимается по лестнице, я бегу к нему, а у него в руке — раковина. А от раковины… И дом вспомнила. И маму… И дедушку, и брата.
— Как же так?.. Да-да, так бывает. Какой-то предмет как кончик в клубке возвращающейся памяти.
— Дженни Холл, вот кто я! Из Плимута. А дом наш — на Джонсон-стрит, вот! И я вспомнила, как все было, вспомнила!
— Рассказывай, рассказывай.
— Мы пошли в Канаду на нашей яхте «Марин». Втроем: папа, мама и я. И все было хорошо. И свою каюту я помню. И ту раковину — она лежала на столике у зеркала. А потом начался шторм. Сломалась мачта. И нас перевернуло. Спасательный плот отчего-то не надулся, а была лишь маленькая, игрушечная надувашка. Меня положили в надувашку. А папа и мама держались за нее, но она не выдерживала троих и тонула, тонула… И тогда папа… — Рика передохнула, — и тогда папа отцепился и поплыл в сторону. А потом — мама. Она схватила меня, поцеловала и поплыла к отцу.
— Идем, — сказал я. — Надо сообщить. У тебя ведь остался дед и брат?
— Сообщить?! А как же отец Джо? А капитан Френсис? А… Как я могу оставить их тут, одних, как?
— Рика, Рика… — Я сжал ее худенькое тельце.
Вздыхали, стонали погибшие корабли. Солнце опускалось к расплавленной кромке океана. Тревогой и безнадежностью, отчаянием веяло от красного закатного света. Резкие черно-красные тени лежали на жестком и вместе с тем красивом лице деревянной женщины.
Было уже темно, когда мы подошли к спасательной станции. Еще издали мы увидели, что возле слипа ярко горит свет, там торопливо и как-то нервно двигались люди, что-то несли, укладывали в спасательный катер.
Отлив кончился. Начался такой же бурный, как и отлив, прилив. Из посеребренной луной океанской шири выкатывались водяные валы. Вечер был теплым, душным, и, как всегда бывает в такие теплые и душные вечера и ночи, душой овладевало неясное беспокойство. А вода, ее всплески тускло светились голубоватым фосфоресцирующим светом…
— Что-то там случилось, — сказала Рика. — Идем быстрее.
— Эй, док! «Сириус» тебя без конца вызывает, — услышал я толстяка Джо.
— А что у вас происходит? — спросил я, шагая рядом с ним.
— Огонек в океане мелькает. Погляди во-он туда.
— Вижу, вижу! — воскликнула Рика. — Наверное, огонь спасательного жилета. Или спасательного круга.
— Угу, — буркнул толстяк Джо. — Сейчас мы пойдем к нему. Накат очень сильный, если там человек — он погибнет в приливных волнах. Нам надо успеть его выхватить из воды.
— Как капитан?
— Еле заставили его лежать. Узнал про огонь в океане — и полез из койки. Хоть привязывай.
— Такие волны… Накат! — с сомнением сказал я и поглядел на океан. Разрезанные рельсами слипа, волны добрасывались чуть не до самой шлюпки.
— Разве это волны? — усмехнулся Джо. — Проскочим их и не заметим.
Он рванул дверь. Прошел в рубку, и мы с Рикой — за ним.
Сорвав трубку радиотелефона, Джо установил шестнадцатый канал и пророкотал:
— «Сириус», «Сириус»! — Прислушался, протянул мне трубку.
— Остров Сейбл! Остров Сейбл! «Сириус» на связи. Пришел там наш док? — услышал я искаженный расстоянием, шорохами, потрескиванием голос радиста. — Алло! Остров Сейбл, остров Сейбл!
— На связи остров, — отозвался я. — Ну что там у вас?
— Толик, ты? Сейчас будешь говорить с капитаном.
— Толик! Как там дела? Как больной? — тотчас зарокотал голос моего капитана. — Прием!
— С больным хорошо. Могу возвращаться на судно хоть завтра.
— Не хоть завтра, а если возможно — сегодня. Попроси островитян… Получили указание срочно сниматься в новый район. Как понял?
— Просят, если можно, доставить меня сегодня на судно, — сказал я толстяку Джо.
— Как сегодня? Как сегодня?! — выкрикнула Рика. — Мы еще должны поговорить… Мы еще ничего не решили! Мы ведь…
— Жаль, что так получается, — сказал Джо и посуровел, а потом улыбнулся, пожал толстыми плечами. — Что ж, все кстати. Мы спускаем шлюпку.
— Джо?! Черт тебя подери, ты там долго еще будешь торчать в радиорубке? — послышался голос Алекса. — Быстрее.
— Русский уходит с нами, — отозвался Джо. — Спасательный пояс для него в шлюпку. И его вещи. — Потом он сказал мне: — Пускай подходит на Мидл-Банк. Там будем ждать.
— Капитан! Идите на Мидл-Банк, — сказал я в трубку. — Как поняли? И далеко вы от Мидл-Банк?
— Да рядышком, — весело отозвался капитан. — Через час будем на Мидл-Банк. Все. Закрываю связь.
— До встречи. — Я отдал трубку толстяку Джо. — Пойдемте быстренько к Френсису и можем отправляться… Рика, где ты?
— Я тут, тут… — Девочка схватила меня за руку.
Мы вышли из дома, мимо быстро прошел Алекс, он нес мой саквояж и красный спасательный жилет.
— Поторапливайся, док, — сказал он. — Если там человек…
— Как себя чувствуете, капитан? — крикнул я еще с порога дома.
— Отлично, мой друг, — послышалось в ответ.
Капитан действительно выглядел отлично. Он сидел на койке и глядел в черное окно. Повернул ко мне свое резко очерченное, обтянутое по скулам сухой кожей лицо, сказал:
— На мне все раны как на собаке заживают.
— Поднимите рубаху. Здесь больно? Здесь? — Шов был великолепен. Я даже залюбовался своей работой. Зарастет, и не заметишь. Чистенько получилось. — Когда будете на материке, сходите в больницу, — сказал я, опуская рубаху. — Вам там вынут нитки. Ну, салют!
Капитан протянул мне руку, я свою, и он до боли сжал мне ладонь, взглянул заблестевшими глазами в лицо, а потом отвернулся к черному окну.
— Садиться, — резко и властно сказал толстяк Джо. В красном спасательном жилете он был еще толще, массивнее: человек-гора. — Док, быстро надевай жилет. Алекс, заводи.
— Да-да… Я готов. А где же Рика? Я еще не попрощался. Я зашел к капитану, а она…
— Рика, Рика! — заорал рыжий Алекс. — Мы уходим!
— Тут я, тут! И я с вами.
Размахивая жилетом, девочка бежала к шлюпке. Она быстро вскарабкалась на эстакаду и махнула через борт. Алекс толкнул ее — выйди из шлюпки! Рика вцепилась в рукав моей куртки с таким видом, что было ясно — хоть руки ей оторви, но она не разожмет пальцев.
— Заводи! — снова рявкнул толстяк Джо.
— Всего вам доброго в жизни, — услышал я голос отца Грегори. — Я буду молиться за вас!
Взревел двигатель. Остро запахло сгоревшей соляркой. Толстяк Джо приподнялся и рванул на себя защитный каркас. Передняя половина шлюпки оказалась закрытой. Джо махнул рукой отцу Грегори, а тот повернул стопорный рычаг, и вагонетка, на которой стояла наша спасательная шлюпка, с тугим гудением колес покатилась по рельсам.
— Держи-ись! — разнесся голос толстяка Джо.
Стоя на корме, приподнимаясь, чтобы лучше видеть приближающиеся, освещенные небольшим носовым прожектором волны, он держал румпель.
Толчок. Жесткий удар днища о воду. Плеск. Волны и справа и слева. Рику бросило на меня, я схватил ее и почувствовал, как сначала шлюпка взлетела вверх, на волну, и как, спустя мгновение, ринулась вниз, под волну. Еще взлет. Еще падение. Пена и брызги летели через борт и тент, отблески света падали на лица Алекса и толстяка Джо. Алекс оскалился и весь подался вперед, а Джо улыбался и сидел на корме спокойно и величественно как днем на дюне в своем кресле.
— Как же быть? Как же быть? — шептала Рика. — Скажи мне, скажи!
— Не знаю, не знаю, — отвечал я ей. Да и что можно было ей посоветовать? — Только сердце твое… только оно может подсказать… только оно одно.
— Правее, Джо, — сказал тут Алекс.
— Вижу, дружище, вижу, — отозвался тот. — Малый ход…
— Ого-го-го-ооо! — тут же закричал он. — Есть кто там живо-ой?
Мы все прислушались. Ровно рокотал двигатель. С сопением выплевывалась вода из трубы охлаждения. Теплый ветер незримым потоком тек над океаном. Ни звука в ответ. Молчание.
— Стоп! — приказал Джо, и Алекс перевел двигатель на «нейтралку», а сам поднялся, потянул из шлюпки отпорный крюк. И Джо поднялся. Стоя во весь свой громадный рост, он уводил румпель вправо.
Мы с Рикой выглянули из-под тента. Метрах в пятнадцати от шлюпки плясал и раскачивался яркий огонек. А чуть левее, то всплывая, то погружаясь в воду, белела полоса спасательного круга.
— Никого, — сказал толстяк Джо. — Просто сорвало ветром… Алекс, подцепи его крюком.
— А вон и ходовые огни «Сириуса», — сказал Алекс, шуруя крюком в воде. Подтянув круг к шлюпке, он перевалил его через борт и вывинтил лампочку-мигалку.
«Сириус»! Здравствуй, дружище, здравствуй! Палубные софиты там вспыхнули, потом зажегся прожектор на пеленгатор-ном мостике, и над водой разнесся могучий радиоголос: «Боцман! Майнай парадный тр-рап. Ну что споришь, стар-рая калоша… Капитан разр-решил!»
Волны в открытом океане были совсем небольшими, двигатель работал на полную мощность, и шлюпка быстро приближалась к траулеру. На палубе толпились люди. Несколько человек стояли на крыле мостика. Капитан в английской, закрывающей пол-лица фуражке, белоголовый, вихрастый штурман Шурик, стармех, вытирающий ветошью руки. Привычно запахло свежей рыбой и суриком. Здравствуйте, здравствуйте!
Я посмотрел на Рику. Она на меня. Если бы у меня была дочь, как бы я ее любил! Ком застрял в горле. Говорить я ничего не мог. Да и о чем можно говорить в такую минуту? Протянул руку толстяку Джо, потом Алексу. Наклонился к девочке, она прижалась лицом к моему, и я ощутил на своих губах соленую влагу. То ли слезы, то ли соленые брызги…
— Я остаюсь на острове, остаюсь! — крикнула она, когда я уже поднимался по трапу.
Вот и все, если эта фраза подходит к концовке моего рассказа. Вот и все.
Г. Серго НОЧНАЯ ВАХТА Рассказ
— «Адмирал Завойко»! Нет, таких больше не строят. Весь корпус под белую краску, а мачты — что лес над головой! И не подумайте, что какой-нибудь обычный парусник, — и машина стояла. При хорошей погоде да ласковом море, без единого паруса, на одном честном слове, семь узлов давал. А уж если попадет в пассаты… Это надо было видеть! Несся будто лебедь с распущенными крыльями!
Обычно так начинает смотритель порта, старый Макко, хвалебную песню своему бывшему кормильцу. И всегда находятся молодые штурманы, готовые слушать его. Для них эти старые времена и парусники — далекая романтика, для Макко же… Ему кажется, что чем дальше годы уходят, тем ближе прошлое подходит.
Неужто в самом деле возможно, что уже полвека бродил он по градам и весям, бороздил моря-океаны, что минуло пятьдесят зим и весен с той самой весны, когда он стоял перед экзаменационной комиссией Владивостокского мореходного училища и чувствовал, как его бросает в жар и в холод? Видно, так оно и есть. Календарь назад не пролистаешь. Было это в 1911 году, а теперь уже семидесятые годы.
Владивостокское мореходное училище… О, это не институт благородных девиц! Порядок армейский… А экзаменаторы какие?! Длиннобородые старые капитаны, головы у всех как лунь седые. Перед ними прямился даже горб немолодого уже преподавателя навигации. А теперь что… Сложи ты вместе лета председателя экзаменационной комиссии и любого курсанта — и не получишь возраста взрослого мужчины. Курсанты… Детишки, молокососы. Потому как что такое сегодняшний двадцатилетний человек? А вот в свое время…
Хрясь!..
Неожиданный звук вернул старого смотрителя из дальневосточных краев начала века на берега сегодняшнего Финского залива. Как бы там с телом и обличием ни было, а в душе своей Макко и на самую малость не чувствует себя старше, чем он был тогда, когда впервые в жизни получил на «Адмирале Завойко» место штурмана.
Хрясь!..
Старый Макко прислушался. Дождь по-прежнему барабанил по этернитовым крышам портовых складов, плескал по асфальту, который в эту ночь блестел, подобно черному шелку. Ноябрьский шторм бесновался за скрытыми темнотой молами, хлестал по брезентам, которыми были затянуты штабеля мешков, плюхал воду на причалы. Где-то вверху бился о ферму портального крана кусок жести.
Хрясь!..
Да что там, в самом деле?! Неужто кто из складских, рабочих или ночных сторожей в конторе явился сюда, чтобы отодрать от автомобильных ящиков дровец на растопку? Ну, это уже было бы черт знает что! «Волги» идут ведь за границу, и ни один штурман не возьмет на борт машину с поврежденной тарой. Этак дождешься, что пойдут потом разговоры, а то еще и начнут допытываться: что делал смотритель? Почему не видел и не слышал?
Старик еще больше согнулся, подставил ветру свои узкие плечи и потопал — голова впереди, ноги следом — в сторону автомобильных ящиков. Ничего подозрительного в глаза не бросилось. Огромные коробки стояли недвижно, будто могильные холмы на кладбище. Лишь буря свистала меж ящиков.
Непогодило небо, и ярился шторм. Свет прожекторов едва пробивался сквозь дождь, перемешанный со снегом, ощупывал стрелы недвижных портальных кранов, подрагивал на залитой водой складской площадке, где смолисто-черные щупальца ночи сражались со светом.
Макко остановился среди ящиков. Напряг слух. Но ничего подозрительного не услышал. Да и как доверять этим ушам, начавшим свою службу еще в прошлом веке? Прохудились у обувки подошвы — снесешь к сапожнику, новую одежку можно заказать у портного, но что ты, душа милая, станешь делать с онемевшими барабанными перепонками? Пойдешь к врачу — тот разведет руками: годы, мол! И вот теперь дожил до поры, когда уже трудно уловить то, что человек молодой схватывает с лёта. Порой в ушах раздаются бог весть какие звуки. И что хуже всего — нет больше твердости и веры в себя. Это имеет касательство ко всему: и к слуху, и к глазам, и к ходьбе, и даже — как ни странно — к разговору. Идешь, а колени и бедра словно успевают быстрее, глаза вводят в обман, а когда говоришь, мысли забегают далеко вперед и пропадает связь между языком и головой. Все чаще ловишь себя на мысли: «Что же это я хотел сказать? Ох, забыла старая башка…»
Хрясь!..
Теперь совсем с другой стороны. Макко махнул рукой. Нет, больше он себя провести не даст. Хряпай себе, сколько хочешь! Года два назад в ушах дудело, будто туда забрались бесчисленные автомобильные рожки. Потом в висках тикали часы. Из-за таких пустяков он докторов беспокоить не стал. Само собой прошло. Значит, теперь будет время от времени хряпать. «Дьявол их знает, чего они еще выкинут, прежде чем на отдых уйду», — подумал про себя Макко.
На отдых… Он не такой наивный, чтобы считать себя бог весть кем. Пенсионный возраст давным-давно вышел, стажа куда больше, чем нужно! Только разве так просто уйти на этот отдых? Если бы еще семья, дети были…
В молодые годы катался с горки на чужих салазках. Мужской век подоспел — не на что семью завести было, так как ни один судовладелец не желал больше брать Макко штурманом из-за его несколько непредставительного вида и тщедушного, тела. Но диплом был в кармане, и идти в матросы, как делали многие другие, ему не позволяла гордость. Уж лучше на сланцевые разработки. Но только вскоре ушел оттуда, силенки сдали. Тыкался туда, мыкался сюда, а по большей части высматривал с причала море.
Когда в сороковом году к власти в Эстонии пришел народ, уже старость стучалась Макко в двери, и вечный холостяк при мысли о женщинах начинал робеть. Кто их знает… Молодую вроде бы не к лицу сватать, а старая, известное дело, сядет на шею, корми ее. В конце концов, разве ему и так плохо? Государство дало под боком у порта в новом доме комнату, зарплату тоже положили подходящую. Будь человеком, знай работай и живи!
Ноги после сегодняшнего шлепанья по лужам да мытарства перед бурей задубели и требовали передышки. Старый Макко уселся у стены на обрубок бревна. Дождь мочил, но резиновые сапоги и плащ не давали промокнуть.
Нет, на пенсию пока не хочется… Скука убьет. Сейчас и то не знаешь, куда девать свободное время.
Чтобы меньше находиться с глазу на глаз со своими мыслями, начал Макко посещать курсы английского языка, изучать новую навигационную аппаратуру и повторять пятьдесят лет назад зубренную астрономию. Вдруг обнаружил, что не совсем еще заржавела старая любовь к геометрии.
И все равно другой раз наползают черт знает какие мысли. Смертный десяток уже за плечами… Счет годам нагоняет страх. И зачем только их вообще считают? Лучше, если бы не знать… Жил бы себе, как птичка на ветке, проводил бы дни… Бывает, что и забываешь о своей старости, но только нет-нет да и напомнят.
Подковырки тех, кто помоложе, бывают такие жгучие и безжалостные, особенно старшего лоцмана Саара. Вот и вчера поддел:
— Слушай, Макко, неужто ты и вправду в царство небесное с простым компасом не проедешь, обязательно тебе надо перед дорогой локатор и геометрию изучить?
И советует вместо английского учиться иудейскому языку: мол, все равно скоро придется с апостолом Петром в разговор вступать.
Но как ты пойдешь и скажешь ему: «Будь человеком, не напоминай мне всякий божий день то, что я все время стараюсь изгнать из головы!»
И чего он пристает! Хоть иди и просись на вахту к какому-нибудь другому лоцману. Но тот снова начнет досаждать: зачем да почему? И опять завязнешь в зубах у этого Саара.
А вообще-то старого Макко еще почитают. Даже сам начальник порта иногда приходит за советом…
Хрясь!..
Нет, слух все же не обманывает. Не иначе, это там, где сгружены бочки с селедкой. И Макко мелкими, старческими шажками поспешил к другой складской площадке, где высились бесконечные груды бочек. Но и там ничего подозрительного. Нет ни души и на палубе стоящего у причала буксира.
Хрясь!..
— Ах ты дьявольское отродье! Вот ты где! — обрадовавшись своему открытию, крикнул Макко. И, ступив на трап буксира, подставляет ветру бок, чтобы дождь не бил прямо в лицо. — Эй, вахтенный!
Дверь рулевой рубки приотворяется, и чей-то сердитый голос отзывается:
— Чего орешь, Макко? Машину заводить, что ли?
— Я тебе поору, на всю жизнь запомнишь! — грозится дежурный. — С какой это чести нацепил себе на рукав повязку вахтенного матроса? Судно молотит о причал, а ему и дела нету. По всему порту треск идет! Ну, погоди ты у меня, придет утром капитан, я спрошу у него, зачем он тебе вообще государственные деньги выписывает…
И голос старика поднимается до верхнего регистра, будто у мальчишки в переходном возрасте.
Вахтенный тут же выскакивает на палубу. Шторм с грохотом захлопывает дверцу рулевой рубки. Матрос с такой стремительностью слетает вниз по трапу, словно вместо дождевика у него на спине крылья. Теперь уже четыре озабоченных глаза приглядываются к тому, как судно, подобно задиристому петуху, наскакивает на причал. Кранцы у борта буксира расплющены, и стальной корпус, как только налетает побольше волна, постепенно разрушает у причала защитные брусья.
— Сейчас, сейчас поставлю новые кранцы, — виновато бормочет вахтенный. Затем просит: — Не надо капитану…
— Через полчаса приду, проверю, и если ты у меня… — грозится еще раз Макко, но в словах его уже нет прежней тяжести. Чтобы примириться со стариком, достаточно признать его начальственное превосходство. Вахтенный знает это так же хорошо, как и другие матросы, которым приходилось иметь дело с дежурным.
Макко торжественно направляется к конторе. В обходе все же был толк. И вовсе он не толчет воду в ступе и не вьет из песка веревки, как иногда потешается над ним Саар.
Дождь, перемешанный со снегом, летит почти горизонтально. Шторм обхватывает болтающиеся вокруг тщедушного смотрителя полы дождевика и с таким остервенением треплет их, что Макко вынужден, покачиваясь, ступить несколько шагов по ветру. Но старик снова одолевает шторм, и тому не остается ничего другого, кроме как с завыванием мчаться дальше своей дорогой. Вместе с новым посвистом бури из какого-то громкоговорителя доносится полночный бой кремлевских курантов.
Когда Макко вернулся в свою маленькую каморку в конторе, на столе захлебывались сразу все три телефона. Из метеостанции сообщили, что к утру непогода должна стихнуть, врачу карантинной службы требовалось узнать, какие ожидаются в порту суда, а диспетчер погрузочных работ уже десятый раз напоминал, что на рейде дожидается «Хийюсаар». Да, ему легко говорить — поставьте к причалу… Но судно-то пустое, будет на волне мотать, как коробку, — в два счета выбросит на мол, на камни, тогда… Потом диспетчеру, конечно, просто отговориться. Пожмет плечами: «Я не моряк. Лоцман и дежурный должны были знать, что можно, а чего нельзя…»
Макко посмотрел на часы. Уже два! Вот летит время… Взглянул украдкой на дверь. За ней-то и отдыхал старший лоцман Саар.
Такая уж у лоцмана должность — во время вахты, когда не предвидится судов, ему разрешается отдохнуть. Даже спать. А на борту парохода его, по всем параграфам, берут еще и на довольствие — пей, ешь.
Макко потихоньку завидовал им. «Привилегированный класс», «портовая знать» и другие подобные выражения по отношению к лоцманам водятся в лексиконе старого смотрителя. Разумеется, Макко не высказывается во всеуслышание, а говорит в полтона, да и то когда нет поблизости адресатов. Но до ушей Саара они закоулками всегда доходят.
— Хоть сегодня поменяемся местами, — рубит тот сплеча. — Только тебя, Макко, придется все же спускать на палубу веревкой с вертолета, ведь удовольствия лазать по штормовому трапу ты давно не получал.
Вот и поговори с таким зубоскалом! Но у Макко тоже есть свои подвохи. И он снова смотрит на дверь лоцманской комнаты. Там спит тот самый Саар, который любит напоминать ему о скором небесном восшествии, о языке, на котором Макко придется общаться с апостолом Петром, и о вертолете. «Ну погоди!» — грозится про себя Макко и, собравшись с духом, стучится к лоцману.
— Саар, долой с койки! Судно на рейде, надо привести. Диспетчер поедом ест, чтоб было тип-топ на месте… Иди погляди, может, удастся. Вроде пореже завывает.
За дверью скрипят пружины. Грузное тело выбирается из койки. Затем дверь распахивается, и на пороге показывается старший лоцман Саар. Мужик что гора. Сгорбленный и худой Макко кажется рядом с ним вопросительным знаком, только с точкой наверху. Собственно, гору напоминает лишь выставившаяся в дверях средняя часть тела Саара, на которой едва сходится брючный ремень. Форменный китель с четырьмя нашивками надет им только в один рукав.
— Ну что ж, яхта и почетный эскорт, надеюсь, готовы? — деловито спрашивает Саар и до конца натягивает китель.
— Долго ли катеру собраться… Ты сперва своим глазом посмотри, как там с погодой, — ухмыляется Макко, прикрываясь старческой наивностью.
Саар открывает наружную дверь. В лицо ударяет целая лавина снега и дождя. Он тут же захлопывает дверь. Все ясно. Такие штучки Макко выкидывал и раньше. Всегда этот занудливый старик находит предлог, чтобы сорвать его с койки. Если ночью ожидается приход какого-нибудь судна, Макко будит его через каждые пятнадцать минут и докладывает о координатах парохода. Если же судно собирается выйти в море, он еще часа за два до отплытия выпроваживает лоцмана.
— Поди знай их, погрузятся раньше срока, потом крику не оберешься — лоцман задержал, вовремя не явился, — оправдывается в таких случаях Макко. И продолжает бурчать: — Молодежь пошла беспечная, кому-то надо за порядком следить.
Старший лоцман Саар, конечно, по сравнению с Макко выглядит мальчишкой. Человеку всего чуть больше пятидесяти. В сыновья годится! И он еще смеет настоящего мужчину словами цапать!
Старику, который в порту все примечает, невдомек, что Саар по-другому, кроме как с подкусыванием да шуточкой, и разговаривать не умеет. Обычно он схватывается с достойным противником, но бывает, что не по-рыцарски измолотит человека и послабее на язык, такого, как Макко. Даже о самых серьезных вещах он не может говорить без шутки.
Толстый и добродушный Саар и не думает сердиться на Макко. Он по-матросски засовывает руки до самых локтей в карманы, еще раз от души зевает и, кажется, собирается снова забраться под одеяло, которое еще не успело остыть, как вдруг в дверь просовывается востролицый, с мальчишеским обличьем и первобытной шевелюрой диспетчер. Хлопается на стул и пялится на Саара. Ни плохого, ни хорошего не говорит.
— Чего ты на меня глазеешь? Первый раз видишь настоящего мужчину? — выпаливает Саар и садится напротив диспетчера на стол.
— А знаешь, какое сегодня число? — в свою очередь спрашивает диспетчер.
— Макко, доложи! — гаркает Саар в сторону смотрителя.
Макко испуганно отрывается от журнала, тычется на настольный календарь.
— Тридцатое! — рапортует он.
Старику становится неловко, что испугался, и он краснеет. Жалеет, что исполнил данное таким тоном приказание, но ничего не говорит. Продолжает подрагивающей рукой писать.
— Последний день месяца, — подчеркивает диспетчер, и его быстрый взгляд блуждает по рыхлому лицу старшего лоцмана, на котором заметны следы злоупотреблений капитанскими гостеприимствами.
«И будь добр, Саар, рискни своими косточками и спаси прогорающий план», — читает старший лоцман в глазах диспетчера.
— Верно! — по-приятельски улыбается тот и начинает деловито разъяснять: — Чтобы привести с рейда судно, тебе потребуется час, ну, затем откроют люки, приберутся и все такое… И утро подоспеет. Синоптики обещают уладить погоду… Авось и краны пустим в работу, и пойдет себе погрузка… А если ты отправишься за пароходом только на рассвете, то проваландаемся до обеда, прежде чем начнем грузить, и улыбнется нам обоим премия… От «Хийюсаара» на этот раз зависит весь план. Ну, что ты думаешь?
— Риск, конечно, благородное дело… И за грешную свою жизнь и судьбу я не держусь… Но жаль безвинной Русалки, — задумчиво говорит Саар.
Диспетчер, который обычно разгадывает намеки старшего лоцмана, на этот раз ничего не понимает.
— А какое нам дело до Русалки?
— Дай бог соображения! — Саар стучит костяшками пальцев себе по виску и кивает в сторону диспетчера. — Если при таком норд-весте выкинет на берег, то явно судно раньше не задержишь, пока оно в центре Кадриорга не окажется. А ты будешь отвечать, если эта с крылышками и крестом дева морская угодит мне под киль?
— Значит, все-таки не рискнешь, — не обращая внимания на шутку Саара, грустнеет диспетчер и уходит.
— Щенок! — сплевывает Макко, желая помириться с Сааром. — Сам, поди, за всю жизнь воды морской не хлебнул, а понуждать так…
— Опять ты со своими владивостокскими присказками! — выговаривает ему Саар. — Молодой специалист, в самом соку, а ты его щенком обзываешь… Диспетчер хочет план выполнить и большую премию получить, чтобы невесте свадебное платье купить, оттого и понуждает. Парень прав. У меня самого бывшая теща скоро день рождения справляет. Торт и бутылка вина — это же уйма денег, а за цветы сейчас, зимой, душу вынут… И жену бы новую завести надо, да расходы немыслимые! Ах, план, план! — вздыхает старший лоцман, и трудно сказать, что скрывается за этими словами — шутка или прикрытая шуткой правда.
— И то верно! — На этот раз и Макко ничего другого придумать не может.
— Тебе-то что, у тебя, тысячи в банке и заботушки о семье никакой, — старается Саар подначить старика, чтобы втянуть его в спор (сна все равно нет, делать нечего).
И старшему лоцману это, как всегда, удается. Хотя Макко и не загорается огнем, но искра в нем все же вспыхивает.
— Когда это ты ходил считать мои тысячи? Им давно и след простыл… Мало ли в мои годы мужики девок арканили! — похваляется старый дежурный.
— Ну, тогда мы еще попляшем на свадьбе у Макко! — радуется Саар. И начинает длинными шагами мерить контору. Через некоторое время останавливается перед стариком и поднимает палец. — Только одно я тебе скажу по-дружески: если, случаем, пойдешь в зятья, то загодя прибей у косяка снаружи гвоздь, чтобы шапку было куда вешать.
— С какой это стати я перед всем миром буду вывешивать свою шапку? — недоумевает Макко.
— А с той, что если тебя вдруг оттуда попрут так, что не успеешь и манатки захватить, то хотя бы шапку вызволишь, — разъясняет Саар.
Это он по собственному опыту. Ведь нечто подобное случилось и с самим Сааром. Неизвестно только, сумел ли он свою фуражку захватить.
— Дежурный порта! Дежурный порта! Говорит судно «Пыльтсамаа»! — доносится из усилителя.
Макко берет микрофон.
— Дежурный порта слушает.
— Подходим к мысу Суурупи, через час высылайте на рейд лоцмана!
— Из-за шторма лоцманский катер выйти не может. Вам надлежит стать на якорь! — распоряжается в микрофон Макко, пытаясь превратить срывающийся старческий голос в начальственный бас.
— Ясно — стать на якорь! — доносится знакомый тенор капитана «Пыльтсамаа».
Макко кладет микрофон на место. Достает выщербленную расческу и приглаживает свои редкие волосы. Многозначительно кашляет. Ночью, когда капитан порта и его заместитель отдыхают, дежурный смотритель является тем человеком, который запрещает и приказывает. Все воспринимают его серьезно, слушаются, один лишь Саар… Работник он, конечно, стоящий, тут ничего не скажешь, но… «Я ему когда-нибудь еще покажу, что значит владивостокская школа и практика на «Адмирале Завойко»!» — грозится в мыслях Макко.
Боясь, что Саар опять начнет подтрунивать над ним, Макко быстро натягивает пальто и дождевик и снова отправляется в обход.
Дождь перестал. От раскинувшегося над головой черного покрывала остались одни лоскуты. Меж их краями просвечивают звезды. Да и хребтина у шторма вроде бы надломилась. Налетает уже порывами. Откуда-то доносятся возгласы грузчиков: «Раз-два — взяли!» Над восьмым причалом зажигаются огни портального крана. Однако суда, как и прежде, под набегающей волной, беспокойны. Их швартовы из манильского троса при каждом раскачивании судна напруживаются и трещат. У десятого причала, там, где стоит буксир, между бортом И причальной стенкой навешаны автомобильные покрышки. Вахтенный, как положено, у трапа. Значит, подействовало предупреждение.
Сделав круг, Макко заметил за конторой у четырнадцатого причала скучившихся людей. Был там и Саар, в высоких резиновых сапогах, о голенища которых бились полы дождевика. И матросы на месте, готовы отдать швартовы. Из выхлопной трубы лоцманского катера в воду яростно летели искры, пыхало дымом.
Дежурный поспешил туда. Куда собрался этот сумасшедший лоцман при такой погоде? Не случилось ли где несчастье? Торопятся людей спасать?..
— Пойду приведу «Хийюсаара» в порт! — прокричал старший лоцман в ухо задохнувшемуся от бега дежурному.
— Совершишь аварию! С восьмибалльным норд-вестом шутки плохи! — предупредил Макко.
— Не бойся, Макко! — молодецки крикнул в ответ Саар. — Что тебе охать? Твое дело — постараться, чтобы семнадцатый причал был свободным и чтобы матросы были готовы принять швартовы. Об остальном я сам позабочусь.
На короткой, едва выступающей над причалом, мачте катера зажглись красно-белые лоцманские огни. Саар тяжело прыгнул на палубу. Матрос на берегу отдал швартовы. Легко, словно игрушка, отплыло от причала маленькое суденышко. Мотор взревел, и катер ринулся в темноту.
За молом судно оказалось во власти гребнистых накатных волн. Они бились о борт, перекидывались через рулевую рубку и мачту, заливали водой палубу. А дальше уже донные волны, отыскавшие себе путь на рейд между островами Найссаар и Аэгна, начали трепать катер. Они подбрасывали его на гребень исполинской водяной гряды и с размаху швыряли вниз, в пропасть, норовя перевернуть суденышко со всем его содержимым вверх тормашками.
Только находившимся на борту катера морякам все ухищрения шторма и коварство волн давно уже были не в новинку. Да и сам катер делали не мальчишки. Широкий и короткий корпус придавал судну устойчивость, а округлые борта отбрасывали волны. Работавший с глухим рокотом мощный мотор развивал такую скорость, что плоское суденышко порой, будто брошенный плоский камешек, перелетало с волны на волну.
Саар стоял в рулевой рубке рядом со шкипером и смотрел рассеянно, как по ветровому стеклу скатывается вода. Он знал, что все это еще цветочки. Настоящая работа впереди, когда он ступит на палубу парохода. Но до того еще целых четверть часа.
«Риск — благородное дело», — вспоминает он русскую поговорку. И Саар не понимает людей, которые с годами становятся осмотрительнее. Ему кажется, что с ним все происходит как раз наоборот.
Теперешний рейс — это, конечно, план и собственная премия, но есть ведь и другие причины, заставившие его выбраться из-под теплого одеяла на эту сатанинскую пляску. Макко… Без конца важничает, похваляется своей владивостокской мореходкой и «Адмиралом Завойко»! Всех других, кому еще не исполнилось ста лет, считает мальчишками… Легко ему на берегу командовать, попросился бы хоть разок при такой погоде выйти в море.
И не только это… Лишь в последние годы Саар открыл для себя, что работа может заменить человеку разрушенную семью, что, слившись с портовым ритмом, человек может наполнить свои переживания новым смыслом. Если бы у Саара было время и упорство, чтобы подвести итог своим тайным желаниям, то он вывел бы следующую истину: «Пусть судьба возьмет у меня все, что можно только взять у человека, но пусть она оставит мне мой порт и мое море, и я проживу, буду шутить, и никто не увидит на моем лице скорби».
Легкий катер с ходу выхватил лучом прожектора спущенный с огромного океанского парохода штормтрап и эллипсообразную воронку разверзшегося у борта водоворота.
Саар вышел из рулевой рубки и стал поджидать подходящего момента. Ударявшаяся с грохотом об отвесный борт волна вскидывалась столбом и с головой окатывала лоцмана. На мгновение спирало дух. Затем волна спадала, и Саар опять хватал ртом воздух. Смешанная с хлопьями снега вода забралась за шиворот и теперь стекала по спине и, придавая телу какую-то необыкновенную легкость, обостряла чувства.
Катер то взлетал, то опускался. Шкипер опасался слишком близко подплывать к борту, потому что один удар покрепче — и от крошечного суденышка остались бы лишь дрова на растопку. Но если держаться далеко от борта парохода, нельзя будет ухватиться за штормтрап.
Саар ждал, когда катер поднимется на гребне волны поближе к пароходу, чтобы можно было сделать решающий прыжок через клокочущую бездну.
За двадцатилетнюю лоцманскую службу подобное нередко выпадало на долю Саара, и всякий раз он проклинал свой излишний вес. Хоть бы десяток килограммов сбросить за борт! Но делать было нечего… Аппетит у него был славный и на еду и на питье, что же до твердости духа, то хвалиться вроде бы не с руки.
На миг вспомнился ему лоцман Рижского порта, который года два тому назад попал в такую же передрягу… Его катер подняло над волной, лоцман метнулся к раскачивающемуся между морем и небом штормтрапу, но следующая волна вскинула катер еще выше и швырнула его о борт парохода. Лоцман не успел увернуться, придавило ноги… Теперь костыляет на протезах. Понятно, не на мостике парохода…
«Интересно, в каком возрасте назначают пенсию артистам цирка? Наверное, совсем еще молодым. А вот лоцманы должны совершать свои смертельные трюки до шестидесяти лет», — подумал Саар — и прыгнул.
Ноги соскользнули с обледенелой перекладинки. И девяностокилограммовое тело повисло на руках. К счастью, время пощадило их, сохранило с матросских лет накопленную в пальцах силу. Они выдержали.
Пароход неожиданно качнуло, веревочный трап отошел от борта, затем Саара с силой ударило о железную обшивку. В глазах сверкнули искры, костяшки пальцев обожгло огнем. Ноги все же нашли упор, и катер, к счастью, исчез внизу. С закрытыми глазами, сжав зубы, лоцман полез вверх, пока не почувствовал, как сильные руки ухватили его за воротник. Несколько неуверенных шагов — и Саар снова был тем же веселым старшим лоцманом, каким его знали все капитаны.
Судовой медик начал бинтовать лоцману пальцы и накладывать на окровавленную бровь пластырь, а Саар уже рассказывал морякам таллинские новости, шептал на ухо портовые сплетни и как бы между прочим велел выбирать якорь.
Вскоре огромное океанское судно уже оказалось у красно-зеленых огней мола.
Справа — северный форт и восточный мол, слева — каменистый кадриоргский берег. Шторм напирает с моря, наваливается на высокий борт парохода и относит его к берегу. Рулевого пера словно и нет сзади. Чтобы уберечь судно от такого сноса, надо выдерживать приличный ход. Но как погасить в порту инерцию скорости? Расстояние слишком маленькое…
Бесшабашность Саара будто рукой сняло. Палубные огни бросали отсвет на его прорезанное глубокими морщинами лицо. Холодный, стальной взгляд устремился вперед, туда, где в огнях сверкал порт. Израненные пальцы сжимают поручни мостика. Сквозь бинты сочится кровь.
— Может, сбросить обороты? — несколько неуверенно спрашивает капитан.
— Нет, скорее прибавить, не то, как корзинку, понесет по ветру, — предостерегает Саар.
Слова Саара имеют вес. Совету такого лоцмана можно довериться хоть с закрытыми глазами. Капитан отдает распоряжение.
Стремительно приближаются огни мола. Ветер в расчет взят, о том, чтобы приготовиться дать задний ход, сказано, якоря наготове… Глаз уже различает у семнадцатого причала громадину крана, чьи мощные опоры располагаются едва ли не в метре от берега. Из-за шторма его, видно, не успели отвести в сторону. Сколько уже раз посылал Саар конструкторов к дьяволу и даже дальше. В самом деле, так близко от причала могли ставить краны разве что в петровские времена, когда форштевни у судов были отвесными, подобно старому утюгу, что разжигался углями, и когда суда в портах передвигались только с помощью верповальных якорей. У современных пароходов и нос и корма выдаются вперед. Если швартоваться не бортом, то все краны с причала одним духом сметет… При таком шторме, особенно если на причал, как сегодня, напирает ветер, бывает, что ни машина, ни якорь не помогают.
«А, не первый пароход провожу!» — утешил себя Саар и настороженно поглядел, как слева почти по борту проплывали огни мола. Ну вот, Русалка и осталась цела…
Саар склонился через край мостика и уставился вперед. Приказал дать задний ход. С грохотом пошли вниз якоря. Корпус судна содрогался, из машин выжимали последние соки.
— Ах ты!.. — И с языка Саара срывается слово, которое, может, только раз в десять лет и произносится вслух. Но на то была причина: впервые в жизни надвигалась авария, предотвратить которую он не мог. У причала, к которому шел пароход, стоял маленький рыбацкий траулер, и на него с ужасающей скоростью шел «Хийюсаар».
В порту все было забито судами. Вперед идти некуда. И задний ход уже ничего спасти не мог. Якоря еще как следует не хватились за грунт.
За эти несколько секунд, в течение которых Саар нажал на кнопку сигнала и ветер понес к Кадриоргу завывающие тревожные гудки, перед глазами лоцмана прошла с начала до конца неотвратимая трагедия. Треск, погружающийся в пучину траулер, бесполезные попытки команды «Хийюсаара» и сгрудившихся на причале рабочих спасти людей. Жертвы…
Потом прокуратура.
— При таком шторме у вас не было необходимости… Вы должны были все предусмотреть! План планом, но ради него не дано права совершать аварии и губить людей…
И суд. Диспетчер с шевелюрой Тарзана беспомощно пожимает плечами:
— Лоцман…
— Я человек маленький, Саар, — смеется беззубым ртом Макко.
— Разве я не предупреждал вас?.. — оправдывается капитан порта.
Финал трагедии — тюремная решетка.
Шестьдесят… Пятьдесят… Тридцать метров… Точность глазомера у старшего лоцмана известна во всем порту. Все…
Якоря ухватились. Может, все же удастся с помощью руля и двигателей удержать пароход.
— Малый вперед! — Голос Саара звучит уверенно.
— Нас ведь несет на траулер! — нервничает капитан.
— Будьте спокойны, ничего не случится! — обрезает его Саар. Что он сказал именно так, этого Саар после не помнил.
Но, будто злым роком посланный, налетает штормовой шквал и с неудержимой силой несет пароход на рыбацкое суденышко. Саару показалось, что траулер в ожидании удара даже сгорбился от страха. Край причала затеняет палубу, и не видно, есть ли на судне люди или нет.
Однако в последний момент, когда Саар был уже готов к самому худшему, из трубы рыбацкого траулера вылетел сноп искр и крохотное суденышко стало продвигаться вдоль причала. На «Хийюсааре» включили прожектор. Старший лоцман заметил на капитанском мостике траулера невысокого худого человека, очень похожего на дежурного Макко.
Десять метров… Между «Хийюсааром» и траулером даже кранец бы не просунулся, но все же чисто разминулись. Траулер успел избежать удара. «Хийюсаар» всем бортом грохнулся о причал и застыл, будто его приварили туда. Только и всего, что разнес в щепы пару двухвершковых свежеоструганных защитных брусов.
— За большой труд маленький глоточек коньяку, — предложил в каюте капитан, расписываясь на лоцманской квитанции.
— Да, по случаю такой промозглой погоды сгодилось бы, — согласился Саар и лишь теперь почувствовал, что он весь мокрый. Неужто это его на катере, когда готовился к прыжку на штормтрап, так здорово прополоскало?
После того как Макко отправил лоцманский катер на рейд, старому смотрителю показалось, что Саар унес с собой и его душевный покой. Макко поплотнее натянул на голову капюшон и, согнувшись дугой, побрел навстречу ветру, туда, где было отведено место для причала «Хийюсаара». Смерил глазами расстояние между швартовыми тумбами и решил: хвалиться нечем, но все же уместится. Что касается порта, то все было более или менее… Правда, портальные краны стояли не самым лучшим образом, но при таком урагане никто передвигать их не станет… Да и темновато тоже. Ну, с этим уладится.
Макко вернулся в контору. Позвонил диспетчеру. Попросил дать у причала полное освещение и зажечь огни на кранах. Затем известил карантинного врача о прибытии «Хийюсаара», дал также знать таможеннику и оперативному дежурному.
Жены моряков, несмотря на ночное время, откуда-то прознали, что лоцман отправился к «Хийюсаару», и теперь звонили, требовали от Макко, голова которого и без того была забита мыслями, ответа на вопрос:
— Когда причалит?
Дежурному хочется ответить обстоятельно и исчерпывающе. И он начинает объяснять:
— Видите ли, если бы погода была божеской, тогда бы я вам, конечно, сказал точно, но сами знаете — шторм…
— А как вы думаете, когда все же? — спрашивает нетерпеливый женский голос.
— Мало ли что я думаю! Вот как ветер и море… Да и лоцман на рейде может все перерешить и…
— Да что вы тянете! Можете сказать наконец, когда мой муж придет домой?
Тут выходит из себя и Макко. И бросает трубку.
Но телефонный аппарат существо не живое. Нервы у него отсутствуют. Терпеливо тренькает до тех пор, пока Макко снова не снимает трубку. У новой просительницы голос другой, нежнее, но вопрос тот же самый:
— Когда?
Обретший было равновесие Макко начинает опять толковать о погоде, о шторме, о том, что пароход может причалить в любое время и что возможности тут всякие…
Вдруг с треском распахнулась дверь, и на пороге показался запыхавшийся матрос.
— С рыбацкого причала сорвало траулер! Снесло на семнадцатый! На судне всего один человек… Огни «Хийюсаара» уже у мола!
Обычно Макко в разговоре и в обхождении вежливый, как оно и подобает пожилому человеку, но на этот раз и с его языка сорвалось богохульное слово:
— Черт!
Не было у него времени накинуть на себя плащ и схватить с вешалки шапку. Выскочил в чем был. Бежал, собрав все свои старческие силы, на семнадцатый причал.
Брызжущая водяная пыль слепила глаза, ноги с каждым шагом становились все непослушнее, уже грозились не успеть за туловищем. А там, где вчера сгружали с «Кыргелайю» цемент, старик упал. Когда поднялся, то был весь перепачкан серой массой — будто выплыл из мучной похлебки.
Добравшись до злополучного траулера, Макко, прежде чем сказать слово, вынужден был несколько секунд переводить дух, хотя глаза и подсказывали ему, что, может, именно эти мгновения решают все дело. «Хийюсаар» был уже под самым носом. А траулер, подобно самоубийце, бросившемуся под колеса поезда, дожидался у причала своего смертного часа. Прибывшему с рейда пароходу больше швартоваться было некуда..
Саар траулера явно еще не заметил, потому что маленькое суденышко стояло в тени причала. Макко видел, как вахтенный изо всех сил пытался оттолкнуться от стенки отпорным крюком и продвинуть судно вперед, но шторм напирал, и будь здесь хоть десять мужиков, толку бы не было.
— Ты матрос или моторист? — выкрикнул наконец Макко.
— Моторист! — донеслось в ответ.
— Сможешь запустить мотор?
— Смогу, только штурмана нет!
— Дай руку! — приказал Макко матросу, который прибегал в контору, и опустился на четвереньки.
— Что ты, сумасшедший, надумал? «Хийюсаар» сомнет тебя в лепешку! — предостерег матрос.
— Не твоя беда! — начальственно гаркнул Макко. — Руку!
«Весу-то в старике не больше, чем в мешке половы», — пронеслось в голове у матроса, когда он, держась одной рукой за причальную тумбу, другой спускал Макко на палубу траулера.
— Я штурман. Немедленно запустить мотор! — приказал Макко вахтенному.
В голосе Макко была сила, которая заставила молодого вахтенного тут же действовать, хотя он и понимал, чем рискует. Будь его воля, он бы немедленно выскочил на причал — шедшее с рейда судно уже наваливалось…
Макко решил, что сейчас он должен оправдать все свои придумки о героических подвигах на «Адмирале Завойко». Сейчас или никогда должен спасти судно от аварии и — что, может, самое главное — показать этому насмешнику Саару, на что способен штурман старой школы.
Макко забрался по крутому трапу на раскачивающийся мостик. Открытая дверь рулевой рубки при каждой волне ударялась о стенку. Нащупал штурвал… Но мотор молчал…
Выбора у Макко уже не было. На причал он бы не успел выбраться. Да и матрос куда-то исчез. Не иначе — побежал за буксиром. Глупый! Буксиру надо целых полчаса, чтобы разогреть двигатели. Внизу кипела и пенилась вода. Мужество готово уже было покинуть его. А «Хийюсаар» все наползал… Подавал тревожные гудки. Значит, Саар все видел…
Что ж, пожито, конечно, с лихвой, мелькнуло в сознании Макко. Но оказалось, что слишком рано поддался судьбе. Корпус траулера вдруг вздрогнул — заработал двигатель, — и Макко тут же толкнул ручку машинного телеграфа вперед.
Сперва казалось, что траулер и не собирается набирать ходу, но вот причал медленно поплыл назад. Все быстрее и быстрее скользило суденышко вдоль стенки и успело вовремя оказаться за округлой кормой огромного океанского парохода, где Макко и застопорил ход…
…Он смывал с лица и одежды грязь, когда в контору вошел Саар. Глаза мутные, лицо раскрасневшееся. Да и поступь как у боцмана парусника, когда с борта задувает бриз. Увидев Макко, Саар, расставив ноги, с большим трудом остался стоять на месте, разудало гаркнул:
— Эй, Макко, чего это у тебя поджилки трясутся? Страх смертный подкосил, да? Погляди на меня — я даже и мимо владивостокской мореходки не проходил, а мужик что бык! Эту трижды проклятую коробку раздавил бы — и глазом не моргнул…
— Ах, не петушись! — устало отмахнулся Макко и продолжал тереть щеткой замасленные руки.
— Это я петушусь? — всерьез вскипел Саар. — Всего второй раз в жизни забрался на мостик — и уже хвост задрал, и кричать смеешь.
На этот раз Макко не рассердился и спорить не стал. Сел за стол, хотел сделать в журнале запись о прибытии в порт «Хийюсаара». Но рука не слушалась. На бумаге, правда, оставались какие-то каракули, но принять их за буквы и цифры при всем желании было невозможно. У Макко не только дрожали руки и ноги, но и сердце время от времени выкидывало фортели, а перед глазами плыли черные тени.
В полвосьмого Макко разбудил Саара:
— Вставай, иди домой!
Кряхтя и охая, старший лоцман выбирается из постели. Скребет кудлатую голову. Вокруг набухших и иссеченных ночным штормом глаз появляются насмешливые складки.
— Значит, будет надо — сам справишься. Пустое дело! Ты ведь старой закваски — экзамены лоцманские ночью тоже, считай, на пятерку сдал. Глядишь, в трудовую книжку еще и благодарность запишут… Так что…
На этот раз Саар почему-то запнулся. Смотрит на тщедушного старика и вдруг протягивает ему руку:
— Хоть и впервые в жизни, ну да ладно! Бери пять!
Макко нерешительно принимает протянутую пятерню и покашливает. Ему хочется что-то сказать, но слова застряли…
Прогноз погоды все же не соврал — к утру стихло. Небо совсем прояснилось, и погрузка на «Хийюсааре» шла полным ходом.
— Ничего тут особенного за ночь не было… Подувало, правда, ветерком, но судно с рейда честь честью привели, — докладывал Макко пришедшему утром на работу капитану порта.
— Да-да, лужи повсюду, ночью тут, видно, плескало, — соглашается капитан. И начинает смотреть записи, которые Макко сделал в вахтенном журнале. Редкие брови капитана сошлись у переносицы. — У вас тут… Что это? Взгляните-ка!
— Что делать, бывает… — извиняется Макко.
— Сколько раз я должен напоминать вам, что вахтенный журнал — это официальный документ! — предупреждает капитан порта.
Но видно, что сегодня он в хорошем настроении и длинных нотаций не будет. Да и с какой стати капитану сердиться, если месячный план выполнен и остается лишь дожидаться приглашения кассира, чтобы получить премию…
И старый Макко, направляясь в утренних сумерках домой, сегодня держится куда прямее, чем обычно, и шаг у него такой же легкий, каким был некогда на борту «Адмирала Завойко».
Виктор Широков ПОД ФЛАГОМ
Я не завидовал линкорам, большим линейным кораблям, в броню закованным, которым легко промчаться по волнам. Они, казалось, так надежно защищены от всяких бед; в батальных сценах непреложно царил их гордый силуэт. И все же на киноэкране встречал я сцену не одну, когда, торпедою таранен, стальной красавец шел ко дну. И в книжках эти же картинки… С банальной истиной знаком, я чаще бегал, сняв ботинки, по летним лужам босиком. Дитя поры послевоенной, я бредил формой в якорях и полюбил обыкновенный с командой маленькой корабль. Его никак не брали мины, и, волоча тяжелый трал, он был таким незаменимым, что даже мальчик понимал. С тех пор воды поутекало, морской не выпало судьбы. Но мне еще понятней стала поэзия большой борьбы. Мне не забыть, как с красным флагом в боях отстаивая мир, отважный тральщик-работяга берет линкоры на буксир.В. Матвеев В ШТОРМ
Смотрят хмуро дали штормовые. Их мрачней — тралмейстера чело. Даже тем, кто в море не впервые, Выдюжить сегодня тяжело. Трос — что нерв, натянут до предела. Океан — сплошной водоворот. А треска — ну, словно ошалела, Прет себе, проклятая, и прет! Мускулы налив свинцовым грузом, Жмет усталость, будто осьминог. Палуба — огромная медуза — Так и ускользает из-под ног. Взгляд порой затянется туманом — И не разберешь, от качки пьян: То ли рыба пахнет океаном, То ли рыбой пахнет океан.Ю. Грачевский КАРАВАН Главы из повести[1]
25 СЕНТЯБРЯ
Река все мелела и мелела.
Дробилась на рукава и старицы. Путала русло с излучинами и протоками.
Ложе реки обманывало, петляя. Грозило порогами. Устрашало крутыми уклонами.
Казалось, заманивает Ключевая своих непрошеных гостей, чтобы вдосталь посмеяться над ними. Оглушить внезапными порожистыми всплесками, напугать таинственными отзвуками — как сычи или выпи прячутся они меж береговых каменистых круч.
Караван продвигался не по прямому фарватеру, кривил обходными зигзагами, словно бы спасаясь от кого-то. Старый капитан буксира Лука Байбалов знал, от кого он удирает второпях — от зимы, столь ранней в его краях, от нагоняющего ледостава. И прикидывал замысловатую лоцию в уме, все чаще закрывал при этом узкие гляделки, спрятанные в глубоких, как два ущелья, глазницах. И пожевывал серебристые, наподобие лисьего хвоста, усы. То ли молился про себя, то ли прятался от одолевающих забот.
Не было нужды внушать капитану Байбалову, с каким драгоценным грузом движутся они по строптивой реке. Земляки его радио слушают каждодневно и давно уж прознали: если стройка начнется вовремя, без отсрочек, то и заработки будут всю зиму напролет не скудные. И впредь веселее заживется байбаловским внучатам и племяшам, а последышей у Луки наплодилось, что оленят в добром стаде. И все ждут каравана с азартным нетерпением.
При погрузке новенькие машины, яркоцветные, что твои игрушечки — экскаваторы, грейдеры, скреперы, бульдозеры, автопогрузчики, — своим ходом взбирались на стальные палубы барж. Позади широкопалубных барж в караване встала тентовая баржа с научными изыскательскими приборами, где на обшивке тюков и ящиков красовались бокальчики и буковки красненькие: «Не кантовать!» Ко всем грузам, какие встречаются у них на воде, Лука Байбалов привык относиться с извечным почтением. А тут нечто совсем невиданное тянут, и трижды был предупрежден капитан: доставить точно к сроку, хоть по льду иди, а пробейся! Люди ждут, а время не ждет!
И вот уже четыреста километров буксир-трудяга «Водник» тащит по текучей, разбегающейся веерами тропе всю эту прочно сцепленную вереницу судов. Лишь подстраховочная баржа-самоходка да кран подъемный ползут за ними своим ходом. А впереди еще сотни обмелевающих к зиме верст.
Последний беззадержно проходимый об эту пору отрезок миновали на той неделе. А как затуманилась вода тонким салом и стала местами попадаться на глаза шуга и снежница, то и замаячила на палубе фигура загадочного попутчика. В начале рейса, при чистой воде он все больше в каюте посиживал.
Еще дома, только-только приготовились убрать концы и отвалить от причала, как трусцой подборзил портовый диспетчер и вручил категорический приказ: принять пассажира на борт! Зимовщик не зимовщик, командированный не командированный в замасленном полупальто из бывше зеленого нейлона. И багажа-то при нем, считай, никакого, кроме портфеля, доверху набитого бумажной кладью — замки не застегиваются.
Отчалили. И начкаравана Княжев, которого по давней привычке все — и сверху и снизу — величают дядей Володей, заперся с ним у себя в каюте. Уж какой у них там исполнялся дуэт, в подробностях никому не дано было знать. Но словеса долетали громкие. «Я же настоятельно предлагал вам добираться независимо от нас!» — доносился смачный княжевский басок. «Имею все основания находиться здесь и сопровождать свой груз…» — слышались возражения неизвестного. «Но ваш груз к нашей магистрали первоначального отношения не имеет!» — парировал дядя Володя. «Коли бы не имел, то и меня б здесь не было…»
Спорили, что называется, до хрипоты. Крутой мужик Княжев, и слово его — замок. Но на сей раз верх, по-видимому, взял не он. А на вопросы любопытствующих: «Кто таков этот дядечка?» — отвечал неодобрительно: «Так, посторонний…» Но постороннего он на борту не оставил бы.
Краснолесье по берегам Ключевой исподволь сменялось поникшим, угнетенным леском. Мельчали ельники. Голыми и мшистыми становились заплески — сумрачные подножия каменистых крутояров. И по фарватеру все чаще подстерегали коварные камни и мели, именуемые здесь осередками и падунами.
Караван будто в гору взбирался, тянул тяжело — с подхлестом да с остановами. И календарь не сулил утешительных перемен: на пороге октября стоит солнцу хоть ненадолго укрыться из виду, уже и забереги начинают попадаться — ледяные хрустки у побережий. В особицу с теневой стороны. Но днем солнышко еще старательно пригревает.
Попутчик, осмелившийся вступить в спор с самим Княжевым, расположился на «Воднике» основательно — у Луки Байбалова причалил, в капитанской каюте. Где и зажил как у себя дома: разложил свои бумаги и что-то строчит да черкает днями и вечерами. А с утра, присев на отполированном до серебряного блеска кормовом кнехте, принимается набивать обуглившуюся трубочку духовитым, не по стати, барским табачком. На воде все запахи слышнее. Чистый речной ветерок словно бы растворяет их в прозрачном воздухе. Даже и от нераскуренной еще щепоти его табачка веет медовой пряной сладью.
Курец и сам смачно вдохнул этой пока еще бездымной пряности и, упрятав меховой разноцветный кисет в карман линялого нейлон-бушлата, задержал горящую спичку в нервных пальцах-щупалках. Словно боялся расплескать огонь. А когда взреяло медвяное дымное облачко, принялся он задумчиво пощипывать молодящую его бороду. И как бы высчитывал нечто в уме, а потом и в блокнот заносил.
Жанна Евгеньевна, инженер-механизатор, сопровождающая строительное оборудование, совершила только что обход барж. И прежде чем спрыгнуть на корму, ловко уцепилась за прут буксирной арки и повисла над сидящим — стройная, молодая, в голубом, обтягивающем всю ее спортивную фигурку тренировочном костюме. Она заглянула ему через плечо:
— Что это вы вычисляете, «мистер Икс»?.. Схемы какие-то, таблицы… «Связь продуктивности почвы с температурой воздуха и солнечной радиацией»?.. Ну какие тут почвы продуктивные посреди вечной мерзлоты?
— Хотя бы те, на коих пасется скот.
— Олени?
— Не только… Пока что здесь живности хоть отбавляй.
— Гнус, комары, энцефалитные клещи! — норовила задеть его Жанна Евгеньевна.
Но он держался невозмутимо.
— Преобладают и более ценные виды.
— Какие?
— Я не зоолог.
— А кто же вы, если не секрет?
— А если секрет? — улыбнулся он снисходительно.
Жанна Евгеньевна сменила тему:
— Откуда у вас индейский кисет?
Присевши рядом, она искоса, со смешинкой рассматривала его искуренную трубочку.
— Не индейский, а ненецкий. Но все равно ритуальный — вы угадали. И подарен как приложение к этой вот «трубке мира».
— Так дайте и мне курнуть, о бледнолицый брат мой!
Он протянул ей трубку, и она сделала смелую затяжку. Закашлялась.
— Ну вот, отныне мы с вами друзья навек! — затянулся он после Жанны Евгеньевны.
— Но в таком случае для начала я должна хотя бы узнать ваше имя.
Он снова улыбнулся ей, обнажая верхние зубы торчком вперед. Однако нескладность эта его не портила. Напротив, придавала лицу добродушную простоватость.
Приложив к ее уху ладонь, он прошептал:
— Имя мое — Отто Юльевич Шмидт. Разве не похож?
— Это нечестно. Хотя бы потому, что я Шмидта не помню!
— Ничего, по прибытии в Ожеледье вы сами убедитесь.
— Значит, и вы в Ожеледье? — удивилась она.
— И я… Точнее было бы сказать: и в ы. Я-то ведь тамошний. Абориген.
— Что-то не верится, — оглядела она его внимательнее. — Впрочем, мы-то в самом Ожеледье не останемся: нам нужно до зимника по участкам машины разогнать.
— М-да, сложная задачка, — покачал он головой.
— Хоть зимник пробить, поселок заложить не палаточный, а попрочнее. Быт к весне наладить…
— Не все от нашей воли зависит, Жанночка Евгеньевна!
— Да, действительно, вот наскочим на какой-нибудь порог да и затонем!
— Пороги, кстати, здесь почти ласково именуются кошками, — проявил он превосходство старожила. — А затонуть не удастся — мелковато.
— Ну что ж, и это хорошо, — бросила она и скрылась у себя в каюте.
А там царил раздражавший ее бабский уют — промереженные салфеточки, вышитые подушечки… Это Дарья Беседина, полжизни проведшая в пути, желала и здесь чувствовать себя как дома. Сызмальства служит она верповальщицей — мастером по буксирной сцепке. И ни один караванный рейс с магистральными грузами не обходится сейчас без нее. «Где двум мужикам не управиться — там наша Даша!» — подшучивает Княжев. И, как во всякой шутке, есть и тут доля правды.
Было время, на верпах — ими тогда вручную орудовали — ставились матросы самые плечистые. А нынче не руками, лебедкой работают, от судового двигателя. И при сноровке и смекалке верповальному матросу не удалая силушка, а глаз точный и аккуратность отменная потребны.
Так что на воде Дарья — хозяйка полная. К тому же недавно заимела она мужа. Подобрала себе под пару — личность тоже у них в затоне ценимую, механика плавучего крана Кима Сухих. Согласился Ким принять эту командировку — вместе с Дашей. И рейс в Ожеледье со сверхсрочным грузом невольно стал их свадебной поездкой.
Но тут случилось семейное осложнение: Славка, сынок Дарьин, объявился вдруг на полпути. Смешно! Вроде бы они с отчимом друг от дружки бегают, а убежать не могут. И умудрился Славка-хитрец пристроиться к ним, да не один оказался, а в компании со смазливенькой девчушкой Оленькой — чуть постарше она его. Ей железно было предписано добраться до ожеледьевского зимника, чтобы распространить свою поклажу — книги — по трассе. У нее и мандат соответствующий на руках имелся. Так что возражений со стороны начкаравана не последовало. На вид Оля робка, застенчива. И как не устрашилась пигалица эта отправиться одна с багажом куда каким увесистым: два контейнера библиотечных даров, собранных на материке для тех комсомольцев-добровольцев, что отправились строить магистраль!
Ночь та выдалась светлая, и Дарья Славку своего признала еще на подходе к причалу. Стоит на дебаркадере в одной ковбоечке с орущим транзистором на груди. И ручкой помахивает приветливо. Дарья переменилась в лице: вот так сюрприз! Ну и мальчишке тоже досталась пилюля. Он-то рассчитывал, что мать в рейсе одна. А тут как понадобилось контейнеры с книгами погружать на баржу да подогнали плавучий кран, Славка аккурат и наткнулся на того, от кого убегал: на отчима своего, на Кима Прокофьевича.
Ким Прокофьевич, будучи мужчиной сдержанным, даже видом не показал недовольства. Наоборот.
«Так я и полагал, что ты быстренько соскучишься и нас догонишь!» — незлобиво подначил он пасынка. А в ответ получил неприкрытую дерзость: «А если бы я полагал, что я в а с здесь встречу, то и догонять бы не стал!..»
Парнишка приживался с трудом. А Оля сразу спланировала, к кому ей держаться поближе. И сейчас пособляла Дарье приводить в порядок немудреный гардероб обоих мужчин: пришивала к поношенному речному кителю чистенький подворотничок. А сама Дарья гладила что-то на откидной доске.
— Откуда паленым тянет? — повела Жанна Евгеньевна носом, присмотрелась. — А… мужские сподники? Мило!
— Мальчишкины… Сей момент доглаживаю. И ты, Олюшка, не затрудняй себя: я сама подошью.
— Ничего, пусть приучается, — одобрила это Жанна Евгеньевна, забираясь на свою полку. Единственную изо всех, застеленную не домашним одеялом, а походным спальным мешком. — Глядишь, и она тут замуж выскочит.
Оля смутилась. И миловидное ее личико тотчас покрыла краска.
— Ой, мне о таких пустяках помышлять рано! — вскрикнула, уколов в смущении палец.
— Сперва рано, потом поздно, — пробормотала Жанна себе под нос. — А что же, по-твоему, не пустяки?
— Хлопот хватает, Жанна Евгеньевна, — обратилась к ней Оля снизу вверх. — Основное сейчас — книги доставить в целости и домой успеть вернуться.
— Там пока не до книг, — проявила Жанна Евгеньевна привычный скепсис.
— Как это не до книг? — поразилась Оля простодушно.
— А так! Люди в палатках живут…
— И мы жили, когда нас со стройотрядом на каникулы посылали. Но читали.
— А я слышала, — вмешалась Дарья, — что даже в старое время, когда первую Транссибирскую тянули, то сперва церкви ставили, а потом уже станции.
— Не вижу связи, — поупрямилась Жанна Евгеньевна.
— Я к тому, что и о душе надлежит заботиться.
— В том смысле, что о пище духовной, — пришла Оля и ей и себе на помощь. — Да мы эти книги по всей области собирали. И я жуть как боялась: и отпуск мой кончается и командировка, а до места еще так далеко. Не бросать же всю литературу на полдороге… Ведь с книгами у нас как: в одном месте густо, в другом пусто.
— И давно ты таскаешься с этими ящиками? — принялась Жанна Евгеньевна скучливо позевывать. Ее злило все и вся.
— Ой, второй месяц уже. В Пихтовую Гриву прибыли, говорят, навигация кончилась, вода спала и будет больше пароходов. Спасибо Славке — выручил.
— Ты лучше Дарье Корнеевне спасибо скажи за ее крановщика.
— Я уж и так не знаю, как ее благодарить…
Выключив утюг, Дарья предложила Жанне Евгеньевне:
— Я, Жанна Евгеньевна, сейчас снаряжу лодку и пойду проверить все учалки на баржах. А то метеосводка на ветер тянет. Не желаете ли со мной на пару?
— Извините, но я только что с барж. Да и не стану мешать вам.
— Какая помеха? Вдвоем-то весельше.
— Ну, без меня вы куда быстрее доберетесь до своего крановщика. — Ей почему-то безумно захотелось разозлить Дарью.
— А хоть бы и так! — не злилась та. — В этом я ни перед кем отчета держать не обязанная.
— Кроме сына, наверное? — не отступала Жанна Евгеньевна.
— И перед Славочкой мне стыдиться нечего — Ким у меня муж законный.
— А перед мужем вам за сына не стыдно? Малый школу бросил, а вы поощряете.
Дарья притихла. Потом оправдалась как сумела:
— Я не поощряю. И не бросил он, а закончил — восьмилетку. Не всем же до верхней отметки жать — работать пойдет. И ничего в том нет зазорного!
С тем и вышла из каюты. За окном каюты нудно ползли лысые серые камни.
28 СЕНТЯБРЯ
Жанна Евгеньевна успела убедить себя, что мужчин она презирает. Даже разделила их по нелестным категориям: лгуны, эгоисты, тряпки, хамы, подкаблучники… Но постепенно с ужасом начала ловить себя на том, что завидует каждой замужней бабе. И, видя, как год от года теряет шансы на замужество, становилась все более несносной и высокомерной. Но вот с этим бородачом, не обменявшись и десятью фразами, вдруг почувствовала себя настолько свободно и удобно, что сама себе удивлялась. И захотелось узнать о нем как можно подробнее.
Однако попутчик оказался скупым на информацию, тем более о своей персоне. Да и стороной ничего толком выведать не удается. Княжев — тот хотя и в курсе дела, но помалкивает, будто язык прикусил. Похоже, невзлюбил он его еще на берегу. Приняв бородатого не по своей воле на борт и баржу с его оборудованием прицепив по нажиму сверху, Княжев в пути не сломил своей неприязни. Да и как ее сломишь, если с каждым днем этот пассажир позволяет себе все больше вольностей. Вчера, например, убедил Байбалова, что нужно стать на якорь. И старый лис, как это ни дивно, поглубже упрятал глазки-щелочки и согласился. Этого Княжев и опасался. Командовать-то караваном поручено ему. А тут еще кто-то с ним вровень становиться вознамерился.
Так что Княжев, как только услыхал команду «Стоп машина!», взлетел по витому трапчику, тараном врезался в капитанскую рубку и, не замечая присутствия бородача, накинулся на Луку:
— В чем дело, капитан? Почему стали?
— Погодка шалит, нашальник! — пропел Лука приветливо.
— Издеваешься, Лука Байбалович! — посмотрел при этом Княжев на попутчика. — Такую возможность упускаем!
Река вела себя в тот день на редкость смиренно. Нежно шелестели тихие заплески зеленоватых волн. И солнце приманчиво поблескивало на осклизлом галечнике. Каменные обмывки, выстланные ступенчато вдоль крутояра, напоминали безлюдные пляжные террасы. Так и тянуло нырнуть с кормы, доплыть до бережка и понежиться под солнышком — заманчивым, но обманчивым. Однако Лука предостерегающе выставил вперед сухую коричневатую длань.
— Ты мне, нашальник, не говори пошему, зашем!.. Слышь, там за увалом вода сапсем нету? — Он приставил зачем-то ладошку к уху. — Слышь?
— Это мы еще дома предвидели! — вскинул Княжев худые, острые плечи. — Но уж коли снарядились в путь, жать надо, а не прохлаждаться!
— Куда бегим… — спросил Лука, как бы не ставя знака вопроса.
— А чего ждать? — со свойственной ему горячностью метался Княжев по узенькой двухкоечной каютке. — Зимы? Ледостава?
— Не волнуйтесь понапрасну, Владимир Никонович, — вежливенько обратился к нему бородатый. — Это я взял на себя смелость посоветовать капитану стать на якорь.
Тут Княжев и вовсе возмутился:
— Но распоряжения по пути следования выполняются мои! Мне такая власть дана!
— Кем?
— Самой Москвой! Наша стройка всесоюзная, а вы…
— А мы местные, уездные — так хотели сказать? Но оставим счеты. Не льда мы нынче ждем, а дождя!
— Верна, верна, — подтвердил Лука. — Шибко дождик польет!
— Уж скорее снег… — протянул Княжев с недоумением. — На небе-то ни облачка.
— Нонешним ночем жди, — заключил капитан.
А вскоре набежали шустрые тучки из-за кряжей. И, спаявшись в одну сплошную завесу, распростерлись над головами, как суровый тент палатки, накрывший все и вся. И хлынул дождь — беспросветный, нескончаемый ливень. Он хлестал и бушевал двое суток. И сорок восемь часов подряд поил иссыхающую реку. Щедрые потоки бурливо скатывались с берегов в обмелевающее русло, и уровень воды в Ключевой сразу поднялся. Дальнейший путь судам был открыт.
— Как вы установили? — допекала Жанна Евгеньевна бородача. — Подъем воды в период межени, в самое предзимье. Раз в сто лет случается!
— В последнее время потребитель частенько получает то, чего не видывали по сто лет и более: то лето небывало знойное, то зима неслыханно ранняя…
— Потребитель? Кого вы так именуете?
— Тех, кто потребляет метеосводки.
— Ну, теперь в них все стали нужду испытывать. Только и слышишь — погода, непогода, погодные условия…
— Почему только теперь? Так от веку бывало. В средневековой Европе городские сторожа выкрикивали по утрам: «Дождь!», или: «Ясно!» А именитые горожане прикидывали, в каковском наряде им красоваться на улицах. И сейчас та же проблема: брать зонтик или не брать? Но есть потребители куда более нуждающиеся. Одно дело — промокнуть под дождем, и совсем иное…
— Не добраться до места с ценными грузами, которых ждут не дождутся!
— Допустим, что так. Хотя случаются по нашей вине беды и пострашнее.
— По вашей? Вы не оговорились?..
И Жанну Евгеньевну вдруг словно осенило: господи, да это же Петров! Да-да, тот самый Петров, о котором сейчас столько говорят. Ну конечно же, она слышала: одни его рьяно поддерживают, другие столь же яростно ставят ему препоны. Вот и Княжев, похоже, разодрался с ним насмерть… Но в глаза эту знаменитость сама Жанна Евгеньевна не видела до сих пор.
Стало быть, это ему везут они оборудование на тентовой барже и ему Княжев обязан построить метеостанцию в Ожеледье? А станция эта должна обслуживать всю трассу строительства магистрали — капризнейшую по климатическим условиям.
Так получается, два медведя в одной берлоге? Как они уживутся, как сработаются, если уже с самого начала такие трения? Княжев-то был против того, чтобы еще и климатологов включили в его комплекс: его, мол, дело дорогу строить!.. Тем и навлек он на себя неприязнь Петрова, которого коробило от княжевской узости.
— Да, я и есть тот самый Петров! — почему-то рассердился бородач. — Тот самый Петров, который изволил навязаться на вашу шею!.. Но я же просил Княжева не раскрывать мое инкогнито!
— А он и не раскрывал, я сама угадала.
— Что ж, порой догадка заменяет ум, — смягчился он. — Мы ведь тоже иногда позволяем себе полагаться на интуицию. Можем, например, безо всяких приборов предсказать, где следует ожидать протаивание, где гололед, а где снежные заносы.
— Значит, вы всего лишь знахарь?
Она норовила зацепить его этим словцом, но он отнесся к ее выпаду совершенно спокойно.
— К вашему сведению, — хрипловато похмыкал Петров в бороду, — «з н а х а р ь» — тоже от слова «знать». Можно и «в е д у н» — от слова «ведать». Не обидно, а, скорее, лестно…
Хрипотца в голосе у него не от привычки кричать, а наоборот, от затянувшейся привычки помалкивать. Там, в Ожеледье, где до прихода известия о том, что трасса проляжет через них, царила глушь да тишь. И жил Петров более чем скромно. Долго вел свои наблюдения без помощников. Начав с доисторической флюгарки и чашечного ветроприемника, постепенно оснастил станцию приборами, улавливающими лучистую энергию солнца — актинометрами и пирогелиометрами. Обсерватория, пусть и первобытная, возникла уже попозже.
Снимать показания приборов помогал ему сынишка, которого он с раннего детства приохочивал к своему делу. И маленький Тимур уже в девятилетнем возрасте собирал и заносил в журнал данные термометров и датчиков давления, влажности, скорости ветра… А недавно сын присоединился к нему в ином качестве — как научный сотрудник. Официально зачислен в штат станции.
И хоть тяжко было столько лет одному, тем не менее всем, кто нуждался в результатах его трудов и запрашивал о помощи, успевал он безотказно высылать свои прогнозы. А нужда в нем росла с каждым годом, и запросы поступали уже не только из близлежащих районов, стали обращаться к «богу погоды» и издалека: «Наши хозяйства планируют такие-то посевы на такой-то площади. Просим вашего прогноза, чтобы составить четкий график полевых работ… Ответ телеграфом оплачен». «Приступаем вскрыванию залежей текстильного асбеста в районе Тумды. Требуется долгосрочный прогноз для ориентировочного планирования хода взрывных и дорожных работ… Управление нерудных ископаемых». «Вновь обнаруженным минеральным источникам грозит ранняя консервация, если не получим надежных сведений о времени наступления холодов… Севздравстрой».
Да разве мог бы он сейчас беспечно посиживать в Ожеледье, поджидая бредущий где-то караван, когда все сверхсовременное автоматическое снаряжение плюс оптика для гелиообсерватории тянутся по реке со скоростью бурлацких времен? Только такой толстокожий субъект, как этот Княжев, не в состоянии уразуметь, что его-то, Петрова, место именно здесь — на воде.
Тянется караван, ползет еле-еле. Хоть и по воде плывет, а воду ищет. Как в пустыне. На ощупь ведет его поводырь Лука Байбалов, ожеледьевский патриарх.
1 ОКТЯБРЯ
Ким Сухих привык больше всего ценить свою независимость. Жил неоседло, бездомно. Зато сам себе был хозяином. Но поближе к сорока, когда холостяцкие прелести приедаются, потянуло и его к оседлому бытованию. И Даша Беседина тем взяла его, что не потребовала никаких от него жертв: «Живи как живется. Неволить не стану!» А Кима самого потянуло испробовать чистенького Дарьиного уютца. Приелось быть одному. Но тут-то и обнаружилось препятствие для их мирного и ровного бытия — Славка-шельмец. Малый вздорный и неприкаянный. После восьмилетки сунулся в техникум — не понравилось: не его, видите ли, профиль. Год провисел на Дарьиной шее. Пофилонил на автобазе — надоело…
Сам-то Ким с семнадцати лет кормил себя. Времечко было скудное, неласковое. И отправился он, полусирота, в свое долгое кочевье со стройки на стройку, какие тогда разворачивались вдоль родных берегов. Доводилось баржи грузить, таскать на собственном горбу мешки с цементом. И кирпич разгружать, и бревнышки вынимать из трюмов да с палуб. И все на плечах, на руках… Это позднее стали прибывать механизмы, и он поднялся на кран и за механика, и за капитана. Словом, не задарма ему эта «плавбаза» хлопотная досталась: повидал он виды на своем веку, заслужил.
Однако и Славка ведь тоже не в роскоши рос, а как и сам Ким — безотцовщина. Считал Ким Прокофьевич, с подобным себе они проще поладят. Да не тут-то было. Отчима он сторонится, будто нелюдя какого. И ведь ни словечком Ким его не задел, вместо сына родного пригласил жить к себе в рубку. «Успеем и дома друг дружке надоесть», — нахально отверг сопляк его предложение. И где ночует — неизвестно.
Да Славка не то что на него, а и на дядю Володю ноль внимания. Почему-то с ходу к Петрову прильнул. И готов с тем о чем-то лясы точить хоть сутками напролет. А борода и рад-радехонек, что напал на такого редкостного слушателя, забивает парню башку. Славку пора к настоящему делу приспосабливать, нацеливать на самостоятельную профессию, а краснобай этот заливает ему тары-бары-растабары. Про влияние солнечных лучей на красу девичьих очей. Или про то, как некий старорежимный купчина позабыл на острове котел. И по той якобы причине стал остров именоваться Котельным.
Когда они с Дарьей еще только женихались, Киму говорила она: «Мальчик у меня есть…» И представлял себе он стриженого мальчугашку — впору нос утирать. А встретил длинногривого, норовистого, необъезженного жеребчика. Не то чтобы отцом, а и по имени-отчеству Кима не назвал ни разу. И в кого получился такой неуступчивый? Ведь сама Даша женщина отзывчивая, сердобольная. И всякой нужде готова помочь.
А вчера вот она проявила мужскую твердость. Дело было так. Буксирчик рвануло в сторону, и он застыл на месте. Машина разом перестала постукивать, и буксирные дуги завибрировали. Пенье дуг всполошило всех. Дарья, к счастью, оказалась на палубе. Шлюпку спустила мигом. И так споро и ловко расцепила она подчалки и освободила буксир от барж, что позволила судну сманеврировать.
Прежде Киму не доводилось видывать ее в деле. А тут прямо-таки залюбовался, как она верпы заводит — одна в шлюпке. И на борт команды лебедке подает. Снимает верп с планшира, вяжет к нему конец каната, а другой конец заводит на лебедку. Теперь уже ни одну из барж не снесет на мель. И «Водник», освобожденный от барж, успел послушно соскочить с «кошки».
А затем сбурлачили общими силами караван поштучно: где Ким тянул своим краном, а где подталкивали самоходкой. Но они-то в этом деле вторые скрипки, потому что новое сцепление — уже не гуськом, а «пыжом», когда суда счалены меж собой бортами, — целиком Дарьина заслуга. У нее баржа с баржей схватываются как намагниченные — с первого захода.
Сам Княжев пригласил верповальщицу к себе наверх и ручку жал прилюдно: «Спасибо тебе, Дарья Корнеевна!»
Но вода, несмотря на пролившиеся дожди, все убывает и убывает. И морозец наплывает встречь — грозит сковать реку. А даже и при шуге ледяной, пусть самой легкой, самой текучей, таких оборотов, как последний Дарьин с перечаливанием, не произвести. Баржи неподатливыми делаются, неповоротливыми. Тем более и русло становится все коварнее. Прежние мшары, тянувшиеся по побережью блеклыми половиками, сменяются каменистыми обрывами. Рукава дробятся на узкие протоки. Сближаются щеки берегов. И мнится, что вот-вот сойдутся вплотную и сдавят суда, сплющат и изломают.
Особенно тяжко бывает в сумерках, от которых за полярное ясное лето отвыкли и глаз и воображение. В полутьме любой предмет видится крупнее самого себя. И скалы береговые возрастают до небес.
С того дня, как Славка нагнал их в пути, словно подменили Дарью. Нет прежнего тепла. На кране у мужа она уже не задерживается, будто стыдится кого-то.
— Брось ты хоть на ночь своего Славочку! — требует Ким.
— А он вовсе и не со мной ночует. Его Петров подле себя пристроил!
— Вот привадит он к себе малого — не оторвешь!
— И что в том дурного? — резонно заметила Дарья. — Пора и ему к какому-то берегу причаливать.
— Слишком высок для него тот берег! Чтобы на него взобраться, нужно к наукам терпение иметь…
— Что верно, то верно — отстал Славка от учения.
— И к ремеслу ни к какому не пристал.
— А все же он к таким людям тянется, у кого можно ума-разума набраться.
— Стало быть, не ко мне? — вконец разобиделся Ким.
Поняв свою оговорку, она поласковее склонилась к нему:
— Да уж не ревнуешь ли ты, Кимушка дорогой? — И, обхватив мужа за крепкую шею, сама чмокнула в губы.
Он высвободился из ее объятий: ласка некстати не смягчила его.
— Петров не девка, чтобы к нему ревновать, — попробовал поставить он все на должное место. — А ты капризам всяким потакаешь. Ну, с какой блажи он за тобой пострекал?
И враз поскучнела Даша. На широком, с легкой рябинкой лице ее промелькнула тень отчуждения. Она и сама-то не приспособилась к новой зависимости, а сын хоть рослый, да не взрослый — ему и того труднее…
— Чего тебе от него надо? — потребовала она от мужа.
— Хотя бы уважения.
— Хотя бы… Этого, между прочим, заслужить следует.
— Прикажешь выслуживаться перед сопляком? — отвернулся от нее Ким.
На «Водник» Дарья возвращалась помрачневшая. Она чутко прислушивалась к звону падавших с весел капель и пыталась заставить себя о чем-нибудь думать. Но не думалось.
3 ОКТЯБРЯ
В пути всякое случается. Можно было ждать худшего, а такая мелочь, как поломка двигателя на кране, не должна была задерживать караван и не задержала. Ким сам попросил: не жди, братва, мы вас нагоним!
Но ремонт затянулся. А караван успел показать хвост: приказ Княжева — ни минуты зазря не терять. Скрылся из виду островерхий палаточный навес последней учаленной к «пыжу» в кильватер баржи. И летучий дымок «Водника» уплыл ввысь. И так тихо стало вокруг, что лишь звон гаечного ключа разрывал устойчивое каменное безмолвие.
Колька — мальчишка-дизелист, помощник Кима, немой. Потому, его и в армию не взяли. А что немой — хорошо: с ним можно неделями молчать; только покажи, что делать, — он и без слов воспримет. Вот бы и Киму такого приемыша, бессловесного, безъязычного, — так ужились бы с ним и поладили миром.
Но к полудню засосало под ложечкой. И Ким Прокофьевич предложил похлебать супцу. Похоже, и Колька замечтался о том же. У них желания часто совпадают, как под копирку. Однако Дарьина жирнющая стряпня оказалась несъедобной без разогрева. Пробовали разжечь костер. Но в этакой пустыне из чего его запалишь? Из камня не сотворишь леса. Еще вчера караван миновал последние островки карликового леска. И теперь за береговыми уступами скал стелились одни бескрайние болота, дышащие предзимним парком. Седой иней уже и средь дня не сползал с пушистых почв, он как бы примерзал к ним, делая бархат мхов рыхлым и клочковатым. И зажечь клочья этой прелой ваты было не легче, чем подпалить лед. Дым еще кое-как стелился, но огня не получалось.
Зряшная потеря времени обозлила обоих. Воротившись на палубу, оголодавшие и злые, они снова принялись работать не поднимая головы. И по первости не приметили знакомую лодку, юрко вырулившую из-за заплеска. А углядевши гребца со спины, Ким вздрогнул — не сама ли Дарья пожаловала? Но вскоре убедился, что на веслах Славка. А за Дашу он его оттого принял, что напялена на нем была материнская вязаная кофта — для тепла.
Подгреб Славка важно и лодку не забыл принайтовить. Ухватившись за кранцы, хвастовски приподнялся к ним на руках.
— Загораете, чудики? — бросил одному Николке. — Ладно, не робей, воробей! Я тут голодающим хлебало доставил — в горячем виде, — и, подмигнувши дизелисту, сунул ему под нос большой палец «с присыпкой». А к Киму и не обернулся. Со дна шлюпки извлек сумку хозяйственную, в ней два термоса — суповой и с чаем.
— Противу течения как прискреб? — обратился к нему Сухих. — Ладони-то целы?
— Мать упросила, в ногах валялась. Опасается, как бы муж ее не отощал с голодухи.
Ким стиснул зубы, но не ответил. Зато дизелист повеселел, косясь на термосы.
Ничто так не раздражало Славку в новоявленном папаше, как назойливое желание завязать дружеские с ним контакты. «Ну, живи при нас, коли на старости лет приспичило тебе жениться, не гонят. Но не лезь в душу. О чем с ним дискуссии вести? О подъемном кране устаревшей конструкции? Или о теоретических основах забивания козла по вечерам?» Как выяснилось, это у отчима было любимое занятие.
Есть же ведь на свете интересные люди. Взять того же Петрова. Не скучный товарищ. Про одно свое открытие столько занятностей поведал, что по линии солнечной радиации и ее влияния на земной климат Славка с ходу может и сам лекцию рассказать. О том, что даже валенки нельзя валять в те дни, когда радиация увеличивается, — такая возникает влажность в атмосфере. В промежутках же между периодами солнечной активности наступают жестокие засухи. И если все рассчитать и учесть заранее, то можно избавить человечество от величайших бедствий…
Сан Саныч всю тундру протопал своими ногами. И за Полярным кругом он зимовал. И когда слушаешь его рассказы про отважных метеорологов, как они в пургу и зной, на суше и на море несут свою тяжкую службу, то словно до книжки приключенческой дорвался. Да, Сан Саныч — личность выдающаяся. Вот за ним бы Славка куда угодно рванул, только скажи. Это тебе не Ким.
Отчим, тот обо всем судит по старинке. До сих пор думает, что полезный труд на благо общества — только за тисками или за верстаком. Серость! А берется направлять. Будто Славка сам не сечет, какими триодами ему шевелить. Мать, та уже давно в его сферу не вникает. И оттого у них до появления Кима полная была контактность. А уж дальше все будет зависеть от того, кому она отдаст предпочтение. Впрочем, и сейчас уже заметно, кто ей дороже. Как рвалась в шлюпку, чтобы Кимушку своего накормить! Хорошо, хоть дядя Володя заметил, не отпустил ее. Караван-то нынче ни на час нельзя оставлять без главной сцепщицы. Но мать так разнюнилась, что Славке прямо жаль ее стало. Вот и пришлось вызваться — не ради отчима, а ради нее.
Ким Прокофьевич и Колька поели, попили горяченького и снова принялись за работу. Схватил пассатижи и принялся за дело и Славка. Только возня эта быстренько ему надоела. Можно бы и в лодку, да прощай кран, выпутывайтесь-ка сами, но самолюбие заело: хошь не хошь, а крути. Поэтому стоило Киму Прокофьевичу объявить перекур, как Славка огрызнулся:
— Сто раз вам говорить, что я не курю?
Ким и сам смутился.
— Ну, просто так отдохни, горушками округ полюбуйся.
— Не горушки это, — презрительно фыркнул Славка, — а морены!
— Поди ж ты, какой образованный! — не сдержался Ким.
Славка замер, как кот перед прыжком.
— Чую, на что вы намекаете. Только можно и аттестат в кармане носить, а быть при этом тумаком.
— С аттестатом-то все же надежнее, — поделился своим соображением Ким вполне миролюбиво.
Но Славка уже был в таком заносе, что его даже и это замечание задело.
— Почему же у вас его нет? Других завсегда легче наставлять на путь истинный, чем самому…
— Что верно, то верно, — согласился Ким. — Нашему брату в те времена до аттестата дотянуть труднее было.
— Почему? Что изменилось?
— Потому что мы на чужой шее не сидели, зарабатывать на хлеб надо было.
— Не бойтесь, уж на в а ш е й шее я сидеть не собираюсь! — окончательно взъярился Славка.
Тут не выдержал и Ким:
— Факт, на материнской-то куда удобнее!
Побелев, Славка швырнул пассатижи, рывком привскочил с колен и, не держась за кранцы, единым махом спрыгнул в лодку. Даже и кофтенку Дарьину не успел накинуть, только кудрями длиннющими тряхнул на прощание.
3 ОКТЯБРЯ. ВЕЧЕР
Мотор тарахтел взахлеб. Ботик мчал как подхлестнутый, хотя и против течения. Разгулявшийся ветер резал встречь: больно было вглядываться вперед. Но Дарья гнала на предельной скорости и не отводила взгляда. Все глаза проглядела, а крана нет и нет.
Река петляла. Старицы и протоки вразнобой зазывали свернуть с прямого пути. Небеса тоже затянуло сплошь. А по берегам монолитные увалы — один копия другого. И это скалисто-серое однообразие на земле, на воде и на небе так и норовило совсем сбить ее с толку. Но, припоминая пройденный «Водником» отрезок петли, Дарья вела свой бот уверенно и без колебаний.
Правда, уж давно по ее расчетам пора бы замаячить плавучему крану, но тот будто сгинул. И сердце колотилось с мотором наперегонки: что-то случилось, что-то, что-то…
«Ну что с твоим парнем может стрястись? — успокаивал ее Княжев как мог. — Он же не один там, а под надзором у Кима. Починятся и нагонят». А она на своем веку всякие виды видывала. Река хотя и не море, но и на реке теряла она людей, в особицу молодых да отчаянных, что, не ведая броду, суются в воду.
Темнело. И тени росли на воде. А птицы, отгомонившись, прекратив громогласные споры, устраивались на ночлег в низкорослом кустарнике. И жутковато стало в такой вот тиши — ни звука на сотни пустынных верст.
С шестнадцати лет работает она на реке. Но ни разу не заносило ее в такую глушь. Тут и русло-то считалось несудоходным. А Княжев взялся провести караван и капитана уговорил. Лука же ее, Дарью, на учалку поставил. Вроде бы честь бабе оказана — не мужику предпочтение отдано, а ей. Отбрехаться бы: «Женщина я замужняя, детная». Но куда бы ни занаряжали ее, отлынивать она не привыкла. Да и Ким обнадежил: «Не робей, с тобой я!»
Только бы и впрямь не стряслось с ее мужиками какой оказии. Все-таки худо-бедно, а жизнь ее семейная налаживается потихоньку…
Топовые огни, что на макушке мачты плавучего крана, прорезались уже в полной темноте. И чуть не вскрикнула Дарья от радости: цел кран, отыскался! Видать, у них с ремонтом заело. Что ж, кран старый, на капиталку просится.
Уловив тарахтенье мотора, Ким Прокофьевич выскочил на палубу в одной рубашке. Дрожа от пронизывающего ветра, он впопыхах натягивал робу… Дарья?! Что за странность! Ведь только что радио было с «Водника»: там вновь авария. Запрашивали, нет ли верповальщицы на кране. И он прочно заверил, что не бывала.
Но о том, что ее разыскивают, доложить не успел. Не давши и рта раскрыть, Дарья первым делом спросила:
— А Славка где? У тебя?
После этого он и вовсе застыл оторопело.
— Как так у меня? А разве он…
— Что он?!
— К тебе он не…
Ноги у Дарьи подкосились.
— Нет. Не ворочался…
— А вы не разминулись с ним ненароком? — предположил Ким.
— Да когда ты хоть отправил-то его?
— Почитай, почти что сразу…
Николка-дизелист, выставивши из люка взлохмаченную башку, показал на пальцах, в котором часу Славка сорвался.
— Ох, горе мое! — вскрикнула Дарья в голос и тут же скомандовала Киму: — Одевайся живее, чего замер!
Он мигом натянул бушлат, поверх еще и дождевик напялил и, прихватив фонарь, спустился вместе с Дарьей в лодку.
Шум мотора глушил слова. И он так и не сказал ей, что принял тревожное радио с «Водника». Да и совестно было пугать ее еще одной бедой — она сейчас ни о чем, кроме Славки, и думать не в силах была.
— С чего Славка сбежал? — спросила Дарья о том, чего он опасался более всего.
— Вроде обидел я его, — не стал скрывать правды.
— Ты?! — не поверила Даша. — Не походит на тебя.
— И сам не разберу, как с языка сорвалось…
— Ладно, не казнись, сейчас не до того. Скажи лучше, где искать, куда править? По главному руслу я еще засветло прошла — ни души там живой…
— Значит, протоки надо прочистить, мог и обознаться малый, не туда загрести. Далеко от нас не ушел: он ведь без мотора, — успокоил Ким Дарью.
Найти бы его только, не проскочить…
Старица, что огибает отмель струистой скобой, вывела их чуть повыше того переката, где они свернули. Но ни на самой воде, ни на затемневших до невидимости побережьях ничего приметного глаз не обнаруживал. И на зов их не откликался никто. Хотя кричали настойчиво, в два голоса, и два эха — мужским голосом и женским — отзывались исправно.
Часы показывали двадцать один тридцать. Славка, упрятавшись в скалистых щеках от неутихающего ветродуя, изловчился распалить костерок. Жечь сырой мох — гиблое занятие, и он выломал две шлюпочные банки, сохранив для себя лишь ту, что под уключинами. Втайне надеялся, что его уже ищут. А коли так, то, пожалуй, и найдут. И прежде чем решиться на порчу лодки, часа два пробродил в поисках топлива. Но ни на какую растительность, кроме того мокрого мха, не наткнулся. И не удались он от берега — заметил бы Дарьину моторку еще дотемна.
Жиденький костерок тлел, не согревая. Жечь весла или доламывать лодку не поднималась рука. И он заставлял себя отвлекаться: старался думать о чем угодно, только не о том, что жалкое пламечко вот-вот угаснет и почернеют чахлые угли.
Невольно возвращался он к ссоре с Кимом. Почему мать не предупредила его, что не одна отправляется в рейс? Их обоих он бы и догонять не стал. И вообще, с чего это он на кране вдруг взбрыкнул ни с того ни с сего? Можно было и мирно пропустить: подумаешь, задели его. Ну и что ж, что на материной шее сидит — это никого, кроме их двоих, не касается. Придет час — отработает сполна.
И вдруг ему стало страшно за мать. Как она сейчас с ума сходит, мечется: куда ее Славочка подевался? И так ему горестно и обидно стало — и за себя, и за мать, что принялся орать во всю мочь: «Мама! Мама! Мамочка-а-а!» И ушам своим не поверил, когда из тьмы отозвался ее голос: «Слава! Славушка! Я здесь, сыно-оок!»
И кинулся к ней на голос. А нарвался на Кима. И так вот по оплошке пришлось расцеловаться с отчимом. И когда тот взмолился при матери: «Ты уж прости меня, сын!» — тут и Славку бросило в рев. И не устыдился Славка своих слез, потому что никто его ничем не укорил. И еще очень заметно было, что и Ким сам рад-радехонек: пропажа нашлась.
И. Олейников ЖРЕБИЙ
Ветер нож на гребнях точит, Леденит нам свистом души. Океанский знаю почерк — Волны сталь и камень рушат. Мне удар волны не страшен, По плечу моряцкий жребий: То форштевень волны пашет, То бодает звезды в небе. Мной отвергнут быт уютный, За бортом ревет стихия. Пусть мала моя каюта, Но она — моя Россия.М. Базоев * * *
Поэты пишут бодрые стихи О бригантинах, тропиках, авралах. А я, земля, привык в морях грустить О речке, о травинке самой малой. А я тебя привык не забывать, Любить светло, застенчиво, тревожно, И каждый раз, как в первый, узнавать, Что без тебя и в море невозможно.* * *
Не умеющий ждать, ненавидеть, любить Не иди в моряки, Не иди в моряки. Не умеющий с другом беду разделить Не иди в моряки, Не иди в моряки. Не умеющий правду в глаза говорить Не иди в моряки, Не иди в моряки.ФЛОТ ВЕДЕТ БОЙ
И. Подколзин ПОТОМОК АДМИРАЛА Рассказ
На длинную извилистую бухту, глубоко прорезавшую маленький затерянный среди Балтики островок, на котором базировались «морские охотники», опустились хмурые, с дождем, летние сумерки. У обрывистого, в глинистых промоинах берега, поросшего редким, наполовину высохшим сосняком, ольхой и пышными кущами бузины и шиповника, выстроились катера, затянутые зелеными в коричневых разводах маскировочными сетями. Справа у спуска к воде, задрав к небу черные стволы орудий, расположилась зенитная батарея. Слева, где бухта образовывала круглый заливчик, сквозь заросли тальника виднелись огороженные колючей проволокой баки склада горючего.
В приземистом, под серым шифером бревенчатом бараке разместился штаб. В конце узкого темного коридора из-за полуприкрытой фанерной двери пробивалась полоска желтовато-мутного света. В маленькой комнате за письменным столом, в кресле, обтянутом пупырчатым черным дерматином под кожу, сидел заместитель командира дивизиона по политической части капитан-лейтенант Сорокин. Китель ему был явно маловат, да и вообще морская форма ему не шла. В гражданскую войну Сорокин воевал в пехоте. Демобилизовавшись, работал на восстановлении портов в Одессе и Севастополе, затем строил Комсомольск. Возвратившись на родину, в Ленинград, стал парторгом цеха на заводе, ремонтирующем корабли. Когда началась война, его направили на курсы политработников, откуда он и попал на дивизион катеров «МО». К военному флоту, а особенно к катерам, он имел весьма отдаленное отношение, тем не менее быстро вписался в семью моряков и заслужил признание и уважение даже у тех, кто с предубеждением относился к пришедшим из «гражданки». Дивизионные остряки считали его старомодным и подтрунивали за глаза над привычкой замполита позудеть, поворчать, но единодушно сходились во мнении, что косточка морская в нем все-таки есть и вообще дядька он хоть порой и занудный, но не вредный, а главное, справедливый.
Сейчас Сорокин, неторопливо помешивая ложечкой чай в граненом стакане, изредка откусывал маленькие кусочки от бутерброда — ломтя намазанного маслом черного хлеба с тремя кильками — и в неофициальной беседе вводил в курс дел вновь назначенного командиром дивизиона капитана третьего ранга Чернышева.
— Народ у нас в основном молодой, задиристый, иногда даже сверх меры. — Сорокин отхлебнул глоток и, будто подыскивая слова, посмотрел на обшитый гладко выструганными досками потолок. — Многие матросы еще не обстреляны, да и командиры в большинстве новые. После событий у острова Кривого четверо старичков погибли, а замены нет — сами растим. Вот и командуют катерами мичмана да младшие лейтенанты. Правда, есть один лейтенант — командир первого звена, тоже недавно прибыл. — Замполит вытащил изо рта рыбью косточку и, посмотрев ее на свет, положил на блюдечко. — Да уж больно странный. То ли легкомысленный, то ли характер такой, все хиханьки да хаханьки, но надо признать, дело свое знает — этого не отнять. Себя, чертенок, считает чуть ли не потомком прославленного флотоводца. Нахимов его фамилия.
В этот момент в коридоре кто-то запел звонким голосом:
Пятнадцать человек — на сундук мертвеца, Йо-хо-йо-го-го и бутылку рома…— Вот видите, пожалуйста, легок на помине. Вместо того чтобы отдыхать перед походом, ходит и горло дерет. Хорошо хоть, без гитары. А в каюте у него посмотрите — цирк. Стены ерундой разной завешаны, над кроватью тесак — не иначе в музее спер, паршивец. Однако этого самого, красоток полуголых, ни-ни, чего нет, того нет.
За дверью заливался голос:
…Пей, и дьявол тебя доведет до конца, Йо-хо-йо-го-го и бутылку рома…— О, ишь выводит, солист-гармонист. — Сорокин тяжело поднялся из-за стола, прихрамывая и слегка косолапя, подошел к двери, распахнул ее и крикнул хриплым голосом:
— Лейтенант Нахимов! Слышь, зайди-ка сюда. — Замполит вернулся на свое место и, откинувшись в кресле, уставился в темный проем двери.
— Слушаю вас, товарищ капитан-лейтенант! — В черном квадрате показалась фигура молодого офицера. Заметив старшего по званию, он немного смутился и поспешно добавил: — Извините, товарищ капитан третьего ранга, — и как-то по-особому, с вывертом приложил руку к козырьку, — разрешите обратиться к капитан-лейтенанту?
— Да, пожалуйста, — ответил комдив. — Обращайтесь.
— Прибыл по вашему приказанию, товарищ капитан-лейтенант.
Он был небольшого роста, худенький, с коротким, немного вздернутым носом на продолговатом лице, в хорошо отутюженных брюках и ловко подогнанном кителе с начищенными до блеска пуговицами. Из-под полы кителя золотился кончик взятого «на крюк» кортика. На голове лихо сидела сдвинутая на правый бок фуражка, на лоб падали пряди светло-русых волос. Тонкие черные, будто нарисованные, брови были изогнуты так, словно лейтенант все время чему-то удивляется. В голубоватых, немного прищуренных глазах бегали озорные искорки.
— О, полюбуйтесь! Ну сколько я раз тебя просил: хочешь петь — выступай в самодеятельности, не разлагай ты своими спевками личный состав. Перестань, бога ради, эти выверты. Песни-то у тебя про разную чушь: покойники, сундуки, ром.
— Вы хотели сказать про «пятнадцать человек на сундук мертвеца»? — начал лейтенант.
— Ты прекрасно знаешь, о чем я хотел сказать. Пятнадцать — двадцать, сундуки-рундуки, какая разница — все одно плохо, — взвился Сорокин.
Лицо лейтенанта стало расплываться в улыбке.
— Не ухмыляйся, когда разговариваешь со старшими, молод еще зубы скалить, слушай лучше и на ус мотай.
— А в старости-то и скалить нечего будет. Вот например… — опять начал Нахимов.
— Видите? Ты ему слово — он тебе сто. Ты ему про бузину — он тебе про дядьку. Ступай лучше к личному составу. И последний раз говорю — не бросишь свои фокусы, снимут со звена, как пить дать снимут. Попомни мое слово. Иди.
— Есть! — Лейтенант повернулся и вышел.
— Вот он, гоголь-моголь, весь тут. И ведь ругаю его, а сердце подсказывает: парень хороший, добрый, душевный, а вот поди ж ты — разгильдяй.
В флибустьерском, дальнем, синем море Бригантина поднимает паруса… —донеслось из коридора. Хлопнула наружная дверь, и голос замер.
— Ну хоть кол на голове теши, ничего не поможет.
— Занятный хлопец, — произнес комдив. — А я что-то раньше не слышал такой песни, не он ли ее сочинил? Не балуется стихами?
— Чего нет, того нет. Такого за ним пока не водится. Это с бригады лодок — Коган, тоже скоморох. Очевидно, он написал.
— Скажите, лейтенант действительно имеет какое-то отношение к адмиралу Нахимову? — Капитан третьего ранга вопросительно посмотрел на Сорокина. — Фамилия, знаете, очень редкая.
— Да где там! Сам слух распустил. Проверял я. В двадцать третьем году, в голодуху, помните, время какое было, в Поволжье его малым ребенком подобрали на улице. Ну, как положено, сдали в детдом в Саратове. Фамилию дали уборщицы Марии Васильевны Нахимовой. Он ей, кстати, деньги посылает — украдкой. Спросите, почему тайком? А вдруг обвинят в сентиментах разных слюнявых? Это у них, молодых, сейчас чуть ли не позор. Да-а. А имя и отчество перешло ему от завхоза — Юрий Петрович. Вот и все его древо родословное. Сирота парнишка, как говорится, круглый.
— А на кораблях, в звене, порядок у него? Служит как?
— Хорошо, как ни странно. И воюет смело, политзанятия на высоте, не бездельник. Что и обидно-то. Службу знает. Матросы его любят, уважают, а отправляю на задание — душа болит: вдруг выкинет какой фортель? На днях иду на дивизион, а он стоит и боцмана отчитывает: «Ты что же, говорит, пулеметы не почистил, бледнолицый брат мой?» А у этого брата бледнолицего, извините за выражение, рожа как помидор. Да разве так положено? Начальника штаба каким-то билибонсом обозвал. Ну куда это годится?
— Он одноглазый, что ли, начальник штаба-то? — Комдив рассмеялся.
— Да. А вы откуда знаете? — удивленно протянул Сорокин. — Правда, не то чтобы совсем, но кривоватый слегка, так, самую малость, прихватило осколочком в сорок первом под Таллином.
— Тогда все ясно.
— Что ясно?
— Романтик парень — книг приключенческих начитался. В детстве он еще наполовину. С годами, к сожалению, пройдет.
— Пройдет, думаете?
— Обязательно. По себе знаю. — Комдив улыбнулся.
— Ну, и то ладно. Может, вы и правы. По сути дела — мальчишка, а уже звеном заправляет, — потеплевшим голосом произнес Сорокин. — Мы ведь революцию так же пацанами начинали, но попроще все было, пояснее, что ли.
— Если службе не мешает, пусть резвится. Мне он мою юность напомнил, я тоже без родителей рос — бабушка воспитывала. Библиотекаршей была, поэтому я и читал все подряд взахлеб. Бредил морем, сражениями, ну и, уж конечно, пиратами.
Утром посветлело. Распогодилось. Кое-где белели неразогнанные ветерком облака: узкие, нежные и прозрачные, словно полоски кисеи на голубом холсте. По воде бегали веселые солнечные зайчики. Гомонили чайки.
Нахимов, мурлыкая под нос какой-то мотивчик, в одной рубашке сидел на застеленной ядовито-малиновым одеялом койке в своей маленькой каюте с распахнутым настежь иллюминатором и чистил пистолет. Разобрав его, он разложил на газетном листе все детали, протер их насухо, затем тонким слоем смазал маслом. Собрав «ТТ», он прицелился в висевшую на стене маску, несколько раз передернул колодку, пощелкал бойком. Видно, остался доволен и, высунув кончик языка, начал белой тряпочкой старательно наводить глянец на вороненую поверхность.
В каюту постучали.
— Да, входите. Кам ин, так сказать! — Лейтенант опустил пистолет и посмотрел на дверь.
У комингса стоял рассыльный штаба. Рассыльными назначали матросов по очереди со всех кораблей дивизиона. И когда рассыльных посылали за Нахимовым, то каждый из них, наслышавшись ходивших по соединению баек об экзотике лейтенантского жилища, первым делом, переступая порог, глазел на увешанные стрелами, старинным оружием, масками и батальными картинами стены.
Все эти атрибуты, кроме разве палаша и шпаги, выменянных у знакомого коллекционера на портсигар и шоколад, Нахимов делал сам из папье-маше и дерева, которое он «старил» раствором марганцовки. Портреты Ушакова, Корнилова и Лазарева вырезал из журналов, а книги Стивенсона, Лондона, Станюковича, Новикова-Прибоя собирал давно и всюду таскал за собой, время от времени перечитывая и даже заучивая наизусть особенно понравившиеся места.
Осмотревшись сначала по сторонам, матрос доложил:
— Товарищ лейтенант! Комдив вызывает, велел немедленно.
— Добро, бегу, бегу! — Нахимов вскочил, перебрасывая из руки в руку пистолет, надел китель, заметался, разыскивая что-то, мимоходом потрепал по толстой мордочке спящего на койке кудрявого пузатенького щенка фокстерьера, схватил фуражку и выскочил на палубу.
По качающемуся под ногами трапу, застеленному чистым пеньковым матом, он сошел на скользкий глиняный откос, поднялся на поляну, густо усыпанную желтыми фонариками одуванчиков, и припустился бегом к выглядывавшему из-за сосен бараку. «Бабочки появились, — подумал он, — рыба пойдет, надо будет ребят сагитировать вечерком порыбачить».
— Разрешите войти, товарищ капитан третьего ранга? Лейтенант Нахимов, командир звена «морских охотников» прибыл по вашему приказанию! — Он опустил руку и выжидающе посмотрел на комдива.
Командир дивизиона сидел за большим заваленным бумагами столом. Справа от него примостились на узеньком диванчике Сорокин и начальник штаба, а слева на стуле — незнакомый, атлетического сложения, грузноватый, хотя и молодой, офицер в пятнистой плащ-палатке и пилотке.
— Очень хорошо, что прибыли, — начал комдив и вдруг запнулся, затем, пристально глядя на Нахимова, произнес: — Ну, знаете, лейтенант, мы же с вами не в казаки-разбойники играем.
Нахимов растерянно оглянулся, увидел, что офицер в плащ-палатке готов расхохотаться, замполит скривился, будто откусил от целого лимона, а постное и круглое, как сырой оладушек на сковородке, лицо начштаба совсем недвусмысленно выражало: «Чего же еще можно ждать от этого лейтенанта? Ведь он, начштаба, все это давно предвидел и знал».
— Что у вас за вид? Посмотрите на себя, — сурово проговорил комдив.
— Я не понимаю, — промямлил Нахимов и переступил с ноги на ногу.
— Тут и понимать не требуется, — вмешался Сорокин. — Я же говорю, хоть кол на голове теши. Почему пистолет за пояс заткнул? Кобура у тебя есть? Эдак ты и кортик в зубах таскать будешь, а? Командир ты советский или билибонс?
Нахимов опустил глаза и покраснел: правая пола кителя как-то нелепо задернулась и из-за широкого ремня предательски высовывалась эбонитовая рукоятка пистолета.
— Торопился я, оружие чистил, спешил я…
— А в карман-то положить не сообразил? — усмехнулся незнакомец.
— Не мог, яблоки там сушеные и шоколад.
Карманы его брюк действительно оттопыривались.
— Что, что? Какие еще яблоки? — привстал Сорокин.
— Посылку от шефов получили. Я собрался отнести Аллочке Мушкаревой, медсестре. Ведь ребенок у нее, а муж, боцман с «тройки», погиб месяц назад. Вот я и думал… — Нахимов безнадежно махнул рукой.
Все замолчали.
— Хорошо, уберите оружие, и займемся делом, — сказал комдив, — времени в обрез.
Лейтенант вынул пистолет из-за пояса и стоял, нерешительно вертя его в руках.
— А ты сунь-ка его в задний карман, да стволом вверх. Так удобнее, когда пушечка большая, — доброжелательно подсказал офицер в плащ-палатке.
Нахимов спрятал «ТТ» и приблизился к столу.
— Знакомьтесь, — комдив кивнул на офицера, — старший лейтенант Янковский Владимир Николаевич, командир группы разведчиков, — и, повернувшись к остальным, добавил: — Прошу, товарищи, поближе, не стесняйтесь.
Комдив встал, подошел к висевшей на стене карте, отдернул указкой синюю шторку и сказал:
— Нам предстоит очень серьезная задача: высадить разведчиков в этом районе в Финляндии. — Он обвел на карте кружок. — Как видите, здесь высокая коса Песчаная отделяет от берега большой и глубокий залив Юрген. Туда не входить ни под каким видом: горло залива узкое, и немецкие катера могут запереть вас как в западне. У основания косы, обратите внимание, узенький перешеек и бухточка довольно просторная, а главное, закрытая. Вот сюда и надо швартоваться. Возглавлять операцию будет лейтенант Нахимов. Идете на «единице» и «двойке». Вас прикроют «тройка» и «четверка».
— Когда выходить? — спросил Нахимов.
— Сегодня в двадцать ноль-ноль. В три, ориентировочно, будете в точке. Высадите десант, немного подождете, а когда убедитесь, что все в порядке и помощь ваша не требуется, возвращайтесь. На обратном пути действовать по обстановке. Предупреждаю категорически: соблюдать полную секретность, до выполнения основного задания от столкновения с противником уклоняться. Пользоваться рацией в самом что ни на есть сверхкрайнем случае. Кальку маршрута и все остальное получите у начальника штаба. Вопросы?
— Все ясно, товарищ капитан третьего ранга, приказ будет выполнен.
— Кстати, лейтенант, ты подал заявление в партию — вот и лучшая рекомендация, — поднялся Сорокин. — И только посерьезней. Хорошо?
— Добро, все будет как надо, — и, уже поворачиваясь, чтобы уйти, тихо со вздохом добавил: — Как не делал даже сам покойный старина Флинт.
— Опять за старое? — вздохнул замполит. — Ладно, ступай, раз без этого не можешь… — Он подтолкнул Нахимова к выходу. — И, это самое, зря на рожон не лезь. Ни-ни, понял? Ступай, я сейчас тоже приду, с людьми потолкую. Собери их мне, где потише.
…Немецкий тральщик-угольщик заканчивал нести дозорную службу у границ минного поля. Командир корабля, еще сравнительно молодой человек — недавно ему исполнилось тридцать, — всегда аккуратный и подтянутый кавалер рыцарского Железного креста, капитан-лейтенант Вилли Кюн был доволен походом. Через три дня его сменит другой корабль. И Кюн, возвратившись в порт, на неделю поедет домой в Гамбург, к семье. Он был глубоко убежден, что вполне заслужил отпуск.
«Дай-то бог, чтобы все закончилось хорошо. Пока, кажется, везет», — думал Кюн, удобно устроившись на мостике. Сквозь поднимающийся от воды туман еле-еле просвечивало светло-желтое солнце. С видневшегося вдали берега тянуло запахом хвои и подсыхающих водорослей. Корабль средним ходом шел вдоль кромки минного поля. Вдруг командир почувствовал легкую вибрацию корпуса — скорость стала падать. В тот же миг зазвонил телефон машинного отделения. Кюн снял трубку. Механик докладывал: неисправность в первом котле и его необходимо погасить.
— Поднимитесь на мостик, здесь все уточним. — Кюн вложил трубку в гнездо.
«Вот и везет, — подумал он, — ведь осталось всего каких-то трое суток — и пожалуйста. — Кюн был суеверен. — А вдруг это начинается полоса неудач? Жди теперь еще чего-нибудь».
На мостике появился механик.
— Что там у вас? Серьезные неполадки?
— Ничего страшного, господин командир, потекли трубки котла. Его нужно срочно вывести из действия. Можно, конечно, ходить и под одним вторым котлом, но лучше сразу исправить повреждение.
— Сколько это займет времени?
— Около суток максимум.
— Хорошо, ступайте вниз, готовьте все к ремонту и попросите ко мне штурмана.
— Я здесь, господин капитан-лейтенант. — Штурман вышел из-за прокладочного столика и вопросительно посмотрел на командира.
— Как видите, штурман, произошла небольшая поломка, и надо на сутки остановить котел. Я думаю, сделаем так. Не стоит вызывать замену. Сейчас спокойно, в этом районе русской авиации почти не бывает, да и сообщений о субмаринах и надводных кораблях не поступало. Мы пойдем в залив Юрген, отремонтируем котел, заодно и команда отдохнет. Может быть, это и к лучшему. Ложитесь на курс 320 градусов.
— Слушаюсь! — Штурман скомандовал рулевому новый курс.
Тральщик описал циркуляцию и пошел к заливу Юрген.
Как только слегка стемнело, катера на малых оборотах, приглушив двигатели, покинули базу и легли на курс к Песчаной косе. На мостике «единицы», пряча от ветра в рукава папироски, стояли Нахимов и Янковский.
Мерно постукивали моторы. За бортом пенилась и журчала вода. Бело-зеленоватые, чуть-чуть светящиеся «усы» разбегались от форштевня и исчезали в темноте. На небе одна за другой стали загораться бледные звезды.
В кильватер за «единицей», ориентируясь по еле заметному «жучку» — замаскированному огню, — шла «двойка».
— Ребята мне твои понравились, — начал лейтенант. — Сегодня, когда грузились, я все смотрел и любовался. Очевидно, специально подбирали? Один к одному. Легко, наверное, с такими воевать?
— Пока не жалуюсь. — Янковский затянулся. — С хорошими людьми всегда и во всем легко.
— И часто так приходится? Туда, в тыл?
— Бывает.
— А назад не скоро?
— Как управимся.
— Ну и человек, слова из тебя прямо клещами тянуть приходится.
— Это смотря какие слова. — Старший лейтенант помолчал. — Вот ты до войны кем был?
— Я? Да, можно сказать, никем. Я ведь из детдома, мы коммуной жили, и учились, и работали. После десятилетки по путевке райкома комсомола пошел в военно-морское. Как себя помню, мечтал только о флоте. Родился-то на Волге. А тут война — нам досрочно на рукав по одной золотой средней и в катерники. Вот с тех пор и воюем. И всего-то что «Красную звездочку» успел заработать. Видишь какая биография — в полстранички.
— Я тоже учился. В консерватории, певцом стать хотел оперным.
— Артистом? Вот бы никогда не подумал. — Лейтенант неожиданно захохотал.
— Чего смешного?
— Ты понимаешь, представил я: зал, люстры, духами пахнет, девушки нарядные и вдруг выходишь ты, вот как сейчас. В плащ-палатке с гранатами и поешь: «Уж полночь близится, а Германа все нет».
— Ну, это партия женская, а по смыслу подходит: бывает, ждешь, ждешь, а его, гада, все нет и нет.
— Представить трудно: разведчик — и вдруг певец.
— Вот именно. Войну ведь тоже нормальному человеку представить трудно. А какое было время до войны! Уедем, бывало, летом на Озерки — я жил в Ленинграде, — расположимся с ребятами в лесу, разведем костер, кругом такая красотища — сердце замирает. И поем, поем до самой зорьки. А ты говоришь, слова. Одни сами идут из души, а другие, ты прав, клещами не вытянешь и огнем не выжжешь. Так-то, брат. Долго нам еще шлепать-то?
— Часа три, не меньше. Сейчас самый опасный участок будем проходить, моторы приглушим.
— Я пойду к своим, кое-что еще обсудить надо. — Янковский притушил пальцами окурок и хотел его швырнуть за борт.
— Ни-ни, — остановил его Нахимов, — Нептун рассердится, давай сюда. — Он подставил пепельницу из консервной банки. — У нас за борт ничего не выбрасывают.
«Странная штука — война, — думал Нахимов. — Ведь и не мыслил человек, что ему, будущему певцу, придется куда-то в тыл к немцам ползать, рвать мосты и склады. Готовил себя к тому, чтобы нести людям радость песней. А теперь именно ему по долгу службы следует больше молчать, даже тогда, когда тебя будут, как он сказал, жечь огнем. Сплошные ребусы и парадоксы. И ведь как получается с другой стороны — на фронте все становится на свои места. В мирное время, допустим, если ты дрянь какая, подлец или еще кто, то мог долго ходить среди людей, ловчить, приспосабливаться и никто вроде не замечал, какой ты на самом деле человек. А здесь дудки: весь как на ладони и каждому ясно, какова тебе цена».
У горизонта вспыхнул прожектор, скользнул лучом по заштилевшему морю и погас. Где-то далеко-далеко в небе полыхнула то ли зарница, то ли сполох взрыва.
В два часа ночи «мошки» подошли к Песчаной косе. Из темноты надвинулся длинный, таинственный от одного того хотя бы, что здесь «зарница», полуостров. Среди дюн, шумя вершинами, вздымались частоколом высокие сосны, у подножия которых черными тенями расползались густые заросли можжевельника и ежевики. Катера приткнулись к берегу носом. Лейтенант подозвал боцмана:
— Бери матросов, пошли двух по косе метров на двести влево, а двух — вправо. Все проверить и доложить. Посты оставь, и чуть что — сразу сигнал. Понял?
— Так точно.
— Тогда действуй. И чтобы тихо…
— Не впервой, сделаем правильно.
На борту, приготовившись к высадке, переговаривались о чем-то шепотом разведчики.
Через пять минут появился боцман и доложил:
— Полный порядок, товарищ лейтенант, кругом тишина, дозорные на местах — мышу не проскочить.
— Тогда начнем, пожалуй. — И добавил, обращаясь к разведчику: — У тебя все готовы?
— Да. Давай прощаться. Пора нам. — Янковский обнял лейтенанта. — Будь здоров. Может быть, когда и встретимся. — Старший лейтенант пошел к трапу, потом остановился и сказал: — Да, часика через три-четыре пошуми здесь немного, пожалуйста. Пусть береговые посты отвлекутся. Комдив разрешил. Сделаешь?
— Обязательно. О чем разговор. Счастливо. Возвращайтесь, ребята. — Нахимов помахал им рукой. — Ни пуха, ни пера.
Разведчики как-то сразу подобрались, пружинистой кошачьей походкой друг за другом пробежали по сходням и тотчас исчезли в зарослях. Не треснул ни один сучок, не шелохнулись ветки, будто растаяли они или растворились в настороженной темноте.
«Вот это люди, — восхищенно подумал лейтенант, — идут на смертельно опасное дело так, словно всю жизнь только тем и занимались, что шастали по фашистским тылам».
Рассветало. Подошли и стали рядом «тройка» и «четверка». Из леса тянуло запахом подсыхающей травы. Кругом было тихо, только еле слышно шелестел в ветвях ветер, сонно шуршала, набегая на песчаный берег, катившаяся с моря небольшая волна, где-то на берегу в болотце робко заквакали лягушки, загалдели, защебетали в кустах проснувшиеся птицы, тонко зазвенели комары. Нахимов спрыгнул с борта и, разминая ноги, прошелся по твердому, чуть-чуть поскрипывающему песку. Навстречу ему со стороны косы показался боцман. С его одежды ручьями стекала вода.
— Ты что, купался? Вроде холодновато, — сказал лейтенант.
— Искупаешься, — шепотом начал боцман, — тут дело сложное образовалось — не коса это оказалась вовсе.
— То есть как? — Нахимов даже поперхнулся. — Неужели ошиблись в счислении и высадили людей не там?
— Там, там. Только не полуостров это и не коса, а остров. Понимаете? Такая катавасия. — Он развел руками.
— Говори толком, — обозлился лейтенант, — какая еще катавасия?
— Так я и докладываю: иду я к посту — проверить, что к чему. Подхожу, а мне матрос и толкует, понимаете?
— Понимаю, черт возьми, не тяни! Что толкует-то?
— Он, значит, и рассказывает: протока тут есть, у основания косы, она ее, протока, и отделяет от материка. На карте-то ее нет, а на самом деле имеется.
— Как на карте нет?
— А так, — почти крикнул боцман, — вот карта — смотрите, где протока? Я пошел аккурат по ее берегу и вышел в залив. Протока длиной метров двадцать, шириной четыре-пять, ну а глубиной, сами видите, — мне по шею. Такие пироги.
— Здорово. Значит, мы могли войти в залив через его горло, а потом выйти через протоку? А?
— Могли-то могли, да не очень!
— Почему же?
— А там корабль стоит чей-то на якоре. В заливе, метров сто от берега.
— Точно? Не ошибся ты? Видимость-то плохая.
— Разглядел. Хоть и темновато, но силуэт хорошо заметно. По-моему, тралец фашистский.
— Ах, вот как! Ясно. Зови сюда всех командиров, живо.
Цепочка людей, пригибаясь, двигалась вдоль неширокой протоки, густо окаймленной разросшимся кустарником, травой и высоким, почти в рост человека, камышом, что делало ее совсем незаметной ни с моря, ни со стороны залива. Впереди, показывая дорогу, шел боцман, за ним Нахимов, потом командиры катеров: младший лейтенант Дубягин, мичманы Большаков и Шпилевой. Неожиданно боцман поднял руку:
— Теперь через кусты по-пластунски. Заметят, не ровен час, всем хана.
Моряки плюхнулись на землю и, раздвигая стебли осоки, царапая руки, поползли вперед.
— Дальше нельзя. Вон он, родимый, смотрите.
В вытянутом к морю заливчике, опоясанном высоким хребтом косы Песчаной, отражаясь в спокойной и чистой воде, стоял военный корабль. Да, это был немецкий тральщик. Сквозь утреннюю легкую мглу проступал его голубоватый корпус.
— Экая бандура, — протянул боцман. — И как он не услышал, когда мы подходили? Был бы концерт…
— Коса и лес звук отсекли. — Нахимов повернулся к командирам: — Что предпримем, ребята?
— Мне кажется, надо, пока не поздно, уходить, — предложил Большаков. — Логически рассуждая, у нас что: полсотни моряков, четыре «сорокопятки» да восемь пулеметов. А у них? Команда человек сто, трехдюймовки да автоматы зенитные, а о пулеметах и говорить нечего. Треснет — мама родная не узнает…
— Логика, конечно, на твоей стороне, — перебил Дубягин. — Давай подумаем спокойно. Может, обстреляем его, ведь шуметь-то все равно надо, а тут, смотришь, один-другой десяток фрицев отправим на тот свет. А там и смываться можно.
На какую-то долю секунды перед глазами лейтенанта промелькнули уходящие в ночь разведчики, их спокойные, строгие и решительные лица.
— Не годится нам от немцев бежать, — вслух подумал он. — Нечестно это как-то, некрасиво.
— А что ты предлагаешь, командир? — Шпилевой приподнялся на локтях. — Может, доложим в базу? Как прикажут, так тому и быть?
— Рацией пользоваться нельзя. Да и у самих головы есть. Сделаем вот что: атаковать его будем, гада, полусонного. На абордаж, и точка, как наши предки в старину. — Глаза лейтенанта загорелись.
— Да ты только прикинь, сейчас же двадцатый век, — начал Большаков, — ведь он же…
— По-моему, Нахимов дело говорит, — медленно произнес Дубягин. — Атаковать, и точка. Катера через протоку свободно пройдут.
— Именно, — подхватил лейтенант. — Слушать всем приказ: «мошки» протолкнем шестами через протоку. Затем даем полный и подходим два слева, два справа, поближе к бортам. Хлещем из всего оружия по орудийной прислуге. Щиты-то у его пушек только спереди, так, куда ни кинь, под пули он или левым или правым спины своих комендоров подставит.
— И еще, — оживился Шпилевой, — всех морячков, кроме мотористов, с автоматами на палубу и тоже пусть бьют и очередями и гранатами.
— Гранатами не надо, не увлекайся, — остановил мичмана Дубягин, — у них, очевидно, снаряды к орудиям поданы, они тоже не дети и не дураки — по готовности стоят. Грохнет так, что обломки до базы полетят.
— В общем, решено… Боцман, поставь здесь наблюдателей, обо всем тотчас докладывать. Замаскироваться, чтобы ни-ни. Пойдем, ребята. Задачу довести до каждого матроса, ибо от каждого зависит многое. Будем сейчас же готовиться, соблюдать строжайшую тишину и порядок, и главное: никаких заминок, действовать смело и решительно. На нашей стороне внезапность.
Командиры, отмахиваясь от полчищ набросившихся на них комаров, поползли назад…
Час спустя от наблюдателей пришло донесение: немцы ни о чем не догадываются. На корабле сыграли подъем, матросы бродят по палубе, курят и собираются завтракать.
Нахимов приказал срубить мачты и вводить катера в протоку. Матросы вошли в воду, облепили «мошки» по бортам и стали осторожно толкать их в неширокий рукав. Вот уже «единица» уперлась носом в разлапистые ветки кустов, закрывающих выход в залив. В просветы между листвой и ветвями хорошо был виден стоящий на якоре тральщик. Катера вытянулись в линию. У пушек, пулеметов и прямо на палубе с автоматами в руках застыли матросы.
Лейтенант последний раз оглядел свой маленький, готовый к отчаянно дерзкому броску отряд. Руки дрожали от возбуждения, часто колотилось сердце. Его переполняло торжество, гордость за то, что они собираются совершить. Пора. Он махнул фуражкой — и в ту же секунду взревели моторы, один за другим юркие суда ринулись вперед…
Вилли Кюн, окончательно успокоившись и смирившись с вынужденной стоянкой, прекрасно отдохнул после долгих бессонных ночей. Он позволил себе даже такую роскошь, как принять перед сном душ, и, выпив рюмку коньяка, лег в постель раздетым. Никогда еще за всю войну он не чувствовал себя таким бодрым и свежим. Капитан-лейтенант, наслаждаясь покоем, лежал на койке, закинув руки за голову, и размышлял о предстоящем отпуске, скорой встрече с семьей.
Неожиданно снаружи раздался какой-то совершенно непонятный шум, потом из переговорной трубы донесся испуганный голос вахтенного офицера:
— Господин командир, катера русских идут в залив! Они атакуют нас! Они…
Кюна словно неведомая сила выбросила из кровати. Путаясь в простынях, он подскочил к переговорной трубе и закричал:
— Вы в своем уме? Что за чушь? Откуда здесь быть русским?
Мостик не отвечал. А кругом уже все грохотало, раздавались пулеметные очереди и резкие, сухие хлопки пушек. По надстройкам хлестали пули. На голову капитан-лейтенанта посыпались осколки разлетевшегося кусочками битого льда плафона. Кюн присел и, не отдавая себе отчета в том, что происходит, стал лихорадочно натягивать брюки. За стенами каюты, казалось, разверзся ад: все гудело, слышался топот ног, истошные вскрики и проклятия. Еще несколько очередей стеганули по иллюминаторам. С треском полетел со стены на пол срезанный пулями портрет Гитлера. Рывком распахнулась дверь.
— Хенде хох, фриц! Хенде хох, говорю, шнель, шнель! — На пороге, направив на Кюна автомат, стоял советский матрос. — Очумел от страха! А ну, выходь!
Кюн набросил китель и, как был, босиком, еле передвигая непослушные, одеревеневшие ноги, вышел из каюты. Стрельба уже прекратилась. Первое, что бросилось в глаза капитан-лейтенанту, был развернувшийся бортом, стоящий в каких-нибудь двадцати метрах «морской охотник», на нем трепетал бело-голубой советский флаг. Два других катера ошвартовались у кормы тральщика, а четвертый приткнулся к левому борту. Пахло порохом и чем-то кислым и резким. На палубе, обычно чистой до блеска, валялись швабры, стреляные гильзы и в разных позах трупы немецких моряков. Он с ужасом увидел, как русские задраивали палубные люки и выходившие наружу двери, тем самым лишая возможности тех, кто был внизу, прийти на помощь верхней команде.
— Товарищ лейтенант! — закричал сопровождающий Кюна матрос. — Это евонный командир. С крестом.
— Давай его сюда, да живей, — ответили с одного из катеров.
Капитан-лейтенанта провели на корму и вместе с десятком перепуганных, не пришедших в себя, дрожащих от страха пленных пересадили на «мошку».
На захваченном тральщике собрались командиры катеров. Все были возбуждены боем и немного опьянены успехом.
— Вот это здорово! — Дубягин потер руки. — Наши потери: убитых ноль, раненых ноль. Классно. А говорили: двадцатый век!
— Да, рванули что надо, ничего не скажешь.
— Лиха беда начало. Даже как-то не верится.
Из-за наглухо задраенных люков доносились удары, крики и ругань закрытых там немецких матросов.
— Дубягин! Павлик! Ты, кажется, говоришь по-немецки, возьми их офицера и объясни ему: пусть по корабельной трансляции обратится к экипажу и растолкует, чтобы не рыпались, иначе корабль взорвем к чертовой матери вместе с ними.
— Сейчас оформим. — Младший лейтенант и Кюн направились на мостик.
После сообщения по радио внутри тральщика притихли. К группе командиров подошли Дубягин и немец.
— Задание выполнено, вроде образумились — молчат.
— Хорошо, отправь этого на катер, а сам в темпе обратно, потолкуем немного.
Когда младший лейтенант вернулся, Нахимов сказал:
— Вот что, братья военные моряки, шума мы наделали много, выше горла, теперь вся статья уходить, пока береговые посты не очухались и не вызвали авиацию. Хорошо еще, что туман держится. — Лейтенант посмотрел вокруг.
— Давай в темпе расклепаем якорную цепь, заведем буксиры. Два катера потащут тральщик, а другие пойдут в охранении. А? — предложил Шпилевой.
— Правильно, умница, быть тебе адмиралом. — Нахимов засмеялся. — Боцман, цепь расклепать, подать тросы на «двойку» и «четверку». А ты, — обратился он к Дубягину, — возьми автоматчиков сколько нужно, поставь у каждой двери и люка, пусть смотрят, чтобы фрицы не вылезли, а сам с рулевым будешь в рубке. Ясно?
— Куда яснее. Исполним.
— Ну, тогда по местам, да поживее, время не терпит. Шевелись, ребята. Пойдем напрямик, так покороче будет.
Морские охотники медленно выводили тральщик из залива: «единица» и «тройка» шли по бортам на расстоянии одного кабельтова.
Кюн, нахохлившись, поджав босые ноги, сидел в кают-компании флагманского катера против Нахимова и нервно растирал пальцами виски. Он еще полностью не пришел в себя, никак не мог осознать всего драматизма и всей трагичности положения, в котором находился, — столь стремительными и чудовищно фантастичными были события последних минут.
— С какой целью вы зашли в залив Юрген? — спросил лейтенант. — Как вы оказались здесь?
— Я не понимайт по-русски, — буркнул Кюн. — Я вообще ничего не понимайт.
— Ну раз так, разговор продолжим в другом месте. — Нахимов встал.
Поднялся и Кюн. Он с ненавистью посмотрел на человека, которого считал, и считал правильно, виновником всех своих бед. Это из-за него, из-за этого мальчишки так внезапно рухнули его планы. Боже, как посмеялась над ним фортуна! Он перевел взгляд на иллюминаторы. Нахимов специально распорядился открыть их, чтобы немного проветрить катер. За бортом вдали проплывали поросшие соснами дюны. Вдруг глаза немца тревожно забегали. «Куда же это они плывут? Ну конечно, именно в ту зону, которую он охранял. Но там… — Кюн чуть не задохнулся от ужаса. — Нет, как говорил тесть: «Живой капитан-лейтенант лучше мертвого адмирала». Дьявол с ней, с карьерой. Только бы жить. Кем угодно и где угодно, но только жить!»
Он придвинулся к самым стеклам иллюминатора, завертел головой, потом резко отпрянул, повернулся спиной к борту и вцепился в рукав лейтенантского кителя.
— Нельзя туда, нельзя! — прохрипел он по-русски. — Там мины, густое минное поле, большие корабельные мины. Прикажите стоп. Иначе всем капут. Я расскажу все, что потребуете, только остановитесь, умоляю вас.
— Ого, сразу по-русски заговорил. — Лейтенант опять вспомнил уходящих в ночь разведчиков. «Как запахло смертью — всю спесь как рукой сняло. Тоже мне высшая раса, тряпка, а не моряк». Нахимов брезгливо освободил рукав кителя. — Пойдемте на мостик.
Поднявшись наверх, Нахимов приказал поднять сигнал: «Застопорить машины!»
Караван лег в дрейф.
— Показывайте, где поле? — Лейтенант пододвинул Кюну карту.
— Вот границы. — Немец карандашом обвел большой квадрат. — Мины расставлены в шахматном порядке и против надводных кораблей и против субмарин.
«Тоже неплохо, — про себя обрадовался Нахимов. — Именно сегодня через этот район должны пройти на позицию две наши подводные лодки», — вспомнил он.
— Вахтенный! Радиста сюда! — И, повернувшись к сигнальщику, приказал: — Передайте всем курс 190, ход максимально возможный, какой буксиры позволят.
На мостик взбежал радист:
— Прибыл по вашему приказанию, товарищ командир.
— Срочно радиограмму: «В квадрате 294364 сплошное минное поле. Предупредите подводников. Подпись: Нахимов».
— Есть радиограмму! Разрешите идти?
— Да, ступайте. Когда отстучите, доложите мне. Прихватите заодно и этого с собой, пусть боцман запрет куда-нибудь в кладовку — большего он не достоин.
Несколько часов, прикрываясь поднимающейся от воды белесой растрепанной, но довольно плотной дымкой, корабли спокойно продвигались к своим берегам. Полоса тумана кончилась внезапно, как будто ножом отхватили кусок сдобного воздушного пирога. Ярко засияло солнце. Небо словно взлетело вверх. «Еще бы часа три — и дома, — с сожалением подумал лейтенант, — а теперь, того гляди, налетят самолеты, ведь береговые посты, очевидно, уже сообщили о сражении в заливе. Да и нашу радиопередачу засекли их пеленгаторы».
Словно отвечая ходу его мыслей, раздался крик сигнальщика:
— «Юнкерсы», слева 90, угол места 30, шесть штук!
Нахимов посмотрел туда, куда указывал матрос. На высоте приблизительно тысячи метров блеснули на солнце шесть серебристых черточек…
Катера изготовились к бою. Пикирующие бомбардировщики приблизились, сделали круг и легли на боевой курс. Разом затрещали пулеметы «охотников». Задрав кверху тоненькие, как иголочки, стволы, затявкали сорокопятки.
— Сигнальщик! Передать на «тройку»: «Отойти на ветер и прикрыть корабли дымзавесой».
«Юнкерсы», казалось, не обращали внимания на огонь катеров. Вот один отделился от общего строя, перевернулся через крыло, показал черно-белые кресты и, с воем набирая скорость, свалился в пике. От самолета оторвались две черные продолговатые капельки. «Юнкерс» с ревом пронесся над кораблями, а по оба борта тральщика встали два белых всплеска.
— Гады! По своим метят, — закричал Нахимов, — ну и сволочи!
Самолеты пикировали друг за другом. Часть их атаковала катера, а другие продолжали налеты на тральщик. Вот одна бомба ударила в его корму, блеснуло пламя, в воздух полетели обломки, из развороченной палубы повалили клубы черного дыма, корабль загорелся. От резкого рывка лопнули оба буксира.
С «охотников» видели, как по накренившейся палубе тральщика бегали наши матросы, отдраивая люки и двери: «Молодец Дубягин, фрицев выпускает», — подумал лейтенант.
Самолеты описали круг и снова устремились на качающийся на волнах неподвижный корабль. Тем временем освобожденные из трюмов немецкие матросы рассыпались по палубе. Кое-кто стал прыгать в воду, другие бросились к пулеметам, и небо прочертили разноцветные трассы. «Наконец-то поняли, что к чему, — подумал Нахимов. — Пусть своих стервятников и колотят». В тот же миг одновременно две бомбы врезались в район дымовой трубы, в самую середину. Тральщик накренился на правый бок, задрал высоко вверх нос и стремительно ушел в воду. На поверхности моря, как шары-поплавки, зачернели головы людей.
— Передать на «двойку» и «четверку»: «Подойти и оказать помощь!», — крикнул лейтенант.
— Они уже и без сигнала спасают: «двойка» подбирает наших, а «четверка» — вроде немцев, — откликнулся сигнальщик.
Четыре «юнкерса», выстроившись в линию, словно взявшись за руки, набросились на катера, а два стали расстреливать из пулеметов барахтающихся в воде людей. Вокруг кораблей поднимались фонтаны разрывов и белыми строчками вскипала от пуль вода. Внезапно один из пикировщиков дернулся, задымил, пошел вниз. Вот он концом крыла коснулся гребней волн и, завертевшись колесом, рухнул в пучину.
— Ага, один есть! — закричал Нахимов и только тут заметил, что пулемет справа от мостика замолчал.
Он бросился на правое крыло: пулеметчик, обхватив руками тумбу, сползал на палубу, у его ног расплывалась лужа крови. Нахимов схватил рукоятки «ДШК» и, словно слившись с оружием в одно целое, дал длинную очередь навстречу летящему «юнкерсу». Лейтенанту показалось, что свинцовая струя сочно вспорола темно-серое брюхо. Самолет с оглушительным ревом пронесся над самыми мачтами, клюнул носом и, подняв огромный всплеск, плюхнулся в море.
— Второй накрылся! Ура! — раздалось вокруг. — Бей их, гадов. Строчи, братва! Полундра-а!
«Юнкерсы» вновь заходили для атаки. Катера рассредоточились и начали ставить дымовую завесу. Клубы желтого дыма стали затягивать район сражения. Еще один самолет, отвалив от группы, пошел на катер Нахимова. Резкие хлопки орудий, взрывы бомб и стук пулеметов слились в сплошной грохот.
Сквозь кольцевой прицел на лейтенанта надвигался бешено вращающийся винт пикировщика и поблескивающие на солнце стекла кабины. По бокам мотора на крыльях засверкали, как искры электросварки, вспышки пламени — «юнкерс» открыл огонь. Нахимов нажал на гашетку. «ДШК» взревел; казалось, очередь превратилась в длинную огненную струю, как из брандспойта хлестнувшую по самолету.
В ту же секунду лейтенанта сильно ударило в плечо и по ногам. Он медленно опустился на палубу. За кормой катера упал в воду еще один подбитый им пикировщик…
Когда Нахимов открыл глаза, он увидел белый, разграфленный на большие квадраты фанерный потолок. Лейтенант повернул голову. Откуда-то слева выплыло молодое женское лицо, и он услышал тихий, но настойчивый голос:
— Лежите спокойно, вам нельзя двигаться. Сейчас майора позову.
«Где я ее видел? Как она попала на корабль? Почему сверху белые квадраты? Кто же это? Ах да, Аллочка. Ну конечно, значит, я в госпитале».
Сестра вытерла ему лоб мокрым полотенцем и, осторожно ступая, вышла из палаты. Лейтенант пошевелил ногами, было больно, но он их чувствовал. «Целы!» — радостно екнуло в груди. Левую руку вместе с плечом покрывал гипс, словно на них надели какую-то коробку или футляр.
Тихо приоткрылась дверь, в палату вошли врач и сестра.
— Ну, как дела, герой? Улыбаешься? Значит, все в порядке, шок прошел.
Нахимов попытался ответить, но язык еле ворочался во рту.
— Какая выдержка! Уму непостижимо! — Доктор в восхищении развел руками. — Операцию ведь делали без наркоза. Напоите его соком, сестра. Теперь дело пойдет на поправку. Да, там к нему посетитель третьи сутки рвется. Сейчас можно, пропустите, но только его одного. — Доктор вышел.
— Можно? — раздался глуховатый голос.
— Входите, только ненадолго и… — сестра поднесла палец к губам, — в общем, сами понимаете.
Вошел Сорокин. Из коротких рукавов халата выглядывали красные, натруженные руки, в которых он держал какой-то кулек.
— Здравствуй, моряк.
Нахимов улыбнулся и хотел поздороваться, но получилось что-то шипящее и нечленораздельное.
— Ты молчи, молчи. Крепко тебя садануло, ну да на нас заживает быстро. А говорить не надо. Помню, в восемнадцатом, когда попал в госпиталь, доктора тоже молчать велели, так я петь про себя научился, лежу, бывало, и пою, да так здорово. Вот и ты пой, но молча. Про свои сундуки-рундуки. — Сорокин сел на край кровати. — Да, к фамильному ордену тебя представили, Нахимова. Кто он тебе? Прадед, что ли? — Сорокин хитровато сощурился. — Сам адмирал Кузнецов интересовался, как у тебя дела.
— Все. Заканчивайте. — Сестра строго посмотрела на замполита. — Спать ему надо.
— Ну, поправляйся. — Сорокин потрепал лейтенанта по щеке и вышел. В коридоре он остановился и оглянулся на дверь палаты. — Вот тебе и «пятнадцать человек на сундук мертвеца»…
О. Туманов ГОЛУБОЙ КРЕЙСЕР Из рассказов водолаза
Над Новороссийском стояло жаркое лето сорокового года. На рейде покачивались «иностранцы», ожидая своей очереди под погрузку. Деловито дымили трубы цементных заводов.
Мальчишки-чистильщики носились по пыльным от цемента улицам, выбивали сапожными щетками дробь по ящикам, выкрикивая ими же сочиненную прибаутку:
Чистим, блистим, полируем всем рабочим и буржуям! Берем с рабочего пятак, а с буржуя — четвертак!Они устраивали прохожим засады, набрасывались на их ботинки, как стая оголодавших воробьев на корку хлеба. А окончив чистить, кидали на ботинок вконец ошалевшего клиента горсть пыли и, смахивая ее щеткой, приговаривали:
Ни пыль, ни вода не пристанут никогда!Пацаны-ныряльщики готовились к приходу теплохода «Грузия», чтобы начать свой подводный спектакль. Пассажиры, развлекаясь, бросают в море монетки, а мальчишки, перевернувшись под водой на спину, ловят их ртом. Вечером на вырученные за день деньги они устроят пир из газировки с двойным сиропом и дешевых мясокомбинатских пирожков.
Солнце оседлало Колдун-гору. Разомлевшее от жары, покрытое солнечными дорожками, багровело море. Оно тихо вздыхало и что-то быстро-быстро говорило, набегая волной на прибрежную гальку. Позванивая на поворотах, уставшие за день бегать, медленно ползли в гору трамваи с гроздьями висящих по бокам пассажиров. Рабочий день кончился. Новороссийск готовился к субботнему вечеру.
Первым его увидел пацан-ныряльщик, сидевший на дереве. Он сбрасывал дружкам вниз сладкие стручки акации. Пацан застыл на суку и обалдело заморгал глазами. Из-за горизонта появился и стремительно понесся к порту голубой корабль.
Мальчишки, родившиеся и выросшие у моря, чуть не с пеленок носят тельняшку и также с пеленок ни на минуту не сомневаются в том, что со временем облачатся в клеш, синюю форменку с гюйсом и бескозырку. Они великолепно владеют «семафором», передают морякам стоящих на рейде кораблей приветы от их знакомых девушек, знают наизусть типы и названия кораблей, разбираются в них не хуже любого сигнальщика.
Сейчас, высасывая из стручков сладкий сок, они даже и не подозревали, что пройдет не так уж много времени и, надев морскую форму, они примут на себя вместе с отцами бремя самой тяжелой и кровавой войны в истории человечества. Примут, выстоят и победят.
Но это будет несколько лет спустя, а сейчас… Сидевший на дереве пацан мог поклясться чем угодно, что корабль, входящий в порт, он видел впервые. Он кубарем свалился с дерева.
— Ребя… Ребя… — боясь ошибиться, робко пробормотал он. — Голубой крейсер!
— Ты что, спятил? Может, скажешь, красный?!
— Да нет, голубой. Клянусь! В бухту входит…
— Забожись!
Пацан заколебался. Но вдруг решительно, точно убеждая самого себя, выкрикнул:
— Да сидеть мне всю жизнь на Батайском семафоре!
Почему именно на Батайском, никто не знал. Но клятва считалась страшной, и приятели ринулись к деревьям, спеша занять самое высокое место.
В бухту входил корабль, похожий на сновиденье. Голубой корабль! Мальчишки помнили легко режущие форштевнями воду «Ворошилов», «Червону Украину», «Красный Кавказ» и «Красный Крым». Но этот, идущий с такой скоростью, что развевающаяся по бокам форштевня водяная грива закрывает почти весь полубак, они видели впервые. Трубы и мачты его слегка откинуты назад. Острая носовая часть и «зализанные» обводы высокого полубака, окутанные пеной и брызгами разрезаемой волны, подчеркивали стремительность корабля. Над палубой стлались орудийные башни и торпедные аппараты. А какой цвет! Не серо-стальной, шаровый, как у всех в эскадре, а с голубым оттенком…
Пацанва, скатившись с деревьев, бросилась в порт, забыв обо всем на свете. Задыхаясь от восторга и быстрого бега, побледневшие, с вытянутыми от волнения лицами, на вопросы встречных они, не останавливаясь, выпаливали:
— Голубой крейсер! Голубой крейсер!
— Где?
— В порт входит! — Мелькали пятки, поднимая клубы густой жирной цементной пыли.
Когда они ворвались на мол, корабль уже подходил к стенке. Будто разрезанная и вывороченная плугом поднималась из-под форштевня волна и, отвалившись от корпуса, хрусталем рассыпалась по разомлевшей глади моря. Сквозь пену и брызги светились до блеска надраенные буквы «Ташкент». Но почему-то это название корабля никак не отозвалось в ребячьих душах. Сердце приняло и поверило в «Голубой крейсер». И, как это часто бывает, за пацанами взрослые, а потом и весь флот нарекли его полюбившимся сердцу именем «Голубой крейсер».
Флот пополнился новой боевой единицей. Лидер «Ташкент» имел крейсерское вооружение и развивал скорость, равную скорости тогдашнего курьерского поезда — восьмидесяти километрам.
Увидев его на подходе к бухте, пацаны неизменно бросали все свои дела и неслись в порт, задыхаясь, падая и в кровь сбивая коленки, чтобы первыми приветствовать любимца при швартовке, а если повезет, то и принять чалку. Даже видавшие виды невозмутимые портовые грузчики, свалив со спины ношу и прикрыв рукой глаза от солнца, любовались голубым красавцем, поднимающим за кормой пенные буруны.
— Лиха посудина, — говорил старшой, доставая кисет. Они закуривали, каждый по-своему выражая восхищение.
— Шо надо!
— Як конь!
— Сам ты конь… — затягиваясь терпким, берущим за печенку самосадом, говорил третий.
— Так я ж…
— Оно и видать, шо ты!.. То ж красота!.. Зрелище! Сказать мало!.. А ты — конь… — подняв не разгибающийся указательный палец, изрекал грузчик.
Старшой, сплюнув на ладонь и потушив о нее цигарку — а то и до пожара недалеко — прекращал затянувшиеся смотрины:
— Кончай ночевать!
Война ворвалась на нашу землю, окрашивая Черное море отсветом пожарищ. Замолк ребячий смех. Не стало слышно барабанной дроби сапожных щеток юных чистильщиков, перестали трещать под ногами мальчишек сучья акаций. Теперь мальчишки, еще не успевшие войти в мужскую силу, сгибались под тяжестью снарядных гильз на заводе «Красный двигатель». По ночам неслышными тенями они заполняли крыши, сбрасывали на землю немецкие зажигалки, а утром снова вырастали у токарных станков. Многим из них суждено будет пополнить экипажи кораблей Черноморской эскадры, стать мотористами, рулевыми, сигнальщиками, водолазами.
Жил напряженной трудовой солдатской жизнью и лидер «Ташкент». Его дерзкие, не поддающиеся по своей смелости описанию рейды принесли лидеру новую, теперь уже боевую славу — славу легендарного корабля Черноморской эскадры. Вместе с заходящим солнцем каждый вечер «Ташкент» покидал Новороссийскую бухту и исчезал за горизонтом. Ночью он вырастал у берегов Крыма и обрушивал шквальный огонь на батареи противника, сея смерть и страх. Затем заходил в Севастополь, грузил на борт раненых и утром на рассвете как ни в чем не бывало возвращался в Новороссийск. Фашисты организовали специальные эскадрильи самолетов-торпедоносцев, охотившихся только за «Ташкентом». Но отвага и умение команды хранили его, спасая и помогая выйти невредимым, казалось, из самых безвыходных положений.
27 июня 1942 года «Ташкент» возвращался из очередного похода, имея на борту раненых, женщин, детей и бесценное творение русской живописи — Севастопольскую панораму, свернутую в рулон. На командирском мостике стоял смуглый, небольшого роста, будто вросший в палубу, скуластый командир корабля капитан третьего ранга Ерошенко. На нем парадный китель с орденом. И комиссар Коновалов сменил хлопчатобумажный китель на парадный.
С незапамятных времен на русском флоте уж так повелось — перед решительным боем надевать форму первого срока. Откуда знает матрос, что именно сегодня будет этот бой? Предчувствие?.. Опыт?.. Вряд ли кто сможет ответить на этот вопрос. Так и сейчас. Никто не отдавал приказа, но вся команда «Ташкента» в парадном.
— Воздух! — пушечным выстрелом прозвучал голос наблюдающего.
Из-за солнца вываливались один за другим фашистские торпедоносцы. Эфир заполонили истошные крики немецких летчиков:
— «Ташкент» обнаружен! «Ташкент» обнаружен!
— Приказ всем эскадрильям следовать в квадрат…
— Крейсер не должен уйти!
На телеграфе «Полный вперед!». Корабль рванулся…
Отделяясь от солнечных дорожек, один за другим пытаются прорваться сквозь шквальный огонь зениток торпедоносцы. Первые торпеды прошли за кормой.
— Заходить от солнца! Заходить от солнца! — вопят по радио голоса немецких ведущих.
Турбины корабля надрываются, сотрясая корпус. Зенитки раскалились. Расчеты обжигают ладони о стволы. Лидер шарахается из стороны в сторону. Торпеды, вспенивая воду, проскакивают мимо. Вот, наконец, и последняя, прочертив поверхность моря, пропала.
Передышка? Нет! Без обычного интервала на смену торпедоносцам появляются, заваливаясь в пике, «юнкерсы».
— Правый входит в пике! — срываясь на фальцет, кричит наблюдающий лейтенант Фельдман.
— Лево на борт!
— Левый подходит к точке пикирования! — перекрывая вой «юнкерсов», с другого крыла мостика докладывает густым хриплым голосом Балмасов.
— Право на борт!
— Стоп!
— Полный назад!
— Право на борт!
— Полный вперед!
Выписывая сложные зигзаги, «Ташкент» проносится там, где только что упали бомбы. Медленно, как во сне, поднимается стена воды, и тут же в нее врезается корабль. Стена, распавшись на сотни водяных глыб, обрушивается на палубу. От обожженных бортов, раскаленных пушек и пулеметов расползается липкий, сладковато-приторный пар.
Атакующие «юнкерсы» саранчой вываливаются из-за горизонта. Пушки и пулеметы продолжают рвать воздух, отплевываясь гильзами. Разваливаясь, роняя крылья, задымил первый фашист. За ним второй. Третий, неся за собой черный шлейф дыма, врезается в море. Перекрывая рев моторов и канонаду зениток, раздаются восторженные крики пассажиров и команды.
И опять хриплый голос Балмасова:
— Справа входит в пике!
— Стоп, машина!
— Право на борт!
Взрыв на полуюте! Прямое попадание! Лидер перестал слушаться руля. Продолжая начатый до взрыва бомбы поворот, он катится и катится вправо. Руль заклинен. Румпельное отделение затоплено. Там были пассажиры с детьми.
Теперь маневрировать корабль не может. Надежда только на зенитный огонь. Раненый корабль продолжает драться.
Опять удар! Слепящее пламя!.. «Ташкент» рванулся, будто почувствовал боль, и, со стоном припав на волну, начал крениться на правый борт. Встречная волна окатывает через якорные клюзы полубак.
Истошно ревут, раздирая воздух, «юнкерсы». Выплевывая пламя, осколки и пену, рвутся вокруг бомбы. Всем ясно: еще одно попадание — конец…
Неожиданно сотни голосов перекрывают шум боя:
— Наши! На-ши-и-и!
Сбрасывая с крыльев клочья перистых облаков, в строй «юнкерсов» врезается звено наших «ястребков». Не выдержав удара, фашисты сбрасывают бомбы куда попало и убегают.
Команда, пассажиры, раненые — все кричат, плачут, обнимаются, ощупывают друг друга… С трудом верится, что после такого ада они остались живы. Сколько длился этот бой?.. Вечность?.. Минуту?.. Зафиксировал хронометр: четыре часа. Более трехсот шестидесяти бомб сбросили немцы на корабль.
— На подходе эсминец «Бдительный» и спасательный буксир «Юпитер», — передает из радиорубки радист. — Торпедные катера и эсминец «Сообразительный».
«Юпитер» и «Бдительный» с обоих бортов швартуются к «Ташкенту». В затопленные отсеки лидера заводят шланги, начинается откачка воды.
На мостике командир корабля Ерошенко. Лицо его покрыто копотью, опалены огнем брови и усы, потрескались в кровь губы. Сверкая белками глаз, улыбается комиссар Коновалов. Ни Фельдмана, ни Балмасова давно нет на наблюдательных крыльях мостика. Их голоса слышны на палубе: вместе с командой они наводят порядок. Несмотря ни на что, порядок должен быть!
Вечером, поддерживаемый эсминцем «Бдительный» и буксиром «Юпитер», «Ташкент» входил в Новороссийск. Солнце прячется за море, освещая когда-то голубоватый, а сейчас весь в черных опалинах и багровых потеках раненый корабль. Вокруг непривычно тихо. Молчат турбины. Молчат люди. Только чайки, кружась над морем, кричат голосами плакальщиц:
«Марр-ты-н-нн! Марр-ты-н-нн! Марр-ты-н-нн!»
Второго июля 1942 года гитлеровцы совершили новый массированный налет на Новороссийский порт. Они боялись «Ташкента», боялись его возрождения. Свыше ста «юнкерсов» участвовало в этой кровавой расправе. Тяжелораненый «Ташкент» не мог выйти из порта и вести бой. Он был потоплен у элеваторной пристани прямым попаданием двух бомб.
Немного дальше, правее, у лесной пристани, погиб эсминец «Бдительный». Нефть, которой он перед налетом был забункерован, разлилась по всей бухте и загорелась, настигая плавающих моряков. Уже темнело, и было хорошо видно, как по воде били и били, постепенно угасая, факелы матросских рук.
Войдя в город, немцы решили поднять «Ташкент» и ввести его в строй. Но работы почему-то вдруг прекратились, и все недоумевали: что же произошло, почему они отказались от столь соблазнительной мысли поднять «Ташкент»?
Поняли мы это много времени спустя, когда освободили город и получили приказ о подъеме лидера.
Аварийно-спасательный отряд, в котором я служил инструктором-водолазом, приступил к работам. Прежде чем начинать подъем, необходимо было обследовать положение корабля на грунте, количество и величину пробоин. Специалистом водолазной службы был у нас Голынец — уже в возрасте, но еще стройный мужчина, много лет прослуживший водолазом. Храбрый, но, как все старые водолазы, не лишенный суеверия. Ему-то и предстояло первым пойти на обследование «Ташкента» и дать свое заключение.
С борта спущен трап, на нем стоит Голынец, готовый к спуску. Раздается команда «Воздух!», закручивается передний иллюминатор, хлопок ладонью по шлему, и водолаз медленно спускается по трапу. Оторвавшись от него, он машет нам рукой и исчезает под водой, оставляя на поверхности клубок кипящих пузырей, по которым всегда можно определить, где находится водолаз.
Ждем первых вестей. По пузырям видим, что водолаз остановился у кормы, постоял несколько минут, видимо размышляя, как действовать дальше, и двинулся вдоль корабля.
— Ну что? — спрашиваем мы у водолаза, который держит связь по телефону с находящимся под водой.
— Все нормально. Поет.
Многие водолазы поют под водой. И каждый объясняет это по-своему. Правда, один старый водолаз говорил мне, что он поет от страха, чтобы отвлечь себя. Но я думаю, он шутил.
Мы не отрывали глаз от пузырьков. Было видно, что водолаз подходит к средней части корабля, хотя слово «ходить» здесь не совсем точно. Человек, скорее всего, напоминает краба: под водой он двигается немного нагнувшись, боком, чтобы легче преодолевать сопротивление воды. Вдруг в наушниках зазвучал испуганный голос:
— Выхожу наверх! Немедленно выбирайте шланг-сигнал!
Все переглянулись: что-то случилось. Через несколько минут мы раздевали тяжело дышавшего Голынца. Раздевшись, он буквально свалился на банку.
— Что произошло? — с тревогой спросил я.
— Там матрос стоит. Вин приветствовав меня.
— Какой матрос?
— Наш матрос!
— Чей наш?
— С «Ташкента».
— Ты с ума сошел! Этого не может быть!
— Может не может, но я бильше пид воду не пийду.
Весь его дальнейший рассказ сводился к тому, что у борта «Ташкента» на вахте стоит матрос, и когда Голынец к нему приблизился, тот взял под козырек.
Спорить с ним было неудобно — он был старшим по званию и возрасту. Мы в душе посмеялись и согласились с ним, решив, что это была галлюцинация.
На следующий день на грунт спустился я. Корабль лежал на правом борту, покрытый покачивающимися водорослями. Сквозь них, как сквозь чащобу леса, пробивались лучи солнца, выхватывающие из темноты то орудийную башню, то букву из названия корабля. Как в сказочном заколдованном царстве, здесь царили тишина и покой.
В центре корпуса зияла огромная пробоина, через которую были видны поврежденные внутренности корабля, покрытые илом. Я замерил пробоину и прополз внутрь, чтобы точно выяснить, какие отсеки повреждены. Бомба попала в машинное отделение. «Турбины все равно будут заменять», — подумал я, вылезая из пробоины. Острые, рваные края ее могли распороть рубаху, и я, повернувшись на спину и оттолкнувшись от пробоины, плавно выплыл и встал на грунт, опираясь руками о борт. Между прочим, я тоже что-то мурлыкал себе под нос. Прежде чем выбраться на палубу, я посмотрел вверх, и песенка, которую я напевал, вдруг шершавым колом застряла у меня в горле: надо мной, высунувшись по пояс из иллюминатора, нависал матрос. Лицо его трудно было разобрать, но я ясно видел, что он подносит к голове руку, приветствуя меня, а падающий на рукав фланелевки солнечный луч освещает нашивку с поблескивающей над ней золотой звездочкой.
Сразу же почему-то осипшим голосом я приказал по телефону:
— Выбирайте наверх!
Сигнал дрогнул, и я, отделившись от грунта, поплыл прямо к приветствовавшему меня матросу. Водолазный бот стоял как раз над ним, и сигнальный конец невольно подтягивал меня к месту его «вахты». Я перестал стравливать воздух, и рубаха, раздувшись, пробкой понесла меня наверх. Матрос промелькнул мимо. Через полчаса я выжимал на палубе бота водолазное белье, мокрое от холодного пота.
Позже мы узнали, что немецкие водолазы категорически отказались от работы на «Ташкенте». Из Берлина был вызван специальный инструктор, который, выскочив из-под воды как ошпаренный, на следующий день в донесении написал: «Русские в потопленном корабле оставили духов, принимающих форму живых людей с обозначением на рукавах партийных знаков. Подъем невозможен!» Тогда-то мы и поняли, почему немцы отказались от подъема.
А позже выяснилось: когда «Ташкент» начал тонуть, один из матросов машинной команды, не успев добраться до верхней палубы, попытался выскочить через иллюминатор, но в него попала пуля, пущенная с «юнкерса», и он затонул вместе с кораблем. Сукно не портится в морской воде, и оно сохранило тело матроса в относительной целости, как бы в чехле. А подводное течение то поднимало, то опускало его руку. Поэтому и создавалось впечатление, что он приветствует водолазов.
Спустя несколько дней мы достали его и похоронили вместе с героями, погибшими при освобождении города. Кто он — узнать не удалось.
Подъем «Ташкента» было решено производить понтонным способом. Для этого под днищем корабля необходимо было промыть пять туннелей, продернуть через них стальные тросы, затопить с каждого борта по пять понтонов, похожих на огромные бочки подъемной силой в 500 тонн каждая, принайтовать (прикрепить) их к тросам и продуть воздухом. Понтоны всплывут и поднимут вместе с собой корабль.
На бумаге это выглядит легко и просто. Но до этого — «понтоны всплывут» — несколько месяцев каторжно-изнурительного водолазного труда, от которого… Словом, работы по промывке туннелей водолазы не очень любят.
Что же это за работа? Под воду опускают грунтосос, или, как его величают водолазы всего мира, «самовар». Металлический кожух его и впрямь чем-то напоминает самовар. По медным трубкам — их несколько десятков, — загнутым концами в чрево этого чудовища, подается воздух, который с ревом несется вверх, всасывая за собой грунт и увлекая его по шлангу на поверхность.
Во время работы грунтососа водолаз сидит на нем верхом, обжав ногами и навалившись на него грудью, напоминая ковбоя, оседлавшего дикого быка. С одной только разницей: на родео всадник должен продержаться на быке несколько секунд, да и то обеими руками схватившись за подпругу. У водолаза же в руках пипка, что-то вроде пожарного брандспойта, через который бьет струя воды давлением в двенадцать атмосфер, размывающая грунт.
В туннеле водолаз находится в абсолютной темноте. Чтобы не сбиться с курса, он определяет направление своей ходки по швам обшивки корабля. Через каждые 10—15 минут руки его сами почти механически ощупывают днище, предварительно устроив пипку между коленями и прижав ее грудью к грунтососу — иначе улепетнет. Так вот, если шов обшивки на днище сместился влево или вправо, водолаз соответственно выправляет ход туннеля.
Промывка туннелей подходила к концу, день-два — и шабаш. Вот тут-то и пошло — кто скорее промоет туннель?..
Сегодня «самовар» оседлал Гена Стоценко. Сильный, большой и, вероятно, оттого важный, он двигался по земле, как и под водой, словно в замедленной киносъемке. Ну под водой это понятно — не побежишь. А на земле? Будто боялся опрокинуть что-нибудь или разбить. Всегда и во всем он был деловито замедлен. Он никогда и ничего не делал с ходу. Во всем придерживался железного принципа: семь раз отмерь, один — отрежь. На Генку можно было положиться.
Наша станция мыла туннель у кормы, мы давно обогнали соперников. Генка прошел среднюю часть корабля, киль и вот-вот должен был выйти на противоположную сторону «Ташкента», на чистую воду.
Рядом с нами стоял водолазный бот Миронова — нашего главного соперника. На ботах тихо. Неожиданно у Миронова на компрессоре прибавили обороты. Рванулся шланг их грунтососа.
— Генка! — заорал водолаз, сидящий на телефоне. — Миронов на пятки садится, прибавь! — и, не дождавшись ответа, крикнул механику, чтобы тот добавил давление на самовар и пипку.
Не успел прозвучать в воздухе голос водолаза, а компрессор уже забарабанил еще быстрее. На боте Миронова заметили это и тоже поддали газу. Можно было только представить, как сейчас корежит водолазов в туннелях.
На боте у нас все затихли. Каждый совершенно реально представлял себе, как трясется на «самоваре» Генка, выбивая шлемом дробь о днище корабля. Несмотря на гул машины и торопливые сипящие звуки, вырывающиеся из шланга, всем кажется, что работа все-таки идет медленно и надо бы поддать еще… И вообще, думается им, лучше бы под воду пошел он, а не Генка, каждому мнится, что он сделал бы лучше или, во всяком случае, быстрее.
На боте Миронова тоже молчат, и нам кажется, что облака ила расплываются вокруг их катера гуще и шире. Хочется закричать: «Генка, милый, нажми!» Но всем понятно, что механизмы и водолаз работают на пределе, и, отвернувшись, тихо вздыхают. Гудит мотор, судорожно всхлипывает шланг, вздыхают люди.
Беру телефон:
— Гена, как себя чувствуешь?
Небольшая пауза. Потом вибрирующий голос нараспев отвечает:
— Все-о-о в поряд-ке-е-е, стар-ши-на-а-а, пошел-л-л мяг-кий-й грунт-т-т, иду-у-у как по маслу-у-у!
— Давай наверх, тебя сменит Тягилев. Пора отдохнуть.
— Старшина-а-а, мы-ы-ы же целый час-с потеряем-м-м. Не надо-о-о, разреши-и-и добить до конца-а-а! Я же говорю-ю-ю, иду-у-у как по маслу-у-у!
И хотя пора бы сменить Стоценко, мне жалко срывать ему настрой, когда все как по маслу. Я это знаю по себе. Счастливое и радостное чувство!
— Ладно, давай, — говорю я строгим и одновременно снисходительным тоном.
Возможно, сегодня Генка выйдет на ту сторону «Ташкента». И тогда, дорогие наши сопернички, мы вам покажем «кончик»: на флоте во все века обогнавший соперника показывает ему с кормы конец веревки.
А Стоценко молодец! Вот тебе и «спеши медленно». А взяло за душу — не остановишь и не оторвешь. Нет, дух соперничества, соревнования, что ни говори, великая вещь. Здесь не нужны ни уговоры, ни убеждения, ни просьбы. Подстегивает желание быть первым, хотя за это тебя не ждет награда. В лучшем случае друг одобрительно шлепнет тебя рукой по плечу.
— Старшина, Стоценко к телефону просит, — зовет меня дежурящий на телефоне водолаз.
Беру наушники:
— Что там у тебя?
— Чувствую-ю-ю, скоро-о-о выйду к проти-вопо-ложно-му-у-у борту-у-у, грунт все-е-е мягче-е-е и мягче-е-е, пусть подда-дут-т на пипку-у-у.
— Добро, будь осторожен, следи за швами обшивки, а то собьешься с курса, — отвечаю я.
— Есть, старшина! Не беспокойся, иду-у-у как по маслу-у-у.
Неожиданно кто-то из водолазов кричит:
— Старшина, воздух из-под кормы пошел!
Я бросаюсь на нос бота, действительно из-под кормы «Ташкента» выскакивают на поверхность и лопаются пузыри стравливаемого Генкой воздуха. «Какая-то чушь! Как мог Стоценко оказаться под кормой корабля?»
— На телефоне, спросите Генку, что с ним?
— Есть!
— Ну, что там?
— Отвечает, что видит свет, выходит на чистую воду.
— На какую чистую, он что, с ума сошел?
— Не знаю, старшина, говорит, пробился к противоположному борту.
У меня на душе заскребли кошки. Наверняка Стоценко в темноте да в спешке потерял ориентацию, сбился и пошел не по поперечным, а по продольным швам обшивки корабля. Они-то и привели его к корме. «Свет видит, чучело! Осрамились как!»
— На телефоне, — спрашиваю я, — что там?
— Выходит наверх.
— Добро. («Я ему сейчас выйду! «Поддай на пипку…» Я тебе поддам! Всю жизнь помнить будешь!») На телефоне, передайте, пусть выходит наверх. Готовим встречу с оркестром!
Вся команда бота собралась на носу, следя за пузырями стравливаемого Стоценко воздуха. От мироновского бота отвалил тузик и двинулся к нам. «Этого еще не хватало, — подумал я, — теперь на весь отряд разнесут. Позорище!» Шлюпка подошла к боту, кто-то из матросов принял конец, и на палубу поднялся мичман Миронов. Он шел по палубе так, будто был сделан из дорогого хрусталя. Ехидно улыбнувшись и протянув мне руку, сказал:
— Классика! — Он любил такие слова. — Вы что ж, туннель по всему килю промыли, от носа до кормы?
Ребята молчали.
— Как видишь, — ответил я. — Винты на валы ставить будем. Разве не знаешь? Командование решило, чтобы «Ташкент» своим ходом отсюда в док пошел.
Глаза мичмана заметались по лицам стоящих вокруг. Никто даже не улыбнулся. Матросы поняли игру и молчали.
Из-под кормы корабля вслед за пузырями выскочил водолазный шлем. Солнечные блики по-праздничному сверкали на его отполированной медной поверхности. Через иллюминатор светилось ошалелое от счастья, залитое потеками пота курносое лицо Генки Стоценко. Миронов резко повернулся, спрыгнул в тузик и, уже отойдя от нас на несколько метров, обиженно крикнул:
— Деятели!
Стоящие на палубе разразились смехом.
— На телефоне! — крикнул я. — Передайте Стоценко, пусть попробует двинуть обратным ходом через туннель наверх.
Когда с Генки сняли шлем, он все понял, и по его лицу, мешаясь с каплями пота, заструились слезы.
Сутками мы не возвращались на базу, промывая туннели, заделывая мелкие и крупные пробоины. «Ташкент» — славу и честь Черноморского флота — необходимо было поднять, дать ему новую жизнь. Поэтому мы работали, не считаясь со временем, порой даже нарушая правила водолазной службы, запрещающие находиться под водой более четырех часов. И вот закончен первый этап работ: «Ташкент» поднят, отведен от места гибели на более мелкое место и там посажен на грунт.
Теперь начинался второй этап, пожалуй не менее трудный: необходимо было заделать все пробоины в корпусе, чтобы прекратился доступ воды внутрь корабля, потом мощными помпами можно будет откачать из него воду. И тогда корабль всплывет сам.
Повреждения оказались значительными. В конце концов основные пробоины были заделаны, но оставалось еще множество мелких, которые трудно было обнаружить? Это показала пробная откачка. Поиском этих мелких пробоин и занималась наша молодежно-комсомольская группа.
Ранним утром, сменив кислородные баллоны и химпоглотитель в аппаратах, проверив гидрокомбинезоны, мы на водолазном боте направились к месту работы. Необходимо было проверить пробной откачкой количество поступающей воды в одном из отсеков.
Пришвартовались к борту «Ташкента». Ребята помогли мне надеть гидрокомбинезон, легководолазный аппарат, сигнальный конец, грузы… Я, как пингвин, смешно шлепая по палубе ногами, направился к люку, ведущему внутрь заполненного водой корабля. Вода темнела в нескольких сантиметрах от палубы. Человек десять такелажников подтянули двенадцатидюймовый шланг с огромным чугунным храпком (всасывающим приспособлением), который я должен был протянуть к самому днищу корабля.
На сигнале у меня стоял молодой матрос Геннадий Диденко. Он служил по первому году после окончания водолазного училища. Задиристый непоседа Генка буквально до слез жалел, что попал не на фронт в разведчики, а в водолазы.
— Тоже мне, — говорил он, — погружаешься, поднимаешься… То ли дело на фронте, рванул из автомата — и будь здоров! А здесь?.. Тишь да гладь, божья благодать.
Он с обычным для него скучающим видом — дело ему наше было не по душе — взял в руки сигнал, а я по трапу начал спускаться в чрево корабля, погружаясь в черную маслянистую воду и направляя за собой чугунный храпок. Сверху такелажники медленно потравливали шланг.
В этой темноте нас было двое: я и чугунный храпок, как живой двигавшийся за мной. Пройдя несколько метров вниз по трапу, я оказался на второй палубе корабля. Нащупав люк, ведущий на следующую палубу, и подтащив к нему храпок, за которым, извиваясь, полз шланг, я двинулся глубже. Шланг неотступно следовал за мной, направляемый сверху умелыми руками такелажников.
Вот и третья палуба, дальше под ней — днище корабля. Люк на ней совсем узкий — висящий на груди аппарат мешал мне протиснуться в него. Опять подтаскиваю к люку храпок, отстегиваю поясной ремень и поднимаю аппарат над головой. Люк пройден, в отсеке пристегиваю аппарат, дергаю два раза сигнал «Травите шланг». Диденко отвечает, дергая два раза, — значит, понял. Храпок медленно ползет за мной. Ногами чувствую днище. Оно на двадцать — тридцать сантиметров покрылось илом, перемешанным с обломками палубы, обшивки. Ноги и руки липко вязнут в этом месиве.
От абсолютной темноты перед глазами прыгают зеленые, красные и оранжевые искорки. Слышу, как ритмичный стук моего собственного сердца нарушает тишину. Мертвый гигант безмолвен. Это безмолвие напоминает о смерти и тлении. Мне становится как-то не по себе. Особенно противен ил, проползающий между пальцами кисельной гнилью.
Работа выполнена, можно и наверх. Проверяю количество кислорода: его еще минут на двадцать пять — тридцать. Все в порядке.
Разгребая руками темноту, медленно пробираюсь к трапу, ведущему наверх. Проводником служит сигнальный конец. Я уже дал Диденко сигнал, дернув три раза. Это означает: «Выхожу наверх». Сигнальный конец плавно подтягивает меня, помогая ускорить движение. Вот и трап. Рядом в люке извивается шланг. Его ребристая поверхность пульсирует под рукой, это наверху пробуют запустить помпу. Там идет работа, жизнь. Нерв, связывающий меня с той жизнью, — сигнальный конец. Ни радио, ни телефона, а только тоненький сигнальный конец, и я с радостью чувствую, как рука Диденко подтягивает его.
В «той» верхней жизни мотористы заливают шланг, пробуя запустить помпу. У люка, укрывшись полушубком, сидит, как рыбак у проруби, Диденко. Все в его фигуре говорит о будничности дела, которым он занят. Такелажники приводят в порядок освободившиеся тросы, мотористы суетятся около помпы. Каждый делает свое привычное дело.
К Диденко подошел старшина Николай Лысенко. Его круглое лицо украшают шевченковские усы. Он еще до войны работал инструктором легководолазного дела в тогдашнем ОСВОДе. В свои тридцать четыре года нам, двадцатилетним, он тогда казался стариком.
— Ну, как? — спросил он у Диденко.
— Ничего не пойму, товарищ старшина. Третий раз он дает сигнал «Выбери слабину». А никакой слабины нет.
— Ну-ка, дай!
Диденко передал сигнал. Старшина потянул: слабины действительно не было, а на том конце сигнала он почувствовал живого водолаза.
— Ну, что? — волнуясь, спросил Генка.
— Ничего не понимаю… Подождем.
Через несколько секунд сигнал из глубины повторился, потом еще и еще… Такелажники бросили укладывать тросы, мотористы — заливать помпу. Подошли другие водолазы. Люди собрались вокруг люка, глядя в черноту маслянистой воды. На ней расплывались серебристо-вороненые круги топлива. Что-то произошло там, в глубине корабля…
Сердце било ударами колокола. Положение мое оказалось аховым. Дело в том, что я нарушил святая святых работы водолаза: при протаскивании шланга через люк он обязан вначале пропустить в люк шланг, а затем попробовать пройти сам. Я же с беспечностью, присущей двадцатилетним, полез в люк первый и протащил за собой шланг в двенадцать дюймов, который, пройдя все три люка, закрыл мне выход наверх.
В перспективе, если не произойдет чуда, мне предстояло медленно умереть от кислородного голодания. В сигнальном коде не было сигнала, обозначающего «Выберите помповый шланг». Обычно в случае каких-то непредвиденных и сложных работ мы сами придумывали сигналы, обговаривая их заранее. Сегодняшнее же задание было настолько простым и обычным, что мы даже не подумали об этом. В результате я не мог передать команду выбрать шланг и по собственной глупости сам себя приговорил к заточению и смерти.
Несколько раз с интервалами я передавал наверх сигнал «Выберите слабину сигнального конца». Сверху, дублируя сигнал, отвечали, что поняли, сигнал натягивался, но, почувствовав мое тело, опять ослабевал.
Кислорода в дыхательном мешке мало. До кислородного голодания оставались буквально минуты. А там… Я читал и раньше, и потом, что в такие минуты перед мысленным взором человека проходит вся жизнь. Возможно, из-за того, что мне было всего двадцать, ничего подобного передо мной не возникало. Я просто как можно яснее хотел себе представить, что делается наверху и чем еще я могу помочь себе сам. Меня окружала темнота, и, как ни странно, не пугающая, а помогающая сосредоточиться. И не прошедшая, а настоящая, сегодняшняя жизнь волновала меня в эти минуты.
Как чётки, один за другим я перебирал шансы… Их почти не оставалось. Помощь могла прийти только сверху… Три раза дернуть сигнальный конец, это означает не только подъем, но и тревогу… Что у меня кислород на исходе, Диденко знал, наверняка вызвал аварийный катер с водолазом-сварщиком… Будут резать борт… иначе не вытащить. Успеют ли?
Кислород поступает еле слышно, слегка посипывая. Нужно дышать пореже… Экономить воздух. Жаль, если погибну, так и не надену ни разу новые брюки… А брюки что надо: ширина — тридцать шесть сантиметров и, главное, без клиньев… Смерть комендантам и девчонкам из соседнего с нашим отрядом общежития. Гладя брюки, складку с внутренней стороны я натирал мылом, тогда она становилась острой как бритва, закрывала носок ботинка. «Сегодня в клубе танцы…» — неожиданно подумал я.
Тихо, еле посипывая, поступает кислород. «Что же там, наверху?.. Почему молчат?..» И точно отозвавшись на эту мою немую мольбу, чугунный храпок зашевелился и пополз вверх к люку… Сердце радостно запрыгало. Значит, наверху всё поняли. Но через несколько метров, храпок остановился, как бы раздумывая, что ему делать дальше, и, покачавшись, повис. Хотелось закричать: «Тащите! Не бросайте!» Но, выбрав потихоньку слабину сигнального конца, я вновь, в который уже раз, послал наверх сигнал.
Шланг ожил. Он опять пополз кверху, теперь настойчивее и решительней, как будто бы наверху не сомневались в своих действиях. Послышался удар металла о металл, что-то заскрежетало, и наступила пугающая тишина. Я пробрался к люку и дрожащими руками попытался в темноте обследовать его — свободен ли он. Руки наткнулись на храпок, он остановился в самой лючине. Что же случилось? Сбоку у соединения храпка со шлангом торчала металлическая скоба. Она-то и зацепилась за фаску в комингсе люка. Наверху, видимо, продолжали тянуть: шланг дрожал в напряжении. Я понимал, что скобу, мешавшую вытащить шланг, даже усилиями десяти людей сорвать не удастся. Видимо, поняли это и наверху. Шланг перестали тянуть, он ослабел, и скоба сама по себе вышла из фаски. Но люк для меня по-прежнему оставался закрытым.
Наверху, вероятно, совещались. Мне же было не с кем совещаться. Необходимо было действовать. Упершись ногами в трап, а головой и руками в храпок, я попытался вытолкнуть его из люка. Для этого необходимо было согнуть двенадцатидюймовый шланг, укрепленный внутри стальной спиралью. Одному человеку сделать это не под силу.
Однако споры гриба взламывают бетон, стремясь навстречу солнцу, навстречу жизни… Мое желание жить согнуло шланг… Храпок выскочил из люка. Наверху почувствовали это и начали его выбирать. Через минуту я был на палубе.
«Боже мой, — думал я, лежа на спине и как рыба хватая ртом воздух, когда с меня сорвали маску, — и какой же он вкусный, этот воздух! А солнце?.. А друзья!»
— Что, соколики, думали, капут? — спросил я вслух, и тишина разорвалась грохотом смеха, многократно усиленного, как резонатором, железной палубой «Ташкента».
Через несколько месяцев «Ташкент» был поднят, но возродить его к жизни оказалось невозможным: раны были слишком тяжелы. И он «умер» на наших руках.
Мы хоронили его на кладбище кораблей. Вся бухта наполнилась протяжными траурными гудками судов, находящихся в порту. Они провожали в последний путь своего легендарного героя — голубой неуловимый русский крейсер «Ташкент». По всему берегу бухты стояли люди, пришедшие с ним проститься.
В. Н. Алексеев, Герой Советского Союза НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ Маленькая повесть о великих рядовых
ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО
Прекрасный Варангер-фьорд… Проклятый Варангер-фьорд…
Попробуйте в такое солнцестояние выйти в точку торпедного залпа!.. Пятьсот — шестьсот метров отделяют тебя от противника. А его наш визит почему-то не радует: на маленькие катера немедленно обрушивается вся мощь огня кораблей охранения. Да еще жди каждую минуту удара с воздуха: «мессеры» и «фокке-вульфы» почти беспрерывно барражируют над конвоями.
Спасение, надежда на успех — стремительный маневр, дымовая завеса, скорость, железное самообладание.
Нет, нам решительно нужна была плохая погода. Отвратительная погода… Солнце нас никак не устраивало.
Шел июнь 1944 года.
Почти каждый день мы получали данные о переходах кораблей и конвоев противника. Но часть из этих сведений доходила до нас с большим опозданием, а в других случаях расстояние до конвоя было слишком большим. Против такого врага направлялись самолеты, наводились подводные лодки, заранее развернутые на вероятных путях движения вражеских караванов. Дважды мы выскакивали в район подходов к Печенгскому заливу, и оба раза корабли противника успевали спрятаться в бухточках. После интенсивного обстрела с берега мы едва успевали «унести ноги» и несолоно хлебавши злые и мрачные возвращались в базу. Нет, нам решительно «не везло»… Нужна была отвратительная погода.
28 июня меня вызвал к телефону начальник штаба Северного оборонительного района капитан 1 ранга Даниил Андреевич Туз и передал приказание командующего флотом произвести поиск в море и во что бы то ни стало найти сбитого в воздушном бою нашего летчика-истребителя. Перед тем как покинуть самолет, летчик успел передать по рации, что находится он где-то западнее Рыбачьего.
Через несколько минут мы уже вышли в море и, достигнув назначенного района, начали «пахать» его, тщательно просматривая каждый метр воды. Вскоре заметили медленно качающееся на волне красное пятнышко, которое при ближайшем рассмотрении оказалось резиновой спасательной шлюпкой. В ней сидел голубоглазый парень в летном обмундировании. Очевидно, он уже успел разглядеть советский флаг на нашем катере и поэтому спокойно и радостно улыбался.
Знакомимся. Оказывается, перед нами молодой, но уже отличившийся в боях североморский летчик-истребитель Герой Советского Союза капитан Бурматов. Он здорово замерз в студеной полярной воде. Но, перейдя на катер, шутил, балагурил. К нашему удивлению, он отказался от водки, но с удовольствием забрался в моторное отделение, где было тепло, переоделся там в сухое белье, собранное членами экипажа. Я сообщил по радио, что летчик найден, и сразу же получил приказание немедленно следовать в базу за получением нового важного задания.
На причале нас встретила большая группа летчиков, которые обняли своего спасенного товарища и тут же стали оживленно расспрашивать его о подробностях боя.
Связываюсь по телефону с комбригом, Александр Васильевич Кузьмин говорит:
— Сегодня весь день наши летчики бомбили транспорты противника в Киркенесе. Часть этих судов в охранении боевых кораблей переходит в Печенгу. Выходи к Айновским островам, наблюдай обстановку и, если увидишь противника, атакуй! Я буду сообщать тебе все данные разведки и организую прикрытие с воздуха.
— Все понятно. Когда выходить?
— Немедленно! На каком пойдешь сам?
— На двести сорок первом, с Домысловским — он участвовал в минных постановках, но в атаках еще не испытан. Я буду его обеспечивать.
— Добро! Ни пуха тебе, ни пера!..
Хотелось мне для порядка шутливо послать своего друга — начальника к черту, но из соображений субординации я позволил себе сделать это только мысленно.
Быстро собрав командиров катеров, я объяснил им задачу. Вижу — настроение поднялось, глаза заблестели!.. Истосковались мы по крупной работе. Один лишь командир двести сорокового, старший лейтенант Виктор Бочкарев, был чем-то озабочен и встревожен. Я это сразу заметил.
— В чем дело?
— Понимаете, товарищ комдив, у меня что-то с правым мотором. Не заводится, проклятый, и все. Пробовал и так и сяк — ничего не получается…
Только этого нам не хватало. Я был, признаюсь, почти взбешен: ведь нельзя же брать в бой неисправный катер. От катерника требуется в первую очередь высокая скорость и способность к быстрому маневру.
— Почему не доложили раньше?!
Бочкарев стоял ни жив ни мертв. Показалось, что даже слезы навернулись у него на глазах. Где-то в душе шевелилось сочувствие: не везет парню. В начале войны, едва успев закончить военно-морское училище, Бочкарев был взят на сухопутный фронт, доблестно воевал в тяжелых оборонительных боях на Карельском фронте и осколком мины был серьезно ранен в правую руку. К счастью, все обошлось благополучно. После госпиталя Виктор немедленно попросился на флот. Не мог он без кораблей. Душа-то у него была моряцкая…
Прикидываю все это и решаю сменить гнев на милость.
— Дивизионный механик!
— Есть.
— Немедленно заняться катером Бочкарева. Буду выходить на трех катерах…
Здесь нужно сказать несколько слов о том, как для меня все это началось.
Жизнь словно решила устроить мне встречу с собственной юностью.
В первых числах мая 1944 года я принял под свое командование дивизион торпедных катеров Северного флота, входивший в состав недавно сформированной бригады. Знакомые берега. Знакомое море.
Еще в 1930 году я — тогда матрос торгового флота — ходил из Архангельска в северные порты Норвегии. Через несколько лет уже в должности штурмана одного из военных кораблей пришлось мне совершить переход из Мурманска в Ленинград, и я имел возможность более серьезно познакомиться с навигационными и гидрометеорологическими условиями плавания на Севере. Кто знал, что не пройдет и десятка лет, как мне вновь доведется служить в этих краях? Уже в условиях жестокой войны.
Дивизион, который я принял, был довольно «разношерстным». Лишь немногие офицеры и старшины ранее служили на торпедных катерах, прошли нормальный курс боевой подготовки и имели опыт в эксплуатации техники и оружия. Большинство же прибыло из различных частей — кто с надводных кораблей, кто с подводных лодок, кто из авиации, а некоторые даже из сухопутных войск, куда попали в первые месяцы войны. Поэтому неудивительно, что и среди командиров торпедных катеров были люди, которые ни разу в жизни не выходили в торпедную атаку даже в учебных условиях. Учебу начали с азов…
К счастью, у меня оказались хорошие помощники: капитан-лейтенант Ефимов Арсений Иванович, с которым мы вместе служили командирами отрядов торпедных катеров на Тихоокеанском флоте, заместитель по политчасти капитан-лейтенант Слепцов — очень добросовестный и трудолюбивый политработник. Прекрасное впечатление произвел на меня секретарь партийной организации дивизиона — старший лейтенант Константин Никитин, искушенный в военной службе коммунист. Он удивительно тонко и сердечно работал с людьми. С чьей-то легкой руки прозвали его в дивизионе Костя-капитан. Но произносилось это с искренним уважением: в боях Костя-капитан показал себя бесстрашным и мужественным офицером.
Дни наши были заполнены напряженной боевой учебой и в базе, и в море. Впрочем, понятие «учеба» было весьма относительно. Случалось, что первая в жизни торпедная атака некоторыми командирами катеров выполнялась не на полигоне по кораблю-цели, а в настоящих боевых условиях при яростном противодействии противника.
Никто из моряков не жаловался, хотя жили мы в землянках и в палатках, что, понятно, в условиях Заполярья нельзя назвать «комфортом»: здесь даже невозможно было по-настоящему согреться и обсохнуть после возвращения с моря.
Дивизион мой состоял из двух отрядов, во главе которых стояли опытные, однако очень разные по характеру и стилю работы офицеры. Капитан-лейтенант Василий Михайлович Лозовский воевал с первых дней войны на Северном флоте на «морских охотниках», участвовал много раз в поисках подводных лодок, в обстреле побережья противника, в высадках диверсионных десантов и других боевых делах. Лихой моряк — он быстро ориентировался в море в любой обстановке, никогда не терялся. Энергичный, смелый, требовательный, иногда чрезмерно горячий, Лозовский — отличный организатор. На торпедных катерах он прежде служил мало и потому учился вместе с другими. Другой комэск — капитан-лейтенант Иван Борисович Антонов — вышел из матросов. Прослужив несколько лет катерным боцманом на Тихоокеанской бригаде, он окончил курсы и вот уже лет восемь служил на офицерских должностях. Я его хорошо знал по совместной службе на Дальнем Востоке. Степенный, несколько медлительный моряк богатырского телосложения, чрезвычайно добрый и мягкий по характеру, чем иногда кое-кто пользовался.
Среди матросов и старшин были и умудренные жизнью солидные «папаши», призванные из запаса, и совершеннейшие юнцы. Как-то вечером из учебного отряда прибыло несколько молодых матросов. Один из них — ну настоящий голубоглазый румяный мальчишка в военной форме. Подхожу и спрашиваю: «Кто такой?» Отвечает: «Женя! — Потом спохватывается и добавляет: — Матрос Евгений Малиновский, радиометрист». Через полгода этот парень стал отличным моряком, прекрасно овладел радиолокационной станцией и за отличие в бою был награжден орденом Красного Знамени. Вот вам и малыш!
ГОРЯЩЕЕ МОРЕ
Небольшие Айновские острова, где была назначена позиция ожидания, находились на расстоянии всего четырех миль от полуострова Средний и в десяти милях от Печенгского залива. Вход в него простреливался нашими береговыми батареями. Чтобы затруднить их прицельный огонь, фашисты обычно перед проводкой конвоев самолетами и катерами ставили мощные дымовые завесы на подходах к порту.
Так было и на этот раз — кроме верхушек скалистых гор, ничего не было видно. Я считал, что терять время на пассивное ожидание противника нельзя, ибо гитлеровцы могли незаметно проскользнуть в свою базу.
С момента выхода — над катерами наши верные друзья, истребители прикрытия. То и дело в динамике, установленном в боевой рубке катера, раздается сочный баритон Демьяна Осыко: «Идите спокойно, я вас прикрою!»
Не задерживаясь у Айновских островов, я решил подойти вплотную к дымзавесе и вести активный поиск кораблей противника.
Неожиданно недалеко от нас из дыма вынырнуло несколько вражеских шнелльботов. Они сейчас же были обстреляны беглым огнем наших батарей и снова скрылись в дыму. Прикидываю: раз эти сторожевые катера здесь крутятся — значит, они кого-то охраняют. Иду сквозь дым. В воздухе чувствуется специфический едкий запах хлорсульфоновой кислоты: дымзавеса — перед нами. Скомандовав на ведомые катера курс и скорость, врываюсь в клубящиеся едкие облака. Через полминуты видим чистую воду и близкие скалистые берега противника. Я знал, что глубины моря здесь большие, и поэтому не боялся навигационных опасностей. Начали поиск вдоль дымзавесы, периодически прячась за нее, чтобы укрыться от наблюдения с берега. Наконец с катера лейтенанта Юрченко, шедшего слева от меня, донесение по радиотелефону: «Вижу над дымом мачты и трубы какого-то транспорта». Командую: «Атакуй!»
Ветер сместил дымзавесу. В ее разрывах мы и увидели транспорт, ведущий артиллерийский огонь по атакующему его катеру Юрченко. Окруженный всплесками от разрывов снарядов, катер выпустил с дистанции около двух кабельтовых (примерно 370 метров) две торпеды. Одна из них угодила прямо в середину транспорта. Раздался взрыв, поднявший огромный султан воды, и гитлеровский пароход, разломившись пополам, быстро пошел ко дну. Вижу, как комендоры катера — Гребенец, Казаков и Воробьев — метким огнем подожгли вражеский шнелльбот, принудив его быстро скрыться за остатками дымовой завесы.
В разрывах дыма видим еще один танкер и тральщик. Даю приказание правофланговому катеру старшего лейтенанта Шуляковского (там же находился командир отряда капитан-лейтенант Лозовский) атаковать тральщик, а сам иду в атаку на танкер.
В эфире творится что-то невообразимое. Частоты наших и немецких радиопередатчиков почти совпадают, поэтому слышны все переговоры. Гитлеровцы отчаянно ругаются. Требуют от своего берегового командования немедленно выслать истребители для отражения атак советских катеров. Между тем дистанция между нами и атакуемыми стремительно сокращается. Уже видно, как по палубе тральщика мечутся фашисты, срывают с себя ранцы, каски и прыгают за борт.
Залп!.. Через несколько секунд в воздух поднялся столб воды с обломками корабля, мачт, щепками корабельных шлюпок. Панические радиопередачи на немецком языке смолкли.
Отражая атаку, тральщик огрызался огнем. И небезуспешно: несколько попаданий в катер Шуляковского. Один снаряд врезался в носовую стенку рубки, но, встретив на своем пути бронированную плиту, разбился вдребезги, засыпав ослабевшими осколками людей на мостике. Другой угодил в моторный отсек и перебил масляную магистраль. Давление масла резко упало, мотор сбавил обороты, скорость понизилась, и катер начал медленно отходить от места боя, надеясь укрыться в остатках дымзавесы. А над товарищами нашими, точно стая воронов, уже кружилась вызванная по радио шестерка «мессершмиттов», предвкушая легкую добычу. Но сразу — удар наших летчиков. В этот день они дрались особенно отчаянно, как бы стараясь отблагодарить нас за спасенного несколько часов назад своего товарища. Двадцать две минуты шла над нашими головами жаркая схватка. Один «мессер» задымил и, круто пикируя, потянул к берегу. Два других тоже были подбиты. Тогда вся черная стая убралась восвояси. И опять в динамике раздался баритон Осыко: «Будьте спокойны, я вас прикрою!»
Пока Шуляковский расправлялся с тральщиком, мой флагманский катер полным ходом сближался с танкером, отстреливаясь от вновь навалившихся «мессеров», которые, резко пикируя, пытались поразить нас из своих скорострельных автоматов. Командир катера — молодой лейтенант Виктор Домысловский — уже лег на боевой курс и, поймав в визир прицела торпедной стрельбы среднюю часть судна, ждал моей команды. Оценив дистанцию до цели в три кабельтовых, спокойно, как на учении, я бросил короткое «Залп!» и надавил кнопку секундомера, чтобы проконтролировать ход торпед. Оставляя за собой пузырчатый след, они стремительно пошли к своей жертве. Мне казалось, что стрелка секундомера движется чересчур медленно, что давно пора раздаться взрыву… А вдруг промах? Нет, этого никак не должно быть!.. И тут гигантский черный столб дыма взвился в безоблачное небо. Танкер треснул, как грецкий орех, сверкнув пламенем начавшегося пожара. Среди разлитой по волнам горящей нефти некоторое время маячили дымовая труба и кормовая мачта танкера, а затем и они начали медленно опускаться и навсегда скрылись под холодными волнами.
— Ура-а! — Ребята на нашем катере торжествовали.
Да и мы с Виктором в нарушение всех субординации крепко расцеловались, поздравив друг друга с победой.
Теперь — на сближение с катером Шуляковского, шедшим малым ходом под двумя двигателями.
Мотористы Шуляковского самоотверженно боролись за восстановление масляной магистрали. Матрос Геннадий Жуков, чтобы приостановить утечку масла, голыми руками зажал перебитый трубопровод. Пока старшина группы Витренко накладывал пластырь, Жуков терпел адскую боль, но не отпустил рук. Наконец повреждение устранено. Можно дать полный ход. Соединившись с катером Виталия Юрченко, мы через час уже возвратились к родным пирсам.
Все были счастливы в тот день. Мрачными и удрученными ходили только матросы с двести сорокового, а сам командир Виктор Бочкарев чуть не плакал с досады. Они ввели в строй свой катер, но в бою участвовать уже не успели. Этим и объяснялись их переживания и чувство неловкости перед товарищами. «Ничего, — подумалось тогда, — Виктор и его ребята еще успеют наверстать свое». Будущее спокойной жизни нам не сулило…
СЛЕД НА ВОЛНАХ
Веду в море восемь катеров.
Цель поиска сформулирована в приказе кратко и четко: «Искать и топить гитлеровские корабли!»
Вспоминаю наш недавний визит в Полярный, как предстали мы перед командующим флотом адмиралом Головко. Арсений Григорьевич с пристрастием допросил каждого командира катера и меня о всех подробностях и обстоятельствах боя, заслушал командира бригады капитана 1 ранга Кузьмина. Наш комбриг, надо отдать ему должное, никогда при начальстве не ругал своих подчиненных, об их недостатках говорил сдержанно. Свои выводы он всегда аргументировал фактами и расчетами. Зато потом, когда проводил разбор сам, дотошно анализировал каждый наш промах и виновным выговаривал, не стесняясь в едких эпитетах.
После краткого выступления Кузьмина докладывал начальник штаба флота контр-адмирал Василий Иванович Платонов. На основании данных наблюдения с воздуха, с берега и анализа радиопереговоров немцев он определил, что нами потоплен транспорт, танкер и тральщик.
Через несколько дней командующий прибыл в бригаду и перед строем всего личного состава собственноручно вручил нам ордена и медали.
И вот снова: «Прощайте, скалистые горы!..» 13 июля воздушной разведкой у северо-западных берегов Норвегии был обнаружен небольшой конвой, двигавшийся в восточном направлении, предположительно в порты Варангер-фьорда. Летчики вцепились в него. Конвой шел вблизи берега под прикрытием артиллерийских батарей, имея возможность в случае опасности быстро скрыться в одном из многочисленных фьордов. Следуя мимо своих портов, конвой постепенно обрастал другими транспортами и кораблями охранения. На другой день, по данным разведки, он насчитывал в своем составе уже более двух десятков единиц.
Погода внезапно испортилась, над побережьем нависли низкие облака, летчики оказались бессильными и продолжать разведку, и наносить удар с воздуха. Конвой был потерян, но утром 15 июля вновь обнаружен подводной лодкой С-56, которой командовал капитан 2 ранга Григорий Щедрин (впоследствии удостоен звания Героя Советского Союза). Лодке удалось выйти в атаку на конвой, потопить один миноносец из состава охранения и передать донесение о местонахождении и курсе противника прежде, чем субмарина подверглась ожесточенному преследованию и вынуждена была уйти на глубину.
В дело снова бросили авиацию. Несмотря на низкую облачность (высота облаков в районе движения конвоя была до 25—30 метров), воздушная разведка продолжалась. От летчиков требовалось высочайшее искусство, так как конвой шел вблизи высоких скалистых берегов и на них можно было легко натолкнуться. Идя на бреющем полете, летчик лейтенант Богданов обнаружил конвой северо-западнее Варде. Богданов ахнул: под ним было более 30 кораблей и судов. В строю двух кильватерных колонн шли шесть крупных транспортов, вокруг них следовали три эсминца и около двух десятков сторожевиков, тральщиков и шнелльботов. Летчик немедленно передал данные о конвое по радио и, получив приказание возвращаться в базу, сел на свой аэродром. К этому времени я уже был на аэродроме и лично принял от Богданова подробный доклад о результатах разведки.
Боевая тревога!.. Я бежал на катер, раздумывая, что ждет нас. Конечно, яростное сопротивление противника: восемь катеров выступали против армады более чем в 30 вымпелов, основную часть которой составляли быстроходные и высокоманевренные боевые корабли, вооруженные скорострельной артиллерией. В условиях полярного дня, при большой видимости, противник имел много преимуществ, не говоря уже о численном перевесе.
Единственно правильной тактикой в предстоящем бою для нас было применение стремительного маневра, искусное использование дымзавес для взаимного прикрытия и сосредоточенный дерзкий удар по транспортам с возможно коротких дистанций. Плохо, что низкая облачность не давала возможности привлечь к совместному удару по конвою нашу штурмовую или торпедоносную авиацию, что значительно увеличило бы шансы на успех. Однако приказ комбрига и его последние указания по организации поиска и боя были получены, и теперь нам оставалось только исполнить их как можно лучше.
Я вывел катера на внутренний рейд. В качестве флагманского выбрал катер старшего лейтенанта Александра Горбачева. Перед отходом от пирса мне доложили, что на катере вышел из меридиана гирокомпас, но магнитный исправен, хотя и неустойчив на волне. Раздумывать было некогда. Пересаживаться на другой катер я не захотел, чтобы не нервировать личный состав экипажа Горбачева.
Я обошел на катере всех стоявших на рейде и через мегафон дал указания о порядке действий. Через несколько минут маленькие кораблики построились в кильватер, кроваво-красные вымпела запели на ветру, и мы рванулись навстречу нашей победе.
К тому времени облачность несколько поднялась. Комбриг попросил поднять четверку истребителей, чтобы прикрыть нас с воздуха и облегчить поиск конвоя. Ястребки шли над нашими головами, важно переваливались с крыла на крыло, и мы себя чувствовали спокойно и уверенно.
Через час мы прибыли в район, где, по расчетам, должны были перехватить конвой. Но конвоя там не оказалось.
Решаю спуститься на юго-запад. Идем вдоль хмурых скалистых норвежских берегов, то и дело рискуя попасть под обстрел береговых батарей противника. Высота облачности и видимость все время меняются. Над водой висят клочья редкого тумана. Истребители то исчезают в густой вате облаков, то появляются вновь.
Конвой исчез. Так прошло примерно полчаса. Вдруг облачность поднялась до 500—600 метров, видимость резко улучшилась, и буквально через две минуты в шлемофоне раздался радостный голос летчика:
— Вижу конвой!.. Вижу конвой!.. Координаты…
Катера стремительно развернулись для атаки.
ТОРПЕДЫ ИДУТ В ЦЕЛЬ
Нас заметили.
Ожил вражеский берег. Словно взорвался. Ощерился огнем.
Вокруг катеров — шквал снарядов.
«Роли» у нас распределены. Иван Никитин вырывается вперед, и вот уже над морем висит густая дымзавеса, надежное наше «убежище». Теперь пусть гитлеровцы стреляют Их отчаянная пальба вслепую особого вреда не принесет.
Через несколько минут с катера старшего лейтенанта Василия Быкова, а затем и с флагманского на дистанции около 40—50 кабельтовых были замечены силуэты больших кораблей. Транспорты перестроились в одну кильватерную колонну и, находясь на подходах к порту Киркенес, очевидно, готовились втянуться в фьорд. Мы тоже замечены. Гитлеровские корабли бьют всеми калибрами. Перед нами — стена огня. Положение у нас не из выгодных — мы оказались в хвосте конвоя и должны для занятия позиции торпедного залпа длительное время идти под губительным огнем. Но иного выхода нет.
Принимаю решение: на максимальной скорости, постепенно сходящимися курсами, выйти на центр конвоя, а затем повернуть всем вдруг вправо на девяносто градусов и широким фронтом — так идет в атаку кавалерийская лава — разом ударить по крупным кораблям.
Осуществляем маневр, беспрерывно ставя дымзавесы, прикрывая друг друга от бешеного огня. Над головами свистят осколки снарядов. Бьют по корпусу. Ранят людей. Со звоном отскакивают от броневых плит рубки. Черные пузыри шрапнели лопаются, рассыпая тысячи осколков, а трассирующие снаряды крупнокалиберных автоматов огненным разноцветным серпантином пронизывают все поле боя. Если бы существовал ад, он, наверное, очень бы походил на все это.
Мы вошли в азарт и, посылая проклятия по адресу уже сто раз проклятых гитлеровцев, выводим катера на боевой курс.
У всех одна мысль: только бы успеть выйти на дистанцию залпа и точно выпустить торпеды. Сближение продолжается около десяти минут. Сейчас можно признаться: тогда они нам показались часами…
Три шнелльбота вырвались в лобовую контратаку на флагманский катер. Александр Горбачев открывает интенсивный артогонь и быстрым маневром за дымзавесой продолжает сближение с целью — крупным транспортом, который отчаянно отстреливался из двух своих пушек и нескольких пулеметов. Один снаряд разорвался у кормы катера, обрушив на палубу каскад воды. Другой разбил баллон дымаппаратуры и воспламенил несколько шашек.
Катерного боцмана — недавно прибывшего из учебного отряда молодого матроса Сергея Огурцова — опалили и кислота и огонь, но он, сжав зубы, сбрасывает за борт баллон и шашки.
Дистанция до транспорта между тем сокращается до четырех кабельтовых. Море кругом кипит. Еще десять секунд — и даю команду «Залп!».
Под ногами знакомо вздрогнула палуба — из обоих аппаратов вышли торпеды. Стрелка пущенного мною секундомера едва успела пройти двадцать седьмое деление, как мостик транспорта скрылся за высоким столбом черного, как уголь, дыма, смешанного с серыми клубами пара. Переломившись пополам, пароход пошел в свой последний путь — на дно Баренцева моря.
Осколки снарядов бьют по бронированному козырьку пулемета. Ложимся на курс отхода. Проскакивая на бешеной скорости сквозь наставленные повсюду дымзавесы, мы беспрерывно натыкаемся на вражеские сторожевые корабли и шнелльботы и вступаем с ними в короткие артиллерийские схватки. Наконец удалось выйти на чистую воду. Надо разобраться в обстановке.
На моем флагманском торпедном катере осколком снаряда смертельно ранен в голову радист — пожилой уже, призванный из запаса, имеющий двух детей, старшина 1-й статьи Тертычный. Около него безуспешно хлопочут Александр Ильич Зонин (мужественный и бесстрашный советский писатель, бывший в то время на Северном флоте военным корреспондентом) и помощник командира катера — молоденький белоголовый лейтенант Владимир Барбашов. Владимир сам ранен. Все, кто держится на ногах, обслуживают механизмы, устраняют многочисленные, но, к счастью, не очень серьезные повреждения.
Я все же старался и во время атаки держать в памяти общую картину боя. Из радиопереговоров знал, что между катерами старших лейтенантов Лихоманова, Чепелкина и наконец-то дорвавшегося до настоящей схватки Бочкарева и несколькими кораблями противника идет жестокая борьба. Катера вышли в голову конвоя, но попали под губительный огонь двух эсминцев, охранявших большой транспорт. Бочкарев скрылся за дымзавесу, а через несколько десятков секунд вновь из нее выскочил и удачным торпедным выстрелом оторвал эсминцу полубак. Корабль немедленно перевернулся и быстро пошел ко дну — Бочкарев считал себя отомщенным! Лихоманов вступил в тяжелый поединок с другим эсминцем и одержал победу. Используя благоприятную обстановку, Чепелкин атаковал транспорт с короткой дистанции и тоже потопил его.
Катер лейтенанта Ивана Никитина был сильно поврежден, среди команды имелись убитые и раненые. Но ему удалось завершить атаку и потопить сторожевой корабль. На отходе, отбиваясь от преследования шнелльботов, катер временно потерял ход, но сумел ликвидировать повреждение и успешно выйти из боя. Находившийся на этом же катере наш парторг Константин Никитин сделал перевязки нескольким раненым, а потом стал к мотору, заменив тяжелораненого старшину.
ОДИССЕЯ ВИТАЛИЯ ЮРЧЕНКО
Лейтенант Виталий Юрченко не растерялся, когда атаковал танкер, шедший в хвосте конвоя, но промахнулся.
Такой команды, наверное, добрую сотню лет не слышали на морях, но Юрченко приказал:
— Идем на абордаж!.. Абордажной группе на нос!..
На корабле понимали командира с полуслова.
Катер лихо подскочил к танкеру, несколькими пулеметными очередями принудил его остановиться и высадил абордажную партию. Гитлеровцы разбежались по судовым помещениям и заперлись в них. Забрав документы из штурманской рубки, моряки заложили в машинное отделение несколько подрывных патронов, подожгли фитиль и быстро отошли.
Обо всем этом необычном событии Юрченко периодически взволнованным голосом докладывал по радиотелефону. Вот он восторженно воскликнул:
— Взорвался! Ох и красиво взорвался! — И далее, уже деловито: — Имею одну торпеду, что делать?
Увлекшись охотой за танкером, Юрченко оторвался от нас, потерял ориентировку и поэтому не мог сообщить свои координаты.
Даю ему указание: следовать в южном направлении, искать и атаковать корабли конвоя.
Район боя был так сильно задымлен, что определить, где свои, где чужие, да еще в условиях интенсивно ведущегося всеми кораблями артиллерийского огня, было чрезвычайно сложно. Прорезав несколько дымовых завес, Юрченко обнаружил один из уцелевших транспортов и ринулся на него в атаку.
Неожиданно из дыма вынырнул вражеский сторожевик и почти в упор дал по катеру несколько пушечных выстрелов. Катер резко сбавил ход, но успел подвернуть на боевой курс и выпустил в своего противника торпеду. Через несколько секунд сторожевик взорвался и начал тонуть. Но и наш катер оказался в безнадежном положении. Снарядом ему оторвало часть кормы, и в образовавшуюся огромную пробоину неудержимо хлестала вода. А к катеру шли еще четыре немецких шнелльбота.
В эфире прозвучали последние слова Виталия:
— Расстреливают в упор! Прощайте, това…
Командую:
— Всем катерам и истребителям искать Юрченко и оказать ему помощь…
Проходит полчаса. Час. Все попытки спасти попавшего в беду товарища оказались безуспешными. С тяжелым сердцем подчинились мы приказу комбрига о возвращении в базу…
Вся группа, отбиваясь от назойливо преследующих нас сторожевиков и «охотников» противника, начала общий отход в восточном направлении. Береговые посты ПВО предупредили: в воздухе появилась большая группа истребителей врага, следующих в район нашего местонахождения. Очевидно, немцы задумали атаковать нас с воздуха и отомстить за разгромленный конвой.
Проскочив несколько миль, мы вышли в среднюю часть Варангер-фьорда. Облачность рассеялась, и в ясно-голубом небе видим около трех десятков самолетов, кружащихся на разных высотах. Это наши верные друзья-летчики вели бой с немецкими истребителями, не допуская их к катерам.
Ожесточенная схватка продолжалась минут пятнадцать. Вражеские самолеты ушли. Мы продолжали свой путь и вскоре возвратились в базу…
На войне счастье победы редко бывает безоблачным. Так было и на этот раз. Мы потеряли несколько человек убитых и раненых, а также катер лейтенанта Виталия Деомидовича Юрченко со всем его экипажем. Я очень переживал эту тяжелую для нас утрату и с горькой душой принял поздравления командующего флотом, комбрига и своих сослуживцев с боевым успехом и представлением нас к новым наградам.
Но оказалось, что Виталий Юрченко не погиб.
Правда, мы узнали об этом много позднее описанных здесь событий.
Часть экипажа погибшего катера, в том числе и сам Юрченко, раненные, были подняты из воды и отправлены в лагерь военнопленных вблизи Киркенеса. Там их держали недолго. Едва у наших товарищей поджили раны, их немедленно переправили в лагерь, находившийся около Тромсе. Мне пришлось в 1930 году во время плавания на парусно-паровом судне «Ломоносов» несколько раз побывать в этом заполярном портовом городке, расположенном на небольшом острове в Бальс-фьорде. Тогда в Тромсе находилась база, где снаряжались научные экспедиции, норвежские и международные, отправляемые в Арктику. Когда-то здесь начал свой долгий трудовой путь и парусник «Ломоносов», построенный в 1867 году и ранее называвшийся «Эклипс». На этом корабле знаменитый полярный исследователь норвежский ученый и моряк Отто Свердруп в 1914 году во главе русской экспедиции отправился к берегам Таймыра на поиски пропавшей экспедиции В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова. Тот же отважный Свердруп в 1920 году на советском ледоколе «Святогор» принимал участие в освобождении из льдов ледокольного парохода «Соловей Будимирович», унесенного из Чешской губы в Карское море.
Ровно за два года до нашего пребывания в порту Тромсе, 18 июня 1928 года, отсюда отправился в свой последний полет на самолете «Латам» другой бесстрашный и благородный полярник Руал Амундсен. Узнав о катастрофе дирижабля «Италия», на котором Умберто Нобиле решил самостоятельно «завоевать» Северный полюс, Амундсен бросает все и летит выручать своего соперника. Амундсен героически погиб. Я помню, с какой трогательной любовью и нежностью показывали нам норвежцы моторный катер «Тото», доставивший Амундсена на борт гидросамолета, ожидавшего его тогда на середине фьорда. А через несколько лет известный норвежский поэт Нурдаль Григ напишет в память Амундсена стихотворение: «Что смерть! Самозабвенный путь во веки веков не позабудем. Герой погиб, летя сквозь шторм на помощь погибавшим людям…»
К советским морякам простые норвежцы всегда проявляли радушие и теплое гостеприимство, имеющее к тому же и исторические корни. Ведь еще в XIX веке много русских людей в поисках лучшей доли переселились в Норвегию с Мурманского побережья и нашли здесь свою вторую родину. С одним из таких «онорвежившихся» русских судьба свела в гитлеровском концлагере Виталия Юрченко. Оправившись от ран, этот мужественный офицер вместе со своим новым другом совершил дерзкий побег из лагеря. За несколько дней, прячась от гитлеровцев, беглецы совершили тяжелый переход через Скандинавские горы и попали в Швецию, а оттуда с помощью советского посольства Юрченко возвратился на Родину.
Я представил Юрченко к правительственной награде. И вскоре на его груди засверкал новый орден Красного Знамени.
КУРС — НА ЛИИНАХАМАРИ
Наступила пора нанести решительное поражение врагу в Заполярье — на суше, на море и в воздухе. Перед нами также стояла благородная задача — выполнить наш интернациональный долг и помочь норвежскому народу сбросить наконец ненавистное гитлеровское иго.
Еще в дни четвертой годовщины оккупации Норвегии гитлеровскими войсками, секретарь партбюро старший лейтенант Никитин предложил мне провести беседу с личным составом. Я с удовольствием согласился. О Норвегии, в нескольких портовых городах которой мне довелось побывать в дни своей молодости, у меня сохранились самые теплые и светлые воспоминания. Меня, как и всех советских людей, чрезвычайно тревожила трагическая судьба этой маленькой страны, населенной мужественным и гордым народом.
Гитлеровцы истребляли лучших представителей норвежского народа, прежде всего коммунистов и прогрессивно настроенную интеллигенцию. Нам было хорошо известно о том, что от подлой руки фашистов погибли секретари Центрального Комитета Коммунистической партии Норвегии товарищи Хенри В. Кристиансен, Оттар Ли, член ЦК и видный профсоюзный деятель Вигго Констеен, руководитель 40-тысячной забастовки рабочих в 1941 году в Осло Рольф Викстрем, председатель Норвежского Коммунистического Союза молодежи Арно Гаусло, ректор университета в Осло профессор Сейп, профессора Бреггер, Шрейнер, Мор, Френсис Булль, Фреде Кастберг и многие, многие другие патриоты. В Норвегии было создано 16 концентрационных лагерей, в которых томились сотни тысяч норвежцев.
Движение Сопротивления, возглавленное Коммунистической партией Норвегии, охватило всю страну. Более 50 тысяч честных свободолюбивых норвежцев объединились в партизанские отряды и превратились в подлинных народных мстителей, наводя ужас на проклятых чужеземцев. Бок о бок с партизанскими отрядами «Йеммефронт» и другими тяжелую борьбу с оккупантами вел и отряд бежавших из лагерей советских военнопленных под командованием В. А. Андреева. Более 10 тысяч патриотов пали в жестокой неравной борьбе, но дух норвежского народа не был сломлен.
Чувства норвежского народа прекрасно выразил его замечательный поэт Нурдаль Григ: «Мы будем биться, мы завоюем святое право дышать, — норвежцы объединятся в одном дыханье опять. Ведь мы оставили там, на юге, несчастных братьев своих, мы дали слово вернуться, из рабства вызволить их. Мы будем помнить мертвых героев, служивших нашей стране, — вмерзшего в снег солдата, матроса на бурной волне. Нас там немного — каждый из павших друг или брат родной. Мы мертвых возьмем с собою, когда вернемся домой…»
И вот час освобождения дружественной нам Норвегии настал.
Ставкой Верховного Главнокомандования в октябре 1944 года было решено провести наступательную операцию с целью разгрома гитлеровских войск в Заполярье. В частности, Карельский фронт и Северный флот должны были овладеть исконно русским районом Печенги и норвежским городом Киркенес. Предусматривалось прорвать оборону противника на горном хребте Муста-Тунтури с одновременной высадкой во фланг и тыл противнику морских десантов.
Наша бригада, продолжавшая активные боевые действия на вражеских коммуникациях, должна была также принять активное участие и в этой операции. Мы начали к ней серьезную подготовку еще в сентябре. В укромных бухточках Кольского залива бойцы морской пехоты напряженно тренировались в быстроте посадки на катера, а главное, в стремительной высадке на необорудованное морское побережье. Высадка требовала большой осмотрительности и искусного управления маневром со стороны командиров катеров. Ведь надо было не только подойти к изрезанному острыми гранитными скалами берегу и не пробить хрупкий деревянный корпус катера, но и высадить десантников сухими, чтобы они могли воевать на берегу с полным запасом сил. В совместных тренировках окрепла солдатская дружба между нашими моряками и десантниками.
Случались и горькие неудачи. За несколько дней до начала операции я получил приказание перебросить с одного из участков побережья роту солдат, предназначенную для усиления частей, готовящихся к прорыву на Муста-Тунтури. Переход морем для скрытности совершался ночью. Луна еще не всходила, видимость была ограниченная, а свежий холодный ветер и беспрерывно хлеставшая в глаза встречная волна еще больше затрудняли наблюдение. Мы шли вдоль северного побережья Рыбачьего, имея на каждом катере по взводу пехоты с оружием и боеприпасами. Вдруг где-то за кормой раздался сильный взрыв и показался на короткое время сноп огня. Оказалось, что катер, шедший третьим в строю, наскочил на плавающую мину и ему оторвало кормовую часть. Пять человек из состава команды и десантников были убиты. Остальных нам удалось спасти — их принял к себе на борт катер лейтенанта Володько.
Высадка первого десанта в составе 63-й бригады морской пехоты была назначена в ночь на 10 октября. Было создано три десантных отряда: первый — дивизион «малых охотников» под командованием капитана 3 ранга Сергея Зюзина, второй — дивизион «больших охотников» капитана 3 ранга Н. И. Грицука и третий — дивизион торпедных катеров — возглавил я.
Быстро и организованно погрузили десантников, и около 22 часов 9 октября с небольшими временными интервалами все три отряда вышли из бухты. Казалось, все меры скрытности были приняты. Но и враг был настороже. Едва мы подошли к мысу Земляному, как катера оказались в лучах прожектора, расположенного у входа в Печенгский залив. И сразу же — разрывы осветительных, а за ними фугасных снарядов и шрапнели. Вспыхнули и другие прожекторы. Наши береговые артиллеристы с полуострова Средний начали «гасить» их. Тем временем катера, прикрываясь дымзавесами, на полном ходу устремились к месту высадки в залив Маатти-вуоно.
Моряки, стоя по грудь в ледяной воде, поддерживали трапы, по которым высаживались на берег десантники. К часу ночи 63-я Краснознаменная бригада морской пехоты была высажена почти без потерь. Гитлеровцы оказались застигнутыми врасплох.
В ту же ночь группа «малых охотников» под командованием старшего лейтенанта Бориса Ляха, подойдя к берегу восточнее входа в Печенгский залив, высадила разведывательные отряды капитана И. П. Барченко-Емельянова и старшего лейтенанта В. Н. Леонова. Они вышли к мысу Крестовому и в жестокой рукопашной схватке овладели артиллерийской батареей. Было устранено главное препятствие на пути десанта, который должен был прорываться непосредственно в порт Лиинахамари.
В ночь на 13 октября под шквальным огнем вражеских батарей торпедные катера под командованием Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Александра Шебалина, капитана 3 ранга С. Г. Коршуновича и «малые охотники» капитана 3 ранга С. Д. Зюзина ворвались в порт Лиинахамари и высадили там десант морской пехоты. После упорного боя десантники к утру овладели портом и городом. Мои катера вначале несли дозор на подходах к Печенгскому заливу, чтобы не допустить к району высадки вражеские корабли, а потом высаживали роту морской пехоты на входные мысы Печенгского залива. Здесь нужно было захватить береговые батареи.
Могу сказать одно: мы не подвели. И гитлеровцев не пропустили, и десант высадили…
«АТАКИ ЯРОСТНЫЕ ТЕ…»
Но главным полем нашей, моряцкой, битвы оставалось море.
Прекрасное песенное море. Горящее море…
Приказ был дан накануне высадки в Лиинахамари — 12 октября: «Выйти к норвежским берегам. Произвести поиск и уничтожение конвоя противника, обнаруженного днем воздушной разведкой. Предположительно конвой идет в Киркенес».
Была темная безлунная ночь, и только в мерцавших разноцветных сполохах просвечивали мрачные вершины скалистых островов Варде.
Бороздим море. Проходит час, другой… Конвой, как в воду канул. Совместно с нами в поиске участвует самолет-разведчик. Он должен при обнаружении противника, по моему сигналу сбросить над ним осветительные бомбы, чтобы показать нам корабли и создать благоприятные условия для атаки. Обмениваюсь с летчиком короткими репликами по радиотелефону. Но и с самолета тоже ничего не видно. Так прошло около двух часов. Вдруг из динамика радостный крик:
— Вижу конвой! Под берегом! Светить или не светить?
Но где точно этот конвой находится? Как рассчитать до него дистанцию? Каким курсом идти на сближение? Когда давать сигнал на подсветку? Десятки неизвестных «составных». Командую:
— Ждать. Уточнить и донести место конвоя!
Приказываю сбавить ход катерам. Перестраиваю их в строй фронта и медленно двигаюсь в сторону предполагаемого противника. В составе поисково-ударной группы — катер, имеющий радиолокационную станцию с индикатором кругового обзора, но командир его, старший лейтенант Косовнин, на мой запрос ответил, что, кроме береговой черты, он ничего не видит. Летчик же периодически сообщал, что видит конвой, но места его дать не может, и вновь запросил: «Светить или нет?..» Решив, что уже пора, я дал команду:
— Сбросить САБы! (САБ — светящаяся авиабомба).
И вдруг над нашими головами вспыхивает целое море огней. Оказалось, что летчик вместо конвоя «обнаружил» нас и нас же осветил! Чертыхнулся я, отправил самолет на аэродром и продолжал поиск самостоятельно.
Но на этом наши злоключения не кончились. Наоборот, они только начались. Через некоторое время правофланговый катер старшего лейтенанта Ганкина в свете полярного сияния обнаружил прибрежную остроконечную скалу и, приняв ее за корабль противника, не разобравшись в обстановке, решил… атаковать. Через полминуты мы услышали два взрыва торпед, но — увы! — они попали не в воображаемый сторожевик, а в камни! Какой конфуз! Командир бригады, находясь на своем командном пункте на высоте 200, слышал все наши радиопереговоры, очевидно, не все понял, но, вероятно, был недоволен нашими действиями, потому что я услышал его сердитый голос:
— Что у вас там за мышиная возня?
Не помню уж, какой я дал ответ, но обозлился страшно. Представил, как будут над нами потешаться в базе…
Продолжаем поиск. Теперь мы уже повернули на юг и идем вдоль берега. Наконец-то! С катера Косовнина радиолокатором обнаружен действительно конвой. Проверив несколько раз данные наблюдения, Косовнин донес, что курсом 220 градусов строем кильватер идут три крупные цели; мористее их двумя группами следуют корабли охранения, а еще две группы малых целей находятся впереди строя и в направлении берега. Таким образом мы оказались между берегом и конвоем, в положении, откуда противник никак не ждал нападения.
Чтобы уменьшить буруны и не дать себя преждевременно обнаружить, я приказал дать самый малый ход и пошел на сближение с врагом.
Вот он: три транспорта силуэтами смутно вырисовываются на фоне неба. Быстро распределяю цели, даю сигнал атаки. Мой катер летит на идущий головным большой двухтрубный пароход.
Противник заметил нас только тогда, когда мы подошли к позиции залпа. В воздух взвилось несколько зеленых ракет. Они осветили всю неприятельскую армаду и три моих катера. А навстречу нам идет уже стена огня.
— Аппараты товсь!
И через мгновение:
— Залп!
Катер сотрясает толчок: торпеды вышли. Слева от меня два других катера, тоже дав торпедные залпы, легли на курс отхода, ведя артиллерийский бой с кораблями охранения.
Едва я успел сделать отворот после залпа, как был атакован тремя кораблями, открывшими жестокий огонь. Катер сразу же получил несколько попаданий. Появились раненые. К счастью, двигатели уцелели, и это дало нам возможность быстро маневрировать.
Береговые гитлеровские батареи бьют осветительными снарядами, облегчая преследование нас кораблям охранения. Все пространство вокруг пронизывается разноцветными трассами, и кажется, что каждая из них идет прямо на тебя.
Мир проваливается в преисподнюю, и среди всего этого хаоса вдруг один за другим раздались несколько мощных взрывов, в воздух поднялись гигантские столбы пламени, обрамленные облаками черного дыма. Это взрывались пораженные нашими торпедами неприятельские транспорты.
Быстроходные гитлеровские корабли преследуют нас.
Цель их очевидна: прижать к берегу, отрезать путь отхода.
Град осколков бьет по палубе.
У турели вскрикнул раненый матрос Першин. Пулемет на мгновение замолчал. Тревожно оглядываюсь. Но вот уже через несколько секунд матрос, превозмогая боль и не обращая внимания на бьющую фонтаном из ноги кровь, возобновил огонь по противнику.
Докладывают, что в моторном отсеке смертельно ранены старший матрос Кормич и старшина 1-й статьи Войнаровский. Получил ранение и находившийся в рубке дивизионный штурман старший лейтенант Александр Мотрохов.
Даже тяжелораненые остаются на своих постах.
Особенно больно, что погиб Войнаровский, честнейший старшина, прекрасный человек и специалист… Раньше он работал в базовых судоремонтных мастерских, но сам попросился перевести его на катер.
Но нет времени оплакивать погибших друзей. Надо думать о катере, о судьбе его экипажа. Корабль получил еще несколько повреждений, но не потерял хода. Отходить к берегу дальше нельзя — вблизи обозначенные на карте подводные и надводные скалы. Решаю идти прямо в океан, прорываться сквозь строй противника. Другого выхода не вижу.
— Самый полный!
Резко меняю курсы, периодически сбрасываю в воду дым-шашки.
Все! Прорвались!..
Через полчаса устанавливаю радиосвязь с двумя другими катерами, и, собравшись вместе, мы направились в базу.
К нашему боевому счету прибавилось три вражеских транспорта. В ту же ночь другая группа наших катеров под командованием капитана 3 ранга Василия Федорова потопила два сторожевика противника. Через неделю немецко-фашистские захватчики потеряли от наших торпедных ударов еще пять кораблей…
Тридцать пять лет прошло. А я все еще не могу забыть эти обагренные кровью корабельные палубы. Да и никогда не забуду.
И. Гайдаенко ПОЛГРАДУСА Рассказ
Он много избороздил морских дорог, плавал на многих судах, и всюду, где бы он ни служил, о нем отзывались, как о самом исправном, о самом смышленом и храбром матросе. Когда он стоял на руле, за кормой судна кильватерный след всегда был ровным, как линейка. Нужно было в штормовую погоду отремонтировать на верхушке мачты клотиковый фонарь, наладить порванную ветром антенну, поправить фал — туда отправлялся Василий Петрович.
Знают Василия и в торговом, и в военном флоте, знают его и на берегу. Знают «Василия-сигнала» и в морской пехоте как матроса с широкой душой и горячим сердцем. Кто не знает его по имени, тот, наверное, знает его в лицо. Кто забыл о нем, тот вспомнит его сейчас, кто никогда не встречался с ним, тот, вероятно, слышал о нем от товарищей.
С первых дней войны Василий Петрович плавал на «Дагестане», был ранен и лежал в госпитале. Оттуда он добровольно пошел в бригаду морской пехоты и защищал Одессу. Позже его встречали под Севастополем и в Новороссийске. На его теле прибавилось рубцов и шрамов, но по-прежнему не было ни одной татуировки. Привыкший к зыбкой палубе, он и на берегу ходил вразвалку, чуть покачиваясь, но никогда не держал в зубах заморскую трубку, отдавая предпочтение мундштучным папиросам.
Еще много раз после Одессы лежал он в госпитале, и много медсестер осторожно брали его холодные руки и, вздыхая, считали удары сердца. Сколько раз он знакомился с врачами после того, как врачи уже хорошо были знакомы с ним. И каждое первое его знакомство начиналось всегда с вопроса: «Смогу ли я теперь плавать?»
Кто любил море с берега, тот не понимал зова морской души и отвечал ласково:
— Постараемся, голубчик, только полежи спокойно, иначе ты и ходить не сможешь, не то что плавать.
Это обжигало матросское сердце.
А кто из людей в белых халатах знал, о чем думает моряк, понимал, что его мысли витают где-то над морем, над родной стихией, тот отвечал грубовато, как мог ответить добрый старый боцман:
— Ну что ты, дружище, плавать… Ты еще летать сможешь. У тебя сердце, как пароходный винт, молотит, а нервы — что якорная цепь. Выдержишь.
Василий открывал глаза, улыбка радости появлялась на его пересохших губах. Эти слова придавали ему силы, лечили раны лучше всяких лекарств.
Он выдержал. Из последнего госпиталя Василия Петровича демобилизовали, и первый день мира он встретил в отделе кадров Черноморского пароходства, где ему была известна каждая дверная ручка, знакомо каждое слово. А люди — близкие, родные люди! Он всех их помнил, словно расстался с ними вчера. И они помнили его, приветливо ему улыбались, поздравляли, расспрашивали о планах, о судьбах других моряков. Много было радости в тот день, но немало услышал Василий и печальных вестей.
В тот памятный день он встретил многих друзей, слыша от них одно и то же счастливое восклицание:
— Василий!.. Жив… А мне говорили…
Мало ли что говорили в те суровые годы. Но сколько раз слухи опровергала жизнь, сколько раз она оказывалась сильнее смерти и побеждала!
— А где Иван Еремеев? — спрашивал Василий своих товарищей.
— Служит на эсминце, гвардеец, два ордена получил, — рассказывали друзья.
— А что с Афанасием Саввичем?
Матросы мрачнели, отводили глаза в сторону, они не хотели произносить горькое слово в первый счастливый день мира. Они молчали. И это молчание было красноречивее слов.
На другой день Василий Петрович получил назначение на судно. В путевке отдела кадров предписывалось: «Капитану парохода «Брянск» И. И. Рябинину. В Ваше распоряжение направляется такой-то в качестве матроса первого класса». После всех военных лет эта бумажка являлась для него путевкой в трудовые мирные будни.
Он шел по Приморскому бульвару и видел, как качаются тени каштановых листьев, как машут ему пестрые головки цветков, и солнечные блики, отраженные гладью бухты, играют на бортах кораблей. Он глядел, глядел на синюю даль родного моря, на ровную линию горизонта, на желтые берега.
— Скоро, скоро, — шептал он. Ему хотелось протянуть руку с развернутой путевкой в сторону моря и сказать: «Не веришь встрече — смотри!»
Всякие бывают люди в белых халатах. Порой они спасают человеку жизнь, заботятся о его здоровье и лечат его сердце, не понимая, что лучшее лекарство для сердца моряка — море, осуществление его заветной мечты. Они не знают, что от разлуки нет препаратов, кроме встречи, они не всегда понимают широкую морскую душу.
Не понял и хирург. Он долго осматривал Василия, ощупывал рубцы шрамов, советовался с другими врачами и написал в медицинском свидетельстве: «Необходима операция».
— Что вы смотрите на кости, доктор, — упрекал его матрос, — смотрите на сердце, здоровое ведь. Я воевал в таком состоянии.
— Молодой человек, — отвечал ему врач, — теперь война закончилась, и наш долг вас капитально отремонтировать.
— Дорогой доктор, — не унимался Василий, — уверяю вас: я не нуждаюсь даже в текущем ремонте! У меня столько сил! Давайте я вас обниму — почувствуете.
У Василия еще болела правая ключица, но он широко развел свои крепкие руки, собираясь заключить медика в объятия.
— Молодой человек! — строго воскликнул хирург, останавливая рукой Василия Петровича.
Матрос ушел, не попрощавшись с врачом. Он шел задумчивый и грустный. А море сверкало серебряной рябью, оно звало его на свои просторы, манило, и Василий боялся взглянуть на него. Только поднявшись по трапу на судно и увидев вокруг прозрачную звонкую воду, он услышал, что море тоже радуется встрече с ним. Оно будто говорило ему. «Ну, вот и встретились, и никто нас больше не разлучит».
Матрос не явился к капитану. Он отыскал судового врача. «Этот поймет», — подумал Василий и рассказал ему о своих путях-дорогах. Доктор выслушал, положил медицинское свидетельство в папку и спрятал его в шкаф. Василию показалось, что судовой медик закрыл в шкаф не бумажку, а самую разлуку, забрал и закрыл то, что угнетало его, стояло преградой на его пути.
— Я понимаю вас, — сказал врач, подавая ему руку, — ничего страшного. Поплаваем — увидим.
— Спасибо, доктор! — горячо поблагодарил матрос, с силой пожимая руку врача.
Повернувшись, он привычно побежал по трапу наверх, дробно стуча о звонкие железные ступеньки.
Через несколько дней «Брянск» уходил в далекий рейс. На верхнем открытом мостике у штурвала стоял Василий. Он часто поглядывал на берег. На причале среди провожающих была и его Алена. Рядом с ней, держась за руку матери, стояла белокурая, кудрявая Оксана. Она не переставая помахивала ручонкой, а ее пытливые глазки не знали, на чем остановиться, столько здесь было для них неизвестного, интересного. Свежий игривый зюйд-вест шевелил волосы Алены и развевал в ее руках голубой платок, с которым в какой уже раз она провожает мужа. Когда Алена встречалась взглядом с Василием, она слегка кивала ему головой, шевелила губами, и на ее добром, задумчивом лице рождалась счастливая улыбка.
«Брянск» развернулся и плавно пошел к маячным воротам. Матрос не мог больше видеть ни замедленных взмахов руки своей дочери, ни голубого платка жены. А Алена и Оксана все стояли на краю причала и глядели на широкую корму корабля, на белый пенистый след, на красный, развернутый ветром флаг.
Вскоре скрылись родные берега. Сердца, встревоженные расставанием, успокоились и стали ждать далекой встречи. Началась строго размеренная судовая жизнь — вахты, занятия, отдых.
Как и прежде, каждые сутки Василий должен был стоять две четырехчасовые вахты на руле, а судно — по-прежнему повиноваться его умелым рукам.
На первой же вахте, при приеме штурвала из рук сменяемого матроса, Василий заметил по картушке компаса, что судно отклонилось на полградуса влево. Он быстро переложил руль вправо и поставил судно на заданный курс. Вахтенный штурман, заметив, что корабль рыскнул вправо, спросил матроса:
— Сколько вы держите?
— Сорок три градуса, — ответил рулевой. Такой же курс держал и его предшественник.
— А сейчас сколько?
— Сорок три, — повторил Василий.
Помощник взглянул на кильватерную линию. Она вдали шла ровной и вдруг чуть повернула вправо и снова потянулась ровно, под линейку. «В чем же дело? — спросил себя штурман. — Судно взяло правее, а курс рулевой держит верно».
— Точно сорок три? — еще раз переспросил он Василия.
— Точно сорок три, — четко повторил рулевой.
Вахтенный непонимающе повел плечами. «Может быть, сменившийся рулевой держал неверно», — подумал он. С этой мыслью он взобрался на верхний мостик, чтобы проверить курс по главному компасу.
Штурман знал, что разница показаний между путевым и главным компасом плюс два градуса. «Если рулевой держит сорок три, — подумал помощник, — значит, на главном компасе сорок пять градусов». Каково же было его недоумение, когда он увидел, что курсовая черта главного компаса стоит не на сорока пяти, а на сорока пяти с половиной.
— Как сейчас? — резко спросил по переговорной трубе штурман.
— На курсе, — спокойно ответил Василий.
— Что вы мне очки втираете! — крикнул помощник. — Сколько сейчас?
Помощник был молодой, и, может быть, поэтому в нем не было еще морского спокойствия и выдержки, присущих бывалым морякам.
— Сорок три! — невозмутимо ответил Василий, хотя его лицо стало красным, и он почувствовал, что ему жарко.
— Научитесь считать! — уже спокойнее сказал помощник. — Возьмите полградуса влево!
— Есть, пол влево! — приглушенно повторил команду рулевой и повернул штурвал. Василий дрожал от незаслуженной обиды, а сердце билось учащенно, громко.
— Так держать! — послышался голос штурмана.
— Есть, сорок два с половиной! — доложил рулевой новое показание путевого компаса.
— Как сорок два?! — опять загорячился штурман.
Главный компас теперь показывал сорок пять градусов, а путевой сорок два с половиной. Поправка равнялась плюс два с половиной.
— Не может быть! — злился штурман. — Черт знает что… Так держать!
— Есть, так держать!
Постояв несколько минут над главным компасом, помощник спустился на ходовой мостик и сам взглянул на картушку путевого компаса. Убедившись, что там действительно сорок два с половиной, он в недоумении выругался:
— Фу-ты, какая чертовщина!
Наступило долгое молчание. Штурман расхаживал по мостику и, вглядываясь в тихое море, раздумывал: «Полградуса — погрешность небольшая, на 120 миль она может дать одну милю отклонения, но время-то сейчас какое? Судам приходится ходить узкими фарватерами, где полградуса играют значительную роль. При такой погрешности рулевой за один час может отклониться на 150 метров от курса». Штурман ходил по мостику, высчитывая отклонения, а Василий, хотя и таил в себе обиду, но все же искал причину неувязки с курсом. «Может быть, мне передали курс сорок два с половиной, а я плохо расслышал, — думал он, — а может, я забыл и перепутал что-нибудь? Ведь целых три года не стоял на руле».
— Вы где-нибудь плавали рулевым? — обратился к матросу штурман.
Василию очень хотелось оборвать помощника, который без году неделю плавает, а задает ему, Василию-сигналу, выросшему на море, такие унизительные вопросы, но он сдержался.
— Немножко приходилось, — с колкой усмешкой проговорил матрос.
Отстояв свой первый час у штурвала, Василий был сменен напарником по вахте. Сдавая ему рулевое управление, Василий Петрович сообщил курс.
— Сорок два с половиной! — сказал он и отошел в сторону.
— Есть! — повторил напарник курс и, взглянув на компас, спохватился: — Как сорок два с половиной? Ты же держишь сорок три?
Вахтенный помощник обернулся, с укором поглядел на Василия. «Запутался, а чтобы не ударить лицом в грязь — меня обманул», — подумал штурман.
— Вы, наверное, считаете по-дедовски, на руках у вас пальцев не хватило, а ботинки сбрасывать неудобно, и меня с толку сбили.
Василий покраснел и ушел с мостика на палубу.
Через час он вернулся к штурвалу и опять заметил, что судно мгновенно рыскнуло на полградуса влево и остановилось. «А может быть, это компасная картушка рыскает, а не судно?» — Подумал Василий и стал обыскивать себя — нет ли при нем чего-нибудь железного. Но в карманах никаких металлических вещей не было. «А может, у меня после контузии с глазами что-то неладное случилось?» — мысленно спросил себя рулевой. Он вспомнил свое медицинское свидетельство, там было написано: «Зрение в норме».
Не восстанавливая судно на сорок третий градус, он держал его на сорок втором с половиной. Прошло полчаса. Помощник опять поднялся на верхний мостик и проверил курс.
— Как сейчас? — спросил он рулевого.
Василий немного замялся. Ему не хотелось врать, но чтобы не подорвать окончательно свой престиж, он сказал неправду, вернее, не сообщил помощнику того, что видел.
— На курсе сорок три.
— Так держать! — Есть!
Курсовая черта спокойно стояла на сорока двух с половиной, а судно шло прежним заданным курсом.
Сменившись с вахты, матрос не пошел ужинать. Он закрылся в своей каюте и загрустил. «Не слушается меня судно, против меня сам компас. Неужели больше мне не придется плавать?» Он долго не мог уснуть, а в четыре часа утра снова разбудили на вахту, и опять начались неприятности со злополучными градусами.
Василий долго изучал странное явление, по так и не мог определить, кто же в этом виноват — судно, компас или его глаза. Он стал опасаться за свое зрение, предполагая, что оно его подводит.
От переживаний Василий изменился в лице. Он стал замкнутым, ходил угрюмый, задумчивый. Ему очень не хотелось расставаться с морем, но зрение…
Много за рейс менялось курсов, много раз штурманы брали поправку на девиацию, много раз сверяли главный и путевой компасы, а у Василия Петровича ничего не изменялось — у него все время не хватало до заданного курса полградуса. Но он приспособился, каждый раз от принятого курса отбрасывал полградуса, и судно по главному компасу держалось всегда точно на курсе. Только стоящий с ним вахту штурман по-прежнему относился к Василию с недоверием.
Часто с мостика капитан любовался кильватерной линией, которая ровной лентой, без единой извилины тянулась далеко за кормой и скрывалась за горизонтом. Иван Иванович раньше никогда не плавал с Василием, но слыхал о нем много хорошего. «Молодец! — мысленно хвалил его капитан. — Высокий класс мастерства. С таким рулевым погрешностей в курсе не будет». Он иногда подзывал кого-нибудь из матросов и тихо, чтобы не слышал Василий, говорил, показывая на след кильватерной струи:
— Смотрите, учитесь, как нужно держать судно на курсе.
Иван Иванович любил точность и придерживался ее во всем. «Моряк без точности, что судно без руля», — часто говаривал он. Все мореходные инструменты — от хронометра до секундомера — у него всегда были точно выверены. Разность показаний путевого и главного компаса точно определены и зафиксированы в таблице. Девиация регулярно уничтожалась и чаще обычного определялась со скрупулезной точностью.
Прокладывая курсы судна, он старался поточнее брать поправки, учитывая все, что могло в самой незначительной степени влиять на направление движения корабля. И он в любую погоду приводил судно к намеченной на карте точке. Поэтому Иван Иванович радовался, что на «Брянске» появился отличный рулевой, его единомышленник в отношении точности.
Вопреки высокому мнению капитана штурманы были далеко не в восторге от Василия. То, что он вел хорошо судно, этого они не отрицали, но считали его невнимательным во время сдачи и приема вахты. Они имели на это основания.
Полностью осведомленный штурманами о странностях нового рулевого, Иван Иванович решил побеседовать с Василием. Выбрав время, он стал в рулевой рубке рядом с матросом и разговорился с ним по душам. Незаметно поглядывая на картушку компаса, капитан убедился, что рулевой держит курсовую черту на полградуса левее компасного курса.
— А как у вас со зрением, Василий Петрович? — спросил матроса капитан.
Василий вздрогнул. Больше всего он боялся этого вопроса.
— Врачи говорили — нормальное, — неуверенно ответил он.
После разговора с Василием капитан побеседовал с судовым врачом, посмотрел медицинское заключение и, вернувшись на мостик, долго глядел на ровный-ровный кильватерный след, оставляемый судном, он любовался мастерством матроса.
Вечером, когда Василий сменился с вахты и сидел в своей каюте, его вызвали к капитану.
В каюте Ивана Ивановича собрались все штурманы, и это заставило Василия сжаться и ждать приговора.
— Садись, Василий Петрович! — сказал капитан, усаживая матроса рядом с собой.
Все смотрели на рулевого, и в их глазах Василий видел дружескую теплоту.
— Что же ты молчишь, дорогой? — обратился к Василию капитан. — Мучаешься и не знаешь, почему компас врет на полградуса. У тебя же осколки в груди. А железо, как известно, влияет на магнитные стрелки.
Василий молча посмотрел на капитана, и в глазах его вспыхнул огонек радости.
Капитан обратился к штурманам:
— На вахте Василия Петровича учитывайте дополнительную девиацию — остовая полградуса.
— Есть! — ответили штурманы и сдержанно заулыбались.
— А плавать, Василий Петрович, ты будешь, — продолжал капитан, — вернемся из рейса, хирурги уничтожат твою девиацию, и снова в рейс.
От счастья, большого счастья Василию хотелось обнять капитана и штурманов, он почувствовал, как теплые слезы радости заволакивают его глаза, и тихо проговорил:
— Есть!
И выбежал из каюты.
П. Веселов МУЖЕСТВО, ДЕРЗОСТЬ, РАСЧЕТ Очерк
«В ПОМОЩИ НЕ НУЖДАЮСЬ…»
Шел 1943 год. Тральщики «Мина» и «Гарпун» конвоировали транспорт «Интернационал» из Туапсе в Геленджик. Всю ночь краснофлотцы не сходили с боевых постов: конвой входил в опасную зону. Лишь на рассвете командир корабля капитан 3 ранга В. К. Стешенко разрешил перекурить и позавтракать. Да и то прямо на боевых постах.
И вдруг:
— Воздух! Самолеты противника! Правый борт, курсовой тридцать! — громко доложил сигнальщик Кравченко.
Все, как по команде, обернулись в ту сторону, где на фоне громоздившихся облаков показались черные точки. Самолеты легли на боевой курс и, круто пикируя, начали сбрасывать бомбы.
С разных сторон на корабль сваливались «юнкерсы». Грохот стрельбы, вой бомб и рев моторов слились в единый несмолкаемый гул. Тральщик сражался против двадцати семи самолетов!
Стешенко едва успевал изменять курс корабля. На палубу обрушивались массы воды, вздыбленной взрывами. Небо над «Миной» покрылось густыми облачками разрывов. От беспрерывной стрельбы раскалились стволы орудий. Бой разгорался.
Командиру отделения пулеметчиков Семену Чомо осколками бомбы перебило предплечье и кисть правой руки. Она безжизненно повисла, рукав набух от крови. Но Семен не покинул своего поста. Превозмогая боль, он левой рукой навел пулемет, тщательно прицелился и, выпустив длинную очередь по «юнкерсу», потерял сознание. Самолет задымился, перевернулся и рухнул в море.
Моторист Ставничук поднялся на палубу и поспешил на помощь орудийному расчету. По дороге он натолкнулся на смертельно раненного матроса Еременко. Моряк лежал на палубе, устремив глаза вверх. Ставничук наклонился, решив оказать товарищу помощь.
— Флаг… Флаг… — шепнул умирающий Еременко и дрожащей рукой показал в сторону мачты.
Ставничук обернулся… Флага на гафеле не было, и лишь обрывок флага покачивался над прожекторным мостиком. Ставничук бросился на мостик, начал торопливо искать флаг. Флага не было. Ставничук поискал флаг на палубе. Но и здесь его не было. Моторист со всех ног бросился на сигнальный мостик.
В это время над самыми мачтами с ревом пронеслись два «юнкерса», осыпая корабль пулями и снарядами. Но моторист, словно не замечая их, продолжал поиски. Наконец он нашел на сигнальном мостике запасной флаг. Через минуту он взвился над кораблем.
Через несколько мгновений произошло, казалось, самое страшное: бомба пробила палубу и разорвалась внутри корабля. Погас свет в машинном отделении, вышли из строя пулеметы и одна пушка. Корабль перестал слушаться руля. Командир приказал:
— Перейти на ручное управление!
Рулевой Борисенко не мог двигаться, он лежал на палубе с раздробленной ногой и раной в боку. За руль стал секретарь партбюро Стасюк. Корабль вновь получил возможность маневрировать.
Вспыхнул пожар. На борьбу с ним бросились старший лейтенант Сотников и капитан-лейтенант Воронцов. Они прыгнули в клубы едкого дыма и начали шинелями сбивать языки пламени. Но огонь продолжал бушевать. Все пожарное имущество было разметано взрывной волной, пожарный насос бездействовал. Воронцов приказал тушить пожар забортной водой, и в дело пошли кастрюли и бачки с камбуза.
Загорелась переборка радиорубки. Командир отделения радистов Совков бросился к двери, но открыть не смог: ее заклинило при взрыве. Не думая о спасении, Совков отдраил иллюминатор и продолжал налаживать передатчик. А за стеной ревел огонь. Вот уже на железной переборке пузырями вспучилась краска. Совков время от времени подбегал к иллюминатору, жадно втягивал свежий воздух и снова возвращался к передатчику.
Тем временем единственное оставшееся орудие продолжало отбивать яростные атаки врага. Израсходовав весь боезапас и так и не сумев уничтожить советские корабли, фашисты убрались восвояси. Краснофлотцы вместе с капитан-лейтенантом Воронцовым справились с огнем, и над кораблем исчез шлейф дыма.
Но испытания на этом не кончились. Под палубой, в машинном отделении краснофлотцы Фивзиев, Порхачев и Заворотинский боролись за жизнь корабля. Раненные, обессилевшие, по горло в воде, моряки заделывали пробоины в корпусе. В едком дыму, задыхаясь, они на ощупь искали «раны» на теле корабля, на дизелях. Казалось, никакая сила теперь не заставит тральщик жить. Но такая сила нашлась — воля, упорство, высокое боевое мастерство советских моряков.
Видя бедственное положение своего собрата, «Гарпун», шедший по левому борту транспорта, подошел к «Мине» и предложил снять команду.
«В помощи не нуждаюсь, следуйте с транспортом», — передали с «Мины».
Через несколько часов тральщик «Мина» самостоятельно пришел в базу. На гафеле реял боевой флаг корабля, приспущенный до половины в знак траура по погибшим товарищам.
В ЗАПАДНЕ
Уже четверо суток «малютка» М-171 бороздит вражеские воды.. Безрезультатно. Наконец ночью поступила радиограмма командования: в порт Лиинахамари прошли два транспорта противника.
Командир лодки старший лейтенант В. Г. Стариков внимательно рассматривает карту. Вот тут, зажатая между крутыми заснеженными скалами фьорда Петсамовуоно, пролегает главная коммуникационная линия, ведущая в этот порт. Стариков принимает решение прорваться в Лиинахамари и там атаковать противника.
Подводная лодка крадучись, медленно углубилась в фьорд. Она беззвучно скользила между скалистыми берегами узкого, извилистого залива, защищенного с обеих сторон батареями и сигнально-наблюдательными постами. Прошел час. За ним еще полчаса. Лодка всплыла на перископную глубину. Словно электрическим током пронизала всех команда:
— Аппараты, товсь!
У причала стояли два судна — пассажирское и грузовое.
Лодка легла на боевой курс.
— Первый, пли! — И несколько секунд спустя: — Второй, пли!
Два сильных толчка. Это одна за другой вышли торпеды. Белые пенные следы стремительно и неумолимо неслись к транспортам.
— Право на борт, средний ход. Погружаться на глубину! — командует Стариков.
Лодка быстро разворачивается и ложится на обратный курс. Томительно тянутся мгновения. Но вот послышались мощные взрывы. Торпеды попали в цель. Теперь нужно ожидать преследования. Но проходят пять… десять… пятнадцать минут, а подводную лодку никто не преследует. В чем же дело?!
Уже на самом выходе из фьорда лодка вдруг с резким дифферентом на корму начала всплывать. И всплыла. Ее заметили фашистские береговые батареи и сторожевые катера. А дифферент достиг 20 градусов. Нос лодки во что-то уперся.
«Попали! — подумал Стариков. — Противолодочная сеть. В ней и запутались носовыми горизонтальными рулями…» Это была западня!
Лодка меняла глубину погружения, давала задний ход, но никак не могла выпутаться из проклятой сети.
Между тем до наступления темноты еще далеко. Запасы сжатого воздуха и электроэнергии иссякают, а где-то совсем рядом рвутся глубинные бомбы. Люди задыхались из-за недостатка кислорода.
Последняя попытка. Лодка снова дает самый полный назад. Сначала очень медленно, затем все быстрее и быстрее растет дифферент на нос. Инженер-механик А. И. Смычков хватает командира за руку и с тревогой напоминает, что дифферент больше увеличивать нельзя, может разлиться электролит аккумуляторов — и произойдет замыкание, возможен взрыв, пожар. Стариков и сам все это отлично понимает, но моторы не останавливает. Корпус лодки дрожит от напряжения.
Нервы у всех натянуты до предела.
Вдруг почувствовался сильный толчок, лодка начала выравниваться. Пузырек дифферентометра побежал к нулевому делению. «Освободились!» — промелькнула радостная мысль у каждого.
Лодка вырвалась из объятия сетей, теперь надо было прорваться сквозь них. И тогда капитан-лейтенант Стариков, собрав офицеров, коротко изложил им свой план действий:
— Я не вижу возможности преодолеть сеть под водой и принял решение попытаться проскочить над сетью. Всплываем в позиционное положение и, используя внезапность нашего появления, неизбежное замешательство противника, открываем артиллерийский огонь по ближайшим кораблям и даем одновременно полный ход вперед. Противник, разумеется, тоже будет вести огонь. Жертвы неизбежны, но во время перестрелки мы успеем миновать сеть и погрузиться. На случай, если не сможем погрузиться и противник попытается захватить нас в плен, вы, Смычков, возьмете гранату и бросите ее в артиллерийский погреб.
Смычков сунул гранату в карман.
— Ваше приказание будет выполнено! — спокойно ответил он.
В это мгновение флагманского штурмана бригады капитан-лейтенанта М. М. Семенова осенила дерзкая мысль.
— А если попытаться проползти «на брюхе» над верхней кромкой сети? Ведь сейчас полная вода.
Снова потекло томительное ожидание. Лодка, как бы на ощупь, крадучись, идет вперед. В центральном посту совсем тихо, слышно тикание судовых часов да шмелиный гул гирокомпаса.
Вдруг почувствовалось легкое касание килем какого-то предмета. Все вздрогнули и впились глазами в дифферентометр. Лодка начала всплывать, как бы слегка подпрыгнув, затем снова выровняла дифферент и продолжала медленно идти.
Прошло десять минут… двадцать… Лодка хорошо держала глубину, слушалась рулей, «Малютка» еще в фьорде, но выход уже был близок. Нет сомнений, что осталась позади сеть, и враг не заметил исчезновения лодки.
И вдруг снова началось преследование. У самого борта раздался страшный грохот. Взрыв! Еще один! Все-таки фашисты обнаружили «беглянку», но здесь уже есть где маневрировать, и, изменив курс и уйдя на глубину, «Малютка» уверенно оторвалась от погони.
ДВОЕ ПРОТИВ ДЕВЯТИ
Дул норд-вест. Свинцово-тяжелые воды Финского залива покрыла ночная мгла. С неба, затянутого низко нависшими тучами, моросил мелкий дождь. Два «малых охотника» находились в дозоре…
— Николай!.. Каплунов!.. Видишь катера?! — прокричал с МО-303 командир дозора старший лейтенант Игорь Чернышев командиру МО-207.
— Вижу!
— Их пропускать на фарватер нельзя. Скоро должен будет пройти наш конвой, а за ним в море будут выходить подводные лодки. Ясно?
— Ясно!
— Стрелять по катерам в упор! В случае чего — тарань! Ты понял?!
— Понял!
Взревели моторы, и «мошки» устремились на противника. Расстояние быстро сокращалось.
— Катера идут в двух кильватерных колоннах! Девять штук! — встревоженно доложил сигнальщик Корольков.
«Вот тебе раз, — мелькнула мысль у Чернышева. — Значит, двое против девяти! А отступать поздно, да и нельзя — позади фарватер!»
— Радист! Передайте: «Вступили в бой с девятью катерами!» Правый борт, курсовой… фугасным орудия зарядить! — скомандовал Чернышев. — Огонь!
Тишину ночи разрушили залпы орудий и треск пулеметов. Первым добился успеха катер Каплунова. Залпы орудий Цимбаленко и Живора попали в борт ближайшего катера врага. Задрав форштевень, он пошел ко дну.
Со всех сторон к МО-207 пунктирами потянулись огненные трассы. Катер Каплунова оказался в огненном кольце. Дав самый полный ход, маневрируя между вздымающимися от снарядов столбами воды и продолжая вести орудийно-пулеметный огонь, катер пошел на таран вражеского корабля, закрывавшего ему выход из кольца.
На мостике у штурвала убит рулевой Алексей Ивченко. Раненный в ноги Трофим Баженов ведет огонь из пулемета. Но силы оставляют его, пулемет замолкает. Заметив это, Алексей Фролов быстро перебегает от своего пулемета к пулемету товарища. Баженов, лежа на палубе, набивает ему пулеметные ленты.
Фашистский катер не выдерживает и отворачивает, но успевает выпустить пушечно-автоматную очередь по мостику МО-207. Каплунов, раненный вторично, падает. Осколки снаряда попадают в телеграф. Моторы начинают работать на разных оборотах. Заметив это, Фролов бросается на мостик и принимает командование катером.
Тем временем МО-303 прорезает строй вражеских кораблей, стреляющих по катеру Каплунова, и открывает по ним шквальный огонь. Фашисты, ошеломленные внезапным нападением, поспешно скрываются в темноте.
Не успевают раненые командиры перекинуться и парой фраз, как вновь с одной стороны появляются пять, а с другой три катера фашистов. Ураганным огнем вражеские катера пытаются вынудить наших свернуть к берегу, под огонь фашистских береговых батарей.
«Надо во что бы то ни стало прорваться и занять место между катерами и фарватером», — решает Чернышев и командует:
— Полный ход! Держать на второй ведомый катер! Таран!
Освещенный вспышками выстрелов, вражеский катер увеличивается буквально на глазах. Отчетливо видны пробоины в его борту и распростертые на палубе тела. Стремительно сокращается расстояние, столкновение неизбежно. В этот момент рявкает носовое орудие, его снаряд вонзается в борт фашистского катера, туда, где находятся топливные цистерны. В воздух взметнулся огненный смерч. МО-303 с ходу врезается в хаос пламени, досок и металла.
Не выдержав губительного огня «морских охотников», уцелевшие фашистские катера отходят под прикрытием дымовой завесы к своему берегу.
Бой закончился. «Охотники» продолжали нести дозор. Вскоре заалел рассвет. Прошел конвой, вышли в море подводные лодки, и никто на них не догадывался, ценой каких усилий и жертв была обеспечена безопасность перехода.
ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ
Утром 26 июня 1941 года на подводной лодке Л-3, которой командовал опытнейший подводник капитан 3 ранга П. Д. Грищенко, была получена радиограмма командования: идти к вражескому порту и выставить там минное заграждение.
На море штиль. В такую погоду легко обнаружить лодку. Перископ, поднятый даже на несколько секунд, оставляет пенистый след — бурун, который далеко виден и с берега, и с катера-«охотника». И тем не менее Л-3 несколько часов ходила у самого порта, изредка поднимая перископ. Нужно было проверить, каким фарватером водят свои суда фашисты. Наконец гидроакустик Дмитрий Жеведь доложил, что слышит шум винтов транспорта.
Грищенко поднял перископ, проследил за курсом транспорта и удовлетворенно улыбнулся: ось фарватера проходила именно там, где Л-3 и собиралась ставить мины. И еще заметил командир, что катера охранения время от времени сбрасывали серии глубинных бомб. Так сказать, для профилактики.
Можно было приступать к выполнению боевого задания. Ровно в 10 утра лодка вышла в заданную точку и легла на боевой курс. Старшина минной группы главстаршина Овчаров доложил в центральный пост, что кормовой отсек готов к минным постановкам.
И тут послышался нарастающий шум винтов, а затем тяжелые шлепки по воде. В следующую секунду раздался сильнейший взрыв, за ним второй, третий, четвертый. Где-то зазвенело разбитое стекло. Погас свет. В лодке стоит лязг и грохот. Казалось, что даже прогибаются листы обшивки, принимая на себя разрушительную силу забортных ударов. Серия глубинных бомб легла совсем рядом.
— Осмотреться в отсеках! — разносят приказание командира переговорные трубы.
Из отсеков докладывают: все в порядке.
— Фашисты проводят контрольное бомбометание, — говорит с усмешкой Грищенко, обращаясь к своему помощнику старшему лейтенанту Коновалову. — Это значит, что мы точно вышли на фарватер и можно приступать к постановке мин. Ритмично защелкали счетчики. После каждой вышедшей за борт мины в центральном посту слышен голос Овчарова: «Первая… вторая… третья…»
— Катера полным ходом идут на лодку, — докладывает акустик Жеведь. Счетчик продолжает отсчет. Прямо по носу Л-3 раздаются четыре мощнейших взрыва. От них стоит боль в ушах. Вслед за ними еще четыре, и наступает тишина.
— Катера удаляются, — с облегчением сказал Жеведь.
— Вышла двадцатая, — докладывают из кормового отсека.
Так под аккомпанемент разрывов глубинных бомб лодка выставила свои первые мины.
Ночью лодка всплыла в надводное положение, произвела зарядку аккумуляторной батареи, погрузилась и пошла на север. Со времени окончания минных постановок прошли сутки. Беда пришла, как всегда, нежданно-негаданно. Сидящий на горизонтальных рулях опытный рулевой Волынкин вдруг обнаружил, что при перекладке рулей лодка не меняет глубины погружения. Что за чудеса? Неожиданно лодка, получив небольшой дифферент на нос, стремительно начала погружаться. Несмотря на то что электромоторы работали «оба полный назад», был продут весь главный балласт, приостановить погружение лодки удалось лишь на глубине 87 метров. Вот тут-то и выяснилось, что не работают кормовые горизонтальные рули.
Лечь на грунт не представлялось возможным, так как глубина моря в этом месте была 220 метров: лодку просто-напросто раздавило бы давлением воды. Пришлось идти на менее глубокое место, под самый берег, занятый врагом. Там, на глубине 60 метров, лодка легла на грунт.
Разобрались, в чем дело, и подтвердились самые худшие предположения: от близких разрывов глубинных бомб разъединился привод кормовых горизонтальных рулей и рули самопроизвольно встали на полный угол на погружение.
Чтобы устранить неисправность, надо было всплыть в надводное положение, вскрыть люк кормовой цистерны главного балласта, залезть в нее и заменить лопнувший болт шарнира привода рулей. Идти работать в цистерну вызвался командир БЧ-5 М. А. Крастелев. Добровольцев оказалось много. Среди них он выбрал себе помощниками моториста А. Мочалина и трюмного Н. Миронова.
— В случае появления вражеских кораблей подводная лодка будет вынуждена немедленно погрузиться, а мы останемся в цистерне, — предупредил их Крастелев.
— Все ясно, вопросов нет, — твердо ответили подводники.
Начало смеркаться. Л-3 всплыла. Погода была ненастной. Волны, увенчанные белыми гребнями, сильно били о корпус. Сумерки во время балтийских белых ночей короткие: два-три часа. Следовательно, надо было торопиться.
Крастелев и его помощники осторожно пробежали по мокрой палубе и скрылись в кормовой надстройке. Они вскрыли лаз и приступили к работе. Цистерна была наполовину заполнена водой, приходилось работать по пояс в воде, и все же через два часа повреждение было устранено. Правда, уже в конце работы случилось непредвиденное: краснофлотец Ермолаев при ударе волны выпустил из рук лом, и тот, провалившись в надстройку, вновь заклинил злополучные горизонтальные рули. Отверстие в надстройке, в которое провалился лом, было настолько узким, что ни один из подводников не мог в него протиснуться. Выручил помощник командира В. Коновалов, самый малорослый и худощавый из команды. Ему удалось просунуть руку и голову в отверстие, ухватить лом, но обратно его с трудом вытащили за ноги — всего в кровоподтеках и ссадинах.
Наконец лодка погрузилась и взяла курс на базу…
СРЕДИ ВРАЖЕСКИХ МИН
25 июня 1941 года минзаг «Ока» вышел в море. Это был его уже второй боевой поход. Перед походом было получено донесение разведки: «В море замечены вражеские подводные лодки».
Командир корабля капитан 1 ранга Н. И. Мещерский решил вести минзаг необычным путем: «Оку» он направил в протоки, глубины которых настолько малы, что были недоступны для подводных лодок. Путь этот труден и опасен. Даже в мирные дни, когда фарватер обвехован, а маяки зажжены, большим кораблям запрещалось ходить здесь. Но сейчас война — надо. Надо провести корабль по мелководью и незримо для противника выставить мины.
Много часов кряду Мещерский и штурман корабля капитан-лейтенант К. М. Кононов не сходили с мостика, определяя путь корабля по глубинам, по едва различимой в кромешной тьме кромке берега. Но всему приходит конец. Корабль вышел на глубокую воду и приступил к постановке мин. Постановка прошла без помех.
И вдруг, когда «Ока» легла на обратный курс, раздался встревоженный голос сигнальщика Федина:
— Справа по борту перископ подводной лодки!
Мещерский командует:
— Открыть огонь!
Ныряющие снаряды заставляют перископ скрыться с поверхности моря. Через несколько минут за кормой корабля, там, где только что были поставлены мины, неожиданно раздался мощный взрыв. Море вздыбилось, выбросив на поверхность какие-то обломки и большое темное пятно соляра.
— Константин Михайлович! — обратился Мещерский к Кононову. — Запишите в вахтенный журнал: широта… долгота… На поставленных нами минах подорвалась и затонула подводная лодка противника.
А через час сигнальщики вновь обнаружили справа по курсу перископ другой фашистской субмарины. Артиллеристы открыли огонь и заставили ее уйти на глубину. Однако через полчаса перископ показался вновь. Теперь уже с левого борта.
Стало ясным, что продолжать движение прежним курсом было опасно, и Мещерский принимает решение идти так близко от берега, как это только позволяла осадка «Оки». Предельно рискованное решение оказалось единственно правильным. На мелководье не могло быть ни мин, ни подводных лодок. К вечеру минзаг благополучно дошел до Таллина.
Темной, пасмурной ночью «Ока» вновь вышла на боевое задание. Приказ гласил: «Используя темное время суток, пройти незаметно мимо батарей противника и, возвращаясь обратно тем же путем, поставить на фарватере минное заграждение».
Минеры молча готовили мины. Неотрывно всматривались в темноту сигнальщики. Комендоры замерли у своих орудий. Внизу правили вахту машинисты. Но проскочить незаметно все же не удалось. Появившаяся из-за облаков луна внезапно осветила корабль. И сразу же с берега загремели выстрелы — это открыла огонь вражеская батарея. На палубе мины, уже окончательно приготовленные к постановке. Сейчас минзаг напоминал собой громадный пороховой погреб, способный взорваться от первого же попавшего в него снаряда. Маневрировать невозможно. Кругом мели и минные поля.
— Алексей Афанасьевич, — обратился Мещерский к комиссару корабля Ковалю, — надо мины ставить сейчас же, иначе быть беде, да и задачу не сумеем выполнить.
— А как же быть с возвращением? — спросил тот, пристально посмотрев на Мещерского.
— Обратно пойдем по их минным полям. Риск громадный, но шанс выжить есть.
Коваль молча кивнул.
— Приступить к постановке! — разнеслась команда по кораблю.
Корабль шел, закрывая за собой путь для врага и для себя. Все — от матроса до командира — сознавали, что все это значит, но думали лишь об одном: выполнить свой долг так, как велит присяга.
Вражеской батарее удалось пристреляться, снаряды ложились со всех сторон. Но прямых попаданий, к счастью, пока не было. Корабль шел вперед. За кормой вырастала незримая преграда. Снаряды падали все реже и реже. Вскоре обстрел и вовсе прекратился.
Приказ выполнен. Штурман Кононов рассчитал кратчайший путь выхода на чистую воду, и «Ока», следуя за тремя базовыми тральщиками, двинулась в обратный путь. Прошла минута, другая — и вдруг раздался взрыв, затем второй: оба полутрала одного из БТЩ перебиты, и тральщик вышел из строя. Еще два взрыва, и второй тральщик потерял трал. У самого борта «Оки», покачиваясь на волнах, проплыло несколько зловещих черных шаров. Шли минуты. Любая из них казалась вечностью. Наконец раздался взрыв и в трале третьего. Целым остался только один полутрал. К счастью, с его помощью и удалось благополучно вывести минзаг на чистую воду. На «Оке» облегченно вздохнули.
Наступил рассвет. Скоро Кронштадт. Но в этот момент раздался знакомый свист, и впереди по курсу корабля взметнулся столб воды. Через несколько секунд такой же столб встал и за кормой: по «Оке» открыла огонь еще одна вражеская батарея. Но теперь уже минзаг мог маневрировать, уклоняться. Сорок минут корабль шел зигзагами, сорок минут вокруг него бурлила вода от всплесков падающих снарядов. Но вот и Кронштадт, испытаниям этой ночи пришел конец.
ЛЮДИ ФЛОТА
Н. Усенко, Герой Советского Союза ПОДВОДНАЯ ОРБИТА Записки заместителя командира подводного атомохода
НОВАЯ СТРАНИЦА
Необычно холодная морозная погода установилась во всем Заполярье. Студеный ветер пронизывал насквозь, казалось, леденил душу. Наша уютная бухта в кои-то веки впервые всем на удивление покрылась коркой льда. Ночью было слышно, как работяга-буксир с тугим хрустом разрушал эту корку, освобождая нашим атомным кораблям дорогу в океан.
С высоты ходового мостика видно, как темная поверхность воды с осколками льда лентой тянется вдаль, туда, где мигают то зеленым, то красным светом входные створные огни. На мостике мы втроем — командир, старпом и я. Наш командир капитан 2 ранга Лев Николаевич Столяров — опытный моряк. Он долго возглавлял экипаж дизельной подводной лодки, затем был старпомом на атомной… Много плавал. Теперь вот этот поход. Я вижу, он волнуется, поглядывает то в нос корабля, то в корму. На носовой надстройке и в корме видны шеренги матросов — это швартовые команды, они ждут приказания, чтобы убрать швартовые концы — тросы, пока еще связывающие лодку с берегом.
Среди провожающих на причале командующий флотом, член Военного совета, офицеры политуправления и штаба. Они посматривают то на часы, то на наш мостик.
Несмотря на добротную меховую одежду, по спине пробегает холодок. «Это больше от волнения», — подумалось мне, и я придвинулся ближе к рубочному люку, откуда струился теплый поток воздуха и света…
— Отдать носовой! — как-то особенно жестко, будто чужим голосом приказывает командир.
Вздрогнул корпус, постепенно увеличивается расстояние до берега. Винты, работая враздрай, гонят жутковато черную, будто деготь, воду. Небольшие льдинки мелодично звенят, стукаясь о корпус подводной лодки. Я подумал: «Как не скоро мы снова увидим эти суровые, но милые сердцу родные края!» Еще несколько часов на поверхности, а затем уйдем в глубины океана, чтобы, преодолев огромное расстояние, вернуться на Родину с другой стороны планеты. Уходим на запад, а вернемся с востока…
Как много сделано нашим народом, нашей партией, чтобы Военно-Морской Флот, как и все Вооруженные Силы, имел самую современную боевую технику, самое современное оружие! На моих глазах и глазах моих сверстников шло коренное обновление флота. Мы видели, как в послевоенном строительстве кораблей стали учитываться новейшие достижения отечественной науки и техники. Подводники особенно остро почувствовали это, когда овладели ядерной энергетикой.
Атомный реактор, как источник энергии, произвел революцию в развитии подводных лодок. Могучая атомная энергия обеспечила высокие скорости движения, облегчила решение многих ранее казавшихся неразрешимыми бытовых проблем. Но самое главное — позволила отказаться от аккумуляторных батарей, как единственного источника энергии для подводного хода. Теперь атомоходу нет необходимости всплывать на поверхность, чтобы зарядить аккумуляторную батарею, и подводная лодка стала настоящим подводным кораблем! С постройкой атомоходов началась новая, невиданная ранее эпоха подводного флота. Эпоха огромных скоростей, фантастической мощи оружия.
В 1961 году газета «Известия» поведала всему миру о буднях первой советской атомной подводной лодки, а в 1962 году атомоход «Ленинский комсомол», которым командовал капитан 2 ранга Л. Жильцов, пройдя под панцирем льдов Арктики, достиг Северного полюса. Несколько позже весь мир узнал о том, что плавание подо льдами Северного полюса для советских атомных подводных лодок стало обычным делом.
И вот пришло время открыть новую страницу в истории советского атомного подводного флота. Нам предстояло совершить групповое плавание подводных кораблей, причем не вблизи от родных берегов, а на огромном удалении от них, в районах, где у нас нет, как, скажем, у американцев, военно-морских баз. Мы должны были пройти все климатические зоны нашей планеты, через два великих океана и множество морей! В плавании нам надлежало проверить работу сложнейших установок, систем и механизмов в разных температурных режимах, обобщить многочисленные наблюдения гидрологической обстановки на пути движения. Но самое главное — отработать взаимодействие, связь, управление, тактические приемы и способы использования оружия совместно с другими кораблями…
— Ну что, покурим последний разок? — прервал мои раздумья командир. Он предложил мне сигарету, зябко поежился, потер руки. — Под козырьком немного теплее, но все равно собачий холод. Родная земля что-то не совсем ласково провожает нас.
— Ничего, в теплые края идем, эта мысль должна согревать, — пошутил я. — Осталось-то над водой пробыть еще часок, не более…
Говоря о пустяках, мы хотели отвлечься от главного, а невольно думалось: «Выдержим ли? Ведь мы первые». И тогда я понял, что и командира одолевают примерно те же мысли, что и меня. Как бы взвешивая наши возможности, бюджет духовных и физических сил людей, мы стали довольно придирчиво оценивать сильные и слабые стороны нашего экипажа.
Как в капле воды отражается окружающий ее мир, так в нашем экипаже отразились жизнь и успехи нашего народа. Почти все моряки с высшим и средним образованием, представители семи национальностей, дети рабочих, крестьян, интеллигенции. Треть экипажа — коммунисты, в каждом отсеке их не меньше двух-трех…
Мне подумалось, что наш корабль в этом отношении не составлял исключения, он такой же, как и многие другие…
«ЗАДРАЕН ВЕРХНИЙ РУБОЧНЫЙ…»
Корабль вышел в океан. Мы стали ощущать качку. Я спустился по трапу в центральный отсек. После леденящего холода особенно остро ощущаешь разлитое по отсекам атомохода тепло. Яркий свет плафонов, ровное дыхание механизмов. Здесь по-домашнему уютно.
Сейчас экипаж пока еще ничего не знает о тех не совсем обычных задачах, которые нам предстояло выполнять. Соображения скрытности не позволяли до поры говорить им ничего, кроме того, что пойдем в море далеко и надолго и что к походу надо готовиться тщательно.
Частые, каркающие сигналы ревуна возвестили о том, что начинается погружение.
— Задраен верхний рубочный люк! Боцман, погружаться на глубину… — скомандовал командир. Раздался глухой шум — это забортная вода ворвалась в балластные цистерны.
В отсеках наступила тишина. Лишь короткие доклады. Ползет стрелка глубиномера, показывает, что все глубже и глубже уходит под воду наш корабль. «Началась наша подводная орбита!» — подумалось мне.
В этот первый день нашей кругосветки я записал в дневнике: «Волнение и суета, связанные с подготовкой к плаванию, закончились только после погружения. Сразу же провели радиомитинг. По трансляции выступил командир, разъяснил задачу. Зачитал обращение Главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Моряки возбуждены — они только сейчас узнали цель похода и маршрут. В жилых отсеках вывешены карты мира, где дана разметка маршрута. Идут горячие споры, подводники размышляют, спрашивают. «Вам предстоит пройти по океанам и морям, где более ста лет не ходили русские военные моряки». Эти слова из обращения Главкома глубоко взволновали экипаж, наполнили чувством гордости за оказанное нам доверие.
— А что, мы вроде бы Магелланы! — улыбается довольно турбинист Сергей Червоний.
— Конечно, — отвечаю ему. Но уточняю: — Советские Магелланы».
ПОДВОДНЫЕ БУДНИ
В море весь экипаж разделен на три равные части. Каждая часть — это боевая смена. В часы ее вахты она обеспечивает ход корабля, его жизнедеятельность и боеготовность. В каждой смене свое руководство — вахтенный офицер, вахтенный инженер-механик, парторг, комсорг, агитаторы…
Жизнь под водой определяется не сменой дня и ночи, а четким графиком вахт: через восемь часов по четыре.
Поход только начался, впереди многие дни и ночи в прочном корпусе — без солнца, без звезд, без дня и ночи, без голубизны неба, без зелени трав…
Улеглись волнения, исчезла возбужденность, связанная с началом плавания. Постепенно земные заботы и дела отошли на задний план. Жизнь вошла в размеренный ритм. Дни стали очень похожи друг на друга: вахты, занятия, учебные упражнения, отработка слаженности боевых постов и снова вахты…
Если вы спросите подводника, чем он занимается, находясь длительное время в прочном корпусе атомохода, он, наверное, ответит: «А ничем особенным — вахту несем, учимся, читаем, отдыхаем…» И действительно. Теперь вот, когда мы скрылись под водой и взяли курс на юг, жизнь на подводной лодке пойдет строго по распорядку дня: вахта, отдых, учеба, тренировки, приборки, занятия… Это многоликая, но в то же время и утомительно однообразная жизнь. Она идет в спокойном русле, сначала действует умиротворяюще, радует спокойствием, затем начинает некоторых раздражать, у других порождать меланхолию, равнодушие, а у кое-кого и откровенный пессимизм.
Многое сделали наши кораблестроители, чтобы в тесном объеме герметичного отсека человек не очень чувствовал неестественности своего существования. Здесь обилие мягкого дневного света, уютные каюты, современные кондиционеры по желанию создают приятную прохладу или тепло. Даже окраска помещений, пультов, отсеков подобрана таким образом, чтобы цвет способствовал активной работе, не утомлял зрение. И все же это не заменит самых обычных земных условий, к которым от рождения привык человек. Увы, это так…
Но мы старались сделать все, чтобы скрасить жизнь подводников. Особое внимание было уделено физической подготовке моряков. На подводной лодке, при ее сравнительно больших размерах, нет места для пробежек и кроссов. Поэтому были взяты на вооружение гантели, эспандеры, двухпудовые гири. Физзарядка была неотъемлемой частью распорядка дня. Кроме того, врач следил, чтобы каждый подводник регулярно принимал ультрафиолетовое облучение от кварцевой лампы. По этому поводу наши шутники даже сочинили стихи:
Нет у нас разноцветных шезлонгов, Ни к чему нам такая обуза: Ярко светит подводное солнце. Приходи, подставляй свое пузо!Физкультура помогала сохранить форму. Надо заметить, что немало смекалки и изобретательности проявляли в этом отношении и сами подводники. В одном из отсеков я как-то застал моряка, который рассыпал спички, уронив их на пол. Смотрю, он не собирает их сразу, а по одной складывает в коробочку.
— Это сразу пятьдесят два наклона, — поясняет моряк. — К тому же спички — дерево. Их понюхаешь — лесом пахнет, будто и легче стало. Курить я бросил перед погружением. Мне почти каждую ночь снится, что курю. Просто наваждение какое-то, — пожаловался моряк.
Я ему в душе сочувствую — сам курю, но для порядка говорю о вреде курения и о лошади, которую можно убить никотином одной сигареты. В то время на атомных подводных лодках не было курительного салона. Поэтому с мечтой о сигарете мы расставались всем экипажем, как только над нами смыкались волны.
Забот у меня не убывает. Наоборот, с каждым днем подводная жизнь настойчиво требует решения все новых и самых различных проблем. Выяснилось, что не очень удачно продумана система оценочных баллов в социалистическом соревновании и ее надо дорабатывать. Необходимо усовершенствовать выпуск радиогазеты и, если возможно, почаще рассказывать, чем живет тот подзвездный мир, который мы оставили над поверхностью океана. Агитаторам нужно дать новый материал, «подпитать» их цифрами, фактами…
Побывал на камбузе, побеседовал с коками. Продуктами они довольны, поэтому готовят вкусно. И моряки, естественно, довольны. Камбузу надо уделять побольше внимания. На коках лежит очень ответственная задача. И в самом деле, если что-то не ладится, скажем, у электрика, то это не всегда ощущают другие члены экипажа, лишь бы был ход и свет. А вот если у коков что-то не так, это каждый сразу почувствует, едва сядет за стол. А ведь за стол садятся все по нескольку раз в сутки!
Обойти отсеки, поговорить с людьми. Как настроение экипажа? Что волнует? Своевременно откликнуться на вопрос, отреагировать на негативное, дать ход новому, полезному. Заботы…
ПОМОГЛА ЛИ КРИТИКА?
Завершился еще один день нашего большого плавания. Вернувшись в каюту, я по привычке перечеркнул еще одну цифру в календаре. Разменяли вторую декаду.
Сел в кресло и только теперь почувствовал, как сильно устал. Чтобы знать настроение экипажа, надо постоянно бывать с людьми, присутствовать на тренировках, посещать боевые посты, камбуз, лазарет… Все это не только занимает немало времени, но и требует физической закалки. Дело в том, что на подводной лодке, которая разделена водонепроницаемыми переборками, не так-то просто пройти из одного отсека в другой. Надо поднять тугой рычаг кремальеры, нажать на ручку защелки, осторожно придерживая массивную стальную дверь, с определенной ловкостью нырнуть в люк. После этого повторить все операции вновь, чтобы плотно и надежно закрыть дверь.
А дверей-то не одна! К исходу дня чувствуешь, как наливаются мышцы тяжестью. И теперь вот, устроившись в кресле, я с удовольствием наслаждаюсь скупым комфортом каюты, принимаюсь за дневник.
Каждые сутки я стараюсь сделать краткую запись своих впечатлений: поход ведь необычный, многое из того, что происходит сейчас на атомоходе, наши наблюдения за работой техники, за поведением людей, — все это станет материалом для глубокого исследования, анализа. Наш опыт пригодится тем, кто потом пойдет подобной дорогой.
Только сел я подвести итог дня и сделать записи в дневник, как ко мне постучался турбинист второй боевой смены Сергей Червоний.
— Что у вас? — спрашиваю, хотя догадываюсь, что его привело ко мне.
Недавно закончилась передача радиогазеты, в которой прозвучал довольно едкий фельетон о «позабытом, позаброшенном» масляном насосе, который находился в его, Червония, заведовании. Суть этого фельетона сводилась к тому, что масляный насос при очередной проверке комиссией не был в идеальном порядке, как все механизмы на подводной лодке. Чувствовалось, что рука Червония к насосу давненько не прикасалась.
«Позабыт, позаброшен с молодых, юных лет», — на мотив известной песни беспризорников двадцатых годов «пел» насос в этом фельетоне и «жаловался» на свою сиротскую судьбу. Конечно, не мог Червоний этого не слышать, а если сам не услышал, то ему уж наверняка все рассказали товарищи в деталях, с интонациями и с комментариями.
Червоний стоял и молчал.
— Так что же случилось, товарищ Червоний? — спрашиваю я, стремясь дать разрядку молчанию, которое становилось тягостным.
Он быстро заговорил, загорячился:
— Опозорили по всему кораблю! За весь поход замечаний даже вот такусеньких не було, — показал он на ноготь мизинца, сбиваясь с русского на украинский язык.
Я ждал: пусть выговорится — легче станет. Но он и сам замолчал: его, видимо, насторожило, что я не возражаю.
— Фельетон правильный. Вы уже не первый год служите, знаете традицию подводников и крылатую поговорку: «Техника любит ласку, чистоту и смазку». Всей боевой смене баллы сброшены из-за вашего «позабытого».
Он ушел, а я был уверен, что моряк направился в отсек, где будет работать с тройным усердием, чтобы вернуть себе доброе имя. Самолюбивый парень. Для него этот фельетон был сильнее любого дисциплинарного взыскания.
Я вспомнил, как два года назад состоялась первая наша с ним встреча. Был хмурый, осенний день. Выстроенные в одну шеренгу, прибывшие из учебного отряда молодые матросы зябко поеживались. Около каждого — вещевой мешок, на ногах — рабочие ботинки, добросовестно стоптанные на строевых занятиях в учебном отряде. Все парни будто бы одинаковые. Только лица разные и глаза…
Не знаю чем, но одни, темно-карие, привлекли внимание. Я остановился. Они смотрели как-то особенно доверчиво. Мне захотелось поговорить с этим матросом. Не успел я задать вопрос, как он уже ответил:
— Матрос Червоний, ученик-турбинист…
Меня поразила такая быстрая реакция. Я подумал: «Из этого парня будет толк».
Он действительно оказался заметным. Нет, не особым каким-то талантом. Его «заметность» выражалась в неугомонности, в активности, в стремлении сделать что-то важное, значительное… Одних это настораживало: «Лезет везде, все ему надо — выслуживается…» Другим он нравился: «Старательный, любит корабль, за коллектив готов в огонь и в воду…» Однако командир турбинной группы, лейтенант Петр Харченко, отнесся к нему настороженно: «Говорлив больно, везде лезет, за все хватается, а на самостоятельное управление боевым постом еще не сдал».
Однако время шло, и мнение о Сергее Червонием менялось. «Звезд с неба не хватает, но уж если взялся за дело, можно не проверять — сделает как надо». «Старательный парень», — говорилось о нем на комсомольских собраниях.
Вот и теперь, с началом нашего кругосветного плавания, он всячески стремился принести своей второй смене дополнительные очки в соревновании. Я не без улыбки вспоминаю его усердие. Как-то Червоний пришел ко мне в каюту.
— Вот, на конкурс стихи… — застенчиво краснея, сказал он. — Как, добавится балл нашей смене?
Я прочитал стихи. Они были весьма посредственные. Но не желая его огорчать, я сослался на жюри — дескать, оно рассмотрит в конце первого этапа плавания.
На другой день он принес рационализаторское предложение:
— А теперь как, добавят?
— И теперь не знаю, — ответил я. — Этим вопросом займется инженер-механик. — Предложение его тоже не было оригинальным.
Мне нравился патриотизм Червония, его чувство ответственности перед коллективом, стремление внести свой вклад в общее дело.
Вот так, видимо борясь за честь мундира, он «хватался за все» и забыл про свое заведование — масляный насос. Я представил себе, сколько горьких минут пережил Сергей Червоний!
На другой день, во время обхода корабля, только я вошел в турбинный отсек, как ко мне подскочил Червоний, будто только того и ждал, когда приду я.
— Вот, посмотрите, прошу вас. У меня порядок. Насос как новый!
— Ну и как, — обратился я к командиру отделения турбинистов старшине 2-й статьи Смагину, — можно давать заметку «Критика помогла»?
— Можно, — сказал Смагин, с укоризной глядя на Червония.
ГОВОРИТ МОСКВА
Лаг отсчитывает мили. По графику мы подвсплываем с большой глубины, чтобы принять сообщения с командного пункта и доложить о своих делах. Эти моменты я использую для того, чтобы послушать радио, записать на магнитофонную пленку последние известия, а потом во время обеда или ужина прокрутить их экипажу. Я спешу в радиорубку.
Радистов у нас трое: Гусаков, Гирчус, Герия. «Три «Г», глаголь в кубе», — говорят в экипаже, когда речь идет о команде радистов. Русский Александр Гусаков, литовец Римгаутас Гирчус, абхазец Анатолий Герия — три человека, прибывшие на флот с разных концов огромной страны, сейчас объединены единой целью, единой судьбой. Маленькая ячейка экипажа нашего подводного атомохода.
Они сейчас все вместе в радиорубке, каждый на своем посту, готовятся к очень важному для нас сеансу радиосвязи. Не спеша, будто задумавшись, вращает тумблеры, настраивает контуры, подбирая нужную частоту, мичман Гусаков. Дело сегодня очень ответственное — впервые после многодневного молчания в эфир пойдет короткий, но мощный сигнал. Это донесение на Родину, что у нас все в порядке, поход идет по плану.
Гирчус — литовец атлетического сложения. Его серые глаза, спрятанные под развитыми надбровными дугами, всегда серьезны. Немногословность и грузность придают моряку какую-то особую внушительность. Видимо, поэтому Гирчуса в шутку называют «грандиозус». Его большие и сильные руки созданы будто для кузнечного дела. Но работает он на телеграфном ключе как пианист — виртуозно, легко, выполняя нормативы радиста первого класса. А как преображается суровое лицо этого моряка, когда он смеется! Ясная, несколько застенчивая улыбка делает лицо светлым, приветливым. В этой улыбке весь Римгаутас Гирчус с его добротой, честностью, скромностью.
Чтобы не отвлекать от работы Гусакова и Герию, ловлю взгляд Гирчуса и показываю жестом, чтобы он поставил стул-разножку и наушники в моем излюбленном месте, где обычно во время сеанса связи я слушаю эфир. Осторожно, чтобы не мешать радистам, я пробираюсь на приготовленное место и надеваю наушники. В меня будто врывается целый мир, переполненный звуками музыки, треском разрядов, писком «морзянки». Я вращаю верньер, ищу Москву, хочу поймать родной наш «Маяк».
Слышно плохо. Невольно мелькает тревожная мысль — пройдет ли наше донесение? Но тут же ловлю голос родной страны. Передается сообщение ТАСС. На Венеру доставлен советский вымпел. Новая победа нашей замечательной науки и техники! Почти все газеты мира уделили этому событию большое место… В Москве закончил работу пленум Союза советских композиторов… Мурманская область удостоена высокой награды. Ей вручен орден Ленина…
Жизнь страны, такой далекой от нашей точки в океане, идет своим чередом. Я представил себе родной Север. Вспомнил обжигающе морозный ветреный день перед отходом.
Стоп! Вот сообщение, которое для нас, подводников, представляет особый интерес. Не раз мне задавали вопрос: нашли или нет американцы свои водородные бомбы, потерянные 17 января 1966 года у испанской деревни Паломарес? Как известно, в те годы поборники холодной войны всячески пытались запугать народы ядерной мощью США. Вот и доигрались. Один из самолетов «Б-52» во время заправки в воздухе взорвался. В ясном небе вспыхнула молния. Четыре водородные бомбы упали с рассыпавшегося на части самолета. Одна из них скрылась в волнах Средиземного моря. Общественное мнение мира протестовало. Собрался Совет Безопасности. Решался вопрос о посылке комиссии в Испанию. Однако найти четвертую бомбу пока не удавалось.
Но вот постепенно исчез голос диктора. В наушниках шипение. Тишина. Я понял: подводная лодка вновь ушла на глубину. Снял наушники. Вижу — Гусаков посвистывает, просматривая перфоленту.
— Радио передано, квитанция получена, — говорит Герия, не обращаясь ни к кому. А я понимаю, он делится радостью, успехом своей работы, работы своих товарищей.
Мне знакомо это чувство, и я, заражаясь настроением хорошо сделанного дела, спешу в центральный отсек. Короткое общение с внешним миром внесло и сюда оживление. Рассказав командиру о новостях планеты, я думаю: «Теперь опять надолго хватит в отсеках разговоров о советских межпланетных станциях, о больших успехах нашей экономики, науки и техники. Новый заряд бодрости внесет это радиообщение с внешним миром». Естественно, порадует подводников и тот факт, что теперь, получив наше донесение, там, на Родине, знают: у нас все в порядке!
Атомоход снова на глубине. Теперь с внешним миром связаны только акустики. Вчера над нами «прошлепал» винтами какой-то сухогруз или танкер. Это было несколько необычно. Вот уже несколько суток акустики пишут в журнал: «Горизонт чист». Более недели они не слышали ничего, кроме мелодичного посвиста дельфинов да какого-то металлического скрежета неизвестного подводного обитателя. Мы ушли в сторону от международных морских дорог.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО НЕПТУН!
Несколько дней назад командир объявил экипажу, что наш атомоход пересек Северный тропик. Это вызвало немалое оживление среди моряков. Повысился интерес к карте, на которой отмечался маршрут плавания. Большинство матросов обычно связывало понятие «тропик» с чем-то непременно африканским: пальмами, джунглями, палящим солнцем, синью высокого неба… Но теперь, по правде говоря, все это представлялось весьма и весьма абстрактно, хотя мы уже и находились в тропиках. Трудно было перенести себя, хотя бы и мысленно, из прочного корпуса атомохода в африканские джунгли. Тем более, что микроклимат в отсеках был отрегулирован на славу: кондиционеры обеспечивали нас прохладой.
И все же о тропиках мы имели точные данные. Несмотря на довольно солидную толщу воды над кораблем, термометры показывали, что вода за бортом теплее, чем на сочинских пляжах в самое жаркое время года.
— Наверное, у нас найдутся желающие искупаться в тропиках, — сказал командир. — Надо подготовить душевые, — отдал он распоряжение инженер-механику.
Желающих поплескаться в забортной воде набралось немало, пришлось установить очередность. Душевые заработали на полную мощность.
Надо было видеть моряков в эти минуты. Они весело переговаривались, смеялись, дурачились, подставляя под тропическую воду лицо, фыркая и отплевываясь, ловили губами солоновато-горькие капли. Не удержался от соблазна встать под струю «натуральной» забортной воды и я.
Приближался экватор, а это у моряков всегда традиционный праздник, и надо было сделать все для того, чтобы у каждого подводника навсегда остался в памяти этот примечательный день, особый день в биографии, которым так гордятся моряки.
Готовились мы к празднику основательно, старались все предусмотреть: кого включить в свиту Нептуна, как поэффектнее организовать его шествие по кораблю. Был разработан сценарный план: кому и что Нептун должен сказать, в каком порядке он будет вручать свои грамоты. Кстати, еще когда мы шли вблизи Полярного круга, на корабле был объявлен конкурс на лучший текст этой грамоты.
Собравшись после вахты в кают-компании, активисты во главе с секретарем комсомольского бюро Павлом Киливником горячо обсуждали детали предстоящего праздника. Кажется, обо всем договорились, только один вопрос — кто же возьмет на себя роль Нептуна? — оставался открытым.
Было много соискателей на эту роль. Но после всестороннего обсуждения и совета с командиром выбор пал на Петра Смирнова. Один из старейших членов экипажа, капитан-лейтенант-инженер Петр Смирнов пользовался большим авторитетом и всеобщей симпатией на подводной лодке. И не только потому, что имел специальность, которая на атомоходе особо уважаема — инженера-управленца, но прежде всего потому, что обладал отменными душевными качествами, умением расположить к себе человека, найти путь к его сердцу.
На роль Нептуна Петр Смирнов подходил и своей внешностью. Рослый, крупный мужчина с хорошим добрым лицом, он сохранил румянец, несмотря на длительное пребывание под водой. Курносый широкий нос, голубые глаза, приветливая улыбка. Ну, чем не Нептун? А борода — дело наживное, точнее — приделываемое.
Состав свиты владыки океанов определялся фантазией устроителей праздника. На сей раз свита сложилась быстро: Виночерпий (какой же Нептун без Виночерпия?), Пережиток (нечто похожее на хулигана и любителя зелья), Фальсификатор и Очковтиратель (темные носители старого, отмирающего, всего, что отправляется на морское дно к Нептуну). Ну, и, естественно, Русалка. Она, пожалуй, была единственным светлым исключением в этой темной компании. Кстати, так до конца почти никто и не знал, на кого пал жребий играть принцессу подводного царства…
Итак, пересекаем экватор. Командир корабля, Лев Столяров, посмотрев на часы, обратился к капитан-лейтенанту Петру Омельченко:
— Штурман, ваше слово.
Это значит — сообщить по трансляции о том, что настал заветный момент: наш атомоход пересекает экватор.
После сообщения штурмана в отсеках на какой-то момент воцарилась тишина. Вдруг акустик доложил, что он слышит какой-то непонятный шум, звуки музыки и пение. «Очевидно, — закончил он свой доклад, — царь Нептун к нам приближается».
Мы с командиром переглянулись. Он кивнул на микрофон: дескать, действуй! Я объявил по кораблю, что к нам на борт пожаловал царь морей и океанов Нептун. Дружным «ура» ответили отсеки. Надо думать, с каким нетерпением ожидали моряки этого момента!
На подводной лодке центральный пост — это главный командный пункт, мозг корабля, здесь вершится судьба любой задачи, которую решает экипаж. Вот почему Нептун со свитой прибыл прежде всего именно сюда. Гости появились в отсеке как-то сразу, заполнив его весь. Впереди — величественно-важный Нептун. Роскошная седая борода, косматые брови. Голову украшает блестящая корона. В руках трезубец — символ державной океанской власти. Плащ владыки, разрисованный морскими чудовищами, поддерживают живописные слуги — негры. Пробегая взглядом по свите, я невольно засмотрелся на Русалку. И не я один.
— Вот это да! — вырвался возглас из штурманской рубки.
— Хороша, чертовка! — с восхищением воскликнул командир.
В стройной, изящной Русалке с большим трудом угадывался главный старшина Владимир Новиков. Длинные волосы, аккуратно подхваченные яркой лентой, алые губы, кокетливые взгляды — настоящая Русалка!
Нептун между тем басовито запел свой гимн:
— Я царь морей! И всех зверей, и кораблей!
— Ты царь морей, ты царь зверей, и кораблей, и кораблей! — угодливо подхватила под аккомпанемент аккордеона разноголосая свита владыки.
— Я властелин морских богатств, пришел, друзья, поздравить вас!
Словно по команде воцарилась тишина.
— Здорово отработано! — заметил кто-то с восторгом.
Нептун опалил его суровым взглядом — помолчи! — и обратился к командиру:
— Чьи вы, люди, будете, куда путь держите? Ответствуй, служивый!
Гляжу, Лев Николаевич, командир наш, смутился, даже покраснел. Видно, из-за необычности ситуации, когда от командира (от самого командира!) требуют ответа, да еще столь строго и властно. Но он быстро оправился и, не поддаваясь шутейной обстановке, серьезно и с достоинством доложил, что мы люди советские, мореходы известные, выполняем наказ Родины, по воле партии Ленина совершаем плавание подводное, групповое, кругосветное.
Величественно кивнув и похвалив командира за бодрый рапорт, Нептун, не без ехидства, заметил:
— Что-то от тебя, служивый, дымком попахивает, не балуешься ли зельем дьявольским?
Лев Николаевич опять смутился — видно, не ожидал этого каверзного вопроса. (Речь шла о курении, а на этот счет на подводных кораблях порядки весьма и весьма строги.)
— Каюсь, грешен, владыка. Вчера у компрессора пару затяжек сделал, — покаянно закончил он под общий хохот.
Так началось торжественное шествие Нептуна по отсекам атомохода. Хлебом и солью, по старинному русскому обычаю, встречали подводники морского царя. В свою очередь владыка вручал каждому подводнику почетный диплом — свидетельство о переходе экватора.
— Вот, получил аттестат морской зрелости, — подняв над головой диплом, с восторгом сказал турбинист Александр Смагин.
Оно и действительно так: наше долгое и трудное плавание — это серьезный экзамен на зрелость, духовную и техническую, моральную и психологическую.
Из отсека в отсек степенно шествует Нептун со свитой. Мы знали, что обычно праздник заканчивается всеобщей купелью. Но это возможно лишь на надводном корабле. На подводной лодке — увы, это невозможно. Но без купели же нельзя! И ухитряются спутники морского царя кому полстакана морской воды за воротник выплеснуть, кому из чайника тихонечко в карман спецовки нальют. На то и компания темная…
А Нептун серьезный ведет разговор, требует ответа на вопросы, которые иных ставят в тупик.
— А где это ты, любезный, таким словам пакостным научился, которыми уста нередко оскверняешь?.. — задал он вопрос любителю крепкого словца.
— Не из-за тебя ли, служивый, всей боевой смене очки по итогам соревнования сброшены?.. — спрашивает другого.
— А научился ли ты картошку чистить, как коки требуют?.. — вопрос третьему.
И все это — с вполне определенным прицелом…
Обойдя весь атомоход, Нептун вернулся в центральный пост и произнес прощальную речь.
— Я пропускаю через экватор экипаж доблестный с кораблем вашим атомным. Плывите, други, в полушарие Южное! Буду рад снова встретить вас на экваторе, в Океане Великом, чтобы пожать ваши руки крепкие!
И как старый подводник, владыка пожелал нам, чтобы всегда число погружений было равно числу всплытий.
Слушал я речи Нептуна — Смирнова и думал, что не ошиблись мы в выборе, прекрасно он справился со своей ролью.
За праздничным ужином шел оживленный обмен впечатлениями от памятного ритуала. Повторяли остроты Нептуна, вспоминали проделки свиты, отмечали, как хороша была Русалка. Этот день, конечно же, никогда не забудется…
ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО
Сигнал учебно-аварийной тревоги прозвучал неожиданно и властно. Соскочив с койки, я взглянул на часы и понял: сейчас вахта командира и он решил воплотить в жизнь «испытанное тонизирующее средство», о котором мы условились заранее. То есть «подбодрить» моряков тревогой. Звонки гремят: длинный… короткие… «Аварийная тревога, пробоина в первом отсеке!» — дублирует сигнал голос вахтенного офицера. Но звучит этот голос настолько лениво, буднично, будто со сна, что каждому мгновенно становится ясно, что в действительности никакой пробоины нет. «Как можно испортить дело одной лишь интонацией голоса, — с досадой подумал я. И тут же мысль продолжилась: — Надо потом на разборе поговорить об этом с офицерами».
В «аварийном» отсеке довольно оживленно и людно. Я увидел здесь Геннадия Михайловича Мироненко — нашего парторга. Он внимательно следил за всем, что здесь происходит, и, хмурясь, делал пометки в записной книжке.
У Мироненко привлекательная внешность. Хорошо сложен, высокого роста, у него широкие плечи, большие сильные руки — и все это сразу выдавало в нем спортсмена. Он и действительно был отличным баскетболистом и в соревнованиях не раз выручал команду нашей лодки, спасая от, казалось бы, неминуемого поражения. Здороваясь с ним, чувствуешь сразу же большую силу его руки, которая способна мягка и даже вроде как нежно ответить на рукопожатие, но тут же без особого труда может отдать гайку на прикипевшем фланце, которую никак не могли стронуть с места его подчиненные. Светло-серые глаза, родинка на переносице придают его лицу какую-то кротость и обаяние.
Главное, что отличает его от других, не менее способных и добросовестных офицеров, это умение полностью, без остатка отдаться интересам дела, коллектива, службы. Весь экипаж атомохода, его задачи, успехи и неудачи — все это неотделимо от его личной жизни.
Поэтому он воинственно непримирим ко всяким проявлениям равнодушия и неуважительного отношения к тому, что создано экипажем, всему, что может повредить доброму имени коллектива атомохода. Однажды совершенно случайно я стал невольным свидетелем горячего разговора Мироненко со своим близким другом. Они не видели меня сидящего в старшинской каюте и громко говорили, настолько громко, что я невольно стал прислушиваться к ним. На брошенную приятелем реплику: «А мне-то что? Пусть они думают… Нам сказали — мы пошли…» — Мироненко закипел:
— Кто это они? — В голосе Мироненко чувствовались нотки гнева. — У них что, партийные билеты краснее, чем твой?
Собеседник, видимо, не ожидал такого поворота. Он что-то негромко сказал, пытался перевести на шутку, но Мироненко ее не принял.
— Нет, голубчик, не юли! Я тебя совершенно правильно понял. Не может быть среди нас таких, чья хата с краю. Такое дело вершится, а ты… — с упреком закончил он.
Я тогда подумал: «Не кончится у них этим разговор, своему другу он такое не спустит. Потом напомнит не один раз!»
Вот так, не скажешь, что у него мягкий характер, хотя в жизни, во внеслужебное время, у него подчас не хватает твердости, о чем он сам довольно самокритично как-то признался в порыве откровенности.
Геннадий Михайлович Мироненко был избран секретарем первичной партийной организации нашего подводного атомохода — это его общественная работа. А в первый отсек он сегодня пришел потому, что должность командира дивизиона живучести обязывает его заниматься подготовкой экипажа к борьбе с водой, паром, пожарами, которые весьма опасны для любого корабля, а для атомной подводной лодки — особенно.
Выбрав удобный момент, когда по новой вводной большая часть личного состава забралась в трюм, я пробрался к торпедным аппаратам. На мой вопрос, как он оценивает действия подводников, Мироненко ответил: «А вы сами внимательно присмотритесь, что у них за «фасадом»…»
Вначале мне казалось, что моряки действуют хорошо, даже здорово. Громко, с этакой молодецкой лихостью отдает распоряжения старшина отсека, так и хочется похвалить мичмана. Моряки четко и сноровисто орудуют аварийным инструментом. Только чересчур уж громко докладывают: «Есть, включить помпу!», «Дается воздух в отсек!», «Есть, обесточить…». Однако как-то невольно я обратил внимание на то, что, отдавая команды негромким тенорком, мичман бросает умильные взгляды то на Мироненко, то на меня, явно ожидая похвалы, одобрения. Мне стало неловко, я отвел глаза.
И тут же возникает мысль: «Почему же «пробоину» они заделывают там, где удобней, где легче подобраться к ней? А если она, эта пробоина, появилась бы, скажем, вон там, за массивным маховиком шпилевого устройства? Как туда подберетесь?» Так и подмывало спросить об этом мичмана. И чем больше я наблюдал за происходящим в отсеке, тем очевиднее была наигранность, театральность всего этого учения.
Испытывая чувство неловкости, как человек, понимающий, что ему пускают пыль в глаза, морочат голову, я взглянул на Геннадия Михайловича и представил себе, насколько больно ранит его эта комедия. Тем более, что накануне на партийном собрании шла речь об элементах самоуспокоенности, благодушия, которые стали у нас иногда проявляться. Наш партийный секретарь высказал мысль, что не следует уж слишком драматизировать положение, ведь нет грубых ошибок. Вот он сам убедился, что даже в таком важном деле, как борьба за живучесть, и то просматриваются симптомы очень опасной болезни, имя которой — благодушие, замешанное на показухе. А в истории флотов было немало примеров, когда моряки дорогой ценой жестоко расплачивались за свою беспечность в океане.
В длительном плавании наступает такой период, когда люди полностью вживаются в обстановку, входят в четкий ритм, механизмы и приборы работают стабильно, вахты отлажены. Кажется, лучшего желать не надо. Кое-кто перестает обращать внимание на «мелкие» огрехи. В графике соревнования — только одни красные оценки. Благолепие! Буквально на днях произошел такой случай. В одном из отсеков ночью нес вахту молодой матрос, один из комсомольских активистов. Докладывая мне о режиме работы его заведования, он никак не мог справиться с собой: в глазах светились плутоватые огоньки, он силился согнать с губ улыбку. «Чему это он радуется?» — удивился я. И спросил его:
— Что, веселая вахта? Или вспомнили анекдот смешной?
Моряк покраснел.
— Да вспомнил историю одну… — замялся он, а сам все старается рукой незаметно за щит что-то засунуть.
Оказалось, книгу. Я взял ее. С обложки глядела плутовато-добродушная физиономия бравого Швейка.
Я серьезно пожурил матроса, а сам с горечью подумал: «Вот, уже и комсомольские активисты допускают серьезные проступки, а ведь чтение книги на вахте — это грубейшее нарушение всех требований уставов».
Сегодняшняя тренировка, на которой мы с Мироненко присутствовали утром, со всей очевидностью подтвердила, что опасения коммунистов имеют под собой реальную почву. Записывая в дневник все это, я заметил: «Вот так, дорогой товарищ секретарь… Драматизировать не нужно, но психологические встряски людям весьма и весьма нужны».
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Макроцистис. Макроцистис… Это слово вползло в отсеки и стало произноситься везде: на инструктажах вахты, за обедом, во время демонстрации кинофильма… Даже одна из сатирических газет была названа «Макроцистис». Означает это слово водоросль-великан. Говорят, его длина достигает двухсот метров, таких растений на суше, пожалуй, не отыщешь. Растут эти водоросли плотной массой, выделяя слизь, которая крепкой пленкой покрывает поверхность моря. Эти могучие исполины противостоят сильным штормам и даже ураганам. У побережья некоторых стран они, словно подводные волноломы, предохраняют берега.
Кто-то, начитавшись легенд про макроцистис, пустил по кораблю слух: мол, в таких водорослях может запутаться и подводная лодка. Некоторых молодых моряков это не на шутку взволновало. Пришел ко мне матрос Валерий Ломакин и между прочим спрашивает:
— Говорят, макроцистисы, отрываясь от земли, огромным комком плывут в океан. Правда это?
Я успокоил матроса. Рассказали мы экипажу об этих водорослях. Страсти улеглись, но слово «макроцистис» стало означать что угодно. И заведомую нелепость, и разыгравшуюся фантазию.
Снова будни, вахты, занятия, учеба… «Приняли в комсомол молодого матроса — Валерия Ломакина. Теперь весь экипаж комсомольский…» — сделал запись.
Во время обеда из разговора за столом узнал, что поссорились электрик и турбинист. В чем же дело? Оказывается, электрик делал предобеденную приборку. Склонился над мусором, работая щеточкой. А в это время турбинист — человек нетерпеливый и экспансивный — решил через него перешагнуть, да не рассчитал, поскользнулся и… уселся чуть ли не на шею. Электрику это очень не понравилось. Он вспылил. Вовремя остановились оба. Видно, чувствуется усталость…
Да, люди безмерно устали. Как-то мне один из старшин высказался о своем товарище, с которым он всегда был, в общем-то, в ровных отношениях:
— Вы представляете, раньше я не замечал, как он ест, а теперь вижу его неопрятность, как у него за едой уши двигаются, — так никакого терпенья нет, ухожу из-за стола… Да и аппетита нет…
Мне подумалось: вот они, вопросы совместимости, как в космосе. Это я мысленно продолжил спор со своими береговыми оппонентами, которые отрицали закономерность подобных психологических срывов в длительном плавании, объясняя их распущенностью, невоспитанностью одних и невыдержанностью других. Наказывать их, дескать, надо почаще.
Рано утром подвсплываем под перископ. Сильный шторм «ревущих сороковых» Южного полушария, как говорится, раскачал океан. Нелегко было удерживать лодку на глубине. Боцман даже вспотел, работая на горизонтальных рулях. Кстати, вновь о благодушии. Наши интенданты забыли, что в провизионной кладовой есть специальные крепления для стеклотары. Успокоенные тем, что мы длительное время не всплывали на перископную глубину и соответственно давно не испытывали качки, они оставили незакрепленными бутылки с соком, банки с вареньем. Каков же был их ужас, когда они увидели на палубе в провизионке коктейль из этого добра! Вполне справедливо командир серьезно пробрал их за это. Беспечность наказуема!
Сегодня при обходе корабля бросилось в глаза, что нет привычной опрятности и чистоты в некоторых помещениях. Вечером на кинофильм пришло сравнительно мало людей. Посмотрел, чем же занимались те, кто не захотел смотреть картину. Один читает, сосредоточенно шевелит губами, видно, хочет уловить мелодию звука. Двое лениво играют в домино в какую-то заумную игру, совсем не похожую на «козла». Молодой торпедист, блаженно жмурясь, подставляет голый торс под прохладную струю вентилятора.
На мой вопрос, почему не пошли в кино, моряки ответили:
— Неинтересный фильм…
В голосе горечь, раздражение.
Люди уже сильно устали. Надо что-то делать, чтобы побольше дать им инициативы, вовлечь в какое-то интересное дело, не позволять им «киснуть», уходить в себя. Спокойная жизнь, стабильная, устойчивая работа механизмов, однообразный ритм утомили людей, понизили их интерес к жизни.
Свои, в общем-то, совсем нерадостные наблюдения я сообщил командиру и старпому. Решили собрать командиров боевых частей, побеседовать с членами партийного бюро, комсомольским активом. После этого стали ежедневно проигрывать учения по живучести, при этом усложнили вводные, ужесточили требования. Чаще стали проверять несение вахты. Провели смотр-конкурс на лучший отсек. Радиоинформация по его итогам была весьма острой, многим досталось за неумение поддержать чистоту и порядок.
Все это несколько встряхнуло команду. Пришло как бы второе дыхание, оно нам было жизненно необходимым: приближались к самому сложному участку маршрута.
ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ ДРЕЙКА
Еще до того, как атомоход подошел к проливу Дрейка, мы уже получили тревожный сигнал. Дело было так. Однажды во время обеда, когда, сытно откушав, мы сидели в кают-компании и лениво рассуждали об искусстве коков делать шашлыки, поступил доклад, что прямо по носу гидролокатор обнаружил цель, и вахтенный офицер, резко сбавив ход, начал маневр на уклонение.
Командир сыграл боевую тревогу. Прощупывая перед собой пространство, луч гидролокатора словно натыкался на стену. Резко упала температура за бортом. Да, мы встретились с дитем Антарктиды — с айсбергом.
И вот пролив Дрейка. Среди моряков всего мира о нем идет дурная слава. Суровые и жестокие штормы, плавающие льды, айсберги делают его труднопроходимым. Недаром многие мореплаватели выбирают более безопасный переход из Южной Атлантики в Тихий океан через Магелланов пролив. Но наша подводная орбита пролегала именно через пролив Дрейка.
Опасное соседство антарктических айсбергов нас очень беспокоило. Эти гигантские, в несколько миллионов тонн, ледяные острова, оторвавшись от материка Антарктиды, направляются в самостоятельное плавание. Течения их гонят в высокие широты, где они постепенно тают. Возвышаясь над уровнем моря сравнительно немного, айсберги глубоко, порой на сотни метров, уходят под воду. Они величественно сверкают белизной своих снегов, оживляя бесконечное однообразие синевы моря и неба.
Но горе тому мореплавателю, который не заметит айсберг! Трагическая гибель «Титаника» памятна многим поколениям моряков. Для подводных лодок айсберги тем более опасны. Чтобы избежать столкновения с ними, от подводников требуется большая осторожность и высокое искусство. Акустикам предстояла нелегкая напряженная вахта. Гидролокатор непрерывно прощупывал пространство по курсу нашего атомохода. Мы сбавили ход до минимального, идем осторожно.
Видимо, сегодня наверху погода штормовая. Это чувствуется даже здесь, на глубине. А ведь нам предстоит сеанс связи, и поэтому надо всплывать под перископ. Памятуя о недавней досадной беспечности наших снабженцев, командир дал команду: «Осмотреться в отсеках. Закрепить все по-штормовому». Я спешу в центральный пост. Хочется воспользоваться случаем и взглянуть в перископ, чтобы потом рассказать экипажу, каков он, этот знаменитый пролив Дрейка.
В центральном посту сейчас особая обстановка. Здесь та непередаваемая атмосфера деловитого и напряженного спокойствия, какая бывает, вероятно, только под перископом на подводных лодках. Дело в том, что в этом положении опасно находиться: плавающие льды или другие предметы могут повредить выдвижные устройства. Но несравненно опаснее неожиданное столкновение подводной лодки с надводным кораблем! Надо ли пояснять его последствия?
С легким шипением гидравлика вытолкнула из шахт выдвижные устройства. Командир кивнул, разрешая занять место у перископа. Я прильнул к окулярам. Как положено по инструкции: сначала дальний обзор, затем ближний, зенит, по курсу… Над водой хмурая синева уходящего дня. Серым бесцветным маревом закрыт горизонт, и не видно, где же разделяется море и небо. Крупные хлопья снега залепляют линзы перископа, а брызги, сорванные ветром с гребней волн, их очищают.
Сильно качает. В такие моменты слышно, как захлебывается компрессор, пополняющий запас воздуха высокого давления.
— Да, неуютное место! Есть же на нашей планете такие забытые богом углы! — сказал сменивший меня у перископа командир, не отрываясь от окуляров.
НЕЖНОСТЬ
Наши календари — а встретить их можно везде: в каютах, на боевых постах, в рубке акустика — показывали первый день весны. 1 марта! Вьюжной зимой мы покинули Родину, и вот как-то незаметно подкралась весна.
Март 1966 года! Месяц начала работы XXIII съезда партии. Мы не могли об этом забыть. Ведь все дела наши, все доброе, полезное, что делалось на подводной орбите, все это проходило под знаком подготовки к этому замечательному событию в жизни каждого советского человека. Нет, не ради красного словца мы посвятили дела свои съезду партии. Душой и сердцем мы жили, слились со своим народом, наши сердца бились в одном ритме с сердцем Родины.
В одном из отсеков Володя Гапченко, молодой морячок (я знаю, он рисует и любит живопись) листает репродукции Левитана. Он остановился и пристально рассматривает картину «Март». Я невольно останавливаюсь и любуюсь синью неба, солнечными бликами на подтаявшем снегу крыши. Удивительно тонко уловили глаза художника ту неповторимую гамму красок, которую рождает борьба зимы с весной, когда еще зима сильна и в то же время она начинает уступать свои права весне, теплу, солнцу.
— Нравится? — спрашиваю его.
— Это же Левитан. Как он может не нравиться? — удивляется моряк.
Весна! Прекрасное время года! Пробуждается природа, зарождается жизнь. Наверное, поэтому мы именно весной как-то острее чувствуем и любим. И чествуем женщин. Я глубоко убежден, что здесь, в подводном мужском мире, где никогда не бывала женщина, она незримо присутствует. Мои товарищи по службе, занимаясь чисто мужским делам, не забывали своих близких: женщину-мать, женщину-жену, невесту, сестру, подругу.
Правда, мужская деликатность не позволяла им затрагивать эту тему. Но… чем ближе подходило 8 Марта, тем больше чувствовалось, насколько непрочен этот негласный обет молчания вокруг женщин. Ведь на берегу у каждого остались либо невеста, либо жена…
Помните, у Твардовского:
…Каждого солдата Проводила хоть одна Женщина когда-то. Не подарок, так белье Собрала, быть может, И что дальше от нее, То она дороже.Отмечали же мы День Советской Армии, Праздник Нептуна — это хорошо. Надо отметить и день 8 Марта. И сделать это надо как-то необычно, по-особенному.
Инспектор политуправления флота Виктор Николаевич Харитонов как-то в эти дни заметил: «Нам нельзя и в море от этого острого вопроса уходить. Я имею в виду женщину, ее место в нашей жизни». И, помолчав, не без лукавинки продекламировал:
Да, друзья, любовь жены, Кто не знал — проверьте, — На войне сильней войны И, быть может, смерти.Это был опять Твардовский. Люблю я его, особенно его Теркина!
Оставшись один, я набросал план встречи 8 Марта. И задумался. Мне вспомнился родной заполярный городок, уютная квартира, жена, сыновья… Как-то школьные дела у старшего? Хоть учится он хорошо, все же переезды с места на место (удел всех военных) сказывались, особенно в начале учебного года. Младшему легче, его радовали переезды. Мать с улыбкой говорила: «Алеша тоже, наверное, моряком станет — уж очень любит путешествовать».
С теплотой и нежностью вспомнил я свою жену и жен моих товарищей. Сколько у них самоотверженности, бескорыстия, умения подчинить свои интересы главному делу мужа — воинской службе! Переезды, лишения. За водой, за дровами приходилось пробираться через снежные сугробы. И все больше самим! Ведь мы, мужья, — офицеры, дома как в гостях. В основном же мы в море. Забота о воспитании и здоровье детей, вечно незавершенный труд у домашнего очага ложатся на их хрупкие плечи. Они ждут, они верят, они служат вместе с нами.
Надо, очень надо нам хорошо отметить День женщины в сугубо мужском обществе. И праздник состоялся, он был торжественным и даже чуточку нежным. Но я расскажу только о конкурсе на лучшее стихотворение, рассказ, очерк, посвященные женщине.
Как мы и ожидали, он принес много интересного. Ну, например, такие стихи:
Ты только не грусти, родная, Морячке не к лицу печаль. Я здесь покой твой охраняю, Чтоб ты могла меня встречать.Написал это стихотворение мичман Владимир Коваль. Много лирических стихов посвятил своей невесте москвич Борис Белов. Но приз все-таки был присужден офицеру Олегу Андронову. Его стихотворение было признано самым лучшим. Всем понравилась его концовка:
Не жалея в палитре красок, Слово «женщина» можно ль не славить? Хорошо написал Некрасов. Мне уж нечего больше добавить. Но всегда удивительно молоды И чисты, как снега Казбека, Красивые, умные, гордые Женщины двадцатого века!ВСПЛЫТИЕ
Оставив много тысяч миль за кормой, мы приближались к родным берегам. Теперь уже к восточным. Пришло время готовить отчеты. Офицеры хлопочут над бумагами.
В это время родилась мысль создать рукописный журнал с иллюстрациями, в котором была бы отражена наша подводная жизнь. «Летопись похода» или «25 000 миль под водой» — так было решено его назвать. Лучшие произведения: стихи, очерки, рисунки — все, что создано нашими моряками во время конкурсов и соревнований, все должно войти в журнал. Все важные события отражались в журнале: кто первый начал вахту в честь XXIII съезда КПСС; кто первый отпустил бороду или кому из именинников был преподнесен первый торт; кто завоевал лучший приз в соревновании.
Подводная лодка мчится со скоростью курьерского поезда, над нами солидная толща воды, под килем — километры. Ошибка, просчет, неточность одного из вахтенных дорого может обойтись для всего экипажа. Вот почему вчера мы провели партийное собрание, на котором главной темой была бдительность. Никаких послаблений. Жестче контроль, выше требовательность. Результаты чувствуются: по вахте стало меньше замечаний, экипаж будто встряхнулся.
И вот наступил самый долгожданный, самый последний день нашего марафона! Еще с ночи все были на ногах. Никого не уложишь. В центральном посту внешне все было на первый взгляд обычным. Вахтенный инженер-механик не спеша заполнял журнал; рулевые, пощелкивая манипуляторами, удерживали курс и заданную глубину погружения; вахтенный офицер негромко докладывал старпому о выполнении распорядка дня. В общем, все буднично, спокойно. Однако во всем — во взглядах, в жестах, в интонациях голоса — чувствовалось, что за внешним спокойствием притаилось напряженное ожидание самого главного события — всплытия.
Взять хотя бы командира атомохода Льва Столярова. Всегда спокойный, вроде бы даже флегматичный, сегодня он возбужденно мерил шагами отсек, то и дело заглядывая в штурманскую рубку. Там он склонялся над картой, будто видел ее впервые. Сощурив покрасневшие от недосыпаний глаза, командир задумчиво прикидывал измерителем расстояние до точки всплытия. Его лицо выражало озабоченность.
И озабоченность его можно было понять. Пройдено, не всплывая на поверхность, около 40 тысяч километров — расстояние, примерно равное длине экватора. Вот-вот наступит момент, когда мы всплывем в заданной точке, и станет ясно, насколько точны были расчеты, сколь искусными мы оказались моряками и, в первую голову, конечно, наш командир.
Мы знали, что на корабле отличная техника. Но даже самый точный прибор, такой, к примеру, как корабельный хронометр, и тот имеет поправки. Без их учета хронометр бесполезен. А тут надо было учесть множество различных факторов. Справились ли с этим делом командир и экипаж, должно было показать всплытие.
Сигнал ревуна забился в отсеках, возвещая экипажу, что начинается всплытие. В центральном посту тишина. Вот командир занял место у перископа. Звучат команды, от которых мы уже отвыкли: «Приготовиться к всплытию!», «Акустик, прослушать горизонт», «Боцман, всплывать на глубину семь метров!». Стрелка глубинометра ползет по кругу. Всплываем! Вот уже подняли трубу перископа и командир, привычно обхватив ее, прильнул к окулярам.
Мы не отрываем от командира глаз. Что же он видит там? Нас должен встречать эскадренный миноносец. Если увидим его, значит, попали, как говорит штурман, в яблочко.
— Боцман! Лучше держать глубину! — прерывает тишину отсека властный голос командира.
А перископ медленно вращается по кругу, вместе с ним шагает по кругу командир. Вдруг он задерживается. Всматривается в даль. Затем тихо говорит мне:
— Посмотри, комиссар!
С бьющимся сердцем я гляжу в перископ и вижу в синеве вечера четкий силуэт эскадренного миноносца. Мы всплыли точно! А когда был открыт рубочный люк и в центральный пост ворвался гул океана, то мы все поняли, что задание Родины выполнено успешно!
А. Муравьев-Апостол КАПИТАН ЛУХМАНОВ Воспоминания
1
Солнечным августовским днем тысяча девятьсот двадцать четвертого года я впервые переступил порог небольшого двухэтажного здания на 22-й линии Васильевского острова. До Октябрьской революции в нем помещались Санкт-Петербургские мореходные классы имени императора Петра Первого. В восемнадцатом году их переименовали в Морской техникум торгового флота, сохранив оба отделения — судоводительское и механическое — с четырехлетним курсом обучения в каждом.
Поступить в техникум, окончить его, стать штурманом, а потом и капитаном дальнего плавания — таковы были мои мечты. Я был уверен, что с поступлением все пройдет гладко: мне двадцать два года, образование достаточное и, кроме всего прочего, за плечами два фронта: юденичевский и врангелевский. Потом школа подводного плавания и звание старшины, наконец, пусть и небольшой, но все же плавательный стаж.
Заведующий учебной частью, небольшого роста пожилой человек в штатском костюме, даже не взглянул на мои документы.
— Опоздали. Прием закончен в июле. Свободных вакансий нет.
— В июле еще служил на флоте и приехать не мог.
Завуч безразлично пожал плечами, как бы говоря: я тут ни при чем.
В эту тягостную для меня минуту в кабинет вошел моряк с золотыми нашивками на рукавах темно-синей форменной тужурки. На его статной, несколько полнеющей фигуре все выглядело ладно и красиво: и тужурка с ллойдовским[2] капитанским значком на правой стороне груди, и белоснежный воротничок с артистически повязанным галстуком. Воображение и раньше рисовало мне моряков из романов. А сейчас рядом со мной стоял настоящий, живой капитан дальнего плавания с красивым темным от загара лицом, на котором, так мне по крайней мере казалось, оставили свой след солнечные закаты всех широт мира… Помню, особенно меня поразили пуговицы его тужурки — большие, блестящие, с витым канатом по ободку и накладным адмиралтейским якорем в середине. Такие пуговицы я видел впервые — на военном флоте таких не носили. На вид капитану было лет пятьдесят с лишком.
При его появлении завуч поднялся со своего места.
— Сидите, сидите, Борис Иванович, — сказал капитан, — я к вам на секунду. Оповестите, пожалуйста, всех преподавателей, что заседание совета состоится в четверг, в пять часов пополудни… Ну, не буду вам мешать.
— Вы не мешаете, Дмитрий Афанасьевич, — ответил завуч. — С молодым человеком разговор закончен. Опоздал с заявлением.
Капитан взглянул на меня с явным сочувствием.
— Как же это случилось?
Я объяснил.
— Так вы уже отслужили военную службу?
— Да, служил добровольцем с февраля восемнадцатого, — пояснил я.
Капитан молча протянул руку, и я так же без слов подал ему бумаги, которые все еще держал наготове. Он их внимательно просмотрел.
— Скажите, что вас потянуло в мортехникум?
— Любовь к морю, — вполне искренне ответил я. — Плавал совсем немного и только на Балтике, но море успел полюбить.
В глазах капитана мелькнули веселые искорки, и я уже было подумал, не слишком ли высокопарно высказал свое отношение к морю, но капитан без тени насмешки в голосе сказал:
— Что ж, причина опоздания уважительная, да и любовь к морю требует особого внимания. Зачислите, Борис Иванович, демобилизованного моряка на первый курс в виде исключения.
— Норма двадцать пять человек, — поморщился завуч.
— Не беда. Будет двадцать шестым. Сверхштатным, так сказать.
— А вступительные испытания? — не сдавался завуч.
— Судя по аттестату об окончании Школы подплава, он их, без сомнения, выдержал бы. Впрочем, чтобы ваша совесть была спокойна, сделаем так… — И капитан написал на моем заявлении: «Зачислить на первый курс судоводительского отделения без экзамена и сверх нормы в виде исключения. Д. Лухманов. 22 августа 1924».
Так произошла моя первая встреча с Дмитрием Афанасьевичем Лухмановым, начальником Ленинградского морского техникума, человеком, широко и гостеприимно открывшим мне двери в новую морскую жизнь. Если бы случилось невероятное, если бы я снова стал молодым и перенесся бы в тот двадцать четвертый год, то из всех открытых передо мною дверей я вновь выбрал бы ту, лухмановскую!
2
Шел 1934 год. Ледокольный пароход «Сибиряков» заканчивал очередной арктический рейс. В кают-компании целыми днями было шумно и весело: возвращалась домой большая группа полярных зимовщиков. Среди этих пассажиров находился один посторонний человек, молодой капитан дальнего плавания из Балтийского морского пароходства. Он длительное время работал по командировке на английском пароходе «Юфорбиа» и сел на «Сибирякова» в бухте Варнека острова Вайгач.
Как-то за обедом его попросили рассказать о плаваниях в южных широтах, и капитан вспомнил свой прошлогодний рейс к берегам Аргентины и Уругвая. Он рассказывал так, что все поневоле заслушались. Закончив обед и свои воспоминания, капитан вышел из кают-компании. Известный полярный исследователь Николай Николаевич Урванцев первым прервал наступившее молчание.
— Скажите, Юрий Константинович, — обратился он к капитану «Сибирякова» Хлебникову, — откуда в вашей среде берутся такие люди? Вот я слушал его и думал — настоящий художник слова… И какая наблюдательность! Приятный собеседник, ничего не скажешь…
Хлебников широко улыбнулся.
— Никаких секретов, Николай Николаевич. Он — ленинградец, капитан лухмановской марки.
Как точно выразился Юрий Константинович Хлебников: лухмановская марка!
Капитаны лухмановской марки! Они не только возглавляли приятные дружеские беседы. Они не только водили свои корабли в отдаленнейшие уголки земного шара. Кирилл Кондратьев и Сергей Рогачевский, Борис Бакунин и Иван Беззубиков, Борис Елизаров, Евгений Парфенов, Николай Комолов — да разве перечислишь всех! — отдали свою жизнь за Родину в боях с фашистскими захватчиками, сменив капитанские нашивки на военно-морские знаки различия. Виктор Тамман стал одним из прославленных подводных асов Северного флота; Григорий Гольдберг и Владимир Полищук командовали дивизионами подводных лодок на Балтике; капитан той же лухмановской выучки Иван Ман первым привел советскую «Обь» к ледяным шельфам Антарктиды; наконец, Юрий Клименченко стал не только опытнейшим капитаном-полярником, но и признанным литератором.
Вот вам примеры лухмановской марки, лухмановской выучки, лухмановского опыта, переданного по крайней мере двум десяткам выпусков из Мортехникума!..
3
Вряд ли среди морских капитанов того времени нашлась бы более импозантная и колоритная фигура, чем Дмитрий Афанасьевич Лухманов. Моряк с головы до ног, с огромным жизненным кругозором и знаниями, далеко превосходившими обычное капитанское образование, Лухманов как нельзя более подходил к должности главного руководителя нашего маленького мирка, обосновавшегося на окраине Васильевского острова. Дмитрий Афанасьевич постепенно начал выводить «мирок» на большую дорогу, и очень скоро Ленинградский морской техникум занял ведущее место среди учебных заведений советского торгового флота.
Лухманов прежде всего подобрал постоянный, дружный и, что особенно важно, сильный коллектив преподавателей. Наряду с «аборигенами», работавшими еще в дореволюционных мореходных классах, такими как Н. И. Панин, М. В. Васильев и другие, не гнушались трудиться у нас крупнейшие профессора Военно-морской академии — Мадисов, Сурвилло, Долголенко, Ляскоронский, Блинов.
Я прекрасно помню, как однажды племянница профессора Мадисова, работавшая у нас в учебной канцелярии техникума, сказала мне буквально следующее:
— Дядя никогда не пошел бы преподавать по совместительству, но его «очаровал» ваш начальник…
— Так же как и вас, — шутливо вставил я. — Он вас тоже очаровал?
— Конечно, — серьезно ответила девушка.
Я уверен, что и другие профессора соглашались преподавать в нашем техникуме после первого же знакомства с Дмитрием Афанасьевичем. И главную роль играло его личное обаяние.
Лухманов расширил наши учебно-производственные мастерские, увеличив тем самым приток заказов со стороны, а, следовательно, и финансовые поступления в бюджет техникума. Только его стараниями курсанты получили красивую форму комсоставского образца, и это заставило подтянуться и быть требовательными к самим себе даже самых неряшливых. Под непосредственным руководством Лухманова были созданы в техникуме драматический и литературный кружки. Причем, если не хватало чего-либо из одежды и обуви для пьесы, обращались к начальнику, а точнее — к его личному гардеробу. Я помню, как, исполняя роль французского маркиза, щеголял на сцене в лакированных туфлях Дмитрия Афанасьевича, а мой соученик и товарищ Паша Константинов отплясывал чечетку в его визитке и полосатых брюках. Все это считалось в порядке вещей, так как Дмитрий Афанасьевич всегда являлся душой всех наших молодежных задумок, были бы они только чистыми и интересными.
Читатель может спросить: откуда в те годы лакированные туфли и визитки? Дело в том, что Д. А. Лухманов вообще любил хорошо одеваться, а по роду своей работы за границей до назначения начальником Мортехникума должен был одеваться так, чтобы не ронять достоинства Советского Союза и развеять миф о бородатых большевиках в красных рубахах до колен. Работал Дмитрий Афанасьевич в те годы представителем Совторгфлота в Шанхае и позже — в Лондоне.
Обычно принято говорить «с легкой руки», но здесь я скажу — с твердой руки Лухманова о нашем техникуме пошла добрая слава, поток абитуриентов из года в год увеличивался, а старые капитаны Балтийского пароходства отбросили свою настороженность и гостеприимно встречали наших выпускников, безбоязненно доверяя молодым штурманам их первые самостоятельные вахты.
4
Дмитрий Афанасьевич занимал казенную квартиру тут же, в здании техникума на втором этаже. Казенные квартиры в те годы были распространенным явлением в учебных заведениях Ленинграда. Семья Лухмановых состояла, не считая его самого, из трех человек: жены Веры Николаевны, дочери Ксении Дмитриевны и сына Коли. Когда Коля уехал в Токио на дипломатическую работу младшим атташе при нашем полпредстве, освободилась одна из комнат, и Дмитрий Афанасьевич тотчас же предложил ее молодому преподавателю математики, только что приехавшему из Москвы, А. В. Вронскому. Узнав, что Вронский не имеет пристанища, он коротко распорядился:
— Тащите немедленно чемодан ко мне. Будем жить вместе. Мой Николай надолго обосновался в Японии, и комната пустует…
По своей натуре Дмитрий Афанасьевич не мог поступить иначе.
В одной из комнат квартиры помещался одновременно и личный и официально-служебный кабинет Лухманова. Кабинет непосредственно примыкал к канцелярии, и со стороны классных помещений техникума можно было пройти к Дмитрию Афанасьевичу лишь через канцелярские апартаменты, где полновластно царил заведующий канцелярией, бывший генерал-майор царской военно-юридической службы Николай Францевич Эйкар. В техникуме его очень уважали за отказ обвинять в суде участников Свеаборгского восстания.
Сначала Эйкар пытался установить порядок в приемных часах начальника, но все рухнуло по вине самого же Дмитрия Афанасьевича. Он раз и навсегда сказал: «Если курсант идет ко мне, значит, ему нужно говорить с начальством. Если вопрос серьезный, я его выслушаю в любое время. Если пришел с пустяками, прогоню сам. Зачем же вам, Николай Францевич, утруждать себя промежуточными расспросами и расписаниями?!» И Николай Францевич отступил, несмотря на весь свой суровый военно-юридический педантизм. Отступил, но не переставал ворчать на «непорядки»…
Будет справедливым сказать, что Лухманов держался просто и доступно. Курсанты делились с ним своими горестями и радостями. Только отпетые лентяи и белоручки не могли рассчитывать на сочувствие начальника. Да такие люди и не задерживались в техникуме. Понимавшие морскую романтику по-своему, потребительски, в виде шумных портовых кабаков и мимолетных «встреч» под кронами тропических пальм, они очень скоро начинали чувствовать, что просчитались, и уходили искать другое пристанище. Их не задерживали и не уговаривали.
За отеческое отношение наши курсанты прозвали Лухманова «папа Лухманов». Дмитрий Афанасьевич знал об этом прозвище, и не думаю, чтобы обижался. По крайней мере, на одной из своих книг, подаренных мне, он так и написал: «Арчи Муравьеву от «папы Лухманова».
Говоря «на одной из своих книг», я ничуть не оговорился. От своей матери, писательницы конца прошлого века Надежды Лухмановой, Дмитрий Афанасьевич унаследовал литературную одаренность, и его правдивые рассказы о жизни и быте торговых моряков прошлых лет, такие как «На палубе», «Соленый Ветер», «Плавание на «Товарище», интересны и талантливы. Они, кстати, во многом автобиографичны.
5
Дмитрий Афанасьевич вел у судоводителей один из разделов морской практики, а конкретно — управление парусными и паровыми судами при различных обстоятельствах. Раздел интересный, если его преподает человек, умеющий донести тему до слушателей. Дмитрий Афанасьевич превосходно преподавал, и на лекциях нашего начальника скучающих не было. Бывало, не успеешь оглянуться, а звонок уже напоминает о перерыве.
Дмитрий Афанасьевич объяснял, например, правила швартовки в сложных условиях и иллюстрировал их примерами из собственной богатой практики. Он как бы вынимал из своего капитанского багажа самое интересное и самое нужное. А капитанский багаж Дмитрия Афанасьевича был поистине необъятен! Огромный стаж плавания в ранней молодости на английских «чайных» клиперах, в более зрелом возрасте — капитанство на учебных парусных кораблях и океанских лайнерах того времени… Было о чем рассказать, было чем подкрепить и оживить суховатые параграфы учебников и пособий!
И Дмитрий Афанасьевич не скупясь, щедро делился с нами своим опытом, не делая секретов из своего знания сложных судовых маневров. Сидишь в аудитории за своим столом, слушаешь Лухманова и ясно представляешь себе и бросательный конец, вовремя запущенный с высокого полубака на причальную стенку береговому матросу, и важность своевременного звякания машинного телеграфа, передающего команду механикам, и даже скрип брасовых блоков, если швартовка проходит на паруснике… Дмитрий Афанасьевич говорил красочно и умел увлекать своих слушателей!
Кроме обязательной программы, Лухманов успевал выкроить из двухчасовой лекции время на «особые», как он сам выражался, разговоры с будущими капитанами. Чаще всего к этим пятнадцати — двадцати минутам добавляли и десятиминутный перерыв между лекциями. По нашей просьбе, конечно. О чем же мы разговаривали? «Особый» разговор обычно начинался так:
— Скажите, Муравьев (или Ман, или Константинов, или еще кто-либо из однокурсников), почему на вас такой странный галстук? Разве в продаже нет темных цветов?
За таким вступлением следовало пространное объяснение, какого цвета галстук или рубашку положено носить при форменном костюме. Заодно: можно ли держать руки в карманах, если в этом нет никакой необходимости; следует ли снимать головной убор, когда ваша собеседница, будь она совсем молода или годится вам в бабушки, стоит с непокрытой головой; не лучше ли в трамвае молодому человеку попросту не садиться, чтобы не попасть в неловкое положение. И многое-многое другое. Главным образом о поведении советского моряка у себя дома и за границей рассказывал коммунист Лухманов — член партии с 1919 года. Он называл эти разговоры «особыми». Я бы назвал их крайне нужными, пригодившимися нам в нашей самостоятельной жизни.
— Не забывайте, что в иностранном порту вы представляете Советский Союз. По вашему поведению и внешнему виду будут судить и о нашей Родине… — Таков был лейтмотив лухмановских собеседований.
— Я не верю, что вы торговые моряки. Почитайте наши газеты: в них ясно сказано, что на советском барке «Товарищ» проходят океанскую практику гардемарины военного флота. Да все ясно и без газет. Торговый моряк проводит все свое свободное время в портовых кабаках — других интересов у него нет. А вы посещаете только театры, музеи да спортивные площадки… Нет-нет, не уверяйте, меня не проведешь!.. — так говорили в Саутгемптоне и в Тальботе, в Буэнос-Айресе и Росарио — в портах, куда заходил советский учебный парусник — четырехмачтовый барк «Товарищ». Такой необычной «ошибке» мы во многом обязаны Лухманову, который в должности капитана водил «Товарищ» из Мурманска к берегам Аргентины в 1926—1927 годах, оставаясь в то же время и начальником техникума.
Бывал ли Дмитрий Афанасьевич резким, вспыльчивым? Редко, но бывал. Налетит, как тропический шквал в ясную, безоблачную погоду, прогремит, прогрохочет и умчится вдаль. И снова добродушная и ласковая усмешка, а шквала будто бы и не было. Но однажды такой шквал продолжался долго, и о нем стоит вспомнить.
«Товарищ» шел Северным морем. Был не то чтобы шторм, но довольно свежая погода, которой, казалось, и конца не будет. И прогноза погоды не узнать — неисправна рация. Мрачное уныние царило в кают-компании.
— Дорого бы я дал, чтобы узнать прогноз погоды, — в сердцах стукнул ладонью по столу Дмитрий Афанасьевич.
Радист весело встрепенулся и изрек:
— Могу сказать. Завтра ожидается норд-ост до трех баллов…
Дмитрий Афанасьевич недоверчиво на него покосился:
— Откуда вы знаете? Ведь у вас рация не в порядке.
— Была не в порядке, а я исправил… Четвертые сутки принимаю метеосводки, — даже обиделся радист.
Щеки Дмитрия Афанасьевича побагровели, он начал задыхаться от гнева.
— Так почему же мне, капитану, ничего не известно? — с трудом выдавил он сквозь стиснутые зубы.
Радист недоуменно пожал плечами:
— Вы же не спрашивали… Я полагал, раз не спрашиваете, значит, не интересуетесь…
— «Полагал!.. Полагал»!.. — выдавил из себя Лухманов, скомкал салфетку и бросил ее на стол. — О, святая простота! Он, видите ли, полагал!.. — Капитан сжал кулаки, вскочил и бросился в свою каюту. — Все сводки сюда! Немедленно! — загремел его голос уже из каюты.
Не знаю, в каких тонах происходило объяснение за закрытой дверью, только минут через десять «маркони» пулей вылетел из капитанской каюты и понесся в радиорубку, откуда не выходил весь день. Все жалели незадачливого радиста, которого прислали на «Товарищ» в Мурманске прямо со школьной скамьи радиокурсов. Это было его первое плавание. В рейсе ему исполнилось восемнадцать лет.
Праздновали день рождения на подходе к острову Мадейра, и за парадным обедом Дмитрий Афанасьевич предложил первый тост.
Но Лухманов по-своему отомстил «маркони»: после того «объяснения» он дня три подряд утром и вечером, опережая радиста, сам появлялся у двери радиорубки, вежливо стучал и просил:
— Благоволите передать последнюю сводку.
Наконец «маркони» взмолился:
— Не могу больше, Дмитрий Афанасьевич, ей-богу, не перенесу, пощадите…
Только тогда он был прощен, и между капитаном и судовым радистом восстановились мир и согласие.
6
О деликатности Дмитрия Афанасьевича я уже упоминал. В связи с этим хочу вспомнить еще одно происшествие, в котором, к моему стыду, я сам сыграл неприглядную роль. В начале августа двадцать седьмого года, после возвращения из очередного летнего рейса, мне пришлось списаться на берег. Пароход перевели на линию Ленинград — Одесса — Ленинград, и, оставаясь на нем, я рисковал опоздать к началу учебного года. Опоздание было бы недопустимым, так как впереди предстоял тяжелый выпускной курс.
Дмитрий Афанасьевич предложил мне на август месяц принять под командование двухмачтовую парусную яхту «Красная звезда», построенную по его чертежам и под его непосредственным наблюдением. «Красная звезда» предназначалась для кругосветного плавания в спортивных целях. Кругосветное плавание не состоялось, яхта из кругосветной превратилась в обычную спортивную и была закреплена за нашим техникумом. Я с радостью согласился.
Так вот, в одно из воскресений мы условились, что «Красная звезда» к вечеру придет в Петергоф. Дмитрий Афанасьевич вместе с Верой Николаевной утром выедут туда же по железной дороге и потом будут нашими пассажирами до Ленинграда.
Встречный ветер и неизбежное в таких случаях лавирование нас подзадержали, и яхта вошла в Петергофскую гавань в темноте. Ветер спал, других судов в порту не было, и царила полная тишина. Готовя якорь к отдаче (в Петергофе обычно швартовались кормой к пирсу с отданным якорем), экипаж, состоявший из пяти курсантов-первокурсников, слишком развеселился. Я прикрикнул на ребят и добавил пару крепких слов, далеко разнесшихся в молчании уснувшей гавани.
Управившись со швартовкой, мы собрались в большой каюте, ожидая пассажиров. Курсант Молас готовил вечерний чай и ужин. Вот закипел чайник, накрыли стол, а начальника и его жены не было. Зато к яхте подошел вахтенный береговой матрос.
— Не ждите, ребята, — объявил он, — начальство ваше уехало поездом.
— Кто вам сказал?
— Сами сказали.
— Давно вы их видели?
— Когда вы входили в гавань, они уже тут ожидали. А пока швартовались, видно, передумали и пошли на вокзал. Так и просили вам передать…
Мы заночевали в Петергофе. Но не могу сказать, чтобы я уснул в эту ночь. Да и на другой день, уже в Ленинграде, я с беспокойством в душе ехал на трамвае в мореходку. Мерещился чудовищный «разнос», которого по справедливости я заслуживал. Но Дмитрий Афанасьевич и виду не подал, что они с Верой Николаевной слышали мои «вдохновенные» слова. Встретил он меня, по обыкновению, приветливо и даже извинился, что обусловленная встреча не состоялась. Конечно, с этого дня я всячески избегал посещения их квартиры. И только после выпускных государственных экзаменов, получив назначение на теплоход «Калинин», волей-неволей преодолел стыд и зашел попрощаться с доброй и гостеприимной Верой Николаевной. Эта удивительно воспитанная женщина пожелала мне всего самого хорошего и по-матерински поцеловала в лоб.
А Дмитрий Афанасьевич на нашем выпускном вечере, чокаясь со мною бокалом шампанского, полушутя, полусерьезно заметил:
— Если на рейде или в гавани стоит такая тишина, что далеко слышно каждое слово, надо избегать чересчур… смелых выражений… Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, я понимал и на всю жизнь запомнил и совет и деликатность моего капитана и начальника…
А вот к зазнайству и ко всему показному Дмитрий Афанасьевич относился нетерпимо. Однажды я, плавая уже третьим помощником капитана на «Калинине», во время стоянки в Ленинграде ехал утром из дома на судно, в порт. В трамвае увидел Дмитрия Афанасьевича, поздоровался и, конечно, сел рядом, благо вагон был почти пустой.
— Вот еду пораньше, чтобы застать начальника пароходства. Организуем групповое плавание для первого курса, — сказал Лухманов.
Завязался обычный в таких случаях разговор: куда и в какие порты заходили, как плавается, когда в отпуск и т. п. На следующей остановке к нам подсел начальник одного из отделов пароходства, знакомый Дмитрия Афанасьевича. Впрочем, и я знал этого товарища, но не настолько, чтобы удостоиться пожатия его руки. Разговор с Лухмановым товарищ из пароходства начал на английском языке. Дмитрий Афанасьевич знал этот язык в совершенстве, и меня, признаться, удивило, что своему собеседнику он отвечал только по-русски, да и то не совсем охотно. Видимо, раздосадованный товарищ не удержался и довольно резко заметил:
— Да что с вами, Дмитрий Афанасьевич? Разучились говорить по-английски, что ли?
Казалось, Лухманов только и ожидал такого вопроса. Он сразу оживился и, прищурившись, отчеканил, выделяя каждое слово:
— Разучиться не разучился, но не умею и не могу красоваться перед окружающими… Пускать пыль в глаза, как говорят русские люди…
Соседи по вагону рассмеялись. Товарищ из пароходства вскочил с места.
— Куда же вы? — любезно осведомился Дмитрий Афанасьевич. — Ведь нам еще две остановки…
Но тот, пробормотав: «Мне надо зайти в поликлинику… Совсем забыл», выскочил из трамвая.
Прощаясь со мной у главных ворот порта, Дмитрий Афанасьевич добавил:
— Терпеть не могу подобных выскочек! Не старайтесь на них походить, Муравьев… Иначе наша дружба врозь…
7
Передо мной лежит книга Дмитрия Афанасьевича «Плавание на «Товарище». На титульном листе надпись: «Арчи Муравьеву на добрую память. Вспоминайте это плавание, когда не будет ни парусов, ни меня. Д. Лухманов. 22 мая 1928 года, Ленинград».
Здесь, в этой дарственной надписи, Дмитрий Афанасьевич дважды ошибся: и паруса сохранились на учебных судах мореходных училищ, и он сам продолжает морскую жизнь, перевоплотившись в крупный океанский лайнер с буквами на бортах: «Капитан Лухманов»…
ПУТЕШЕСТВИЯ, ОТКРЫТИЯ, ПРОБЛЕМЫ
Ю. Колмаков Я — «ЭКЛИПС»… Документальная повесть
ВАЙГАЧ, 1914
Начальник Архангельского почтово-телеграфного округа Николай Петрович Лапин с утра был весел и деятелен. Наказав дежурному телеграфисту немедленно известить его, как только будет получена любая депеша, Лапин занялся хозяйственными делами.
Рабочие, с любопытством поглядывая ему вслед, удивлялись:
— Что это с начальником, будто подменили? Гляди, как молодой, в гору попер!
— Вести, может, добрые получил, оттого и подобрел. Ходил мрачнее тучи — на глаза не попадайся, а тут — «ребятушки» да «поспешай». А может, солнышко ублажило: ишь, пригревает, будто дома…
Стояла редкая для этих широт погода. Лето добралось наконец и до забытого богом края. Солнце неузнаваемо преобразило обычно свинцово-серые воды студеного моря, разбавило холодные тона по-южному веселыми красками. Море казалось обжитым, совсем не похожим на то, каким рисует его воображение по рассказам бывалых людей. А корпуса стоящих на якорях недалеко от берега кораблей — «Василия Великого» и прибывшего вслед за ним из Архангельска с запасом топлива «Николая» — и толпы народа сделали суровый берег Вайгача оживленным и шумным.
На Вайгаче установилась та пора короткого заполярного лета, когда и островная тундра одевается в самые лучшие свои наряды. Кое-где среди голых валунов и редких березок, в муках рожденных промерзлой почвой, виднеются ярко-голубые колокольчики, незабудки, ромашки.
Весело переговариваясь, рабочие переносят с берега угольные брикеты и дрова, катают к машинному зданию бочки с керосином, бензином и маслом. Несколько человек выбрасывают из провизионного барака продукты, признанные врачом негодными к употреблению. На крышах поселка гремят железом кровельщики. Запах краски и извести разносится далеко вокруг.
Пять дней назад, 25 июля 1914 года, Лапин прибыл на Вайгач специальным рейсом «Василия Великого» во главе экспедиции, снаряженной Главным управлением почт и телеграфов с целью освидетельствования и приема в казну трех первых русских радиостанций в Карском море. Их строительство, начатое в 1912 году одновременно на материковом берегу пролива Югорский Шар, на Вайгаче и мысе Маре-Сале, врезавшемся в холодные воды Байдарацкой губы с западной стороны Ямала, было закончено, с великим трудом укомплектованы и завезены санным путем штатные чины и даже проведено несколько пробных сеансов беспроволочной радиосвязи с центром — Архангельской радиостанцией.
Но, не успев во весь голос заявить миру о своем рождении, станции оказались почти не пригодными к эксплуатации. Все постройки были возведены из дорогостоящих бетонных блоков французской фирмой Бодо-Эгесторф, хотя здесь, на берегах Северного Ледовитого океана, гораздо дешевле и практичнее было бы строить из дерева.
Теперь нанятые в Архангельске рабочие устанавливают во французских домиках с двухметровыми окнами русские кирпичные печи, конопатят, утепляют войлоком ставни и двери, чтобы как-то приспособить помещения под жилье, создать условия для работы.
В таком состоянии нашел начальник округа постройки станций Югорский Шар и Вайгач. Да и на Маре-Сале, судя по донесениям телеграфистов, дела ничуть не лучше.
Но не это было главной причиной подавленного на первых порах настроения начальника экспедиции. Отпущенных Главным управлением 47 тысяч рублей, пусть с натяжкой, но хватит для проведения необходимых работ. А устанавливать истинную стоимость построек и осуждать столичное начальство за столь неудачный выбор материалов было не в его интересах: такая инициатива могла обойтись ему слишком дорого, и он ограничивал свою деятельность рамками предписанного. Станции будут, наконец, работать — это он считал главным, этому отдавал все силы.
Дело было в другом. Лапин стал причиной задержки капитана Свердрупа. Его «Эклипс», под всеми парусами спешивший к новоземельским проливам, уже несколько дней стоит на рейде радиостанции Югорский Шар. Свердрупу нужен радиотелеграфист, и он, Лапин, обязан помочь ему в этом. Цель, которую поставил перед собой Отто Свердруп, высока и благородна. Капитан шел на поиски исчезнувших русских полярных экспедиций Русанова и Брусилова.
Но где взять радиотелеграфиста? Этот вопрос мучил Лапина с тех пор, как пришло сообщение о выходе «Эклипса» к новоземельским проливам, и о том, что начальнику округа предстоит командировать на поисковый корабль одного из телеграфистов. Выполнить этот приказ — значит, оставить по одному специалисту на каждой станции. А случись что с любым из них — одна из станций будет бездействовать. Положение и без того чрезвычайно тяжелое: на всех радиостанциях восемь штатных чинов, двое из них должны вернуться на «Василии Великом» в Архангельск — заболевший цингой заведующий радиостанцией в Маре-Сале Иванькин и механик с Югорского Шара Камнадский, направленный по мобилизации в армию.
Лапин решил пойти на риск: задержать на несколько дней Свердрупа и, пользуясь стечением обстоятельств, еще раз потребовать от Главного управления увеличить штат. До сих пор его настойчивые просьбы оставались гласом вопиющего в пустыне.
Свердруп давно уже оставил тон вежливых просьб. В его последних радиозаписках инженер чувствовал с трудом сдерживаемое негодование:
«Жду телеграфиста уже три дня. Больше ждать не могу. Прошу назначить радиотелеграфиста. В противном случае буду принужден уйти сегодня ночью».
«Благоволите зайти Югорский Шар передать «Эклипсу» радиотелеграфиста».
Вчера терзаниям начальника округа пришел конец. Его расчет оправдался: телеграммой из Архангельска сообщили, что Петроград разрешил добавить на вступающие в эксплуатацию карские радиостанции по одному чиновнику четвертого разряда.
Весь день начальник экспедиции находился в приподнятом состоянии духа. Победный исход борьбы вселил в него бодрость и энергию. Нет, теперь никто не скажет, что инженер Лапин своим поступком пошел против общественного мнения, под давлением которого правительство вынуждено снаряжать поисковые экспедиции. Он, русский инженер, всем сердцем желает счастливого плавания и «Эклипсу» и «Андромеде», которая три дня назад покинула Вайгач, продолжая искать встречи с «Фокой» Седова. Кто-кто, а начальник Архангельского почтово-телеграфного округа отлично понимает, какую неоценимую услугу может оказать Свердрупу его бездействующий пока телеграфный аппарат. Капитан сможет держать постоянную связь с карскими радиостанциями, и за маршрутом «Эклипса» будет следить весь мир. Радио поможет упрямому норвежцу избежать судьбы тех, кого он отправился искать в этом огромном и загадочном океане. Теперь это не просто мечта. Сегодня на его, Лапина, глазах, его попечительством создается новое мощное оружие в борьбе с доселе неприступными широтами Ледовитого океана — радио. Новый век решительно вторгается в жизнь. И Седов, и Русанов, и Брусилов с той поры, как поднялись в небо мачты карских радиостанций, стали последними отчаянными героями-одиночками, терявшими связь с Большой землей, едва паруса их судов скрывались за горизонтом. Отныне доброжелательное внимание земли будет сопровождать и поддерживать исследователей в тяжкие дни испытаний. И так ли уж важно, узнает или нет когда-нибудь прославленный полярный капитан, что причина задержки его корабля в Югорском Шаре совсем не в тупом упрямстве чиновника Лапина, зато телеграфиста он получит. Лапин уже давно решил: со Свердрупом пойдет чиновник четвертого разряда Дмитрий Иванович Иванов. Он уже снял его с Югорского Шара и привез с собой на Вайгач. Этот в грязь лицом перед иностранцами не ударит — есть божья искра в нем!
Далеко за полдень начальника экспедиции разыскал один из служащих радиостанции и вручил ему последнюю депешу от Свердрупа: «Получил морского министерства идти Вайгач. Буду завтра четыре утром. Прошу не отказать распоряжением телеграфисту быть готовым — нет времени ждать».
Лапин улыбнулся, аккуратно сложил листок радиотелеграммы и неожиданно серьезно, ни к кому не обращаясь, проговорил:
— Дорогих гостей встречают за порогом. Утром выходим в море!
ВСТРЕЧА
В ночь на 1 августа густой туман обложил все вокруг. Влага холодными каплями выступала по всему корпусу «Василия Великого». Туго натянув якорь-цепи, двухтрубный пароход, казалось, устало дремал.
Утром объявился было зюйд-вест, но ветер был не настолько силен, чтобы разметать и унести с горизонта эту липкую, всепроникающую пелену. Только иногда ему удавалось прорвать ее то в одном, то в другом месте, но, едва обозначившись, брешь тут же заплывала молочно-белой массой тумана.
Только к трем часам дня туман несколько поредел, обозначились контуры берега. «Эклипса» на горизонте не было. Обменявшись семафорными салютами с Вайгачской радиостанцией «Василий Великий», толкая грудью веселый бурун, полным ходом двинулся к югу.
Не выпускавший из рук бинокля вахтенный штурман увидел «Эклипс» недалеко от Болванского Носа.
— Господин капитан, прямо по курсу парусное судно. Идет курсом чистый норд! — бодро доложил он.
Суда быстро сближались и скоро, поравнявшись, легли в дрейф. Пока матросы спускали шлюпку, инженер Лапин, по случаю предстоящей встречи с известным полярным капитаном одетый в парадный мундир с тугим накрахмаленным воротничком, подпиравшим чисто выбритые щеки, разглядывал в бинокль его корабль.
Парусник производил внушительное впечатление. Между тремя стройными мачтами барка виднелись приземистые надстройки, труба. Мощный бушприт, большие вместительные барказы и обсервационная бочка, или, как ее чаще называют моряки, «воронье гнездо», укрепленная на головокружительной высоте под самым грот-бом-брам-реем, выдавали в «Эклипсе» судно, специально построенное для полярных плаваний.
С интересом вглядывался в очертания корабля и Дмитрий Иванов. Что ждет его впереди? Возвращение со славой, разочарование или участь тех, кто уже никогда не ступит на твердую землю? Все это одинаково возможно в полярном плавании, но самостоятельная работа в необычных условиях привлекала влюбленного в свою молодую профессию телеграфиста. Радио — дело новое вообще, а здесь, в Арктике, особенно. Оно еще не показало всех своих возможностей. Дмитрий испытывал волнение человека, ступающего на непроторенную дорогу. Он обшаривал глазами мачты «Эклипса», пытаясь в сложной паутине корабельных снастей отыскать ниточки антенны. Но они слишком тонки и без следа теряются в сложном сплетении брасов, топенантов, дрейперов, десятков других деталей парусного такелажа.
Передав матросу свой немудреный багаж, телеграфист сошел в шлюпку. Четыре пары весел дружно опустились в воду.
Молодой телеграфист очень быстро завоевал расположение командира «Эклипса». Свердрупу пришелся по душе этот немногословный светловолосый крепыш. Небольшие, цепкие, с хитринкой глаза, широко расставленные на его открытом, типично русском лице, выдавали в нем человека от природы любознательного, сметливого.
Едва ступив на судно, Дмитрий с головой окунулся в работу. Радиостанция была немецкой, новейшей системы доктора Гутта. Предстояло изучить ее и заставить работать. Судно снаряжалось в большой спешке, и Свердруп не успел не только подыскать себе опытного телеграфиста, но даже довести до конца испытание станции. Несколько пробных выходов в море из Христиании (Осло), где снаряжалось судно и комплектовался экипаж, не дали должного результата. Присланные фирмой радиомонтажники не смогли связаться с норвежскими береговыми радиостанциями на расстоянии даже в 300—400 миль.
Поздно вечером, когда весь экипаж, кроме вахтенных, уже спал крепким сном, уставший, но довольный прожитым днем Иванов улегся в узкую корабельную койку. Завтра предстояло сделать очень многое: протереть щетки электромотора и укрепить его фундамент дополнительными болтами, отцентровать ось мотора и альтернатора. Соотношения емкости антенны и контура явно не соблюдены: емкость антенны слишком мала, чтобы принять полный заряд энергии от контура. Нужно найти путь увеличения мощности станции. Связь с берегом должна быть налажена как можно быстрее. Это уже приказ капитана…
Ветер крепчал. Корабль с дубовым скрипом тяжело переваливался с борта на борт.
«Эклипс» под всеми парусами и с работающей на всю мощность машиной, борясь с непогодой, быстро шел на восток. Медлить нельзя — Россия ждет известий о судьбе своих сыновей, два года назад вступивших в единоборство с Арктикой.
ЗЕМЛЯ НЕ СЛЫШИТ
По вечерам в кают-компании «Эклипса» собирались все офицеры. Пили кофе, вспоминали дом, близких, говорили о войне, которая уже второй месяц потрясала мир. Но главной темой офицерских вечеров по-прежнему оставалась одна: где следует искать пропавшие экспедиции.
На основании тех немногих данных, которыми располагали моряки, строились различные предположения. Одни пытались доказать, что «Святую Анну» лейтенанта Брусилова и «Геркулес» Русанова нужно искать у восточных островов Карского моря. Свою гипотезу они основывали на том, что в 1912 году Карское море было почти непроходимым из-за чрезвычайно большого скопления льдов. Лейтенант Брусилов — как явствует из рассказов участников Архангельской экспедиции, устанавливающих радиостанции и видевших «Святую Анну» 15 сентября того же года в Югорском Шаре, — повел судно во льды, направляясь к Ямалу. Больше его никто никогда не видел. Как и русановского «Геркулеса», который, не исключено, от Новой Земли тоже направился по пути Норденшельда. Едва ли эти смелые люди смогли пройти далеко на восток.
Другие утверждали, что «Святая Анна» и «Геркулес» попали в дрейф и, увлекаемые течением, вместе со льдами плывут на запад, — доказал же Нансен своим беспримерным трехлетним дрейфом на «Фраме», что такое постоянное течение в полярном бассейне существует, — и искать их следует совсем не здесь, а где-нибудь у Шпицбергена или даже у берегов Гренландии.
Не исключал возможности их дрейфа и Свердруп. Основываясь на опыте того же «Фрама», которым он командовал в те памятные годы, капитан был даже склонен думать, что именно так и случилось с русскими судами. Если они попали в дрейф, как «Фрам», то сейчас, спустя два года, их, пожалуй, следует искать где-то на меридиане Шпицбергена.
Но одно дело предположить местонахождение экспедиционных судов, другое — предугадать, живы ли люди. Если в ноябре — декабре моряки окажутся у Шпицбергена, они не могут рассчитывать ни на встречу чистой воды, ни на организацию санной экспедиции для достижения земли. Да и на острове они едва ли найдут спасение: безлюдный, без топлива и продовольствия полярный берег…
Третья зимовка? Если допустить, что она возможна, то осенью будущего года их вынесет к берегам Гренландии. Состояние льдов в это время года и здесь не предвещает ничего хорошего…
Да и суда их все-таки не «Фрам». У Брусилова всего лишь парусно-паровая яхта, у Русанова — шхуна, тоже оснащенная парусами и машиной. Свердруп знал «Святую Анну» еще под названиями «Ньюпорт», «Бланкатра» и «Пандора-II». Правда, яхта хорошо зарекомендовала себя в полярных плаваниях. В 1893 году она под командованием английского капитана Виггинса участвовала в торговой экспедиции на Енисей и через четыре года повторила опасный рейс в составе очередной английской экспедиции Попхэма. Но уж больно она стара для многолетнего дрейфа. «Святая Анна» построена в 1867 году. И машина на ней слишком маломощная: всего сорок одна лошадиная сила.
В одном сходились мнения офицеров «Эклипса»: нужно спешить обследовать восточную часть Карского моря и если не спасти участников экспедиции, то хоть найти следы, по которым можно будет судить об их участи. Оставлять на своем пути предметы, записки, знаки — закон всех исследователей Арктики.
Только русский телеграфист проводил время в одиночестве. Дмитрий выключил приемник, положил на стол наушники и вышел на палубу. Покорный рулю барк с зарифленными парусами легко скользил вперед по чистой воде, старательно обходил большие льдины и уверенно наваливался грудью, когда на его пути вставали небольшие поля битого льда. «Эклипс» все дальше и дальше продвигался на восток.
Уже обследованы многие острова южной части Карского моря, но нигде не обнаружено следов экспедиции. Впереди — Диксон. Полуночное солнце горит кроваво-багряным светом. Вдали синеют разбросанные льдины, и сам воздух вокруг кажется синим. Тишина. Притихли даже собаки на носовой палубе корабля.
Но не спокойно на душе у телеграфиста. Сегодня уже пятнадцать дней, как он сменил свое жилище на тесную корабельную каюту, однако, несмотря на то, что его рабочий день начинается рано утром и кончается далеко за полночь, результата никакого. Станция в полном порядке, но эфир безмолвствует. Последний раз он слышал Югорский Шар и передал информацию неделю назад. В душу закрадывалось сомнение: так ли уж всесильно его радио? Не отступит ли и оно перед страшными пространствами этого мертвого океана? Но он тут же отбрасывал эту мысль. «Нет, все могло быть иначе! Все могло быть иначе, если бы я не прерывал связи с Югорским Шаром. Теперь ее едва ли восстановишь», — думал он, нервно шагая по палубе.
Вспомнился последний разговор с высокопоставленным соотечественником — представителем русского Морского министерства на судне, надворным советником Тржемесским. В тот вечер телеграфист отправился к чиновнику, хотел убедить, что его распоряжение прекратить связь с Югорским Шаром очень затруднит дальнейшую работу. В каюте Тржемесского не было, и он открыл дверь офицерского салона. Здесь были все, кроме капитана.
Появление телеграфиста осталось незамеченным. Прислонившись спиной к переборке, молодой голубоглазый моряк с волнением читал что-то по-английски. Тржемесский, подперев щеку холеной рукой, удобно устроился в кресле. Заметив Иванова, молча указал ему на стул за своей спиной. Когда чтец кончил и раздались дружные хлопки, советник обернулся к телеграфисту:
— Ты не знаешь, братец, по-английски? Жаль, жаль. Он читал Байрона, «Чайльд-Гарольда»:
И вот один на свете я Среди безбрежных вод… О ком жалеть, когда меня Никто не вспомянет? Быть может, пес поднимет вой. А там, другим вскормлен, Когда опять вернусь домой, Меня укусит он…Ах, как это похоже на нас… Так что ты хочешь, братец?
И когда Дмитрий стал просить разрешения не прекращать пробу с Югорским Шаром, прервал его:
— Астрономического определения места ввиду плохой погоды не делают, подавать обсерваторское радио не будем. А больше телеграфировать не о чем. Мы будем только слушать Югорский Шар.
…«Дослушались!» Дмитрий выбросил за борт недокуренную папиросу, вернулся в рубку и в последний раз надел наушники. Эфир молчал. Связь с берегом была потеряна окончательно.
Но отдыхать ему в эту ночь так и не удалось. Утром сильный удар потряс судно.
«РАГНА» И «СКУЛЕ»
Авария произошла 15 августа в восьмом часу утра в проливе Вега. «Эклипс» с полного хода ударился днищем о каменистый грунт. Треск такелажа, вой собак, топот тяжелых матросских сапог подняли в небо тучи птиц, гнездившихся на берегах пролива. Барк накренился.
Капитан Свердруп стремительно поднялся на мостик и, мгновенно оценив обстановку, отдал первые команды:
— Обследовать носовой трюм! Шлюпку к спуску! Боцману приготовиться завозить якорь!
Но ни в этот день, ни на другой, ни на третий снять судно с мели не удалось. Команда изнемогала от усталости, перегружая из носовых трюмов уголь и запасы провизии. Бесчисленное количество раз завозили якорь, добавляя к усилиям машины мощность судового брашпиля, но «Эклипс» оставался сидеть на грунте.
К вечеру 18 августа убедились окончательно: самим с места не сойти. Вся надежда на радио: приходилось просить о помощи.
Все эти сутки телеграфист не покидал радиорубки. Он вызывал Карские радиостанции во все сроки их работы, но безуспешно. Его не слышали. Расстояние до Югорского Шара равнялось 825 километрам. Все остальное время он тщательно прослушивал эфир в надежде поймать какое-нибудь судно и передавал сигналы бедствия. Шанс на успех невелик: мало вероятно, что поблизости есть суда, снабженные радиотелеграфными аппаратами. Но он не прекращал работы.
Свердруп по нескольку раз в сутки заглядывал в радиорубку и, не сказав ни слова, уходил. Утомленное, с опухшими от недосыпания веками лицо телеграфиста было живым ответом.
Но около полуночи дверь радиорубки широко распахнулась, и из нее с листом бумаги в руках выбежал взволнованный телеграфист. Он помчался прямо к капитану, повторяя только что принятые непонятные слова: «скуле…», «проспект…», «консент…».
Через несколько минут радостная весть со всеми подробностями уже передавалась из уст в уста: телеграфист обнаружил неизвестную искровую радиостанцию, работающую на волне 600 метров и записал три слова: «скуле, перспектива, согласие», по которым капитан определил, что переговаривались между собой по-английски суда норвежской компании Лид, идущие в устья Оби и Енисея. Одно из них — «Скуле». Они рядом. И уж наверняка вызволят их из плена.
Весело отстучал на ключе норвежский текст телеграфист «Эклипса» и скоро вручил ожидающему тут же в радиорубке капитану ответ.
— Они идут к нам на помощь! — Свердруп крепко пожал руку телеграфисту. — А сейчас спать. Вы заслужили ваш отдых.
20 августа в 11 часов утра пароходы «Рагна» и «Скуле» взяли барк на буксир и сняли его с мели. По этому случаю в кают-компании «Эклипса» собрались офицеры всех трех судов. Гости делились новостями.
Капитан «Скуле» поднял бокал, тяжело встал:
— Господа, я предлагаю этот тост за наших телеграфистов. На всем пути во льдах, которым, казалось, не будет конца, мы говорили через Югорский Шар, Архангельск и Петроград с нашей родиной. Теперь не так страшно ходить через это чертово Карское море. Мы счастливы, что судьба подарила нам возможность помочь славному капитану Свердрупу. Мы вовремя услышали вас. Прозит! — с этими словами капитан «Скуле» протянул руку через стол и соединил свой бокал с бокалом русского телеграфиста.
МАЧТА НА ЛЬДИНЕ
В первых числах сентября на пути «Эклипса» стали почти непроходимые льды. С каждым днем все чаще приходилось отступать перед ними.
Нелегко было капитану отказаться от дальнейшего продвижения на северо-восток. Но что поделаешь: еще день-два — и барк мог на долгие месяцы оказаться в плену у льдов. Заветная точка на штурманской карте — остров Уединения, посещением которого Свердруп намеревался закончить программу поиска 1914 года, оказалась недосягаемой.
Остров Уединения. 20 марта 1878 года его открыл на шхуне «Нордланд» соотечественник Свердрупа Эдвард Иохансен. Отважный мореплаватель определил его координаты. После «Нордланда» сюда не заходил ни один корабль. Не хранит ли следов пропавшей экспедиции, не стал ли для нее последним пристанищем этот клочок земли, затерянный в труднодоступных широтах Карского моря?
Обследовать, а заодно и подтвердить открытие Иохансена! Этот план еще несколько дней назад казался Свердрупу вполне осуществимым. Несколько дней, но не сейчас. Сейчас обстоятельства столкнули его лицом к лицу с опасностью зазимовать в море, и Свердруп прилагал все усилия, чтобы пробиться к западному берегу Таймыра и отыскать удобную бухту для зимовки. Только воля капитана, его огромный опыт плавания во льдах помогали отыскивать выход порою из самых затруднительных положений, когда, казалось, льды окончательно сомкнулись вокруг корабля. Барк, маневрируя между ледяными полями, медленно приближался к заснеженным берегам Таймыра.
14 сентября «Эклипс» благополучно достиг полуострова и в одном из его заливов на 75°43′ северной широты и 92° восточной долготы, упершись носом в огромный обломок старого, четырехметровой толщины ледяного поля, встал на зимовку. Не прошло и недели, как битый лед вокруг барка был спаян крепким морозом. Над Таймыром сгущалась долгая, почти сто-суточная сплошная полярная ночь…
Всю ночь судовой механик возился с пародинамо и потому проснулся позже всех. Вчера пытался уговорить телеграфиста подождать до утра. Где там! С тех пор как этот упрямец неожиданно обнаружил суда экспедиции Вилькицкого «Таймыр» и «Вайгач», попавшие в дрейф между Таймыром и архипелагом Норденшельда, он вообще потерял покой: день и ночь проводит в радиорубке, пилит, точит, паяет. В хозяйстве механика медяшки лишней не найдешь — все перетащил к себе. «Этак и до машины скоро доберется», — ворчал в кают-компании механик, но не сопротивлялся: капитан приказал оказывать Иванову всяческое содействие.
Вставать не хотелось. Но необычный шум, голоса людей за бортом заинтересовали его, и, быстро одевшись, механик поднялся на палубу. «Так и есть, опять что-то телеграфист затеял», — усмехнулся он про себя.
Сейчас телеграфиста трудно было отличить от моряков: кожа на лице покрыта кирпичным загаром, огрубела. Захлестнув на спину пеньковый конец, он вместе с матросами тянул по льду запасной рей, задорно выкрикивая что-то. Плечом к плечу с ним — Кнудсен. «Нашли общий язык, тоже упрям как бык». В нескольких десятках метров от носа судна матросы долбили четыре проруби.
— Эй, Кнудсен, никак, глубину залива мерить реем собрались? — не выдержал механик.
Кнудсен сбросил конец, вытер пот со лба, рассмеялся:
— Спускайтесь на лед, господин механик, найдется дело и по вашей части!
Уговаривать механика не пришлось. Через несколько минут он работал вместе со всеми.
6 октября работы по установке радиомачты на льдине были закончены. Судовая антенна стала длиннее на сорок метров. Через два дня телеграфист принес в кают-компанию новость, взволновавшую всех: он слышит Инге, Шпицберген и Архангельск!
Благодаря удлинению, антенна стала емкостней, но добавочная мачта была слишком коротка — всего одиннадцать с половиной метров. Излучающая способность антенны оказалась недостаточной, чтобы «Эклипс» был услышан карскими радиостанциями. Необходимо увеличить высоту добавочной мачты, но на судне больше не было такелажного дерева.
Выручил Кнудсен. Этот неугомонный моряк в середине ноября обследовал на собаках берега залива и нашел плавник-бревно семи с половиной метров. Оно было немедленно доставлено к судну, и скоро топоры матросов превратили его в стеньгу на радиомачте. 9 декабря мачта выросла на семнадцать с половиной метров.
На следующий день в кают-компании «Эклипса» жадно читали отрывки депеш на разных языках, принятых и записанных телеграфистом за ночь. Тут были тексты, переданные неизвестным адресатам телеграфистами Парижской радиостанции, немецких, норвежских и Архангельской. Европу лихорадило. Европа бурлила. Европа полыхала в огне первой мировой войны, и отголоски этой войны радиоволны разносили по всему свету. Тексты переводили, комментировали. Моряки поздравляли Иванова с успехом.
— Почта из Парижа! Свеженькая! Кто бы мог подумать, что наше чахлое детище доктора Гутта способно на такое… Иванов, вы великий маг! Даю честное слово норвежского моряка, что я выброшу за борт каждого, кто захочет оспаривать мое предсказание: вы станете большим инженером, а мы, полярные волки, будем гордиться нашим другом! — тормошил телеграфиста Кнудсен.
Неожиданным вестям с Большой земли радовались все, кроме того, кто их принес. Дмитрий незаметно вышел из кают-компании и заперся в радиорубке. Сколько трудов! Почти каждая деталь станции досконально изучена, многие детали и узлы переделаны его руками — месяцы мучительных размышлений и поисков…
Двухклассное железнодорожное училище, служба, годичное обучение в классе телеграфистов Кронштадтского учебно-минного отряда, откуда он вышел флотским телеграфным унтер-офицером первой статьи, потом курсы, организованные Главным управлением почт и телеграфов, чтобы подготовить кадры для строящихся на окраинах России радиостанций, — вот и все образование 26-летнего сына тамбовского крестьянина. С радиотехникой его не знакомили, а на судне — ни учебника, ни схемы, ни материалов…
Дмитрий сердцем чувствовал, что все труды его, бессонные ночи не напрасны, но его должна услышать Большая земля, как он слышит ее. Не хватает самой малости. Но где она, эта малость, в чем? Он снова и снова мысленно перебирал по деталям свое детище от генератора тока до последнего куска антенны, но ответа не находил.
Поздно ночью советник Тржемесский, вышедший подышать свежим воздухом и полюбоваться северным сиянием, услышал за спиной быстрые шаги и, оглянувшись, узнал телеграфиста.
— Господин Тржемесский, пойдемте к механику. Нужно разбудить его немедленно… Я, кажется, нашел… Это очень важно, прошу вас.
— Что очень важно?
— Заземление. Понимаете…
— Но послушай, братец, механик спит. Неудобно тревожить людей по ночам.
— Я бы сам, да не объясниться мне, слов маловато. Понимаете, если медный лист, прибитый к обшивке, оказался во льду и не достигает воды, то нас никогда не услышат!
Разбуженный механик чертыхался и не мог понять, чего от него требуют. Наконец, после долгих объяснений, подтвердил:
— Да, залив промерз очень глубоко и лист заземления наверняка не имеет сообщений с водой… Винт? Винт свободен. Вчера я прокручивал машину… Заземляйте машину, делайте что хотите, только дайте мне спать! — И механик повернулся на другой бок.
…Вечером 6 января 1915 года у радиорубки собралась большая толпа. Говорили вполголоса, по очереди заглядывали в заиндевевший иллюминатор.
— Вызывает…
— Слушает…
— А может, на Югорском Шаре сейчас спят?
— Треска ты тухлая, в это время они всегда ждут наше радио. — Кнудсен волновался не меньше своего русского друга. — Бедняга Дмитрий, он расплющит свою голову наушниками.
— Смотрите, капитан подвинул ему листок! Они слышат нас!
…В эти поздние часы телеграфист радиостанции Югорский Шар принял первую за пять месяцев депешу с борта «Эклипса»: «Петроград. Главному управлению гидрографии от капитана Свердрупа. «Эклипс» встал на зимовку в заливе с координатами 75 градусов 43 минуты широты и 92 градуса долготы. Имею радиотелеграфную связь с «Таймыром» и «Вайгачем», зимующими: «Таймыр» в широте 76 градусов 40 минут и долготе 100 градусов 20 минут от Гринвича, «Вайгач» в 17 милях к норд-норд-весту от него. На «Таймыре» давлением льда сломана часть шпангоутов, повреждены переборки. На всех судах все здоровы. Свердруп».
«ТАЙМЫР» И «ВАЙГАЧ»
В начале нашего века заветной мечтой многих исследователей Арктики по-прежнему оставались Северный полюс и сквозное плавание северо-восточным морским путем. Достижение американцем Робертом Пири Северного полюса 6 апреля 1909 года и плавание шведского ученого Адольфа-Эрика Норденшельда на «Веге» в 1878—1879 годах из Гетеборга в Тихий океан никем еще не были повторены. Поход Пири, отдавшего этой цели двадцать три года своей жизни, был не больше как спортивным рекордом, он ничем не обогатил науку, и потому полюс не потерял своей притягательной силы. А вот экспедиция Норденшельда, финансированная коммерсантами Оскаром Диксоном и Александром Михайловичем Сибиряковым, взбудоражила деловые круги России и заставила их всерьез задуматься над научным исследованием и изучением Северного морского пути.
Во время выхода «Эклипса» из пролива Югорский Шар начали регулярно работать три карские радиостанции. Несколькими годами раньше их закладки началось строительство двух ледокольных транспортов «Таймыра» и «Вайгача» для изучения условий судоходства вдоль северных берегов Сибири. Летом 1912 года, когда на «Святом мученике Фоке» во главе с Георгием Седовым отправилась первая русская экспедиция к Северному полюсу, когда по пути Норденшельда устремились с запада на восток «Геркулес» Русанова и «Святая Анна» Брусилова, «Таймыр» и «Вайгач» под началом Сергеева приступили к многолетнему штурму северо-восточного прохода с востока.
После гидрографических работ у группы Новосибирских островов моряки сделали попытку пройти на запад, обогнув Таймырский полуостров. Проход мимо мыса Челюскина определил бы семьдесят процентов успеха — сквозное плавание за одну навигацию было бы осуществлено. Но северная оконечность Азии, где 34 года назад прогремели победные салюты норденшельдовской «Веги», оказалась недосягаемой. После десятидневной отчаянной борьбы со льдом «Таймыр» и «Вайгач» в 150 милях от цели вынуждены были повернуть обратно.
1913 год. Снова Владивосток провожает транспорты в опасный путь. На этот раз их ведет капитан второго ранга Борис Андреевич Вилькицкий.
У Медвежьих островов суда расстались. Их встреча произошла у острова Преображения близ восточного берега Таймыра 23 августа. А 11 сентября они вошли в тот пролив, который теперь называют проливом Вилькицкого.
Уже виден на западе мыс Челюскина. Уже близка заветная цель! Но впереди непроходимые льды. А если рискнуть? Если попытаться обогнуть льды с севера?
День, другой, третий. Суда почти без задержки идут по новому курсу. Но что это? Впереди, слева, справа на свинцово-серой поверхности моря — величественные искрящиеся ледяные горы. Не может быть, чтобы они приплыли сюда от берега Новой Земли или Земли Франца-Иосифа! Где-то здесь, поблизости, должна быть гористая земля — мать, породившая их.
И вот справа по курсу обозначились высокие берега. То была Северная Земля.
На другой день участники экспедиции подняли русский флаг на мысе, названном впоследствии мысом Берга.
Снова путь на Север, но непродолжительный — мешают льды. Возвращение в ими же открытый пролив между мысом Челюскина и Малым Таймыром. Находки, а их было сделано немало, не радовали. Возвращение было горьким…
И вот новая, третья попытка прорваться в Карское море. Что принесет 1914 год?
1 сентября суда достигли мыса Челюскина. Одержана, наконец, первая значительная победа. Ничто не предвещало близкой беды. «Вайгач» направился на северо-восток к южной оконечности открытой в прошлом году Северной Земли, а экипаж «Таймыра» решил закрепить успех — воздвигнуть основательный гурий. Катали валуны, складывали и крепили их. Но неожиданный ветер привел в движение огромное ледяное поле, и оно едва не вытолкнуло корабль на берег. Судно получило пробоину. Когда лед отступил назад, исследователи принялись спешно заделывать брешь в корме, и через некоторое время «Таймыр» получил все же возможность лечь на курс «Вайгача».
Но на этом его злоключения не закончились. Едва транспорты миновали пролив Вилькицкого и вошли в воды Карского моря, как «Таймыр» попал между двумя ледяными полями. Гигантские челюсти медленно сходились и наконец стиснули корабль. Судно приподняло и повалило набок. На мачте «Таймыра» взвился сигнал бедствия — безгласный крик о помощи, которой никто не мог оказать…
К счастью, сжатие было непродолжительным, но раны, нанесенные на этот раз, вызывали серьезные опасения: лопнули 13 шпангоутов, четыре водонепроницаемые переборки дали течь.
Льды, встреченные у западного входа в пролив Вилькицкого, были последним порогом на пути к победе, но уже не было сил этот порог перешагнуть.
В сентябре оба транспорта были окончательно затерты льдами и не смогли даже пробиться к Таймыру, чтобы зазимовать под защитой его берегов. Они дрейфовали со льдами, изо дня в день ожидая трагической развязки. Частые сжатия были настолько сильны, что гибель казалась неизбежной, но в самые критические моменты жестокие ветры неожиданно меняли направление, и ледяные тиски отпускали суда. Последнее осеннее сжатие «Вайгач» выдержал 3 ноября. В этот день скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Через каких-нибудь 2—3 часа корабль оказался со всех сторон окруженным торосами и полыньями.
Нет границ жестоким причудам полярных морей! Нос и корма судна были на чистой воде, в то время как его середину сжимало ледяными клещами. Раньше казалось, что нет такой силы, которая смогла бы расколоть многолетние ледяные поля, окружавшие «Вайгач». Теперь они крошились и ломались со страшным гулом и треском, и канонаду эту не в силах был заглушить даже свист и вой ветра.
Так началась полная тревог вынужденная зимовка в дрейфующих льдах судов экспедиции Вилькицкого. Сколько продлится этот ледяной плен? Год? Два? Три? Провизии на год: снабжение в свое время продумано не было. Да и условия жизни на судах далеки от гигиенических норм.
Зима принесла две смерти. Скончались лейтенант Жохов от острого нефрита и кочегар Ладоничев от аппендицита. К полярникам подбирался их самый страшный враг — цинга. Страшна история зимовок в полярных широтах. Крестами, расставленными по всему европейскому и азиатскому побережью Ледовитого океана от Шпицбергена и Новой Земли до Чукотки, помечены ее страницы. До сих пор чернеют кресты на фоне блеклого северного неба. Их ставили на местах гибели судов и могилах людей, сраженных цингой и голодом, окостеневших в ледяных объятиях Арктики. Ставили многие десятки, сотни лет, ставили и шли по ним, как по маякам.
Нелегкое испытание выпало на долю гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана на «Таймыре» и «Вайгаче». Но было одно обстоятельство, которое выделяло эту зимовку из множества других: впервые исследователи не испытывали мук страшного одиночества, которое нередко толкало людей на отчаянные поступки. Непрочная ниточка радиосвязи, случайно протянувшаяся между судами Вилькицкого и «Эклипсом», была для них в тревожные зимние месяцы дороже самого солнца. Кто из моряков не мечтал тогда увидеть и обнять удивительного телеграфиста, самой, кажется, судьбой посланного им на помощь! Не чудо ли: телеграфисты «Таймыра» и «Вайгача» часто плохо слышали друг друга, а этот парень не только связался с ними на расстоянии в 450 километров, но и умудрился перекинуть радиомост между ними и Петроградом! Об их бедственном положении знает Большая земля, в Петрограде разрабатывается план их спасения!
САННЫЙ ПУТЬ
Дмитрий Иванов обнаружил работу радиостанций «Таймыра» и «Вайгача» в конце августа. В первых числах сентября, когда барк с трудом пробивался сквозь льды к берегу Таймыра, он записал несколько депеш, встревоживших моряков «Эклипса». Кто-кто, а капитан Отто Свердруп отлично понимал, что значит попасть между двумя сокрушающими друг друга льдинами, да еще на судне, не приспособленном к такого рода испытаниям. Натиск льдов может выдержать только корабль с яйцеобразным корпусом. У судов Вилькицкого борта отвесные.
— Они зазимуют, — уверенно заявил Свердруп. — И никто не может дать гарантии, что мир не станет свидетелем еще одной страшной катастрофы… Наш долг сделать все возможное, чтобы облегчить их судьбу.
С этого момента телеграфист «Эклипса» ни на минуту не переставал думать о попавших в беду соотечественниках. Он проявил поистине нечеловеческое терпение, добиваясь ответа судовых радиостанций, и, когда наконец связь была установлена, с 8 утра и до полуночи, а иногда и ночью слушал их работу, следил за местонахождением дрейфующих кораблей и их состоянием. Когда «Эклипс» благополучно достиг Таймыра и встал на зимовку, Иванов, при горячем участии всей команды, приступил к осуществлению своего дерзкого замысла: во что бы то ни стало преодолеть расстояние и донести до Петрограда весть о тяжелом положении экспедиции Вилькицкого, просить у Родины совета.
И вот 6 января 1916 года стало праздником для моряков всех трех судов, а ответ Югорского Шара — лучшей наградой телеграфисту.
В дикой арктической природе есть своя неповторимая красота. Когда крылья полярной ночи на долгие месяцы накрывают моря и земли Арктики, на небосклоне вспыхивает иллюминация полярного сияния. Ничто в мире не может сравниться с ошеломляющим изобилием и тонкостью его красок. Будто кто-то щедрой рукой бросил ввысь кусок тончайшего шелка, и он разворачивается в полнеба, переливаясь волшебными красками. Они плывут, мерцают, гаснут и вспыхивают вновь.
Судовой телеграфист ненавидел полярные сияния, нарушавшие работу радиостанции. Не слышал он, не слышали и его. А работы, особенно в январе и феврале, было чрезвычайно много. Теперь «Эклипс» стал передаточной инстанцией. Моряки телеграфировали домой, Иванову приходилось передавать обширную научную информацию, вести переговоры между Вилькицким, Свердрупом и Петроградом о мерах по предотвращению гибели людей на «Таймыре» и «Вайгаче». Положение этих судов по-прежнему вызывало большую тревогу.
Во время сеансов радиосвязи с Югорским Шаром передатчик испытывал такую нагрузку, что искра в контакте ключа Морзе переходила при размыкании в вольтову дугу, и уже через две недели платиновые контакты совершенно сгорели. Запасных не было. Работал на самодельных, нарезанных из красной меди.
Так в напряженном труде прошли долгие зимние месяцы.
Накануне бушевала пурга. Казалось, ветры всех румбов бросились разом на вмерзший в заливе корабль. Бессильные раздавить его льдами, они словно сговорились завалить барк грудами снега, порвать его снасти, сокрушить стройные мачты.
Несколько дней подряд над заливом свирепствовала буря, и когда она внезапно стихла, с трудом выбравшиеся на палубу полярники нашли свое судно основательно впаянным в мощные сугробы. Снег засыпал его по самый планшир крутыми, словно застывшими на взлете волнами, уперся в надстройки.
Но было что-то новое, едва ощутимое и в этом привычном снеге, и в холодном небе, во всем народившемся новом дне, что заставляло насторожиться. Что-то незначительное, едва приметное надломилось за эти дни в могучем механизме суровой природы, и чуткие, истосковавшиеся сердца уловили эту перемену. Не сразу поняли зимовщики, что холодный воздух стал тяжелее и мягче, он не обжигал потрескавшихся губ, не колол почерневшие, обветренные щеки. В Арктику пришла весна.
Вскоре начались легкие оттепели, а вместе с ними и туманы.
Зимовка кончилась на редкость благополучно. Большая часть продовольствия для экипажа «Эклипса» была приобретена у Руала Амундсена, собиравшегося в полярную экспедицию, но отложившего ее. Питание было разнообразным, и моряки, отлично знавшие, что такое цинга, теперь добрым словом вспоминали специалиста по питанию в полярных условиях профессора-физиолога Торупа, немало потрудившегося над их снабжением.
29 апреля весь личный состав «Эклипса» был на ногах раньше обычного. Провожали командира. Свердруп, как и трое его спутников, одетый в теплый меховой костюм, отдавал последние приказания, тщательно проверял нарты и ездовых собак. Некоторых собак он браковал, и их тут же заменяли другими. Путь предстоял нелегкий. Впереди 250 километров мертвой ледяной пустыни с бесчисленным количеством торосов, с полыньями, озерами обнаженного льда. Выдержат этот путь только самые крепкие. К концу отбора в упряжке осталось 24 собаки.
И вот уже сказаны последние слова. Упряжки одна за другой трогаются с места.
Долго смотрел им вслед Дмитрий Иванов. Потом влез на планшир фальшборта и стал медленно подниматься по вантам грот-мачты. Нужно проверить ослабшую от частых ветров сеть антенны и потом сообщить на «Таймыр» и «Вайгач», что Свердруп вышел на помощь.
Из «вороньего гнезда» видно далеко вокруг. Вот выпал из-за большого тороса, выросшего у самого входа в залив, колеблющийся пунктир собачьих упряжек, пересек чистое поле и снова, теперь уже совсем, скрылся за мысом…
Известие о том, что «Святой мученик Фока», вернувшийся в Архангельск в августе прошлого года, подобрал по пути штурмана Альбанова со «Святой Анны», телеграфист принял еще зимой. Оказалось, что слишком далеко на Север увлекли ее от Ямала дрейфующие льды. Помочь было невозможно, но никто из моряков «Эклипса» не мог освободиться от чувства своей вины перед моряками «Святой Анны». Никто не говорил о нем вслух, но оно преследовало их и в уютной каюте, и на крепкой смоленой палубе «Эклипса».
Поиски «Святой Анны» и «Геркулеса» продолжат теперь суда «Герта» и «Андромеда», которые так и не смогли встретить и снабдить углем «Святого мученика Фоку». Сжигая себя в собственных топках, «Фока» с трудом вернулся в Архангельск с оставшимися в живых участниками первой русской экспедиции к Северному полюсу.
А перед моряками «Эклипса» была поставлена новая ответственная задача — предотвратить трагедию, на грани которой оказалась гидрографическая экспедиция в Северном Ледовитом океане. Судя по всему, положение ее и весной оставалось незавидным. Возможность второй зимовки не исключалась, а запасы продовольствия подходили к концу. Многие члены экипажей «Таймыра» и «Вайгача» были больны и не смогли бы вынести второй зимовки. Учитывая эти обстоятельства, а также и то, что во время сильного летнего торошения льдов оба основательно покалеченных судна могут быть раздавлены и погибнуть, решено было часть команды и трех офицеров санным путем перебросить на «Эклипс». Из Дудинки с тысячью оленей должен был в скором времени выйти известный промышленник Бегичев. Перевалив хребет Бырранга, он достигнет «Эклипса» и переправит людей на Большую землю.
В случае необходимости программа спасения, разработанная Главным гидрографическим управлением, предусматривала эвакуацию на барк всего личного состава экспедиции. За первой партией и отправился на собаках капитан Свердруп. Вместе с ним ушел неугомонный Кнудсен.
ИЗ ЛЕДОВОГО ПЛЕНА
Прошло больше месяца. Возвращения капитана ожидали со дня на день, готовили торжественную встречу, но она произошла совсем не так, как мечтали. К вечеру 4 июня, когда после трудового дня весь экипаж сидел за ужином, в открытый иллюминатор ветер донес отчетливый лай собак. Выбежав на палубу, моряки увидели шесть словно из-под земли появившихся упряжек. До черноты загорелые, заросшие по самые глаза люди с трудом поднимались с нарт. Смешалось все: лай собак, бурные приветствия, русская и норвежская речь.
Свердруп привез 39 русских моряков. Некоторые из них были настолько слабы, что поднимались на палубу, опираясь на плечи товарищей. Смертельная усталость чувствовалась и в движениях капитана. Еще больше обострились скулы Свердрупа, глубже запали глаза. В бледных кругах, оставленных светозащитными очками, они старчески слезились, но смотрели по-прежнему остро.
Только Кнудсен не проявлял признаков усталости. Казалось, он вернулся с очередной охоты или из обычной поездки на берег, был возбужден и весел. Он обнимал своего друга-телеграфиста и без умолку болтал:
— Вы тут, наверное, решили, что Кнудсен загнал своих собак в полынью и пошел в обнимку с ними в гости к Нептуну? Это я-то, копченый, соленый и мороженый полярный моряк Кнудсен?! Да из моих жил можно шкоты вить для королевской яхты, а шкуру пустить на ледовую обшивку!
Ровно через месяц, 4 июля, у борта «Эклипса» произошла еще одна шумная встреча. За русскими моряками прибыл Бегичев. Правда, в его стаде была не тысяча, а всего лишь сотня оленей. Остальных пришлось оставить в тундре из-за сильного таяния снегов. 15 июля, снабдив моряков свежим оленьим мясом, Бегичев вышел с людьми на Гольчиху.
Связь «Эклипса» с Югорским Шаром прекратилась давно, еще в начале марта, когда мрак полярной ночи прорезали первые лучи солнца. Да в этой связи уже и не было острой необходимости — поднятая по тревоге Большая земля сделала все от нее зависящее.
В половине июня стали образовываться лужи, лед быстро разрушался, и установленную на нем мачту пришлось снять. Связь с «Таймыром» и «Вайгачем» поддерживалась по-прежнему регулярно, хоть и давалась она ценой огромных усилий. Часто в радиодепешах Иванов неофициально сообщал своему коллеге на «Вайгаче»: «Подземный, едва уловимый звук вашей работы поймал на свой детектор, и радио удалось принять… Едва слышу, с силой жму телефон к уху, так что голова кружится».
В последних числах июля Иванов стал приносить капитану вести одну радостнее другой. Лед вокруг «Таймыра» и «Вайгача», еще в начале месяца приводивший моряков в отчаяние своей толщиной и прочностью, вдруг начал быстро разрушаться и наконец раскололся на множество огромных, растиравших друг друга кусков. Чтобы ускорить освобождение из плена, моряки стали динамитом и пилами прорезать своим кораблям дорогу на свободу, и 2 августа транспорты решительно двинулись вперед. Но уже на второй неделе пути во льдах у северо-восточного берега острова Таймыр пароход «Таймыр» сел на камни, пропоров днище, и только благодаря своевременной помощи «Вайгача» моряки избежали гибели. Словно два израненных, истекающих кровью, но не сдавшихся бойца, опираясь друг на друга, выходили они победителями с поля брани.
Еще одна короткая схватка со льдами, и вот уже позади пролив Матисена, бухта Колин Арчера, где когда-то стояли «Фрам» Нансена и «Заря» Толля. Вперед, только вперед, сквозь льды Карского моря!
Напряженно следили на «Эклипсе» за маршрутом кораблей-братьев, радовались каждой покоренной ими миле. И 11 августа, убедившись, что самая опасная часть северо-восточного морского пути осталась позади «Таймыра» и «Вайгача», Свердруп оставил в бухте склад продовольствия и отдал команду сниматься с якоря.
Пополнив в Диксоне запасы угля, «Эклипс» двинулся навстречу судам Вилькицкого. 29 августа 1915 года суровые берега острова Скотт-Гансена стали свидетелями одной из самых радостных встреч, какие знала когда-либо холодная Арктика.
…Древний Архангельск, сколько отважных мореходов проводил ты, первый порт России, в далекое и опасное путешествие! Трепет парусов на рейде, шелест тополиной листвы на твоей набережной были прощальным приветом для многих сильных духом людей. Не все возвращались с победой. О павших в борьбе ты скорбел, как о своих сыновьях, город-помор, и навсегда сохранил их имена в своей суровой памяти. Победителей ты встречал крепкими объятиями, русским хлебом и солью.
День 16 сентября 1915 года в твою летопись вписан особо. В это утро у твоей Соборной пристани закончился героический рейс «Таймыра» и «Вайгача». Второй раз в истории человечества и впервые с востока на запад пройден наконец северо-восточный морской путь! И не только поэтому знаменателен для тебя этот день, старый Архангельск. Встречей истерзанных кораблей экспедиции Вилькицкого ты подвел итог дореволюционному периоду освоения Арктики.
Вместе с судами гидрографической экспедиции на рейде Архангельска отдал якорь и «Эклипс». После встречи у островов Скотт-Гансена капитан Свердруп повел барк к острову Уединения, чтобы до конца выполнить свой долг, но, не обнаружив на нем следов пребывания экипажа «Геркулеса», присоединился к каравану.
ЛЮДИ И КОРАБЛИ
Прошли годы. Как встречаются и расходятся в море корабли, сошлись и разошлись своими дорогами участники описанных событий, каждый навстречу своей судьбе.
Достижение Дмитрия Иванова, продемонстрировавшего большие возможности радио в полярных экспедициях, быстро получило широкую известность и принесло ему заслуженную славу. Он не забыл Арктики, не забыл моря. Вскоре по возвращении в Архангельск Дмитрий Иванов был направлен инструктором в распоряжение начальника службы связи Белого моря. Он вырастил большой отряд классных морских связистов и сыграл видную роль в бурно развивавшейся в годы первой мировой войны радиосвязи на Севере. Начальник гидрографической экспедиции на «Таймыре» и «Вайгаче» не забыл заслуг телеграфиста «Эклипса». Благодаря его настойчивому ходатайству Морское министерство представило Иванова к награде — золотой медали «За усердие» на Анненской ленте. Вилькицкий, придавая большое значение надежной радиосвязи в Арктике, добивался назначения Иванова начальником строящейся в те годы радиостанции на Диксоне, но тщетно — телеграфист был незаменим на флоте.
После освобождения Севера от белогвардейцев и интервентов, когда началась организация военно-морских сил Белого моря, Дмитрий Иванов пришел на флот молодой Советской Республики в числе первых добровольцев и долгие годы нес вахту на страже Родины.
В 1921 году советские полярники к западу от мыса Стерлигова нашли труп неизвестного. Через год в четырех километрах от полярной станции на острове Диксон был найден второй. В них опознали участников экспедиции Руала Амундсена, направившегося на шхуне «Мод» в июне 1918 года по пути Норденшельда. Один из погибших был Кнудсен…
Почетное место в истории освоения Арктики по сей день занимает имя отважного норвежского капитана-исследователя Отто Свердрупа. С юношеских лет до преклонного возраста он оставался верен Полярной звезде, принимал участие во многих экспедициях в Северный Ледовитый океан, в том числе и советских. В Норвегии о жизни и путешествиях капитана Свердрупа издано много увлекательных книг. На его примере молодежь учится мужеству и упорству в достижении цели.
Нельзя умолчать о судьбе других героев повести — кораблях. В 1915 году барк «Эклипс» (в переводе на русский — «Затмение») был приписан к Архангельскому порту и получил имя великого русского ученого М. В. Ломоносова. В годы интервенции на Севере барк затонул близ Архангельска. В 1929 году его подняли, переоборудовали в шхуну. С этого времени «М. Ломоносов» трудился в составе торгового флота Севера. В 1941 году он погиб от фашистской авиабомбы.
Трагически сложилась судьба «Вайгача». В 1918 году белогвардейское правительство в Архангельске отправило его в паре с «Таймыром» под начальством Вилькицкого в Енисейский залив для постройки радиостанций. Экспедиция закончилась полной неудачей и гибелью «Вайгача». На пути от Диксона в Дудинку транспорт близ мыса Ефремов Камень с полного хода наскочил на подводную скалу, которая в наши дни носит его имя. Вплоть до 1930 года видели моряки останки «Вайгача».
«Таймыр» же долгие годы служил советским полярникам и совершил немало славных ледовых походов под красным флагом. В 1938 году он вместе с ледокольным пароходом «Мурман», заменившим его старого друга, успешно выполнил почетную и ответственную задачу — снял с дрейфующих льдов Гренландского моря четырех героев-папанинцев, осуществивших беспримерный дрейф от Северного полюса.
Н. Непомнящий КОЛУМБ ЗНАЛ, КУДА ОН ПЛЫВЕТ? Исторический очерк
С той поры, когда три каравеллы Христофора Колумба дважды пересекли гладь Атлантического океана и принесли в Европу первые сведения о прекрасных землях на западе, Новый Свет стал объектом пристального внимания европейцев. Будущая Америка была для них действительно Новым Светом…
О Колумбе написано множество книг — научных трудов и увлекательных повестей, однако основа их одна: великий мореплаватель отправился на поиски западного пути в Индию и случайно открыл Америку. Но исследования, проведенные в последние годы, внесли коррективы в устоявшиеся взгляды на историю Колумбовых плаваний. «Все было иначе», — говорят сегодня историки, занимающиеся эпохой Великих открытий.
В 80-х годах XV века Колумб предпринял плавание (а может быть, несколько плаваний) вдоль западного побережья Африки. Он пытался выяснить давно мучивший его вопрос: верны ли данные норманнов о том, что земли, открытые ими на севере, на юге сходятся с Африкой? Нет, увидел Колумб, земли Африканского континента круто уходят на юг от Гибралтара, омываемые водами океана. Что находится за этим океаном, никто в Европе не знал. Колумбу повезло. Во время его пребывания на острове Мадейра туда прибыл корабль с полумертвой от истощения командой, и когда капитан пришел в сознание, он рассказал Колумбу, что их корабль долго носило по волнам Атлантики, пока наконец не прибило к огромному острову… Перед смертью капитан отдал Колумбу свои дневники и карту — на ней были изображены земли, где побывала команда…
Этот случай стал известен нам из записок Лас Касаса — современника и спутника отважного генуэзца. Надо полагать, дневники капитана и карта побудили Колумба отправиться в путешествие.
Другим источником сведений о землях на западе стала римская церковь: все данные, полученные теми же норманнами, становились достоянием римской религиозной верхушки. Достаточно вспомнить, что еще в 999 году Лейф Эриксон во время своего плавания в Винланд держал при себе католического священника, а ведь это было более чем за 400 лет до Колумба!..
Кроме того, Колумб внимательно слушал все были и небылицы в порту родного города — лучшую школу знаний об островах и пассатах, лучший источник сведений о морской жизни в то время трудно было найти…
По крупицам собирал он фактический материал. А собрав, изложил настолько убедительно, что испанский двор выделил ему три прекрасно оснащенных корабля, команду в 120 человек, два миллиона мораведисов, присвоил звания испанского дворянина, адмирала и вице-губернатора всех открытых земель. Мог бы скупой испанский двор понапрасну быть таким щедрым? Нет. Значит, Колумб покорил короля Фердинанда и королеву Изабеллу не одним лишь красноречием. А чем же еще, что он обещал им? Пока неизвестно, и можно лишь высказывать догадки.
Данные, полученные недавно благодаря тщательному анализу дневниковых записей великого морехода, могли бы показаться абсурдными еще несколько десятков лет назад. В наши дни к ним отнеслись иначе.
Колумб не сомневался при выборе маршрута, уверенно вел себя в огромном, казалось бы, безбрежном океане. Сначала каравеллы пошли на Канары, а потом, упорно держась 28-й параллели (широты Флориды!), повернули на запад. Заметим, что плавание по этой параллели никак не могло привести корабли в Индию или Индонезию… Выбор такого пути позволил кораблям идти в полосе постоянно дующих в западном направлении ветров до островов Карибского моря. Лучшего маршрута из Старого Света в Новый моряки не нашли до сих пор!
Можно было бы предположить, что, двигаясь незнакомым маршрутом, корабли будут стараться проходить большее расстояние днем, замедляя ход или даже останавливаясь ночью. Однако каравеллы шли полным ходом и днем и ночью, как будто адмирал был твердо уверен, что никаких неожиданностей быть не может. Но…
Еще на Канарских островах Колумб раздал капитанам судов пакеты с надписью: «Вскрыть в случае бури». Лас Касас пишет, что в пакетах находился приказ: на расстоянии 700 лиг от Канар каравеллы ни в коем случае не должны двигаться ночью. А в 700 лигах (то есть в 4150 километрах) от Канар лежат острова Карибского моря. Откуда знал Колумб, что именно на таком расстоянии от Канар находится земля? От кого он получил сведения?
Колумб был так уверен в своем курсе, что наотрез отказался изменить маршрут и пойти на юг, когда офицеры стали уверять его, что видели там землю. Поразителен и другой факт. Колумб вел два дневника: один — настоящий, для себя, другой — фиктивный, для команды, чтобы матросы не боялись огромного расстояния, отделяющего цель их плавания от родных берегов. 11 октября 1492 года, когда «до Азии» оставалось пройти «всего-навсего» больше половины окружности земного шара, Колумб заявил, что «завтра покажется земля». И 12 октября его корабли бросили якорь у берегов Америки.
Друг детства Христофора Колумба и участник его второй экспедиции Мигель ди Кунас писал в 1495 году: «Когда Колумб заявил, что Куба — это берег Китая, один из участников плавания не согласился с этим, а потом не согласились и остальные. Тогда адмирал прибегнул к угрозам и заставил команду произнести, видимо, заранее приготовленную клятву — быть всегда в согласии с адмиралом и никогда вслух не излагать своих взглядов». Таким образом, Колумб утвердил ложное мнение, что открытые земли — это Азия, и ничто иное. Зачем ему понадобилось это? Может быть, и он и его хозяева хотели скрыть Новый Свет от остального мира?
Проблема возвращения возникла у участников экспедиции уже в первые дни плавания. Сильные ветры, дующие в одном направлении, и морское течение страшили моряков. Им казалось, что обратной дороги нет. На кораблях был один человек, который сохранял полное спокойствие в течение всего плавания. Это был Колумб. Он успокаивал команду, уверяя, что обратно они пойдут тоже с попутным ветром. Откуда он знал это?
На обратном пути флотилия две недели буквально продиралась сквозь волны, но не сходила с заданного курса, не искала спокойного моря и скоро попала в зону постоянно дующих в восточном направлении ветров. До Азорских островов флотилия шла на полной скорости, как дома, в родном Средиземном море. Откуда была у Колумба такая уверенность?
Как отмечают современники Колумба (и это также выяснилось совсем недавно), испанский двор, отправляя адмирала, знал, что там, на западе, будет найдено и как это можно будет использовать. Эти вопросы обсуждались при дворе до отправки экспедиции «в Индию».
Значит, у генуэзца были предшественники? По каким каналам и от кого дошли до него точные сведения об океанских дорогах и землях на западе? Наука только-только начинает отвечать на эти вопросы…
Ю. Дудников РОБИНЗОНЫ БЕРЕГА СКЕЛЕТОВ Очерк
«Мореплаватель, бойся земли» — гласит средневековое изречение. Казалось бы, что оно противоречит здравому смыслу: если судно в опасности, то где же искать спасения, как не на тверди земной? Однако бывают обстоятельства, когда пребывание на суше намного опаснее нахождения на палубе судна, пусть даже потерпевшего аварию!
В случае, о котором будет рассказано, угрозу и смерть спасавшимся несли не враждебное население на берегу, не дикие звери, а именно сам берег, его особенности.
ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ СКАЛА
…Английский лайнер «Стар оф Дунедин» шел полным ходом. Вахтенная служба была особенно внимательна. Наблюдатели зорко следили за океаном, рулевые точно выдерживали курс, капитан безотлучно находился в рубке, радисты напряженно вслушивались в эфир… Казалось бы, зачем такие предосторожности на пассажирском судне? Но на это были важные причины.
Стояла середина 1942 года. Мир был охвачен пламенем второй мировой войны. Фашистские рейдеры и подводные пираты адмирала Деница нападали на суда антигитлеровской коалиции на всей акватории Мирового океана, и крупный пассажирский лайнер был для них желанной добычей. Вот почему, выйдя из Луанды, капитан вел свою «звезду» как можно ближе к берегу, чтобы в какой-то мере обезопасить себя. Впрочем, берег этот внушал мало симпатий, ибо носил многозначительное название Берега Скелетов, и в его безжизненных песках чего-чего, а скелетов действительно хватало.
Тысячелетиями в этих местах идет титаническая борьба между сушей и океаном. Могучие волны, набрав силу на просторах Атлантики, на протяжении многих сотен миль обрушиваются на выжженный, лишенный воды и жизни берег, который медленно поднимается в силу тектонических и геологических причин. Недра этих мест хранят колоссальные залежи алмазов, золота и редких металлов. Но все это надежно защищено со стороны материка — пустыней, а со стороны океана — чудовищной силой прибоя, коварными течениями, смертельной гребенкой рифов, камней и подводных скал, зачастую неожиданно поднимающихся со дна там, где совсем недавно была безопасная глубина.
За сотни лет множество кораблей и судов нашли свою гибель в этих опасных и коварных водах. Потому и носил с незапамятных времен этот берег такое мрачное название, пользуясь среди моряков самой дурной славой.
До Китовой бухты с городком Уолфиш-Бей оставалось еще порядочно хода. Дальше можно было вздохнуть спокойней: рейс приближался к конечному пункту — Кейптауну, на подходе к которому лайнер должны были встретить военные корабли. Капитан Хиллари очень устал за этот рейс: на борту было много пассажиров, в том числе женщин и детей, важный груз, а постоянная угроза нападения гитлеровских субмарин висела над «Стар оф Дунедин» и ее капитаном как дамоклов меч.
Беда пришла совсем с другой стороны. Неожиданно лайнер содрогнулся от удара… Толчок был таким сильным, что кое-кто не удержался на ногах, в рубке вышли из строя некоторые приборы… Через несколько минут из машинного отделения сообщили о поступлении воды сразу в три отсека. Как выяснилось впоследствии, лайнер наскочил на недавно поднявшуюся скалу, естественно, не обозначенную на картах.
На борту поднялась паника. Она еще более усилилась, когда появился крен на левый борт.
Капитан понял, что лайнер обречен. Вода заливала поврежденные отсеки с такой быстротой, что все насосы не справились бы с ее поступлением. Она подступала к главным машинам, к электрогенераторам, стремительно поднимаясь у поврежденного-борта… Спускать шлюпки не хватило бы времени, смятение на судне усиливалось, в любую минуту мог погаснуть свет. Люди в машинных отделениях уже находились по колено в воде. Оставался единственный шанс на спасение — попытаться выброситься на близкий берег. Но подступы к нему стерегла гребенка скал, над которой взлетали белые космы океанского прибоя, смутно видневшиеся в ночной мгле.
Повинуясь команде капитана Хиллари, рулевой изменил курс, направив форштевень лайнера на белую черту прибоя, в одном месте которой смутно виднелся проход. Механики в заливаемых машинных отделениях оставались на своих постах у реверсов, готовые выполнить команды с мостика. Офицеры старались поддержать хоть какой-то порядок, пассажиры инстинктивно стремились на корму, ибо вид приближающихся бурунов был ужасен.
— Прямо руль!.. Стоп, машины! Самый полный назад! — раздавались последние команды.
Через минуту «Стар оф Дунедин» со скрежетом врезалась в частокол рифов… Страшный толчок, грохот… Палуба приподнялась и, кренясь на левый борт, осела. Безумный бег окончился… Лайнер, обдаваемый рокочущими валами, засел в скалах, выбросившись почти на треть своей длины. Но прочно ли? Надолго ли? Этого никто не знал. Предстояло провести ужасную ночь.
ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ПРИБОЙ
За несколько минут до того, как вода залила динамо-машины и лайнер погрузился в темноту, радист успел послать в эфир сигнал бедствия, примерные координаты и позывные своего судна. Когда машинная команда вынуждена была оставить свои посты, радиостанция некоторое время работала на энергии аварийного генератора, который вскоре тоже вышел из строя.
Поняв, что лайнер сию минуту не пойдет ко дну, пассажиры немного успокоились. Однако опасность была велика. Тяжелая океанская волна била по корпусу лайнера, он вздрагивал под их напором, что-то скрежетало, трещало… Вода продолжала затапливать нижние палубы и помещения.
Пассажиры собрались на верхней палубе, в салонах. Всем раздали спасательные нагрудники, сюда поднесли запасы воды и продовольствия, подготовили шлюпки к спуску. Многие с надеждой всматривались в близкий песчаный берег — земная твердь сулила безопасность. Но путь к берегу преграждала сплошная линия прибоя, до которой злополучная «Стар оф Дунедин» не успела дойти. Точно некая символическая черта отделяла Берег Скелетов от внешнего мира, уходя в обе стороны к горизонту, смутно угадываясь в свете крупных африканских звезд.
Но большинство пассажиров не понимали той страшной опасности, которая поджидала их там. Наоборот, у них было одно желание: оставить ненадежную палубу, на которой они натерпелись столько страха. Когда стихла паника, послышались вопросы: когда же начнется переправа на берег? И хотя уроженцы здешних мест пытались убедить всех, что делать этого не следует, волнение среди пассажиров не проходило.
Капитан Хиллари сообщил, что на помощь вышли спасательные суда из Уолфиш-Бей, что на подходе суда, принявшие сигнал бедствия, но это не внесло успокоения. Впрочем, капитан и сам не мог решить, как ему поступать. Благоразумие подсказывало, что следовало бы в ожидании помощи оставаться на лайнере, засевшем в скалах достаточно прочно, но все случилось иначе.
Едва забрезжил рассвет, как судно неожиданно содрогнулось, заскрежетало… По палубам пронесся крик ужаса, пассажиры заметались, кинулись к шлюпкам левого борта. В этой ситуации капитан решил эвакуировать с лайнера женщин, детей, слабых и больных. Кое-как наведя порядок среди мечущихся пассажиров, матросы и офицеры разместили в двух шлюпках 65 человек и спустили их на воду. Кроме того, в каждую шлюпку село несколько гребцов и рулевые, старшим назначили одного из офицеров. К несчастью, в спешке не позаботились проверить обязательное снаряжение шлюпок: наличие в них достаточного запаса продовольствия и, главное, воды.
Уже когда шлюпки отвалили от борта лайнера, оставшиеся на нем поняли, что те, кто уходил на них, рисковали гораздо больше. Первый вал могучего наката подхватил шлюпки, и они исчезли в рассветных сумерках, перемешанных с тучами пены и брызг. Никто из находившихся в шлюпках не смог бы объяснить, каким чудом им удалось преодолеть ревущую полосу прибоя. Громадные валы, острые зубья скал, круговороты течений — все угрожало утлым скорлупкам. Чудо, редкое стечение обстоятельств, да еще мужество и искусство гребцов и рулевых позволили шлюпкам выброситься на отмель. Измученные, полузахлебнувшиеся люди сумели вытащить из них те мизерные запасы, что оказались, и по пояс в воде выбраться на берег. Через минуту несколько особо сильных валов опрокинули шлюпки и зашвырнули их дальше на песок. С борта лайнера, до которого было около двухсот метров, с замиранием сердца следили за этой жуткой переправой.
Первые минуты спасшиеся чувствовали только радость — ведь они были на суше! Увы, скоро наступило разочарование и беспокойство: измученные люди хотели есть и пить, а пищи и воды оказалось ничтожно мало. Солнце быстро поднималось и припекало все сильнее и сильнее, а вокруг, насколько видел глаз, была с одной стороны унылая песчаная пустыня, а с другой — накатывались ревущие громадные валы прибоя, за которыми виднелся накренившийся лайнер, с которого что-то не торопились спускать другие шлюпки и переправлять остальных пассажиров. Впрочем, глядя на силу прибоя, трудно было поверить, что такую высадку удастся осуществить еще раз.
Пестрый табор ютился у кромки песчаного пляжа, не решаясь отойти от близкого и такого недоступного лайнера. Кое-кто начал жалеть, что, поддавшись панике, поступил так опрометчиво, оставив судно, на котором были вода, продовольствие, были близкие, знакомые и, главное, где можно было укрыться от разящих лучей солнца, от удушающего зноя раскаляющегося песка. Ни кустика, ни деревца, ни даже скалы — ничего вокруг.
И вдруг с мостика лайнера взлетела одна ракета, за ней — вторая… Было видно, как по его палубам забегали люди. Это случилось во второй половине дня, когда большинство пассажиров в изнеможении лежали на песке, соорудив над собой подобие жалких тентов из частей одежды и чехлов, оказавшихся в шлюпках.
Сначала решили, что сейчас начнется высадка на берег, но скоро все разъяснилось — вдали появился большой двухтрубный транспорт, осторожно приближавшийся к бедствующему лайнеру.
Женщины, дети, больные радостно кричали, призывно размахивали руками, одеждой — сейчас шлюпки перевезут их обратно и они позабудут этот безжизненный берег. Только младший штурман, мрачно поглядев на белогривые валы, сотрясавшие пляж, сказал какому-то седовласому джентльмену:
— Возможно, что сюда нас забросил господь бог, а вот какой дьявол вытащит обратно? Клянусь чем угодно, что кэп поторопился, выпихнув нас на эту чертову сковородку!
Седовласый джентльмен с пренебрежением оглядел скептика: «И это моряк Его Величества!»
— С подошедшего судна спустят шлюпки, — объяснил он двум миловидным дамам, — они подойдут к пляжу, и через час, максимум через два — все будут на борту, а затем и дома, в Капе!
Увы, ни джентльмен, ни все остальные пассажиры не подозревали, что их невольная Одиссея продлится не один день, что Берег Скелетов так легко не отпустит тех, кто осмелился пересечь роковую линию прибоя, его естественную, неумолимую и недремлющую охрану!
ПЛЕННИКИ БЕРЕГА СКЕЛЕТОВ
Капитан Хиллари горько сожалел о своей минутной слабости, из-за которой на берегу, за грозной чертой прибоя, остались шестьдесят пять человек. Опытный моряк, он утерял контроль над людьми, и теперь предстояло решить почти неразрешимую проблему — вернуть с берега женщин и детей. Но глядя на перевернутые шлюпки, на громадные валы, методично накатывающиеся на пляж, он понимал, что выполнить это невозможно.
Спасательные работы, их первая фаза, закончились быстро. Шлюпки с подошедшего транспорта без суеты переправили на борт всех пассажиров и членов экипажа злополучного лайнера. Беглый осмотр показал, что он получил значительные повреждения и, видимо, судьба его решена — первый же шторм превратит «Стар оф Дунедин» в груду металлического лома. Было снято ценное оборудование, важные документы, ценности, находившиеся в судовом сейфе. Капитан транспорта сообщил, что на подходе еще два судна, а из Уолфиш-Бей вышел мощный буксир и минный заградитель и что транспорт не может долго оставаться на месте катастрофы.
Капитан Хиллари продолжал находиться на мостике своего искалеченного лайнера, чтобы руководить попыткой возвращения на борт спасателя пассажиров, бестолково метавшихся по песчаному берегу.
Увидев подошедшее судно, люди обезумели от радости. Несколько часов пребывания на пышущем жаром безводном берегу показались им вечностью, а голод и жажда причиняли страдания. Теперь, казалось, все позади. Сейчас подойдут шлюпки и они окажутся на судне! Но время шло, а шлюпки не появлялись. Те, на которых они добрались до берега, были повреждены. Да и как их стащить в воду, когда на пляж накатываются такие громадные валы?
Наконец с лайнера спустили две шлюпки. Прикрепив к ним тросы, их отпустили на волю волн. Было видно, как люди на борту травят тросы, пытаясь управлять хрупкими посудинами, стремительно понесшимися к берегу.
Но если прибой милостиво обошелся со шлюпками в первый раз, то теперь он не собирался шутить. Одна шлюпка исчезла на полпути, вторая — взлетела на гребне волны, ударилась о дно и, совершенно разбитая, была вышвырнута на пляж. Следующий вал унес ее обратно и вновь выбросил уже в виде изломанных досок.
Люди на берегу поняли, что дело обстоит гораздо хуже, чем они думали. Мужчины помрачнели, женщины плакали. Муки голода и жажды усилились, многие без сил лежали на песке.
Транспорт собирался уходить. Но была предпринята еще одна отчаянная попытка оказать помощь остающимся. С него и со «Стар оф Дунедин» спустили несколько спасательных плотов, нагруженных водой, продовольствием, медикаментами. Часть из них спускалась на тросах, часть пустили «своим ходом», надеясь, что хоть один из них будет выброшен на берег.
Увы, ревущие валы потопили все плоты и, точно в насмешку, ничего не выбросили на пляж, ни анкерка воды, ни коробки с аварийным запасом. Десятки людей бродили у кромки прибоя, надеясь хоть что-то найти, но тщетно…
Дав прощальный гудок, транспорт направился в океан. На «Стар оф Дунедин» осталась спасательная партия во главе с капитаном Хиллари, а на берегу — толпа голодных, измученных людей. Женщины истерически кричали, протягивая руки к уходившему судну, плакали дети, седовласый джентльмен уже не высказывал оптимистических суждений. Взоры всех с надеждой обратились к младшему штурману Патрику Стьюарту, ожидая от него ответа на вопрос — как им быть, когда придет спасение.
В нескольких словах он обрисовал положение, делая упор на то, что спасательные работы будут продолжаться и их обязательно спасут, но что все должны соблюдать дисциплину, выполнять все его распоряжения и, главное, — произвести тщательный учет тех мизерных запасов воды и продовольствия, которые удалось спасти из разбившихся шлюпок во время высадки. Пассажиры из своей среды выбрали трех человек и вместе со штурманом произвели ревизию, итог которой поверг всех в уныние.
При самой жесткой экономии запасов могло хватить лишь на четыре-пять дней, а на берегу находилось 10 моряков (включая и штурмана), 31 женщина, 16 мужчин (инвалидов, больных, раненых) и 8 детей, самому старшему из которых было двенадцать лет!
Быстро наступила ночь. Измученные люди кое-как расположились на ночевку, оставив вахтенных, которые должны были посменно бодрствовать всю ночь. Первую ночь на зловещем, негостеприимном Береге Скелетов.
НА СУШЕ И НА МОРЕ
В Кейптауне, получив известие о катастрофе «Стар оф Дунедин», морские власти поняли, что дело обстоит намного хуже, чем оно казалось вначале. Опытные моряки и местные старожилы знали много случаев, когда потерпевшим кораблекрушение удавалось попадать на Берег Скелетов, но не было ни одного случая, чтобы кому-либо удалось благополучно выбраться оттуда. Без воды, без пищи женщины, дети и больные недолго протянут на мертвом берегу, добраться до которого невозможно ни со стороны океана, ни со стороны материка. Нужно было что-то делать и делать быстро. Было решено попытаться пробиться к погибавшим… через пустыню и одновременно продолжать спасательные работы со стороны океана.
В ближайшем от места катастрофы городе Виндхуке были спешно сформированы две колонны грузовиков из 16 машин с экипажами, укомплектованными местными жителями — добровольцами, так как до этого ни одна машина не проходила к Берегу Скелетов через страшную пустыню. Никто не знал, пробьются ли машины через пески, а если и пробьются, то сколько из них. Даже самые опытные следопыты и охотники качали скептически головами на предложение стать проводниками.
Гордым бриттам и надменным африкандерам пришлось скрепя сердце обратиться к аборигенам, к презираемым ими бушменам. И забитые, угнетенные, не считающиеся за полноценных представителей людской расы бушмены, узнав, что в пустыне погибают белые женщины и дети, без колебаний согласились быть проводниками в этом небывалом путешествии, хотя им не сулили ни богатых наград, ни каких-либо привилегий.
Начальники колонн и водители получили приказ идти день и ночь через пустыню, несмотря ни на что. Грузовики везли воду, продовольствие, медикаменты, горючее, снаряжение для движения по пескам. Каждая колонна имела рацию, в состав отряда входил врач. Провожаемые добрыми напутствиями автоколонны прошли через Виндхук. Скоро сносная дорога кончилась, и ревущие грузовики скрылись в удушливых тучах песка.
…А на берегу шли третьи сутки лагерной жизни. Положение ухудшалось с каждым часом. Воду давали буквально по каплям, продукты — по крошкам, в первую очередь — детям, женщинам, ослабевшим. Пассажиры пытались укрываться от палящих лучей солнца в отрытых в песке ямах. Матросы и пассажиры-мужчины обследовали берег на две-три мили в обе стороны от места высадки, надеясь отыскать хотя бы один из плотов, сброшенных с транспорта и «Стар оф Дунедин», но ничего не нашли.
По распоряжению капитана Хиллари с полузатонувшего лайнера сбросили остававшиеся еще на нем спасательные плотики, опять загрузив их продуктами и водой, так что сами члены маленькой спасательной группы оказались в критическом положении. Однако, несмотря на все ухищрения, ни один из плотиков не достиг берега. Люди, изнемогавшие на раскаленном пляже, испытывали муки, видя, как на их глазах от борта лайнера отваливают плотики, несущие жизнь, избавление от страданий, и один за другим исчезают в волнах. Многие при этом бросались на песок, сраженные отчаянием, чуть ли не бросались в волны, точно это могло спасти плотики.
Минула еще одна ночь. К полудню к месту трагедии подошли океанский буксир и минный заградитель. Остановившись на безопасном расстоянии, минный заградитель послал шлюпки на лайнер, а буксир, маневрируя машинами, приблизился как можно ближе к берегу. Несколько раз при помощи линемета с него пытались подать проводник, но из этого ничего не получилось. Пробовали вновь направить к берегу плотики, удерживая их на курсе стравливаемыми тросами, — все оказалось тщетным.
…Спасательный штаб рассчитывал, что автоколонны достигнут места катастрофы через неделю. Первые сутки рейса начисто опровергли этот оптимистический прогноз. Карты и рекомендации оказались бесполезными. Оставалось надеяться лишь на проводников-бушменов, на их природное чутье, на изумительную способность ориентироваться в пустыне и находить воду там, где любой европеец неминуемо погибнет. Повинуясь их указаниям, водители вели свои тяжелые «моррисы» и «студебеккеры» по раскаленным пескам.
Моторы грузовиков натужно ревели, машины еле ползли в тучах удушливой пыли. Не помогали ни три ведущих моста, ни специальные ленты… Люди поминутно соскакивали с машин, толкали их изо всех сил. Через несколько часов адского пути пришлось бросить один «моррис», через сутки — второй, перегрузив на уходящие машины воду, горючее, продовольствие. Кипели радиаторы, забивались песком фильтры. Один грузовик вытаскивал другой, иногда в застрявшую машину впрягались две. Катастрофически таяли запасы воды, люди выбивались из сил, но продолжали пробиваться вперед днем и ночью… На четвертые сутки начальники автоколонны сообщили по рации, что не смогут пройти к месту катастрофы не только за остающиеся три дня, но и в последующие.
Оставалась последняя надежда — на самолеты. Но как совершить посадку и взлет в сплошном море песка?
НА ГРАНИ ГИБЕЛИ
А на побережье Каоковельда — Береге Скелетов продолжалась трагедия его пленников. Они оказались как бы заброшенными на другую планету: враждебную, неумолимую, незнаемую. В нескольких стах метров находилось спасение, но до него было так же далеко, как до Луны.
…За дележом воды и продовольствия, точнее, жалких капель и крох, следили десятки настороженных глаз. Пока еще сохранялось уважение к женщине, к слабым… Пока сохранялось, но как долго? Уже вспыхивали беспричинные ссоры, сменявшиеся тупой апатией, слезы переходили в проклятия и брюзжание, причем многие обвиняли в случившемся капитана Хиллари…
Оставаясь на полузатонувшем, постепенно разрушающемся лайнере с группой добровольцев из своего экипажа, несчастный капитан не раз проклинал свою минутную слабость, приведшую к столь трагической ситуации. Если бы он не отправил женщин и детей на берег — все давно были бы уже в Кейптауне. Но кто упрекнет его в невыполнении первой заповеди моряка: «Женщины и дети спасаются первыми»?.. Теперь же все попытки оказать помощь спасшимся оканчивались провалом.
Минный заградитель и буксир держались у места катастрофы, благо океан позволял пока это делать. Правда, никто не знал, как долго это продлится. Нужно было спешить.
На пятые сутки робинзонады капитан буксира решил еще раз попытаться передать трос на берег, чтобы с его помощью переправить пищу и воду. Измученные люди жадно следили за тем, как бесстрашно маневрирует буксир, входя в кромку бурунов, то скрываясь в них, то вздымаясь над линией горизонта. Несчастные робинзоны радостными криками приветствовали отважного капитана, но эти крики сменил вопль ужаса.
Накатившийся большой вал развернул буксир лагом, а следующий положил его на борт… Несколько мгновений он продержался в таком положении, затем перевернулся вверх днищем и исчез. За эти мгновения немногочисленный экипаж успел выскочить на палубу и прыгнуть за борт.
Большинство людей, отчаянно борясь с накатом, смогли удержаться до того, как к ним подоспела одна из шлюпок минного заградителя. Шесть человек понесло к берегу. Пятеро — буквально чудом — пролетели над рифами и очутились на том же пляже. Шестой исчез под многотонной массой воды. К прежним робинзонам прибавились новые.
Бедствие усугублялось тем, что если в шлюпках, выброшенных на пляж, были хоть какие-то запасы, то спасшиеся с буксира не имели ничего. Катастрофа с буксиром совершенно подорвала моральный дух пленников Берега Скелетов.
Неизвестно, как бы повернулись дальнейшие события, если бы на шестые сутки над побережьем не послышался гул авиационных моторов. Два бомбардировщика «Бристоль-Бленхейм» закружили над лагерем. Люди восторженными криками приветствовали появление самолетов, принесших на своих крыльях надежду на спасение.
…Пилоты бомбардировщиков упрямо искали место, где можно было бы посадить свои машины, не разбив их, и не только посадить, но и благополучно взлететь, с пассажирами на борту.
Хотя при вылете с бомбардировщиков было снято все лишнее: вооружение, боезапас, аварийное снаряжение и прочее все равно возможности их, как транспортных машин, были весьма ограничены, так как грузоподъемность «Бленхеймов» не достигала и полутонны. Но приходилось рисковать, и пилоты Армстронг и Ховард пошли на риск.
В одном-единственном месте среди песка протянулось подобие узкой дорожки — точно верхушка стены… На эту-то каменистую полоску пилоты и пошли на посадку. Крича, падая и поднимаясь, люди спешили вслед за самолетами. Пилотов обнимали, целовали, жали руки. В первую очередь посадили наиболее слабых женщин и маленьких детей. Перед взлетом экипажи снова выбросили из бомбардировщиков все, что было возможно.
Страшно было смотреть, как взлетали «Бленхеймы». Взлетный пробег бомбардировщиков равнялся 1000 метрам, длина каменистой полоски — немногим более 800! Окутанный тучами песка «Бленхейм», натужно ревя, помчался навстречу океану. Казалось, еще мгновение — и он перевернется прямо в воду, но, почти цепляя шасси волны, он медленно поднялся и, провожаемый криками радости, ушел в раскаленное небо. Второй бомбардировщик также взлетел благополучно.
Теперь у людей были продукты и вода, была вера в то, что их спасут.
СТРАШНЫЕ НАХОДКИ
А грузовики, ведомые маленькими темнокожими проводниками, продолжали свой чудовищно трудный путь через пустыню. Никогда до этого здесь не было такого количества людей и, уж разумеется, машин. Люди падали от изнеможения, но не отступали. Пришлось бросить еще один «моррис». Вытаскивая тяжелый грузовик из песка, попал под него и погиб один из участников экспедиции. Его зарыли поглубже, чтобы на обратном пути подобрать тело.
Шла вторая неделя похода, дни и ночи которой казались одним сплошным кошмаром. Белые добровольцы с невольным уважением смотрели на своих проводников, ухитрявшихся находить путь среди моря однообразного песка, отыскивать места, где, хотя и с громадным трудом, машины могли кое-как двигаться. Если бы не эти прирожденные следопыты, экспедиция уже погибла бы.
Из сообщений радио участники ее знали, что бомбардировщики совершили еще два рейса, забирая каждый раз по 10—12 человек. Последний рейс едва не окончился трагедией: при посадке «Бленхейм» капитана Ховарда в самом конце пробега сошел с посадочной полосы и глубоко увяз в песке. Все попытки вытащить бомбардировщик окончились неудачей, и его экипаж пополнил колонию пленников Берега Скелетов. Так что помощь автоколонн была нужна по-прежнему, и они продолжали пробиваться к океану.
Хотя за два удачных и один неудачный рейсы самолеты вывезли почти всех женщин и детей — на берегу оставалось много мужчин и несколько наиболее крепких женщин, уступивших свою очередь на эвакуацию слабым.
Пассажиры и члены экипажей разбившегося лайнера и погибшего буксира, разделившись на группы, продолжали блуждать по берегу, все еще надеясь отыскать плотики с водой и продовольствием. Одна из таких групп, отдалившись от лагеря на несколько миль, неожиданно наткнулась на полуразвалившийся корпус деревянного судна, глубоко засевший среди песка и камней. На нем оставались стоять мачты с обломанными стеньгами. Вокруг валялись полузанесенные песком разбитые бочонки, ящики, корабельные части, связки канатов, матросские сапоги, клочья парусов.
Все это истлело, утратило от солнца и ветра свой цвет, по всему было видно, что трагедия произошла давным-давно.
Стали то там, то здесь раскапывать песок. В сотне метров от свалки обломков наткнулись на человеческие скелеты. Они все лежали попарно, как бы обнявшись, но все почему-то были без черепов.
Мрачная находка повергла всех в дрожь, но копать не бросили. Попался человеческий череп, возле него — трухлявый матросский сундук с истлевшими лохмотьями, сапогами, ножом и другим скарбом, среди которого вдруг блеснули золотые монеты с профилем королевы Виктории и датой — 1858 год! Позабыв о голоде и жажде, мужчины принялись лихорадочно копать чем попало: найденными ножами и железными костылями, руками…
Нашлось еще несколько монет, маленький золотой самородок, прицепленный в виде брелока к часовой цепочке, однако часов на ней не было.
Все это лежало в кожаной сумке, прикрепленной к застегнутому на круглую медную бляху поясу. Охваченные кладоискательским азартом, робинзоны уже посматривали косо друг на друга, но, к счастью, нашлись трезвые головы, которые заставили новоявленных золотоискателей опомниться…
…На восьмой день после катастрофы с лайнера сияли капитана с его добровольцами. Минный заградитель был вынужден уйти — погода испортилась, прибой усилился, оставаться было небезопасно. Потерпевшим кораблекрушение оставалось рассчитывать только на автоколонну, которая пробивалась к ним.
В конце концов после неимоверных лишений и трудностей грузовики вышли на берег океана, восторженно встреченные всеми, но спасатели, едва заглохли моторы, свалились на песок и мгновенно уснули. Пленники Берега Скелетов сами собирались в нелегкий обратный путь, откапывали зарывшийся в песок бомбардировщик.
На пятнадцатый день после того, как шлюпки со «Стар оф Дунедин» пересекли роковую черту и выбросились на песок, колонна пошла в обратный путь. «Бристоль-Бленхейм» капитана Ховарда благополучно взлетел, унося с собой оставшихся женщин и самых слабых из мужчин. Еще через восемь дней поредевшая колонна прибыла в Виндхук.
Спасательные операции привлекли к себе большое внимание. Газеты воздавали должное и капитану Хиллари, остававшемуся на своем разбившемся судне до конца, и смелости и находчивости пилотов — Армстронга и Ховарда, — и железной настойчивости и мужеству всех участников перехода через пустыню. Не были обойдены вниманием прессы и штурман Патрик Стьюарт и отдельные пассажиры и пассажирки. Забыли только о проводниках-бушменах, благодаря которым, собственно говоря, и удалось пробиться к берегу и возвратиться назад, которые делили с белыми все трудности, но несли неизмеримо бо́льшую моральную ответственность.
Уже много позже, после завершения спасательных работ, заинтересованные рассказами спасшихся о находке на Берегу Скелетов, газетчики и моряки, любители старины попытались выяснить что-либо о загадочном судне на берегу. Сразу было установлено, что его четыре мачты более полувека служили опознавательными знаками на навигационных картах этого участка побережья.
Затем в городке Мариенталь нашелся девяностолетний немец, уроженец Капской провинции, Хуго Гоцке, вспомнивший, что в 1883 году он, совершая переход вдоль берега Каоковельда, наткнулся на стоящий в бурунах возле берега четырехмачтовый барк. Тут же была опрокинута шлюпка, а на песчаном гребне лежали трупы экипажа, более двух десятков моряков. Осматривать подробно место катастрофы было невозможно: быстро наступала ночь, множество шакалов и отвратительных гиен подступало к месту трагедии и разноголосый лай, визг и рычание заглушали раскаты прибоя.
Охваченный страхом Хуго Гоцке и его проводники поспешили убраться до темноты с жуткого места. И корабль и его мертвый экипаж остались неопознанными. Старик говорил, что барк был в бурунах, но ныне стоял на суше — настолько быстро поднимается берег Каоковельда.
Не удалось узнать название судна и кто зарыл погибших, почему скелеты оказались без черепов, куда они подевались. И таких тайн и поныне немало хранят пески Берега Скелетов, которые на всю жизнь запомнили пассажиры злополучной «Стар оф Дунедин».
С. Барсов АКУЛЬИ «СПАЛЬНИ»
«Мы с Анитой надели акваланги и по очереди нырнули в зеленоватую прозрачную воду. В этот день нам предстояло обследовать целый лабиринт пещер у южного конца длинного рифа, который местные жители называют «Кадена» — «Цепочка». Первым акулу-людоеда обнаружил Карлос и позвал остальных. Дело осложнялось тем, что на сей раз хищница расположилась не в пещере, а в подводном туннеле. После недолгого совещания решили, что Дэвид и Рамон осторожно подплывут к «черному ходу», чтобы отрезать путь отступления, мы же с Анитой «войдем» с парадного.
«Просто невероятно», — подумала я, зная, что и Анита разделяет мое чувство: перед нами, буквально нос к носу, находился самый опасный из морских хищников — акула-людоед, получившая достаточно выразительное прозвище «Реквием». Такие встречи запоминаются на всю жизнь и долгие годы преследуют в ночных кошмарах.
Но пока все шло хорошо. Дэвид и Рамон готовили свою кино- и фотоаппаратуру, чтобы запечатлеть на пленку страшную незнакомку. Анита спокойно считала частоту ее дыхания, занося данные на специальную дощечку. А я, чтобы не мешать ей, осталась ближе у входа в туннель.
И вдруг произошло то, чего никто не ожидал. Видимо, разбуженная яркими вспышками блицев, акула бросилась вперед на Аниту. У той в руках было единственное и, увы, слишком ненадежное оружие — дощечка-таблица, которой она попыталась отбить нападение. Застыв от ужаса, я видела, как хищница пронеслась мимо нее, сбила с ног ударом хвоста и теперь торпедой мчалась ко мне. Я тоже была безоружна…
До сих пор не знаю, что спасло меня. Может быть, те же самые ослепительные огни подводной съемки. Во всяком случае, акула замерла не больше чем в двух футах от моей маски, словно приглашая полюбоваться собой. Над головой у нее, подобно светящемуся ореолу, медленно плавали рыбки-неонки. Холодный, немигающий взгляд не отрывался от моего лица, а сама она находилась так близко, что я отчетливо видела крошечные поры-отверстия на рыле, которые позволяют акулам регистрировать малейшие изменения в электрических характеристиках окружающей воды. Рот ее ритмически открывался и закрывался, каждый раз позволяя полюбоваться двумя дюжинами острейших зубов-ножей. Позади них виднелись еще четыре ряда, которые позднее заменят передние. К моему величайшему облегчению, судя по положению нижней челюсти, незнакомка не собиралась немедленно полакомиться мной…
Когда вечером в лагере мы обсуждали дневное происшествие, больше всего похвал пришлось на долю Аниты.
— Я думал, что ей крышка, — не унимался Рамон, которому, кстати, удалось даже снять весь эпизод на пленку. — И тут она так дала нахалке по зубам, что раз и, дай бог, навсегда отбила охоту мешать научным наблюдениям!
— Да нет же, я ее вовсе не стукнула, — скромно возразила Анита. — Просто оттолкнула в сторону, когда она кинулась на меня. А что еще оставалось делать, если вы пробками торчали в обоих выходах из туннеля?..»
Описанный выше случай может показаться сплошной выдумкой, этаким классическим примером «рыбацких рассказов», однако он имел место в действительности с видным американским ихтиологом доктором Юджинией Кларк и ее ассистентами. Но почему же тогда акула-людоед вела себя так прилично? Почему она оказалась столь мирной, даже сонной? Ответ на эти вопросы, пожалуй, не менее необычен, чем само это происшествие.
…В шести милях от оконечности полуострова Юкатан расположен небольшой островок Исла-Мухерес, который привлекает туристов не только из Мексики и США, но даже из Европы. Славу ему принесли белоснежный песок пляжей, теплые тропические воды, жаркое солнце и ледяное пиво, регулярно, по четвергам, доставляемое паромом с континента. Этот же паром вечером в воскресенье увозит толпы туристов, и пыльные, немощеные улочки селений острова вымирают до следующего уикэнда. Жители Исла-Мухерес — потомственные рыбаки, промышляющие в основном креветок и омаров. Но есть среди них и такие, которые стали профессиональными ловцами акул. Причем не какой-нибудь прибрежной мелочи по полметра длиной, а гигантских акул-людоедов: кархародонов (или белых), «прыгучих» мако и тигровых.
Занятие это далеко не безопасное, если учесть, что каждый из таких хищников способен перекусить взрослого человека, а весят они по нескольку сот килограммов. К тому же попавшаяся на крючок акула вполне может броситься на лодку или катер, чтобы расправиться с рыбаком. И все-таки некоторые жители Исла-Мухерес считают ловлю «тигров морей» делом стоящим: из плавников варят знаменитый нежный суп, ценимый гурманами; жира и витаминов в печени больше, чем у трески; кожа, которая прочнее воловьей, широко используется в легкой промышленности; акулье мясо идет на консервы, его охотно покупают рестораны и магазины; наконец, из челюстей после соответствующей обработки делают сувениры.
Карлос Гарсия тоже был профессиональным ловцом акул. На промысел он обычно выходил с кем-нибудь из товарищей на моторном катере, забрасывал крючки с наживой на прочных стальных цепях вместо лески и ждал добычу. Но в тот день, четыре года назад, он решил поохотиться с гарпунным ружьем за обычной рыбой. И вот в одной из подводных пещер Гарсия наткнулся на… спящих акул. Гигантские рыбины неподвижно лежали на дне пещеры, часто дышали, но, казалось, находились в состоянии какого-то опьянения. На следующий день он проверил свое открытие: все было как и в первый раз. После этого Карлос рассказал о странном явлении коллегам-ловцам. Проверили все вместе. Сомнений быть не могло: в пещере спали акулы-людоеды — кархародоны, мако, тигровые — словом, те самые виды, которые живут в просторах океана над большими глубинами и носят в науке название пелагических.
Слух об открытии Гарсии, естественно, стал распространяться среди приезжих туристов и постепенно достиг ушей ученых. Однако их реакция была более чем скептической: они категорически отвергали возможность того, что акулы-гиганты способны неподвижно спать на дне подводных пещер. В наши дни, утверждали ученые мужи, акулы слишком хорошо изучены, чтобы верить в подобные сказки. С 1958 года действует международная комиссия по изучению акул, которая собирает со всего света информацию о них и о всех случаях нападения на людей, но и ей ничего не известно о подобном явлении. Чтобы жить, пелагические акулы должны непрерывно двигаться. Только тогда жабры омываются достаточным количеством воды. Поэтому ни кархародоны, ни мако, ни тигровые не могли спать неподвижно в подводных пещерах. Другое дело — прибрежные, скажем, леопардовые или акулы-няньки, они действительно иногда отдыхают, лежа на дне.
Трудно ручаться, как дальше сложилась бы судьба открытия Карлоса Гарсии, если бы слух о нем не дошел до видного мексиканского натуралиста Рамона Браво. «Не может быть, — решил он, — чтобы профессиональные ловцы акул могли спутать того же кархародона с акулой-нянькой. Раз так, нужно попытаться найти подтверждение необычному явлению».
В ноябре 1972 года вместе со своим другом из США доктором Юджинией Кларк он отправляется в экспедицию на побережье Юкатана искать спящих акул. Вместе с помощниками они осмотрели немало пещер, встретили еще больше «тигров морей», но, увы, только в бодрствующем состоянии. «Юджиния, я не знаю, чем подкрепить мою веру в то, что акулы на самом деле могут спать в пещерах, — сказал, прощаясь, Рамон Браво. — Может быть, разложить в пещерах пижамы и будильники… Но, право, приезжайте на следующий год, а я пока постараюсь точно выяснить, где и кто их видел».
В апреле следующего года двое ученых организовали новую экспедицию, но на этот раз на остров Исла-Мухерес, причем проводником был сам Карлос Гарсия. И здесь впервые в истории науки члены экспедиции сами наблюдали и фотографировали спящих акул. «Это были вполне взрослые кархародоны, которые относятся к той же категории акул-людоедов, что и тигровые, и мако, — пишет доктор Кларк. — Первое впечатление было, что они мертвы и мы оказались на каком-то подводном кладбище слонов». По словам Карлоса, он «несколько раз рискнул дотрагиваться до них и даже слегка приподнимать, и ни один из хищников не обнаруживал никаких агрессивных намерений».
Поведение гигантских акул было более чем странно. Ведь у них практически нет врагов, следовательно, и необходимости прятаться в пещерах на отдых. Традиционно считалось, что пелагические акулы спят урывками, не прекращая движения. Иначе они просто задохнутся. А тут была настоящая спальня. Причем ее обитатели даже во сне не переставали энергично пропускать воду через жабры, ритмично открывая и закрывая зубастые пасти.
Чтобы найти ответ на эту загадку, нужно было установить температуру воды, ее соленость, содержание в ней кислорода и химических примесей, скорость и направление течения в пещерах — словом, проделать множество далеко не безопасных, хотя акулы на первый взгляд вели себя смирно, опытов.
К сожалению, на этот раз ученым помешала испортившаяся погода. Стало сильно штормить, приборы ломались один за другим, да и акулы не проявляли особого желания помогать в разгадке своей тайны. Нет, они не нападали, но и не давали потрогать себя, быстро уплывая из своих «спален» — пещер на рифах «Кадена», о которых уже говорилось вначале, и «Пунта» — «Конец». В итоге удалось выяснить лишь то, что температура воды в одной из них несколько ниже обычной, а в другой она больше насыщена кислородом.
Самой удачной оказалась третья экспедиция летом 1974 года. За это время Карлос Гарсия обнаружил еще две новые «спальни»: одну на рифе «Пуенте» — «Мост», вторую на рифе «Кадена». Последняя находилась на глубине всего 33 фута, что значительно облегчало ныряние. А главное, акулы в ней вели себя во сне куда спокойнее, чем в других местах. Одна из них, например, позволила фотографировать себя в течение четырех часов, прежде чем вернулась в нормальное состояние.
Анализы проб воды, взятой во всех трех пещерах, показали, что она повсюду имела меньшую соленость, была больше насыщена кислородом, а также содержала повышенный процент кислот. Это говорило о том, что в акульи «спальни» с острова Исла-Мухерес через подземные скважины-каналы, подобные артезианским, поступает пресная вода.
И все-таки оставалось загадкой, почему акулы избрали эти места для своего сна? Один из ассистентов доктора Кларк, Майкл Резио, предположил, что, возможно, подобная смесь оказывает на хищниц «опьяняющее» действие, подобно тому, как это бывает с человеком, принявшим большую дозу спиртного или наркотиков. Ну а предпочтение, которое они отдают нескольким пещерам, объясняется тем, что именно там «подают самый крепкий коктейль». Эта версия, увы, имела один пробел: она не давала ответа на вопрос, почему не «пьянеют» и не спят акулы, заплывающие в реки на десятки, сотни, а то и тысячи километров. Кстати, и сам термин «сон» на поверку оказался не совсем удачным. Нет, акулы не спали в полном смысле этого слова. Их глаза постоянно следили за действиями людей, находившихся возле них и прекрасно видных в ярком электрическом свете. Другое дело, что хищницы не пытались нападать на людей, хотя в обычном состоянии не преминули бы сделать это и при менее соблазнительных обстоятельствах, а просто уплывали, если те слишком уж мешали им наслаждаться «заслуженным отдыхом».
Пожалуй, куда более близкой к истине можно считать гипотезу Дэвида Дабилета, фотографа экспедиции.
«В этот день, — пишет доктор Кларк, — наш очередной «объект наблюдения» вел себя особенно безразлично. При ярком свете была хорошо видна маленькая рыбка-прилипала, ремора, неутомимо сновавшая вдоль тела своего хозяина. Сначала она поочередно обрабатывала жаберные щели, причем порой настолько глубоко залезала в них, что снаружи оставался лишь ее хвост. Потом перешла к голове, особенно тщательно поедая паразитов у глаз, ноздрей и в углах приоткрытого рта. Вечером, когда мы подводили итог дня, Дэвид неожиданно спросил: «Может быть, эти пещеры служат акулам вовсе не «спальнями», а чем-то вроде «косметических салонов»?»
Хотя на первый взгляд это предположение кажется абсурдным, доктор Кларк считает его заслуживающим внимания. Во-первых, ремора вместе с рыбой-лоцманом входит в непременный эскорт акул. Во-вторых, она успешно ликвидирует колонии рачков-паразитов, которые поселяются на коже хищниц и, по-видимому, причиняют им неудобство. В-третьих, в менее соленой воде эти паразиты куда слабее цепляются за свое «местожительство», и прилипале легче оторвать их от кожи. К тому же заниматься подобной «косметической операцией» гораздо удобнее, когда «пациентка» неподвижно лежит в пещере. И наконец, главное, как полагает доктор Кларк, заключается в том, что акулы поддаются определенной дрессировке. Например, во флоридском океанариуме ее «подопечные» демонстрировали поразительные успехи: умели отличить правильную цель от ложной, передвигать различные объекты, подталкивая их рылом, и даже звонить в специальный звонок, чтобы заработать обед. Следовательно, считает она, акулы вполне могут преднамеренно заплывать в подводные пещеры Исла-Мухерес, поскольку такие визиты доставляют им удовольствие.
Другое дело, что, как только они покидают «спальни», от «разнеженности и миролюбия» не остается и следа. В этом на собственном опыте убедился фотограф экспедиции Дэвид Дабилет. В тот день Карлос Гарсия поставил акулий перемет с дюжиной стальных крючков неподалеку от одной из пещер. Через некоторое время одна из хищниц, только что мирно отдыхавшая в «спальне», покинула ее и поплыла по своим акульим делам. Стоило ей почуять приманку — кожистую черепаху, как она тут же торпедой понеслась на нее. Мгновение — и громадная акула билась на леске-цепи. В бессильной ярости она бросалась из стороны в сторону и даже, всплыв к поверхности, пыталась вцепиться в металлическое днище катера. Заинтересовавшись, Дабилет подплыл поближе с намерением сфотографировать необычный поединок. И вот тут-то акула забыла и о крючке, и о катере. «Я готовил камеру к съемке, — вспоминает Дэвид, — когда случайно взглянул вверх. Оттуда на меня пикировало страшное чудовище с широко разинутой пастью. Я едва успел отпрянуть в сторону в то время, как акула прошла всего в нескольких дюймах от моего плеча. Не будет преувеличением сказать, что я действительно был на волосок от крупных неприятностей».
Итак, загадка акульих «спален» пока остается неразгаданной. «Возможно, и в других местах существуют подобные пещеры, — пишет Кларк. — Не исключено, что по мере изучения подводного мира мы обнаружим их. Но пока мы знаем только три места в мире, где «спят» акулы-людоеды: это пещеры на рифах «Пунта», «Пуенте» и «Кадена». И тот, кто побывал в них, никогда не забудет увиденного».
ВАХТЕННАЯ СЛУЖБА «ОКЕАНА»
Н. Супрунов ПИОНЕРЫ «НОВОГО СТИЛЯ»
Почти все живущие ныне считают, что «новый стиль» в русском календаре был введен в феврале 1918 года. С точки зрения декретирования это так, а практически его ввели в употребление моряки русского военно-морского флота еще более ста пятидесяти лет назад, в 1824 году. Вызвано это было потребностью издания «Морского Месяцеслова» — собрания астрономических таблиц на 365 дней вперед, необходимых для определения местонахождения корабля в открытом море. Для этого требовалось точно знать положение небесных светил на каждый день, согласованное по времени с измерениями, производимыми в других мореходных странах, которые жили уже по «новому стилю», отличавшемуся от старого летоисчисления на 12 суток. Обосновывая свое предложение, автор его писал в своей объяснительной записке:
«В сем не может быть ничего неприличного, потому что «Морской Месяцеслов» не календарь и не имеет ничего общего с употреблением гражданским или церковным: почему все равно, какое имя дадут дням или какие дни изберут для наполнения числа 365… Еще другая причина побуждает меня к сделанию сего предложения: я заметил, что офицеры Русского флота привыкли ставить числа в журналах и наблюдениях своих по новому стилю…»
Правительству Александра I пришлось поморщиться, но согласиться и дать морякам военного флота разрешение сдвинуть в своих путевых журналах времяисчисление на 12 суток вперед. Может возникнуть вопрос — почему на 12, а не на 13, как говорится об этом в известном декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР, узаконившем в феврале 1918 года введение в России «нового стиля»? Да потому, что набегание лишних суток происходит только за сто лет. Решение, принятое в XIX веке, давало к тому времени 12 суток, а за сто лет набежали еще сутки.
МАГНИТНЫЙ РУЛЬ
Стрелка компаса, как известно, под действием магнитного поля Земли устанавливается вдоль его силовых линий. Если сделать корпус океанского судна из немагнитного материала, а вдоль киля установить огромный электромагнит, то его поле будет взаимодействовать с магнитным полем Земли, и судно, как огромная стрелка, повернется в ту или иную сторону, в зависимости от того, в каком направлении пустить ток через обмотку электромагнита. Японские специалисты, запатентовавшие новый способ управления судами, полагают, что магнитный руль будет малоэффективным в порту, проливе или другом узком месте. А вот в открытом океане он окажется полезным.
ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ РЫБАЛКА?
День, когда вся деревня отправляется на рыбную ловлю, — большое событие для племени фан, живущего на берегах реки Огуве в Габоне. Вся деревня с утра в движении: еще раз проверяют снасти, лодки, готовят приманки. И только два самых толстых человека, деревенские обжоры, сладко дремлют в тени. Им надо беречь силы.
Но вот приготовления окончены. На берег реки, где разложены горы пищи, вызывают обжор. С неимоверной быстротой они уничтожают ее. Время от времени обжоры все-таки поворачиваются в сторону воды, облизываются и вообще всячески показывают духам реки, как им вкусно. Духи реки ведают рыбой и могут не пустить ее в сети. Но у духов есть слабое место: они очень любопытны. За кустами притаился колдун. Он внимательно смотрит на воду и в какой-то момент — наверное, когда увидит, как высовывается из воды дух, — поднимает руку. По его команде фаны швыряют в реку жареную курицу и банановую кашу.
Вино следует в реку за курицей и кашей. Льют его до тех пор, пока насытившиеся и упившиеся толстяки не начнут храпеть. Значит, духи тоже напились и заснули — можно отправляться на рыбалку.
БЕСПРИЗОРНЫЙ ФРЕГАТ
Недавно у причалов Нью-Йоркского порта береговая охрана США обнаружила необитаемое судно. По сведениям властей, это торговое судно «Пирамида-ветеран» вошло в порт под флагом Багамских островов. Команда, сойдя на берег, больше не появлялась там. Местные таможенники провели тщательный осмотр трюмов беспризорного фрегата и обнаружили большую партию кокаина. Полиция считает, что контрабандисты, опасаясь провала и ареста, заблаговременно покинули судно.
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ ЖИВЕТ В ЯПОНИИ
В Японии были начаты испытания аппарата «искусственные жабры», над которым давно работали японские биологи. Правда, внешне он мало похож на жабры. Это плавучая герметичная камера, в корпус которой встроена батарея пластин из слоистого силикона. Кислород, поглощаемый пластиком из забортной воды, поступает внутрь камеры и служит для дыхания человека. При первом же опыте человек находился в камере и дышал выделенным из воды кислородом в течение 5 часов.
ОСТРОВ, ПРИНЕСЕННЫЙ ВЕТРОМ
Мощный ураган обрушился 21 октября 1973 года на атолл Фунафути, расположенный в южной части Тихого океана. Он привел к человеческим жертвам, разрушил жилища островитян, разорил кокосовые плантации. Но удивительнее всего то, что этот ураган принес с собой новый остров. После того как ураган пронесся, жители Фунафути с изумлением обнаружили, что в юго-восточной части атолла в море вдоль берега появился огромный каменный вал длиной около 18 километров!
Ученые из Гавайского университета и университета Фиджи исследовали этот вал. Оказалось, что вес породы, из которой он образован, превышает три миллиона тонн. Вал состоит в основном из обломков камней размером от десяти сантиметров до семи метров. «Новую землю» от атолла отделяет мелководный проливчик шириной всего несколько метров. Остров, принесенный ветром, оказался прочным образованием, он не разрушается под действием волн, приливов и отливов. Новый клочок земли войдет в состав атолла и будет использоваться местными жителями.
ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ МОРЕ СТАНЕТ МЕРТВЫМ
У берегов острова Искья в Неаполитанском заливе в разгар курортного сезона было запрещено купаться. Вода там содержит так много вредных для здоровья примесей, что ежегодно тысячи купавшихся болели тифом, паратифом или гепатитом. Купание было запрещено в десятках других курортных мест.
Ученые считают, что оградить шлагбаумами нужно было бы не только итальянские пляжи, но и все средиземноморское побережье. Установленные Всемирной организацией здравоохранения допустимые нормы загрязнения морской воды здесь значительно превышены.
Призывы организации ООН к средиземноморским государствам взять на себя конкретные обязательства по очистке вод разбиваются об упорство западных монополий, рассматривающих море не иначе как «мусорную яму». В то же время при таких темпах загрязнения Средиземное море, как полагают специалисты, станет «мертвым» через 30 лет.
НЕ БРОСАЙТЕ БУТЫЛКУ
Если вы потерпели кораблекрушение и, коротая свой век на необитаемом острове, решили поведать миру о своей судьбе, не бросайте бутылку с запечатанным в ней посланием на волю волн. Шанс на то, что ее выловят, равен одному из миллионов, ибо миллионами исчисляется сейчас число бутылок, плавающих в океане.
Ученые Скриппсовского института океанографии, проводившие исследования в центральной части Тихого океана, были поражены количеством предметов человеческого обихода, плавающих на поверхности. Находясь примерно в тысяче километров от берега и вдалеке от крупных пароходных линий, ученые за 8 часов насчитали 53 таких предмета. Больше половины из них были бутылками из пластмассы.
Только в северной части Тихого океана находится, по подсчетам специалистов, от 5 до 35 миллионов таких бутылок.
Ученые высказывают опасение, что, если не будет найден эффективный способ уничтожения пластмассовых сосудов, будущим мореплавателям придется прокладывать курсы своих кораблей в пластмассовых водах морей и океанов.
СЪЕДОБНЫЕ КАТЕРА
Кораблекрушения в наше время, увы, еще случаются. И перед потерпевшими порой встает острая задача: где найти пропитание хотя бы в первые дни. Выход нашла одна из английских фирм. Ею разработан новый вид прочного материала, из которого можно изготавливать различные части оборудования спасательных катеров: шкафчики для медикаментов, не жизненно важные детали палубы и рангоута, скамейки. Все это… вполне съедобно. В качестве исходного сырья используется смесь кукурузной муки, молочного порошка, толченого риса и высушенных бананов. При чрезвычайных обстоятельствах «пищевые» детали крошатся, поливаются морской водой — и через пятнадцать минут «стол» готов.
ПО РЕКЕ БЕГОМ МАРШ!
Если кому-либо посчастливится оказаться летом в австралийском городке Спрингвейл, он увидит удивительную регату. Множество лодок на его глазах устремятся вниз по одному из притоков реки Дайамантины, а спортсмены, как и положено на состязаниях, будут нажимать изо всех сил, надеясь первыми прийти к финишу. И что же здесь удивительного? Только одно. Январь в Центральной Австралии — месяц засушливый, поэтому и Дайамантина, и притоки ее полностью пересыхают. Регата же — традиция давняя, и нарушать ее обидно. Поэтому лодки остаются лодками, только у них нет ни парусов, ни весел, ни… днищ. «Гребцы» становятся внутрь, подхватывают свое суденышко за борта и скамейки, раздается команда «Старт!» — и только пыль стоит столбом над высохшим руслом притока реки Дайамантины.
АППЕТИТ «САНИТАРА МОРЕЙ»
В северной части Атлантики недавно выловили очень крупную акулу. Внутри у «санитара морей» обнаружили целый склад: алюминиевый суповой котел, две бутылки из-под лимонада, металлическую банку с завинчивающейся крышкой, сигнальный фонарь, прорезиненный плащ, пару поношенных теннисных туфель, пластмассовый портсигар, угломер Циммермана, барабан с девятью метрами толстой черной бумаги и несколько метров нейлонового троса…
СУНЬ-КА РУКУ!
Сказочку о греке, который ехал через реку, знают все. А следовательно, и наиболее простой способ ловли раков тоже. Но как поймать, скажем, омара? Хотя омар тот же рак, он очень большой, и клешни соответственно у него не маленькие, так что палец в воду без риска не сунешь.
Американские рыбаки, промышляющие омаров в заливе Мэн, применяют для этой цели специальные верши — клетки, изготовленные из дубовых планок (много раз пытались ель использовать, да не получается — слаба больно). Верша для омаров — сооружение сложное. Состоит она из двух частей — «кухни» и «салона». Привлеченный приманкой, омар забирается в воронку из прочной сетки, ведущую в «кухню», и… неожиданно для себя оказывается за деревянной решеткой. Приманка некоторое время привлекает его внимание, но надо ведь и на свободу выбираться. Самый простой путь для этого — небольшое отверстие в задней стенке. Омар, разумеется, не знает, что за этим отверстием не воля, а «салон», откуда назад дороги нет.
Больше всего ценятся омары средней величины — от 700 граммов до полутора килограммов, те, которые умещаются на блюде. Но, если повезет, можно вытащить и «некоммерческого» гиганта, например вроде, того, что был пойман в 1956 году близ Лонг-Айленда. Рекордсмен весил чуть ли не двадцать килограммов! Рыбаки, впрочем, верят, что в прибрежных водах обитают и 30-килограммовые голиафы. У таких не клешни, а настоящие резаки. И какую вершу в этом случае использовать — непонятно: может, из дубовых прутьев, а может быть, и из стальных…
ХВОСТ — ЭТО ТОЖЕ ЯЗЫК
Гренландские киты, как и многие морские животные, — существа словоохотливые. Правда, язык, на котором они общаются, — пощелкивания, свист, невразумительные шумы, слышимые в гидрофон, — человек пока еще не в состоянии расшифровать. И хорошо, если бы все упиралось только в звуки! Но возьмем, например, явление, которое у моряков Атлантики носит название «хвостохода». Кит зависает в воде головой вниз, так что над поверхностью виден только хвост, и медленно передвигается, куда ему надобно. Время от времени хвостовой плавник оглушительно хлопает по воде. Как это можно объяснить? Одни натуралисты утверждают, что в таком положении китам удобнее питаться на мелководье, другие считают, будто бы это поза для отдыха: порой животные «стоят на голове» двадцать минут и более. Однако вот что интересно: достаточно одному киту из стада увлечься «хвостоходом», как ближайшие соседи тут же следуют его примеру. И тоже шлепают хвостами по воде. Может, это просто задушевная «беседа» после сытного обеда?
НАШЕСТВИЯ МЕДУЗ
Летом 1975 года необычное скопление белых, или лунных, медуз было отмечено в районе порта Бостон и далее к северу, вплоть до граничащего с Канадой штата Мэн. Хотя в июле — августе их численность увеличивается ежегодно, в 1975 году количество этих животных в десятки, а то и сотни раз превышало обычный максимум.
Во внутренней части Бостонской гавани воды буквально кишели медузами, причем размеры тела многих особей достигали 50 сантиметров, что также существенно превышает обычные нормы. В середине июля бостонская электростанция была вынуждена прервать работу, так как ее водозаборная система, расположенная в устье реки, была полностью забита телами медуз. Пляжи и набережные многих городов в штате Массачусетс, Мэн и Мэриленд были усеяны их трупами.
Экология этого вида изучена слабо, и причина столь резкого роста численности и размеров медуз остается неизвестной.
НУ, И ТОНИ СЕБЕ…
Закон одного из племен, живущих на острове Понтианак около западного побережья острова Калимантан, грозит смертной казнью каждому, кто попытается спасти тонущую женщину. Жители острова не являются женоненавистниками. Но они гордятся тем, что их женщины прекрасные пловчихи. Справедливости ради следует отметить, что за время действия закона ни одной женщине не грозила опасность утонуть.
ПЕРВОЙ РЫБЕ ПОВЕЗЛО!
Рыбаки французского порта Сен-Мало никогда не берут первую рыбу, пойманную в начале путины. Они выливают ей в горло полбутылки вина и бросают обратно в море. Они считают, что ее сородичи, почувствовав запах вина, устремятся к поверхности моря, горя желанием быть пойманными.
ИЗ АРХИВА НЕПТУНА
Русские торпедисты всегда отличались высокой выучкой. Про одного из них, главстаршину Багрова с подводной лодки «Пантера», рассказывали, что однажды он удивил весь Кронштадт, выйдя в гавань на шлюпке, запряженной… двумя торпедами. В руках он держал вожжи, привязанные к воздушным куркам торпед, и, по свидетельству очевидцев, превосходно управлял своей упряжкой.
В 1784 году японец Хунасуке Матусяма отправился с несколькими товарищами на поиски сокровищ. Однако их корабль потерпел крушение, и друзья очутились на небольшом коралловом островке в Тихом океане. Умирающий от голода и жажды Хунасуке нацарапал на дощечке свою трагическую историю, положил дощечку в бутылку и бросил ее в море. Океан с невероятной точностью доставил депешу на берег вблизи деревни Хиратемура, где родился Хунасуке, спустя… 150 лет со дня ее отправки.
Однажды, находясь за границей, Петр I совершал морскую прогулку на парусном ботике. Вдруг налетел шквал, едва не перевернувший судно. Когда иностранцы посоветовали Петру возвратиться на берег, он с улыбкой ответил: «Я еще не слыхал, чтобы какой-нибудь император утонул».
Это случилось во время войны с одним из английских часовых в Гибралтаре. Его пост находился на молу во внутренней гавани; чтобы как-то скоротать время, часовой по ночам удил рыбу. Однажды он стал тянуть очень большую добычу и вытащил на берег итальянского разведчика в легководолазном снаряжении. Шпион тут же сдался в плен.
Идея лота — прибора, позволяющего измерять большие глубины и одновременно брать пробы грунта, — принадлежит Петру I.
Приоритет русского царя в изобретении глубоководного лота признан как русскими, так и зарубежными учеными. Вот что писал в середине XIX века по этому поводу американский метеоролог и океанограф М. Мори в своей книге «Физическая география моря»: «Честь первой попытки достать образцы морского дна с большой глубины принадлежит Петру Великому. Этот замечательный государь придумал особый зонд, прилаженный таким образом, что при первом ударе о морское дно грузило соскакивало, а крючья возвращались с куском захваченной ими земли».
Глубоководный лот впервые был применен русскими исследователями во время гидрографических работ на Каспийском море в 1714—1720 годах. Вскоре после проведения промерных работ на Каспийском море было сделано описание, а затем составлена карта этого моря под названием «Картина плоская моря Каспийского».
Любопытные обычаи связаны были у английских моряков с хлебом. В доме каждого из них в течение года обязательно висел хлебец в виде кораблика. Пока он цел, ничто не грозит и судну, на котором плавает хозяин дома или его взрослые дети. В великий четверг на страстной неделе вся семья собиралась у кораблика, с пением церковных гимнов спускала его и предавала огню. А на «рейд» вставал новый корабль.
Не меньшее значение имело и то, как держать буханку, когда режешь ее. Английские моряки считали, что стоит в этом случае перевернуть буханку верхней коркой вниз, тут же где-то в море обязательно перевернется какое-нибудь судно. Ну, а если буханка раскрошится в руках, значит, не миновать неприятностей в семье…
В 1849 году английский парусник «Минерва» покинул один из портов Бермудских островов и направился с грузом в Африку и на Дальний Восток. Долгое время о судне не было никаких известий, и владельцы «Минервы» решили, что экипаж и судно погибли. Но вот несколько лет спустя в одно прекрасное утро жители порта, из которого «Минерва» уходила в плавание, увидели, что «Минерва» вернулась. Посланные на шлюпках моряки не обнаружили на корабле ни одной души. Заглянули в каюту капитана и нашли там его дневник. Последняя запись была сделана 14 месяцев тому назад. А «Минерва» сама вернулась в родной порт благодаря случайным ветрам и течениям, преодолев при этом без людей расстояние в несколько тысяч миль. Загадка исчезновения экипажа не разгадана до сих пор.
Примечания
1
Сокращенный вариант.
(обратно)2
Это название неофициальное.
(обратно)
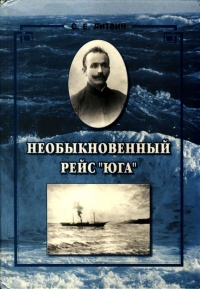

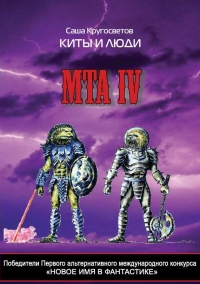

![Бухта Бо[СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/519414/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Океан. Выпуск пятый», Владимир Михайлович Тюрин
Всего 0 комментариев