Николай Черкашин Сон «Святого Петра» Повесть
Часть первая. Голос моря
Мертвец в истлевшем кителе
Эта история начиналась дважды; первый раз в 1914 году — в Севастополе, и второй — в 198…-м в лагуне одного из Сейшельских островов. Мы же поведем свой рассказ с того самого дня 198… года, когда научно-исследовательское судно «Профессор Шведе» под флагом Академии наук СССР бросило свой якорь в бухте острова Коамору.
День этот начался для кандидата биологических наук Алексея Сергеевича Шулейко весьма обычно: в судовой ихтиологической лаборатории он препарировал тушу тунца. Делал это под насмешливым взглядом приятеля — плотного блондина в кремовой рубашке с короткими рукавами и погончиками третьего помощника капитана. Тот сидел на столике с микроскопом и с аппетитом обдирал воблу.
— Тебе бы шеф-поваром работать, — изрек помощник, глядя, как ловко извлекает внутренности Шулейко. — Любой бы ресторан тебя взял. А ты на что талант переводишь? На очередную диссертацию: «Влияние тропиков на блох и клопиков»?
Шулейко и в самом деле меньше всего походил сейчас на «остепененного» кандидата наук: рослый, моложавый, в шортах и майке-тельняшке, он вполне мог сойти за судового кока.
Молодой ихтиолог молча извлек плавательный пузырь и залюбовался им, точно нашел жемчужину.
— Знаешь ли ты, что это? — торжественно вопросил Шулейко.
— Знаю! — чиркнул зажигалкой помощник капитана. — Давай сюда. На спичке поджаришь — во какая закусь!
— Это один из шедевров природы! — постарался не заметить насмешки Шулейко. — Идеальный приемник инфразвуковых волн. Никакая электроника не предскажет тебе за сутки цунами или землетрясения. А рыбы улавливают инфразвуковые сигналы плавательным пузырем и уходят из опасного района… Когда ты жаришь на спичке вот этот инфразвуковой приемник, ты уподобляешься дикарю, который колет кокосовый орех микроскопом.
— Прости нас неумытых. Где уж нам от сохи…
И вдруг третий помощник соскочил со столика и с нарочитой почтительностью встал навытяжку. По трапу в лабораторию спускалась стройная светловолосая женщина голубом бикини.
— Зоечка, — взмолился он, — вы хоть и знойная звезда советской этнографии, но нельзя же так травмировать мужскую психику! В храм науки без халата вход запрещен.
Звезда советской этнографии, не удостоив Диденко вниманием, протянула Шулейко листок из блокнота.
— Алексей Сергеевич, вы бы не могли определить тип рыбы по рисунку? Он очень условный, но все же…
Шулейко взглянул на изображение рыбы, сделанное толстым фломастером.
— Гм… Откуда у вас это?
— Это рыбацкий тотем. Здешние рыбаки поклоняются океанскому божеству Луана-дари. Я попросила жреца островитян изобразить, как они представляют себе Луана-дари, и он набросал мне вот это.
Шулейко с интересом вглядывался в рисунок:
— Какой мощный спинной плавник… Напоминает тунцовых. Но форма хвоста явно как у китообразных.
— Луана-дари приносит счастье в рыбной ловле, — пояснила Зоя. — Бог-рыба, как уверяет жрец, много лет назад покинул морские глубины и с тех пор живет на острове — в соседней бухте. Он лежит на берегу и принимает почести… Вот бы взглянуть на него одним глазочком!
— Да тут и двумя стоило бы посмотреть… Если это и в самом деле некое морское животное, выброшенное штормом… Точнее, мумифицированный труп животного. А ты говоришь «клопики в тропиках»… Эх ты, Гоша…
— Поздравляю с открытием еще одного лох-несского чудовища! — отпарировал третий помощник. — Спиртовать где будем — здесь или в балластной цистерне?
— На Крещатике. В ресторане «Метро»… Зоя, ваш жрец не говорил о размерах этого Луана-дари? Хотя бы приблизительно. Какой он? Такой? Такой? — распахивал и сводил руки Шулейко.
— В длину — шагов пятьдесят.
— Хороша зверюшечка… Скорее всего на остров выбросило финвала — сельдяного кита… Гоша, ты можешь уговорить капитана спустить катер? Слетаем мигом — туда и обратно.
— Ну, если наука просит, — многозначительно посмотрел на Зою Диденко. — Попробую… Как далеко отсюда эта ваша Несси?
— Вон за тем мысом, — показала Зоя.
— Три мили туда, три обратно… — прикинул третий помощник. — За час управимся… Но чем рассчитываться будете не знаю… Соляр нонче вздорожал.
— Да, но вы учтите, бухта священная, — предупредила этнографиня, — и чтобы не оскорблять чувства аборигенов, лучше было бы наведаться туда ночью.
— Обожаю ночные прогулки, — оживился Диденко. — «Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал…»
С пением он и направился на капитанский мостик…
Темной тропической ночью моторный баркас с экспедиционного судна «Профессор Шведе» вошел в священную бухту Луана-дари. У штурвала стоял Диденко. Зоя и Шулейко вглядывались из кокпита в едва различимый берег. Третий помощник сбавил обороты, и баркас ткнулся в песок.
Посвечивая фонариками, все трое двинулись к туше гигантской рыбины, черневшей на песчаном пляже, окруженном густыми мангровыми зарослями.
— Луана-дари! — шепнула Зоя.
— Если аборигены ее охраняют, — вполголоса заметил Диденко, — то на завтрак этой милой рыбке они завтра поднесут три хорошие отбивные…
Огромное тело рыбацкого божества было украшено гирляндами из орхидей, панцирями морских черепах, связками бананов, кокосовых орехов…
Из-за горизонта медленно всплыл бугристый шар луны. Капище осветилось, и Шулейко, предвкушавший открытие нового вида китообразных, с изумлением вдруг обнаружил, что из брюха священного Луана-дари торчит ржавый, грешной вал и что бока его украшают ровные ряды заклепок, а вместо спинного плавника вздымается боевая рубка с узкими прорезями иллюминаторов.
— Подводная лодка! — вырвалось у Шулейко.
— Подводная лодка в степях Украины! — добавил Диденко и покачал головой. Он первым вскарабкался на корпус, подал руку Зое, затем помог влезть ихтиологу. Вдвоем — моряк и ученый — с огромным усилием провернули маховик на крышке входного рубочного люка, подняли медный литой кругляк. Направив лучи фонарей в горловину люка, они увидели, что в боевой рубке сидел, привалившись спиной к стволу перископа, иссохший труп человека в истлевшем кителе. Рука мертвеца с четырьмя чуть различимыми нашивками на остатках обшлагов прижимала к груди планшетку из растрескавшейся кожи. Диденко снял с головы фуражку.
— Ребята, быстрее! — торопила их снизу Зоя. Она стояла позади рубки и тревожно вглядывалась в заросли. — Кажется, сюда идут…
Шулейко быстро спустился по трапу в рубку, выдернув из рук покойника планшетку, опустил крышку, и все трое: скатились с борта лодки в песок. Баркас покинул священную бухту Луана-дари. В каюте «Профессора Шведе» Шулейко попробовал открыть планшетку. Пересохшая кожа развалилась, как скорлупа, и на стол выпала общая тетрадь с большими буквами «IEP», тисненными на черной клеенчатой обложке. Такие тетради выпускались в начале века специально для моряков-подводников — чтобы всплывали, если лодка погибнет. Шулейко осторожно раскрыл дневник, отчего обложка тут же отвалилась. Пинцетом перевернул ломкую страницу и стал читать.
Храм на скале
1914 год. Севастополь доживал последнее мирное лето. Матросы на ялах состязались в гребле. На Приморском бульваре духовой оркестр Штаба Командующего флотом Черного моря играл вальс «Майский сон». Офицеры в белых кителях фланировали вдоль бульваров с дамами в ажурных летних шляпках. Солнце сияло на кресте Владимирского собора, дробилось в зеркальной меди труб, золоте погон, в бриллиантах серег и ожерелий… Город старался забыть о своем военном ремесле. Город старался быть южным курортом, не более того…
Старший лейтенант Николай Михайлов — офицер лет тридцати с аккуратной русой бородкой помог грациозной волоокой девушке сесть в фаэтон.
— На Ипатьеву дачу! — приказал он извозчику и обернулся к спутнице: — Вот увидите, Надежда Георгиевна, брат будет искренне рад нашему появлению. Он доктор, и к тому же в большой моде. К нему из Киева, Москвы и даже Петербурга едут. Дмитрий практикует таласотерапию — лечение морем. Да-да, представьте себе: море — лучший лекарь! Нервы, мигрени, астмы и прочие городские болезни море развеивает, как ветер туман… Поживете с недельку и сами убедитесь в этом.
Николай и Надежда Георгиевна пробирались меж прибрежных камней по неровной тропе. Глухо шумел прибой. — В этом вечном биении волн, уверяю вас, — придерживал локоть девушки и говорил Михайлов, — не меньше смысла, чем в нашей людской суете. Море — существо живое: оно дышит, пульсирует, сердится, ласкается, гневается… Наконец, оно неравнодушно к прекрасному. Недаром носовые фигуры старинных парусников делали в виде красавиц.
Две деревянные резные нимфы поддерживали балкончик двухэтажной дачи приват-доцента медицины Дмитрия Михайлова. Легкое ажурное строение утопало в зелени кипарисов.
Веранду с видом на море заливало летнее солнце. За овальным столом весело обедали Надежда Георгиевна, настоятель форосского храма отец Досифей и оба брата — моряк и врач.
Приват-доцент — молодой, но уже полнеющий мужчина в белом пиджаке и пикейном жилете — привстал из-за стола, погрозил вилкой в распахнутое окно веранды и крикнул:
— Активнее, господа, активнее!
Там в мелководном бассейне приседали, вздымая брызги, две тучные купчихи в полосатых купальниках с рюшечками и оборками. Вместе с ними сгонял жир и толстяк, придерживающий на лысине кок начесанных из-за ушей волос. Все трое не сводили глаз с гипсовых фигур нагой Психеи и Амура, служивших им немым укором.
Отец Досифей, могучий бородач с крестом на орденской ленте, с благодушной укоризной пожурил Михайлова-моряка:
— Хоть бы в день венчания отложили свои опыты!..
— Ну, как можно отказаться от эксперимента, когда он, собственно, и есть мой главный свадебный подарок?! — воскликнул Дмитрий. — Видите ли, Наденька, отец Досифей, сам в прошлом моряк и даже портартурец, любезно разрешил нам установить в храме аппаратуру. Конечно, не без риска для своего положения… Но мы, кажется, ни разу не подвели его. Все опыты мы проводим по ночам… Это наша общая тайна… Дело в том, что церковь стоит высоко на скале и обращена к морю так, что ее своды, словно огромная каменная раковина, вбирают в себя неслышимые нами звуки…
Все невольно посмотрели туда, где на обрывистом утесе белели апсиды форосского храма.
— Да, да, у моря есть свой голос, — прервал его Николай. — Он начинает звучать, когда ветер проносится над волнами. Получается своего рода огромный орган, который за сотни и тысячи миль предупреждает, к примеру, дельфинов или чаек о приближении шторма, непогоды. Наши уши, увы, слишком несовершенный инструмент, чтобы слышать эту «мелодию». Но вот наше тело, грудь, сердце, череп — все это внимает голосу моря… Впрочем, тут уж судить не мне, а господину приват-доценту, — кивнул Николай на брата.
— Николай прав. Но я не владею столь живым слогом. Боюсь, Надежде Георгиевне и без того наскучили все эти разговоры об опытах, экспериментах, аппаратах…
— Нет, нет! Продолжайте!.. Мне очень интересно. В самом деле!
— Тогда прошу подняться на второй этаж…
В просторном солярии стояли шесть плетеных оттоманов! На них лежали спящие люди: две пожилые особы, совсем юная девушка, два бородача и паренек лет семнадцати. — Можете разговаривать громко, — разрешил доктор. — К сожалению, вы их не разбудите. Вот эта женщина спит уже четвертый год, девушка — второй… Молодой человек рискует состариться не просыпаясь… Летаргический сон подобен смерти при жизни… Глубинные неврозы. Механизм этих явлений пока еще недоступен науке. Но мы с братом надеемся все же пробудить этих несчастных, вернуть их к жизни. У нас могущественный союзник — море. Надо только найти с ним общий язык…
Дальнейшие пояснения доктор давал по пути в храм на скале.
Все четверо с трудом взбирались по узкой крутой тропе. Порывистый ветер трепал их одежды. Надежда придерживала подол длинного платья, и точно так же, невольно копируя ее, придерживал отец Досифей свою рясу. Братья, глядя на них, не смогли удержаться от улыбки.
— Так вот, — продолжил приват-доцент, — поскольку мы, люди, эволюционно вышли из моря и даже носим в своей крови его солевой состав, то, как бы далеко ни расселялись по суше, сохранили со своим пращуром — Океаном — биологическую связь. Наши сосуды, сердце и прежде всего нервы, психика — очень отзывчивы на голос моря.
— Но почему же мы не слышим его? — спросила Надежда — невеста Михайлова.
— Да потому что море говорит с нами на очень низких частотах. Представьте себе орган, у которого басовый регистр сделали таким высоким и длинным, что вместо ревущего баса не слышен не только могучий рев, гул, а просто остается лишь ощущение тягостной тревоги. Вот это и будет неслышимый, но реально воздействующий на вас иерозвук.
— Мы назвали его так, — перебил брата старший лейтенант, — в честь легендарной иерихонской трубы, от звука которой рушились стены крепостей.
— В сильные бури иерозвук распространяется далеко от моря. Он проникает сквозь самые толстые стены и, неслышимый, заставляет людей, казалось бы, беспричинно тосковать, беспокоиться, слабых душой сводит с ума, а то и вовсе заставляет наложить на себя руки. И это не предположение, а статистика фактов.
— Глас моря — глас божий, — назидательно вставил свое слово Досифей. — Море сиречь ипостась Господа, и потому оно разумно карает грешников…
Он достал из-под рясы связку ключей и стал открывать дверь в трапезную.
— Погодка что надо, — сказал Михайлов, оглядывая быстро несущиеся облака, которые едва не цеплялись за крест храма. — Море со стороны Босфора расходилось. Иерозвук нынче пойдет мощный.
Братья вынесли из церковного амбара два больших улиткообразных медных раструба и установили их в трапезной, направив аппараты на алтарь.
Смеркалось. Отец Досифей возжег лампады и свечи.
Приват-доцент вместе с братом настраивал аппаратуру и кое-что по ходу дела пояснял Надежде Георгиевне:
— У этого храма необычная акустика. Мастера придали сводам пропорции морских раковин-волют, и потому он, как огромное параболическое зеркало, ловит иерозвук и даже фокусирует его. Фокус находится вон там…
Дмитрий Николаевич показал на алтарь, где отец Досифей, влезший на стремянку, зажигал лампады перед образами.
— Я бы хотела ощутить иерозвук на себе! — воскликнула девушка.
— Увы, женщина не имеет права вступать в алтарь, — развел руками приват-доцент. — Отец Досифей не допустит такого святотатства. Он и так чересчур к нам благоволит. Правда, не без пользы для себя. Если иерозвук пробудит наших больных, а мы на это очень рассчитываем, то, сами представляете, какая слава пойдет о храме. Чудодейственное исцеление со всеми вытекающими отсюда приятными для причта последствиями.
Ветер глухо гудел под сводом церковного купола. Офицер вращал маховички, медленно наводя раструбы на нужную точку. К ушам его шли слуховые трубки.
— Что это за аппарат? — почему-то шепотом спросила Надежда Георгиевна.
— Это детище Николая: усилитель иерозвука… Видите, как колеблется пламя свечей? Это не от сквозняка.
Отец Досифей зажигал последние лампады, как вдруг они погасли, погасли все — разом, а священник выронил из рук пальник, схватился за грудь, застонал и рухнул со стремянки на каменный пол церкви.
Все бросились к нему. Но едва они приблизились к распростертому телу, как лица всех троих исказила гримаса невыносимой боли.
— Аппарат! — прохрипел приват-доцент. — Выключи его… Убери… Сбей настройку!
Михайлов едва смог добраться до своей установки и перевести раструбы в нейтральное положение. Отец Досифей был мертв. Дмитрий Николаевич отчаянно давил ему на грудь, пытаясь оживить остановившееся сердце. Тщетно.
Глухо выл ветер под сводами-волютами форосского храма…
Зал военно-морского суда. На скамье подсудимых Николай Николаевич Михайлов. Судья зачитывает приговор.
…Военно-морской суд Севастопольского гарнизона признал бывшего старшего лейтенанта Российского императорского флота Николая Николаевича Михайлова, дворянина Киевской губернии, вероисповедания православного, тридцати лет от роду, виновным в непреднамеренном умерщвлении настоятеля Крестовоздвиженского храма отца Досифея, в миру Гименеева Александра Никодимовича, вследствие преступной неосторожности в проведении физических опытов. И на основании статей сто… первой… семнадцатой Свода законов Российской империи приговорил к лишению чина и всех сословных привилегий с отдачей в арестантские роты сроком на семь лет.
Рокоманы
«Профессор Шведе» густым ревом тифона приветствовал тех, кто пришел встречать моряков и ученых из длительной экспедиции. На причальной стенке Морского вокзала играл духовой оркестр. Цветы, объятия, поцелуи…
И только Шулейко был мрачен. Сестра встретила его с заплаканными глазами.
— Я тебе говорила — не уезжай!.. Не справиться мне с ними обоими. Парни в таком сложном возрасте. Как сердце чуяло…
— Да говори толком, что случилось?!
— То и случилось, что случилось… Вадим влип в историю. И Лешку моего втянул, — всхлипнула сестра. — Оба под следствием сидят. Судить будут…
Слезы полились рекой.
Шулейко рванулся на стоянку такси, придерживая на плече легкую дорожную сумку.
В машине сестра, прикладывая платочек к глазам, выговаривала брату:
— Тебе давно надо было жениться… Светы нет, тут ничего не поделаешь… Живые о живых должны думать. — Парню семнадцатый год, а ты по морям все болтаешься.
— Хватит об этом!
— Нет, ты должен что-нибудь сделать! — настаивала сестра. — Лешку они все равно отпустят, он несовершеннолетний. А вот Вадим… Вспомни, два года назад он упал с мопеда. У мальчика была черепно-мозговая травма.
— Да какая там травма?! Шишку набил…
— Нет, травма! Самая настоящая травма: Она теперь сказывается на его психике. Мальчик рассеян, плохо спит, вспыльчив. Ты должен сходить к судебному все ему объяснить…
Шулейко хранил угрюмое молчание.
— Ну, пойми!. — умоляюще воскликнула сестра — Мальчику на следующий год в институт… — Перестань называть его мальчиком!..
— Хорошо. Подумай сам: куда он сможет поступить с судимостью? Хочешь, чтобы он попал в ПТУ?
— Сначала он пойдет в армию.
— Ты хочешь, чтобы его услали в Афганистан?! — ужаснулась сестра.
— Куда бы его ни послали, он должен стать человеком, — отрезал Алексей Сергеевич.
Судебно-медицинский эксперт, ровесник Шулейко, усталый, с мешками под глазами, нервно поигрывал блестящим никелированным молоточком.
— Я не обнаружил никаких следов черепно-мозговой травмы. Возможно, был ушиб. Но он никак не сказывается на психическом здоровье вашего сына, — втолковывал врач Алексею Сергеевичу. — Вадим Шулейко совершенно вменяем… Скажу вам честно: мне глубоко противна его выходка. Старый заслуженный скульптор подарил городу свои работы. В кои-то веки у нас придумали что-то оригинальное — Ретро-сад… Я дважды ходил туда с женой… Замечательно! Духовой оркестр играет старинные вальсы, фокстроты. Кинозал повторного фильма… Парусник-ресторан, в меню — старинные блюда… И вдруг такое хулиганство! Даже не хулиганство, а настоящий вандализм!
— Я согласен с вами, Леонид Леонидович… — тяжело вздохнул Шулейко. — Но вы не хуже меня знаете, что у каждого общественного, как и у антиобщественного явления, есть свои глубинные корни… Вы «Покаяние» смотрели?
— Нет. Еще не успел.
— Жаль. Прекрасный фильм. Может быть, вам после него стали бы яснее мотивы поведения Вадима?
— Какие там, к черту, мотивы! — вспылил эксперт. — Там один мотив — рок! Рок-музыка. Вадим и его компания — самые настоящие рокоманы. Наслушались, обалдели и пошли крушить… Хорошо еще, вместо людей им попались статуи… Я скажу вам, как врач… Впрочем, вы и сами биолог… Уж вы-то меня должны понять. Этот «кайф», который ловит молодежь от тяжелого рока, связан с образованием в крови эндофинов — морфиноподобных веществ удовольствия. Таким образом, рок оказывает не только психологическое, но и биохимическое воздействие на человека. Как алкоголь, как героин… С юридической точки зрения неважно, отчего эти парни пришли в раж — от стакана водки, укола иглой или от рок-балдения. Важны последствия этого экстатического состояния. Вы любите рок?
— Нет. Для меня рок — это не музыка. Музыка, как любой вид искусства, призвана возвышать, облагораживать, очищать. Машинные же ритмы рока отупляют, низводят до уровня роботов… Нет, нет… Это не музыка.
— Странно, что вы не сумели втолковать все это своему сыну!
— Тут нет ничего странного! Уверен, что и Вадиму, и его друзьям «тяжелый металл» чего-чего, а уж эстетического удовольствия не доставляет. Просто они бравируют тем, что слушают иную музыку, чем мы, носят иную одежду, чем мы, и даже говорить стараются не так, как мы…
— За что же это мы так провинились перед ними?
— Думаю, что каждое старшее поколение виновно перед теми, кого оно вводит в этот весьма несовершенный мир, а степень его несовершенства возрастает век от века, теперь же, наверное, и год от года…
— По вашей логике, восемнадцатый век во сто раз совершеннее нашего времени?!
— Я не связываю совершенство века лишь со скоростью удовлетворения наших потребностей. Степень несовершенства мира растет вместе с прогрессом орудий смерти, оружия массового уничтожения. Для вас, врача, как и для меня, биолога, это должно быть очевидным.
— Ну что ж… Допустим.
— Так вот, молодежь и не может нам простить того, что мы вызвали ее к жизни в такой мир, где эта жизнь в любой день, в любой час может прерваться… И это чувство тревоги, несовершенства, обиды, естественно, переносится на нас — старших, которые, как им кажется, придумали этот мир и управляют им совершенно по-идиотски. Им невдомек, что мы сами его получили в наследство таким. А раз ничего не успели в нем исправить, перестроить, то мы и виноваты. Но ведь мы действительно перед ними виноваты! Подумайте: их наследство, которое они получат от нас, куда тяжелее того, что мы приняли от отцов, — бинарные газы, «звездные войны», СПИД, наркотики, Чернобыль…
— Простите меня, но вы рассуждаете, как пятнадцатилетний подросток.
— Совершенно верно! Я привел вам аргументы своего сына. Три года назад он швырнул камень в лобовое стекло грузовика, за которым торчал портрет Сталина… Знаете, из старых «Огоньков» вырезают и наклеивают на стеклах. Почему-то это модно среди чистильщиков обуви и грузовых шоферов… Так вот у нас был серьезный разговор с сыном. Я понял, что все положительные деяния Сталина растворились для молодежи в понятии «массовые репрессии». Чем дальше от 37-го, тем труднее все это понять и объяснить… Вадим мне сказал: папа, пока не наказаны те, кто творил беззакония, не может быть и речи о социальной справедливости в нашей стране!
— Но швырянием камней в стекла грузовика и приемами карате социальную справедливость не установишь!..
— Я согласен. А вот для пятнадцатилетних мир — без полутонов.
— Что они знают о тонах и полутонах?! — вскричал Леонид Леонидович. — Когда мне было пятнадцать лет, у меня были арестованы отец и мама — по «делу врачей». Я же не пошел бить стекла и крушить монументы?!
— А зря. Я бы пошел, — тихо сказал Шулейко.
— Ну, в таком случае нам говорить не о чем. И сын ваш — яблоко от яблони.
Шулейко постучал в дверь с табличкой «Следователь» и, не дожидаясь разрешения войти, переступил порог. За канцелярским столом писала что-то молодая женщина в милицейской тужурке. Красивые пышные волосы падали на лейтенантские погончики.
— Можно? — робко осведомился Шулейко.
— Давайте вашу повестку, потребовала женщина, не поднимая головы.
— Простите, я без повестки… Следователь подняла глаза от бумаг.
— Я отец Вадима Шулейко. Мне сказали, вы ведете его дело…
— Извините, я не могу уделить вам времени. Я вас не вызывала. Ко мне сейчас придет свидетель. Мне надо подготовиться… Извините.
— Но как же так? Я же его отец… Я тоже свидетель, если хотите… Я могу рассказать вам о нем гораздо больше, чем любой свидетель.
— И все-таки вам лучше обратиться к адвокату. Для него ваша характеристика сына будет во сто крат важнее…
— А для вас? Вы же должны знать личность своего подсудимого… Нет, обвиняемого. Или как там у вас?
— Подследственного.
— Да-да, вот именно. Под-след-ствен-но-го…
— Хорошо. Что вы хотите сказать? Только коротко. В двух словах, пожалуйста.
— В двух не смогу… Я только что вернулся из экспедиции. Почти год не был дома. И вдруг такая новость…
— Почему новость? У вашего сына уже был привод в милицию.
— Да. Вы правы. Он разбил стекло машины с портретом Сталина.
— Это не меняет сути дела. Он совершил правонарушение, нанес материальный ущерб…
— Материальный ущерб возмещен.
— Не все можно возместить деньгами…
— Согласен… Вы знаете, я вас немножко боюсь… когда не имел дел с милицией, кроме прописки… Но не могу сказать вам самое главное… Вот шел сюда, было ясно. По крайней мере знал с чего начать.
— Выпейте воды.
— Спасибо… Скажите, что ему грозит?
— В драке пострадал сотрудник милиции. Я должна выяснить, кто его ударил. Если это ваш сын, то его ждут исправительно-трудовые работы…
— Простите, как вас зовут?
— Оксана Петровна.
— Оксана Петровна, наверное, у вас есть дети?
— Нет. Но это к делу не относится.
— Да-да… Конечно… Я вижу, мое время вышло. Не буду вас отвлекать. Не буду давить вам на психику. Следователь должен работать непредвзято… Наверно, мне в самом деле надо поговорить с адвокатом…
— Хотите поговорить с сыном?
— Да, конечно! Если это возможно.
Комната свиданий следственного изолятора. Решетки на окнах. За столом двое: юнец лет семнадцати и Алексей Сергеевич.
— Скажи, зачем ты это сделал? — с тяжелым вздохом спросил Шулейко.
Сын смотрел прямо и жестко, он не прятал глаз.
— Понимаешь, папа… Мы уничтожили пошлость… То, что они выставили под маркой «ретро», — это пережитки эпохи культа. Это не имеет право на существование.
Алексей Сергеевич вспылил:
— Кто тебе дал право это решать, щенок?!
— А по-моему, это мое естественное право — решать, что такое хорошо и что такое плохо, — спокойно возразил Вадим. — И потом, если я щенок, то кто тогда ты, отец щенка?
— Ладно, оставь это… Тебе не понравились эти скульптуры. Пусть так. Но ведь тебя с дружками никто не звал в этот парк. Он создан для людей иного поколения, рассчитан на их восприятие, на их вкусы, на их память…
— Да мы бы и не пошли туда… Что там делать? Просто у тамошнего причала стоит эта плавдискотека «Фрегат». Там выступает всемирно известная рок-группа «Иерихон», суперметалл… Ну, да тебе все равно… Понимаешь… Ну, как тебе объяснить… Там сверхсовременность, ритмы будущего, и вдруг выходишь и вляпываешься в эту махровую пошлость… Девушка с веслом, юноша с ракеткой… Обидно стало за город. Если хочешь — за Отечество… Вспышка такая была… У нас все каратисты… «Кия!»… Мы ведь не кувалдами били. Ладонями вот, ногами…
— Ты был трезв?
— Да. Мы все были трезвы. Пили безалкогольные коктейли типа «Слеза комсомолки» и «Радость старца»… Там сейчас ничего другого нет… Правда, от музыки прибалдели. Видимо, разрядка нужна была.
— Что ж, хорошо разрядились, мальчики… Скажи мне честно: ты ударил милиционера?
— Нет.
— Слава Богу! Камень с сердца…
— Но они-то думают, что я…
— Ничего, разберутся… Раз не ты, уже легче. Я тебе верю. Это главное. А кто его ударил?
— Не видел. Темно было. Знаю только, что не Лешка. Он пацан еще… Он со мной рядом был. Все побежали… Ну а мы не спешили. Вот нас и зацапали.
— Дурень стоеросовый! Оболдуй! Зацапали, не спешили! — Будешь ругаться, попрошу, чтоб меня увели в камеру.
— Ладно, я тебе дома все скажу… Дома, слышишь?! Я думаю, ты скоро вернешься. Ну а теперь дай обниму. Хоть бы с приездом поздравил, черт…
Они обнялись.
— С приездом, папа!
Шулейко встретил Оксану Петровну, заметно повеселев.
— Это не он! — радостно сообщил Алексей Сергеевич. — Я ему верю… Рано или поздно это выяснится. Вы сами в этом убедитесь!
— Посмотрим, посмотрим… Не все так просто, как вам кажется.
— Но я-то знаю точно! Теперь дело времени.
— Дело времени и доказательств.
— Будут, будут доказательства! Все. Ухожу. Не смею больше мешать. Спасибо вам!
Шулейко заглянул в дорожную сумку, извлек оттуда раковину-крылорог.
— Вот из тропических морей. Сам достал. Пожалуйста, возьмите на память. — Ради Бога, заберите обратно!
— Почему?!
— Во-первых, это может быть расценено как попытка подкупа должностного лица. Во-вторых…
Тут Оксана Петровна впервые за весь разговор улыбнулась.
— Во-вторых, я страшно боюсь всякой морской нечисти — медузы, улитки, ракушки… Это не по мне. Уберите!
— Хорошо. Я подарю ее вам, когда Вадим вернется домой.
Шулейко положил раковину в сумку и наткнулся на пакет с дневником Михайлова.
— Вот еще какое дело! — достал он дневник. — Посоветуйте, кто сможет разъединить листы слипшегося дневника? Это очень интересный человеческий документ. Я смог прочитать только половину…
И Шулейко рассказал историю находки.
Оксана Петровна осторожно взяла находку в руки.
— Можете оставить его мне. Я покажу нашим криминалистам.
Эй, на «Сирене»!
Севастопольский арестный дом. В комнате свиданий обритый наголо Михайлов пытался объяснить Надежде Георгиевне, что, собственно, произошло.
— Этого никто не мог предвидеть… Понимаешь, отец Досифей попал в зону фокуса иероизлучения… Никто даже не мог предположить, что это смертельно. Так совпало. Очень сильный шторм. Шел мощный иерозвук, и он остановил его сердце, как останавливают маятник часов… Моей вины здесь нет. Дмитрий тебе все объяснит!
— Я знаю, я знаю, ты не виноват! — кричала ему через барьер Надежда Георгиевна. — Дмитрий Николаевич хлопочет по начальству. Он все уладит. Все будет хорошо. Тебя непременно оправдают! Непременно! — Окончено свидание. Жандарм увел Михайлова в камеру. Его везли в вагоне под конвоем, его везли на извозчике, и под стук колес, и под цокот копыт в ушах Михайлова звучали слова высочайшего монаршего повеления: «По обстоятельствам военного времени и учитывая крайнюю нужду в специалистах подводного плавания, заменить каторжные работы бывшему старшему лейтенанту Михайлову отбыванием воинской повинности по усмотрению морского министра, а в случае первого боевого успеха, восстановить его во всех правах…»
На причале военной гавани Михайлова сопровождал офицер штаба, бывший его однокашник по Морскому корпусу, капитан 2-го ранга Эльбенау, худощавый рыжеусый остзеец с аксельбантом.
— Своим освобождением, Николь, ты обязан только тому, что за год боевых действий Подводная бригада не потопила ни одного судна. Это удручает. Но у тебя есть шанс отличиться. Правда, лодка старая, из резерва, и команда такая, что — чемоданы за борт и тушите свечи. Одним словом, каюк-компания. Но не падай духом. Чем смогу — помогу!
— У меня к тебе и к Штабу одна-единственная просьба. Пусть с дачи брата из Фороса пришлют мне мои приборы и установку. И еще — не в службу, а в дружбу: выпиши сюда Наденьку…
Темно-красные корпуса судоремонтного завода походили на тюремные равелины, которые только что покинул Михайлов. Бабы, стоя на шатких лесах, шкрябками обдирали ракушки с бортов поднятого на клети эсминца. Их лица были замотаны платками до глаз. Неприязненными взглядами провожали они фигуры офицеров в белоснежных фуражках и щеголеватых кителях.
У причальной стенки стояла ржавая подводная лодка. На корме полоскался андреевский флаг. В носу тускло отливали медные литеры славянской вязи: «Сирена».
— Эй, на «Сирене», — окликнул Михайлов вылезшего на палубу замызганного матроса. — Где у вас старший офицер?
— Так что третьего дня застрелимшись… — нехотя ответил матрос и тут же скрылся в люке. В руках он держал странный полосатый сверток. Старший лейтенант ловко пронырнул узкую стальную шахту и очутился в центральном посту. Здесь три полуголых матроса азартно резались в карты. Один из них, вислоусый крепыш, встал и заслонил широченной спиной товарищей по игре. Голая грудь его была изукрашена замысловатой японской татуировкой. Перебитый нос придавал ему вид свирепый и отчаянный.
— Кондуктор Деточка, — вальяжно представился крепыш. — Боцман этого парохода.
— Где офицеры?
— А хто хде. Ремонт…
— Почему картеж?! Кто этот голый? — кивнул Михайлов на матроса, прикрывавшего срам бескозыркой.
— О тот? — уточнил боцман. — Та проигравься на всю одежду… Нательный крест на кон поставил. Отыграться хочет. Нас, ваше благородие, тут как кутят в лукошко собрали. Мол, топить, так всех разом… Штрахвованные мы.
— Тебя за что?
— Та перекрыл кислород одному гаду, чтоб до чужих баб не лез…
— Тебя? — ткнул пальцем Михайлов в матроса, так и не выпустившего из рук карты.
— За дерзостные речи против начальства.
— Тебя? — старлейт перевел взгляд на проигравшегося.
— Юнкер флота Покровский, ваше благородие. Списан на «Сирену» за дуэльный поединок.
— Из студентов?
— Так точно. Петроградский политехнический.
— Очень хорошо. Оденьтесь. Ваш долг я выплачу из своего жалованья. Боцман, на моем корабле карты будут только штурманские. Увижу кого с колодой — вздерну на перископе!
Михайлов перелез в носовой отсек. Брови его поднялись к козырьку фуражки. На запасных торпедах лежал распе-ленутый младенец и верещал, дрыгая ножками.
— Эт-то что такое?
— Так что младенец мужеского полу, вашсокродь! — обескураженно развел руками длинный худой матрос, которого Михайлов уже видел на палубе. — Тут бабье с утра работало… Нашли вот в боцманской выгородке. Подкидыш, значит.
— Чей грех? — поинтересовался командир, стараясь быть спокойным.
Матросы захмыкали, пряча глаза.
— Царя морского, — один за всех ответил боцман, пытаясь завернуть ребенка в чистую тельняшку. — Вот тут и записка при ём. Мамаша, черти б ее колыхали, просит, чтобы крестили Павлом и сделали, значит, из него доброго моряка.
— Младенца в сиротский приют! — распорядился Михайлов. Потом передумал. — Отставить в приют. Свезешь, — кивнул он кучерявому матросу, — как тебя?!
— Нефедов, вашсокродь.
— На вот тебе «синенькую»… Свезешь в Форос на дачу приват-доцента Михайлова. Я ему записку напишу.
— Слушаюсь, вашсокродь! — радостно гаркнул Нефедов.
Юнкер флота Покровский, миловидный интеллигентный юноша, помогал Михайлову монтировать в центральном посту «Сирены» сложную установку, напоминавшую орган с причудливо перевитыми трубами.
— Иерозвуки издает не только штормовое море, — объяснял изобретатель своему помощнику, — но и все работающие машины. Шум судовых винтов в воде можно услышать, ну, скажем, за три мили. А иерозвуки, рождаемые вибрацией корпуса, слышны за сотни миль. Значит, корабли противника можно обнаруживать еще до того, как над горизонтом покажутся их дымы… Вот этому я и буду вас учить.
— Ваше благородие…
— В неслужебное время я для вас Николай Николаевич.
— Николай Николаевич, можно ли искусственно генерировать иерозвуки? Не дожидаясь, когда разволнуется море…
— Можно. Над этим я как раз и бьюсь. Кое-что уже удалось…
— Но если удастся создать достаточно мощный иерогеператор, то… То человечество обретет могучее оружие, эдакий меч-кладенец… — развивал свою мысль Покровский.
— Да, в убийственной силе иерозвука я уже имел несчастье убедиться, — вздохнул Михайлов. — Как выяснилось он может остановить сердце, разрушить клетки головного мозга.
— Представляете, в сторону вражеской, армии направляется мощная иероволна, у всех вражеских солдат разом останавливаются сердца. Полки, дивизии, корпуса падают замертво. Не нужны пулеметы, орудия, аэропланы!
— И когда человечество осознает гибельность такого оружия, то все войны изживут себя. На земле настанет вечный мир… Что это у вас за проводок над головой?
Покровский дернул за свисавший с подволока проводок, и на штурманский столик свалилась огромная корабельная крыса, которая тут же шмыгнула под ближайший трубопровод.
— Черт, какая мерзость! — возмутился Михайлов. —
И много тут этой дряни?
— Хватает, — невозмутимо сообщил боцман Деточка. — Не лодка, плавзверинец. В ремонте стоим. Набежали хвостатые. Житья от проклятущих нет. Никаким их ладаном не выкуришь… :
— Выкурим, — пообещал Михайлов. — Достаньте мне завтра духовую трубу из оркестра. Корнет-а-пистон…
— Слушаю-с! Медную музыку страсть как обожаю!
…В раструб духового инструмента командир «Сирены» вставил небольшое приспособление вроде сурдинки, поднес мундштук к губам и проиграл беззвучный пассаж. Потом вызвал боцмана и приказал:
— Отдраить на лодке все люки!
Когда его приказание было выполнено, Михайлов спустился в центральный пост и заиграл на своей бесшумной трубе. Он шел из отсека в отсек, а впереди него бежала, выскакивая в лодочные люки, перебегая по швартовым на стенку, стая черных портовых крыс. Их гнали иерозвуки, неслышимые, но невыносимые для живых существ.
Боцман Деточка от удивления сбил фуражку на затылок:
— Всякое видал, ваше благородие, но такую чуду — господь не привел.
— Это как в сказке Андерсена! — восхищался юнкер флота Покровский. — Помните, мальчик волшебной флейтой выгнал всех мышей из города?
Но боцман Андерсена не читал… Он насаживал на швартовы жестяные диски крысоотбойников.
Подводная лодка «Сирена» вышла в свой первый боевой поход с новым командиром. Волны захлестывали мостик, где старший лейтенант Михайлов в тщетной надежде обозревал море в бинокль.
Сигнальщикам он посулил:
— Первому, кто обнаружит неприятеля, — Георгиевский крест и от себя лично жалую сто рублей. Зрите, братцы, в оба!
Сигнальщики жаловались:
— Все глаза проглядели, ваше благородие! Хучь бы дымок где. Затаились супостаты. В море не выходят.
Михайлов спустился в центральный пост, где юнкер Покровский прижимал к ушам слуховые трубки, пытаясь уловить иерозвуки неприятельских судов.
— Ну что, Юрий? Тихо?
— Один фон идет, Николай Николаевич… Михайлов потер усталые глаза.
— А что, если мы попробуем послушать в подводном положении? Обычный звук распространяется в воде лучше и дальше, чем в воздухе. Может быть, и низкие частоты иероизлучения подчиняются тем же законам?
— Да, если учесть, что иерозвук во сто крат лучше проникает сквозь металл и, камень, чем обычные шумы, — охотно поддержал юнкер идею командира, — то чтоему водная среда?!
Михайлов крикнул в переговорную трубу:
— По местам стоять, к погружению!
Он сам задраил верхний рубочный люк, и в балластных цистернах «Сирены» взбурлила забортная вода. Теперь Михайлов и Покровский вместе сидели у «иерофона», как назвал изобретатель свой аппарат.
— Боцман, держать глубину тридцать футов! — распорядился командир. Через некоторое время командир приказал:
— Боцман, погружайся на глубину сто пятьдесят футов…
— Есть погружаться на глубину сто пятьдесят футов.
— Глубина сто пятьдесят футов… — бесстрастно доложил боцман, а сам украдкой перекрестил глубиномер и тяжело вздохнул.
Лодка шла на предельной глубине. Сквозь заклепки сочилась забортная вода. Увесистые капли звучно шлепались в мертвой тишине. Матросы подставляли под опасную капель жестянки из-под консервов.
— Есть! — радостно вскрикнул Покровский. Стрелка основного прибора «иерофона» дрогнула, отклонилась и мелко задрожала у румба «зюйд-зюйд-вест».
— Рули на всплытие! — тут же отозвался Михайлов. — Курс 190… На какой глубине открылся иерозвук? — спросил он Покровского.
— На ста пятидесяти футах!
— Запишите это в аппаратный и вахтенный журналы.
Лодка всплыла, и в перископ Михайлов увидел вражеский большой тяжело груженный пароход. Из высокой трубы валили густые клубы дыма.
— Боевая тревога! Торпедная атака!
Матросы разбежались по боевым постам, замерли у приборов и механизмов.
В Михайлове и следа не осталось от обычной благодушности чудака-ученого. Отважный до отчаянности командир вел «Сирену» в атаку.
— Первый, второй — пли! — сорвалось с губ старшего лейтенанта. В перископ хорошо было видно, как в районе спардека над пароходом взметнулся столб огня, дыма, пара, угольной пыли… К окуляру перископа поочередно прикладывались боцман Деточка, юнкер флота Покровский, матросы-рулевые… Экипаж был радостно взбудоражен первой боевой удачей.
Во время ужина в тесную кают-компанию «Сирены» постучались делегаты от команды: боцман, Покровский и торпедист Нефедов.
— Ваше благородие, — обратился к Михайлову боцман, — дозвольте вам плезир от команды сделать!
Все трое грянули в честь командира «Кудеяра-разбойника». Особенно выделялся боцманский бас:
Их было двенадцать разбойников…
«Аллах карает нас за грехи!»
Поход продолжался. В чудовищной тесноте механизмов матросы несли вахты, спали, ели. Торпедист Нефедов пел под балалайку подводницкую частушку:
Если вы утопнете И ко дну прилипнете, День лежите, два лежите, А потом привыкнете!Ранним утром 14 сентября 1915 года старший лейтенант Михайлов увидел в перископ шхуну под турецким флагом. Он тут же отдал приказ об атаке, но, приглядевшись, заметил, что парусник не подавал признаков жизни и шей по воле ветра: хлопали паруса, само по себе вращалось штурвальное колесо… Когда «Сирена» всплыла и пустила сигнальную ракету, никто не вышел на палубу.
Михайлов велел абордажной команде готовиться к высадке на судно. На высокий борт шхуны полетели «кошки» с тросами, по тросам полезли подводники. Вместе с ними перебрался на захваченное судно и старший лейтенант Михайлов. Моряки обследовали все палубы, кубрики, рубки шхуны, но нигде не обнаружили ни одной живой души. Уныло поскрипывали на качке распахнутые двери.
— Николай Николаевич, смотрите! — юнкер флота Покровский снял с плиты кофейник. — Теплый еще…
— Ума не приложу, куда они все подевались?! — растерянно пожал плечами Михайлов. — Все вещи — документы, деньги, карты — целы. Вот даже вахтенный журнал, как оставили раскрытый, так и лежит… Только тут все по-турецки… Ничего не поймешь.
— Может быть, их напугал наш перископ, — предположил Покровский, — и они ушли на шлюпках?
— Да нет же… Я обнаружил шхуну, когда на ней уже никого не было. Да и шлюпки вон висят нетронутыми…
— Чертовщина какая-то…
Прибежал боцман:
— Ваше благородие, у них тут все часы стоят — в ходовой рубке, и у капитана, и в кубрике. Все одно и тоже время показывают. Будто кто их все разом остановил!
Михайлов задумчиво покачал головой:
— Спасибо, боцман, за ценное наблюдение… Загадки дома разгадывать будем. Шхуну на буксир. Курс — на Севастополь.
В Севастополь «Сирена» входила торжественно: под гром оркестра с Приморского бульвара. Подводная лодка тянула за собой приз — трехмачтовую турецкую шхуну. Михайлов разглядывал в бинокль публику. Среди оживленной толпы мелькнуло лицо Наденьки.
Командующий флотом Черного моря адмирал Эбергард принимал командира «Сирены» в кабинете.
— Выражаю вам свое чрезвычайное удовлетворение вашим походом. Рад сообщить, что вы не только восстановлены в своих прежних правах, но и произведены в следующий чин.
Эбергард вручил Михайлову погоны капитана 2-го ранга.
— Поздравляю вас. Представьте всех отличившихся к знаку ордена Святого Георгия.
— Я бы просил, ваше высокопревосходительство, произвести юнкера флота Покровского в мичманы.
— Мы рассмотрим этот вопрос. У вас есть еще какие-либо просьбы, пожелания?
— Да, ваше высокопревосходительство. Тот аппарат, с помощью которого мы обнаружили неприятеля, нуждается в усовершенствовании. Нужны средства…
— Да, я слышал кое-что о ваших химерозвуках.
— Иерозвуках, ваше высокопревосходительство! — поправил его Михайлов.
Эбергард нахмурился.
— Сейчас война и надобно воевать. Прожекты отложим до победы.
На Приморском бульваре Надежда Георгиевна подвела к Михайлову миловидную девушку:
— Это Оленька Зимогорова… Наша бывшая спящая красавица… Дмитрий Николаевич сумел разбудить ее с помощью вашей «иерихонской трубы».
— Я вам очень признательна!.. — смущенно произнесла девушка.
— Ну что ж, знакомство за знакомство! — улыбнулся Михайлов. — Юрий Александрович!
Он сделал знак молодому стройному мичману в белом кителе. Покровский поклонился дамам.
— Рекомендую, — не без гордости представил его Михайлов, — мой боевой товарищ Юрий Александрович Покровский, Человек всесторонне одаренный: замечательный художник и еще более способный физик, я боюсь быть пророком, но его ждет оч-чень большое будущее.
Покровский галантно предложил Оленьке руку, и они спустились вниз к самому морю. Надежда Георгиевна с Михайловым остановились у балюстрады с видом на Константиновскую батарею.
— Я работаю в клинике Дмитрия Николаевича, — сказала она, провожая глазами Оленьку с мичманом. — Мы сумели пробудить от летаргического сна четырех из шестерых. И все это с помощью вашего изобретения… Дмитрий Николаевич говорит, что вам нужно срочно оформить патент.
— Да, да, — рассеяшю соглашался Михайлов. — Вот окончится война, и я непременно этим займусь… Ах, как жаль, что я не кончал университета. Не хватает теоретических познаний. Я жалкий практик, натолкнувшийся на интереснейшее явление и не умеющий описать его языком науки. Великое счастье, что рядом со мной Покровский. Он великолепный аналитик.
Пальцы Михайлова сжали плечо молодой женщины.
— Надежда Георгиевна… Я глубоко виноват перед вами… Я постучался в ваше сердце и давно должен был отвести вас к венцу… Но что я могу предложить вам, кроме черного наряда вдовы? Подводники — это разновидность смертников. Мы заложники моря. «Сирена» завтра снова уходит в поход… Кстати, как там наш подкидыш?
— Мальчуган очень хорош. Дмитрий Николаевич нашел ему кормилицу.
Михайлов нервно потеребил бородку…
— Не знаю, как вы к этому отнесетесь… Но я решил записать Павла на свое имя.
— Это весьма благородно с вашей стороны.
— Не переоценивайте моего благородства. Я просто хочу, чтобы у моих бумаг, чертежей, расчетов был наследник, продолжатель моего дела. Я тороплюсь, ибо жизнь подводника во сто крат более бренна, чем у любого из смертных…
— Вы так часто говорите об этом… Мне страшно!.. Вы не боитесь накликать на себя беду?
— Я боюсь только одного — не успеть. Не успеть сделать главного в жизни.
Взвыла сирена выходящей из севастопольской бухты подводной лодки. Мимо балюстрады Приморского бульвара черной тенью проскользнул силуэт субмарины. Михайлов поднял ладонь к козырьку, отдавая честь уходящему в бой кораблю.
Поздней ночью в квартире Михайлова раздался звонок. Сонная Стеша, кухарка и горничная в одном лице, девица лет двадцати пяти, придерживая ночную рубашку на груди, открыла дверь, бормоча: «Господи, кого это несет и свет ни заря…»
На пороге стоял взволнованный мичман Покровский! В руках он держал свернутый в трубку чертеж.
— Здравствуй, Стешенька, здравствуй, красавица… Николай Николаевич у себя?
— Спит барин… Только лег… До полуночи все бумам нами шебуршел…
— Разбуди его, пожалуйста…
— Да кто ж в такую поздноту в гости-то ходит?! — ворчала Стеша, запирая за проскользнувшим в прихожую мичманом дверь. — Рази что гости с погоста по ночам шляются…
На шум вышел Михайлов в наброшенном на плечи кителе.
— Николай Николаевич, простите ради бога… — взмолился Покровский. — Но в штабе флота перевели на русский вахтенный журнал шхуны… Кажется, мне удалось что-то объяснить в этой темной истории с исчезнувшим экипажем!
Михайлов провел его в комнаты, разложил бумаги под настольной лампой. Первым делом пробежал глазами текст перевода.
«26 августа 1915 года. Борт шхуны „Алмазар“. Волею аллаха из Стамбула в Зонгулдак. Курс 110°. Ветер зюйд-остовой, бакштаг. Волнение моря 3 балла.
В час пополуночи задрожала грот-мачта, затем стали дрожать фок и бизань-мачты. Рука всевышнего содрогала шхуну так, что трещало дерево и казалось, что судно вот-вот рассыплется… Переменили курс, зарифили нижние паруса, но тряска продолжается. Страшная боль в ушах, в груди… Аллах карает нас за грехи… Шкипер Юлдуз Шаф рак первым бросился в волны…»
На этом запись в вахтенном журнале обрывалась.
— Иерозвук? — не то спрашивая, не то утверждая, произнес Михайлов.
— Да! — убежденно вскричал Покровский и развернул рулон бумаги. — Именно иерозвук… Вот теоретический чертеж корпуса шхуны. Обратите внимание — форма шпангоутов повторяет очертания сводов форосского храма, где погиб Гименеев. Все тот же принцип раковины-волюты! Следовательно…
— Следовательно, — докончил мысль Михайлов, — корпус шхуны стал как бы резонатором иерозвука.
— Вот именно! Это подтверждают и предварительные расчеты… Турки попали в зону резонанса иерозвука, отсюда возникла вибрация мачт. Затем началось воздействие на организм… Наверное, это и в самом деле было мучительно, невыносимо… И они стали искать спасения в море.
— Логично, логично, логично… — бормотал Михайлов, расхаживая по комнате.
— Николай Николаевич! Нам нужно обязательно получить шхуну в свое распоряжение. Пусть нам дадут ее хотя бы на месяц. Ведь это наш приз!
— Вы правы, мой юный друг! Если нам не отдадут ее добром… я… Я арендую ее чего бы это ни стоило. В конце концов Дмитрий Николаевич поддержит нас в этом деле.
Афишная тумба на углу Большой Морской и Екатерининской улиц. Огромные буквы: «„Безмолвный убийца“. Научное сообщение капитана 2-го ранга Михайлова об иерозвуковых волнах состоится в Морском собрании. Сбор в пользу севастопольского общества естествоиспытателей».
— Любопытно! — прокомментировал своей даме афишу молодой человек в котелке. — Это что-то из магических штучек госпожи Блаватской.
Зал севастопольского Морского собрания заполняла публика самого разного сорта: местная интеллигенция, офицеры, скучающие парочки и даже один отставной генерал. На многих лицах поигрывали недоверчивые улыбки.
Капитан 2-го ранга Михайлов в парадном мундире с эполетами обращался к своим слушателям:
— Мы располагаем достоверными фактами о том, что иерозвук воздействует на человека двояко: в определенных длинах волн он может исцелять нас от нервных, сердечных, душевных заболеваний, точно так же, как в иных условиях иерозвуковые волны вызывают различные недуги. Они могут вселять в людей страх, ослеплять их и даже убивать. В зале зашумели. Послышались выкрики с мест:
— Мистика!.. Чертовщина какая-то — неслышимые звуки.
— Господа, типичный декаданс от науки!
— Стыдно-с! Стыдно-с! А еще морской офицер. Михайлов побледнел, напряг голос:
— И все-таки дайте мне договорить! В каждом организме существуют свои собственные колебательные движения низкой частоты. Самый наглядный пример — наша система кровообращения. Если частота иерозвука близка к частоте пульсации кроветока — я уже не говорю о том, что эти частоты могут совпасть, — то возникает всем известный резонанс. При этом амплитуда сердцебиения может так возрасти, что лопнут артерии! В противофазе же иерозвук может остановить сердце, как элементарный маятник.
Я утверждаю, что влияние иерозвука может распространяться далеко за пределы морского бассейна. За сотни миль от штормового очага люди с больным сердцем или различными психозами начинают чувствовать себя беспричинно плохо…
— Позвольте, позвольте!
Из публики поднялся пожилой человек в вице-мундире земского врача.
— Господа, — обратился он к присутствующим. — Я ара и, как представитель медицины, горячо протестую против профанации естественнонаучных знаний. Простите меня, господин моряк, но, наверное, я был бы так же смешон для вас на мостике вашего корабля, вздумай я им командовать, как смешны ваши фантазии в этой аудитории.
— Браво! — поддержали врача из публики.
— Продайте ваши идеи беллетристам! Они неплохо них заработают, — кричал человек в пенсне и бабочке.
— Я вообще не понимаю, господа, — возмущался отставной генерал, — как можно в такой трудный для родины час морочить публику пустыми звуками.
Дмитрий Николаевич тщетно пытался защитить брата.
— Но, господа, ведь открыл же Рентген невидимые лучи! Почему же не могут быть неслышимые звуки?!
Но его никто не слушал.
Между реями шхуны и белым фронтоном Константиновской батареи проскользнул силуэт уходящего в море эсминца. Война продолжалась.
Шхуна «Алмазар» со спущенным флагом и зарифленными парусами стояла у Телефонной стенки. В ее иллюминаторах буйствовало неистовое севастопольское солнце. В трюме судна кавторанг Михайлов в синем лодочном кителе устанавливал раструбы иероприемника, соединяя их с аппаратурой усилителя. Мичман Покровский в нательной рубахе с закатанными рукавами лепил из гипса бюст Михайлова.
— Зря вы это, Юрий Александрович… Ни к чему. Лучше бы помогли мне усилитель подключить.
— Нет пророка в своем отечестве! — возмущался мичман. — Даже вы не хотите понять, что Николай Николаевич Михайлов — великий физик и что когда-нибудь этот скромный бюст украсит отнюдь не гарнизонное Морское собрание, а пантеон Императорской Академии наук…
— Бог с ней, с академией! — махнул рукой Михайлов. — Самое главное, нам дали «Алмазар» на целый месяц.
— Я бы вообще перебрался сюда жить!
— Вы не опасаетесь, что мы можем разделить здесь судьбу отца Досифея? — испытующе спросил вдруг Михайлов своего помощника.
— А… это реально? — озадачился Покровский.
— Вполне.
— Но ведь вы же не опасаетесь?!
— Я? Представьте себе — опасаюсь… И вот о чем я подумал: мы не имеем права гибнуть оба — ни там, в море, ни здесь, на шхуне. Кто-то из нас, кому посчастливится остаться в живых, обязан довести дело до конца… Как вы посмотрите на то, если я предложу вам списаться с лодки на берег? Скажем, по болезни…
— Николай Николаевич, вы делаете мне бесчестное предложение.
— Никоим образом! Я буду рисковать в море. Вы будете рисковать здесь.
— Но ваш риск несравнимо выше!
— Это известно только фортуне. Давайте рассуждать, исходя из интересов науки. Вы младше меня лет на пятнадцать. Если вы переживете меня на этот срок, представляете, сколько вы успеете сделать?! Разве в моих словах нет резона?
Покровский неуверенно протянул:
— Пожалуй…
Ветер глухо завывал в снастях, в распахнутых люках. Где-то хлопнула дверь, и на пустынном судне послышались чьи-то шаги. Офицеры насторожились. Шаги приближались.
— Эй, — донеслось с палубы. — Козлятушки-ребятушки, отзовитеся, отомкнитеся!..
В горловине твиндечного люка показалось лицо флаг-капитана Эльбенау.
— А, вот вы где, Схимники-затворники… — Эльбенау сбежал по деревянному трапу. Он был слегка навеселе. — А я вас ищу, чтобы сообщить вам прене… Пардон… Преле… Препре… Тьфу, черт! Преприятнейшую новость! Комфлота только что подписал приказ об откомандировании капитана второго ранга Михайлова за границу для приемки и перегона субмарины новейшего типа. Каково?!
— Какую еще, к черту, за границу?! — рассердился Михайлов.
— Нет, вы посмотрите на него, он еще недоволен! — изумился Эльбенау. — Оказаться в разгар войны — и где? В Италии? В божественной стране — апельсины, маслины, кьянти, Данте, прекрасные мадонны и не на полотнах, а визави — в какой-нибудь тихой загородной траттории… О боже, почему везет только дуракам?!
Мичман Покровский первым оценил новость.
— А что, Николай Николаевич, может, именно в Италии мы сможем заказать мембраны для иерогенератора?!
Михайлов молчал, напряженно обдумывая новость. Эльбенау патетически воздел руки:
— Слез благодарности за радостную весть уж не дождаться мне!.. Черт с вами! Шампанское наше, бокалы ваши… Свистать всех наверх!
Они поднялись в бывшую кают-компанию, и Покровский достал из буфета бокалы на тонких высоких ножках. Эльбенау хлопнул пробкой и стал разливать вино.
Михайлов поднес пустой бокал к уху. Тонкое стекло тревожно запело.
— Юрий! — крикнул Михайлов. — Вниз, к приборам! Кажется, начинается…
Все трое бросились в трюм. Стрелки приборов плясали зашкаливая.
Покровский приложил ладонь к мачте и испуганно отдернул.
— Дрожит! Николай Николаевич, она дрожит! — Михайлов переменился в лице.
— Всем немедленно покинуть судно! И вам, Юрий, тоже. Никаких возражений! Я вам приказываю… О, ч-черт…
Михайлов обхватил голову руками. Лицо его исказила гримаса чудовищной боли. Через секунду застонал и Эльбенау. Покровский корчился на трапе. С большим трудом они выбрались в кают-компанию, где бокалы подпрыгивали на столе, как живые. Под звук бьющегося стекла они преодолели последнее расстояние, отделявшее их от берега. И только оказавшись на причале, все трое перевели дух.
— Ну, знаете ли, господа естествоиспытатели, — покачал головой Эльбенау, — я к вам на вашу шайтан-фелюгу больше не ходок.
Из высоких окон Штаба открывалась листва каштанов, сквозь шумящую их зелень белела колоннада Графской пристани, а меж колонн просвечивало синее в белых застругах море.
Командующий флотом Черного моря подвел капитана второго ранга Михайлова к карте Западного полушария. Густая синяя штриховка покрывала в морях и океанах зоны действия германских подводных лодок и минные поля, проливы перечеркивали пунктиры стальных сетей и волнистые линии рубежей противолодочных барражей.
— Как видите, — пророкотал адмирал, — задача ваша не из легких. Чтобы перейти из Генуи в Архангельск, вашей подлодке предстоит пересечь зоны самых активных боевых действий на морских театрах. Я уже не говорю о том, что вам выпала честь впервые в истории русского подводного плавания пересечь открытый океан. Не буду скрывать опасности этого предприятия. Мы купили у итальянцев малотоннажную подводную лодку прибрежного действия. Выход на ней в океан сопряжен с известным риском, да и сам поход непрост даже для океанских субмарин. Поэтому я вам даю право персонального отбора людей для выполнения этого — считайте стратегического — задания. Да-да, стратегического, ибо ваша малютка положит начало большим подводным силам флотилии Северного Ледовитого океана.
— Ваше высокопревосходительство, я прошу разрешения совершить этот поход силами моей нынешней команды.
Лицо адмирала приняло недовольное выражение.
— Но у вас, насколько осведомлен я, много неблагонадежных людей…
Михайлов не согласился с командующим:
— Они все проверены в боях, господин адмирал! С другими я не смогу выполнить возложенную на меня задачу!
Адмирал ответил не сразу.
— Ну что ж, как вам будет угодно…
Черные шелковые шторки запахнули секретную карту.
В окнах дома кавторанга Михайлова горел красноватый свет свечей. Город экономил электричество.
В полутемной гостиной сумерничали две пары. В дальнем углу, присев на подлокотник кресла, мичман Покровский перебирал струны гитары. Он пел Оленьке, и та слушала, тревожно внимая каждому слову.
Надежда Георгиевна раскладывала пасьянс, прислушиваясь к пению. Михайлов завороженно следил за ее тонкими быстрыми пальцами. Он, как и Покровский, был в черном виц-мундире при галстуке.
— Любовь моряка, — вздохнул кавторанг, — всегда обречена… Судите сами: свидание, каким бы желанным и заветным оно ни было, в любую минуту может быть принесено в жертву службе: по стуку вестового в дверь, по выстрелу из пушки, по флагу большого сбора…
Покровский пел:
— Когда-то рыцари совершали свои подвиги во имя дам, — продолжил свою мысль кавторанг, — мы же теперь должны вершить свои дела, отрекаясь от женщин, отвергая их любовь… И если я, командир, например, собрался на свидание к прекрасной даме и вдруг узнаю в последнюю минуту, что механик не произвел зарядку аккумуляторов или штурман не уничтожил девиацию компасов, свидание летит к черту! В электрических, в магнитных полях невозможно быть рыцарем.
Надежда Георгиевна слушала и не слушала его.
— Мне кажется, когда любишь человека, — тихо сказала она, — начинаешь любить все, что с ним связано… Пустячные вещи, согретые его руками или даже просто удостоенные его взгляда, вдруг наполняются особым, таинственным смыслом…
Михайлов поцеловал ей руки, потом спрятал лицо в ее ладонях.
Покровский перебирал гитарные струны.
Вещунья-тревога мне сердце сжимает.
И этот романс мне ужель не допеть?!
А наш броненосец усталый качает
То мертвая зыбь, то «рогатая смерть»…
Они, прощались в маленьком греческом ресторанчике близ Херсонеса. Музыканты играли беспечную «Бузуки».
Вечернее солнце зацепилось за частокол труб доз крейсера, дымившего у входа в Стрелецкую бухту.
— Дмитрий Николаевич сделал Оленьке предложение, сообщила Михайлову Надежда Георгиевна.
— Ну что ж, — усмехнулся кавторанг. — В этом своя логика… Царевич Елисей, разбудивший спящую красавицу… Я бы хотел, — вздохнул он, — чтобы наши свадьбы были сыграны вместе… Быть может, даже в этом ресторанчике… Я бы хотел снять погоны и всецело отдаться науке… Война близится к концу, и все это так реально, как то, что я держу сейчас твою руку в своей… Но между вами еще год — глубокий, как пропасть. Все будет через год, если удастся перейти эту бездну. А пока возьми вот это, — Михайлов достал из нагрудного кармана кителя изящную серебряную вещицу на цепочке — небольшую копию боцманской дудки.
— Что это?
— Манок для дельфинов… Я сделал его так, что он издает иерозвук, на который охотно идут дельфины… Когда тебе станет грустно, позови их. Это надо делать вот как…
Они вышли на обрывистый берег бухты, где разрозненные колонны древних базилик подпирали вечернее небо, и Михайлов приложил к губам свой чудо-свисток. Вскоре и в самом деле водную гладь взрезали спины играющих дельфинов.
«Аве Цезарь!»
…Генуя просыпается рано. Среди белых домов и черепичных крыш, так похожих на севастопольские, катило по горбатой мощеной улочке ландо, запряженное парой мулов в соломенных панамах. На мягких подушках покачивались русский военно-морской агент в Италии барон Дитерихс и командир строящейся подводной лодки «Святой Петр» кавторанг Михайлов.
— Я должен предупредить вас, Николай Николаевич, о том, что в здешних морских кругах много говорят о вашем изобретении…
Барон многозначительно поднял брови. Михайлов улыбнулся, давая понять, что он не разделяет опасений морского агента.
— Пустяки… Просто мне приходится много заказывать в здешних мастерских и магазинчиках… Приборы, детали, материалы… У нас в России нет того, нет сего…
— Говорят, вы сооружаете на лодке какой-то чудо-аппарат, способный распознавать и указывать корабли противника.
— Ничего особенного. Опытная установка. Раз уж представилась такая возможность, грех ее упускать. Шутка ли — можно монтировать параболические антенны прямо в прочном корпусе — без ущерба для штатного оборудований
— И все-таки я считаю своим долгом напомнить вам — настаивал на своем Дитерихс, — что Генуя, — город прифронтовой и потому наводнен разведками всех мастей. Будьте осторожны!
— Будьте покойны! Еще месяц-другой, и никакая разведка не сыщет нас в море.
В портовой траттории русские и итальянские моряки собрались поглазеть на петушиный бой. Одного петуха раззадоривал боцман Деточка, другого — итальянский унтер-офицер. Хохот, крики, подначки… Но петухи вели себя архимирно, налетать на соперника и клевать его не желали, норовили отскочить в сторону друг от друга.
Наконец морякам это надоело. Деточка поднял своего незадачливого бойца и показал его зрителям.
— Вот, к примеру, петух! На что уж глупая птица, а и та понимает: драться не резон. А мы, люди, умнее вроде бы всякой твари, а деремся так, что перья летят. Может, пора и нам эту бойню кончать, а, братцы? Трактория одобрительно загудела.
В каюте подводной лодки Михайлов отсчитывал мичману Покровскому лиры:
— Значит, так, Юрий Александрович, возьмите две катушки Румфорда, реостат, шеллак и бунзеновскую горелку… Уплатите за листовую медь и лудильные работы…
И вечер — ваш.
За спиной мичмана Покровского громоздилась в глубине отсека недостроенная установка иерофона: раструбы уходили к хитро свитым медным улиткам, походившим на извилины искусственного мозга.
Мичман в белой фуражке, белом кителе и белых брюках весело сбежал по трапу на причал и зашагал к портовым воротам, беспечно покачивая в руке легкий саквояж.
В центральном посту подводной лодки «Святой Петр» Михайлов отлаживал последние детали иерофона, когда к нему спустился военно-морской агент в белом кителе, но уже без погон, с золочеными нашивками на английский манер. Михайлов взглянул на свои руки, испачканные краской и маслом, протягивать ладонь не стал. Барон был сух.
— Николай Николаевич, итальянские власти просят ускорить выход вашей лодки в море. Ваш революционизированный экипаж разлагающе действует на местный гарнизон, в частности, и на мастеровых вообще.
Михайлов усмехнулся.
— Не волнуйтесь, выйдем при первой возможности. Сказать по правде, нам и самим здесь изрядно осточертело!
Кавторанг вытер руки паклей к швырнул ее себе под ноги.
День отхода наконец наступил. Команда «Святого Петра» в белых брюках и форменках была выстроена на верхней палубе. Итальянский военный оркестр играл прощальный марш. Десятки горожан, докеров, матросов пришли на причал, чтобы проводить маленький отважный кораблик в опасный путь. Узкое тело субмарины плавно оторвалось от пирса и двинулось к боновым воротам. Михайлов стоял на мостике, держа ладонь у козырька. Дитерихс вполголоса заметил итальянскому адмиралу: — Аве Цезарь, моритури тэ салютант! Я очень удивлюсь, если узнаю, что они добрались хотя бы до Гибралтара…
«Святой Петр» уходил в открытое море.
Фотокорреспондент, утвердив треногу на набережной, сделал снимок русской субмарины. Он не знал, что эта фотография будет последним земным следом «Святого Петра».
Часть вторая
Парк в стиле «ретро»
Оксана Петровна позвонила Шулейко в самый разгар послеэкспедиционных отчетных работ, к этому времени он уже перестал различать, когда раннее утро, а когда поздний вечер, когда воскресенье, а когда понедельник.
Она позвонила в субботу.
— Алексей Сергеевич? У меня ксерокопия вашего дневника.
— Моего? — изумился Шулейко, не сразу поняв, о чем идет речь.
— Да, той тетради, что вы принесли. Наши криминалисты сделали все, что смогли. Не удалось разъединить лишь несколько страничек. Но и то, что удалось прочитать, — очень интересно.
— Когда я смогу вас увидеть?
— Приезжайте в понедельник ко мне на работу. Кабинет номер четыре…
— А сегодня? Нельзя ли сегодня? Скажите, куда мне подойти, и я подскочу в любое место.
— Сегодня у меня очень сложный день… Но если вам так уж не терпится, приезжайте на Вторую Бастионную, угловой дом…
Оксана Петровна вышла ему навстречу из небольшого частного домика в синем перепечканном известкой халате. Она несла ведра со строительным мусором.
— С полными, с полными! — улыбнулась на Шулейко. — Это к удаче… Подождите минутку.
На улице трезвонил колокол мусоровозной машины, призывая местных жителей поспешать с «черными» ведрами. Помойных баков в севастопольских дворах не держали по причине жаркого климата.
Алексей Сергеевич взял у хозяйки дома ведра и сам отнес их к машине. Водитель — рыжий парень в черной футболке — меланхолично звонил в колокол, подвешенный к кузову-контейнеру,
Шулейко знал за своими глазами одну особенность: что бы он ни разглядывал, но если предмет внимания носил какую-то надпись или просто какие-либо пометки, взгляд сразу же схватывал все буквенное и цифровое: будь то подпись к картине, шапка газеты в руках соседа или ценник в витрине. Эта привычка, совершенно необходимая ему как ученому-изыскателю, ставила его порой в неловкое положение, особенно в гостях, когда, повинуясь неистребимому буквочейству, он поднимал с накрытого стола чашку, блюдечко, вилку и начинал изучать фабричное клеймо, даже не догадываясь, что хозяева конфузятся, ибо донышко чашки украшали чаще всего отнюдь не севрские мечи, а столовое «серебро» не было помечено пробами благородных металлов. Однажды в троллейбусе он невольно вогнал в краску девушку в просвечивающей блузке, пытаясь прочесть «лейбл», пристроченный на ее груди.
Вот и здесь, у машины, взгляд Шулейко непроизвольно приковала надпись «IERIHON», белевшая на футболке шофера, и полустертая славянская вязь, обегавшая край колокола: «ИРЕНА. 1910 г.».
— Откуда у вас этот колокол? — поинтересовался Шулейко у шофера.
— А черт его знает! — сплюнул рыжий. — Я его вместе с машиной принял… Сменщик подвесил… Щас на пенсию ушел, все забрать грозится. А штука хорошая — во звонит! — И он шарахнул языком в колокол. — Аж на Малашке слышно.
Шулейко удивился лишь сходству латинских букв на футболке и русских на бронзовой реборде: «IERIHON» — «ИРЕНА» — не белее того. Он высыпал в контейнер куски штукатурки и отнес пустые ведра во дворик.
— Извините, но пригласить к себе не могу — ремонт, — пояснила Оксана Петровна. Она протянула серую картонную папку с типографской надписью «Уголовное дело №… Начато… Окончено…»
— Не обращайте внимания, — усмехнулась она, видя, что название папки произвело впечатление на Шулейко.
Шулейко пристроился на боковом сиденье троллейбуса. Его толкали, его просили «пробить» талончик… Он ничего не замечал и ничего не слышал. В пальцах его подрагивали листки, сероватые от графитовой напыли. «26 февраля 1918 года. Атлантический океан. Ш — 26°07′ Д — 24°20′.
…Утешаю себя тем, что в моем положении много надежды. Из всех потерпевших несчастье на море я, наверное, в лучшем положении. Корабль мой крепок и надежен стальные отсеки не дают течи. В шторм я задраиваю верхний рубочный люк. Правда, несчастную субмарину швыряет как пустую бутылку в пьяном кабаке. Но я принайтовливаю себя к койке и пережидаю свирепую качку, предаваясь воспоминаниям былой жизни…
Провизии мне хватит на год и более — трюм забит консервами. Воды в питьевой цистерне тоже много. К тому же ящик с бутылками кьянти, прихваченный из Генуи, не опорожнен и наполовину. На завтрак разогреваю на свече банку тушеной говядины или открываю шпроты. Потом завариваю, чай (запасы кофе кончились месяц назад) и пью его вприкуску с галетами или сухарями. Потом поднимаюсь на мостик и обозреваю горизонт в бинокль. Фальшфейер всегда наготове.
Три дня назад к вечеру я заметил дымок угольного парохода. Он шел на вест в трех милях у меня по корме. Я привязал к головке перископа фальшфейер, зажег его и поднял ствол перископа на максимальную высоту. Меня заметили, и я едва не пустился в пляс на крыше, боевой рубки, когда увидел, что мачты судна створятся, судно шло ко мне. Я предполагал нейтрала — скорее всего испанца — и не ошибся.
Купец шел на всех парах — я уже различал его торговый флаг, как вдруг пароход резко отвернул и тем же полным ходом двинулся прочь, показав мне белый бурун за кормой. — Должно быть, капитан, увидев силуэт подводной лодки и опасаясь моего несчастного корабля, как гремучей змеи, бросился наутек.
Германские субмарины наводили страх даже здесь — в Центральной Атлантике…»
Шулейко перелистал ксерокопию, пытаясь поскорее найти ответ на мучивший его вопрос — что же все-таки произошло с экипажем «Святого Петра»? Как случилось, что командир остался на подводной лодке один посреди океана?
Листки были сложены в том порядке, в каком удавалось разъединять слипшиеся страницы дневника. И то, что он искал вначале, обнаружилось на самом дне папки.
«17 ноября 1917 года. Гибралтарский пролив.
Из Генуи в Лиссабон.
Курс 240°.
Мы благополучно миновали Гибралтарский пролив, и за мысом Сант-Висент Атлантика, несмотря на позднюю осень, встретила нас немыслимым в это время штилем. Однако иерофон дал сигнал скорой перемены погоды к шторму. То же предвещал и барометр в боевой рубке. Я велел крепить вещи в отсеках по-штормовому и в помощь боцману отправил с мостика сигнальщика, вызвав на его место мичмана Покровского.
Очень скоро мы открыли по правому борту пароходный буксир под португальским флагом, который лежал в дрейфе. Покровский поднял бинокль и прочел название — „Антарес“. Он отпросился с мостика, чтобы записать обстоятельства нашего прохода через пролив в вахтенный журнал, и вскоре вернулся.
К полудню задул свежий ветер, и „Святой Петр“ вошел в весьма ощутимую килевую качку.
В 13.40 неожиданно и без команды остановился дизель-мотор. Через переговорную трубу я запросил моторный отсек, в чем дело, но мне никто не ответил. Я попросил Покровского немедленно спуститься вниз и узнать, что там случилось. Очень скоро он вынырнул из люка весьма обескураженный.
— Николай Николаевич, там что-то странное… Похоже, что они все укачались…
Я велел мичману, оставаться на мостике, а сам прыгнул в люк. Я едва не наступил на чье-то тело, распростертое на палубе под нижним обрезом входной шахты. Боцман Деточка, обхватив голову, безжизненно переваливался в такт качке. В дизельном отсеке мотористы лежали ничком на смотровых дорожках, тела их перекатывались в такт качке.
…„Уж не угорели ли они?!“ — подумал я. Но вентиляция исправно гнала свежий воздух. Я прошел в нос — оба минера валялись подле минных аппаратов. Они не были пьяны, как показалось мне в первую минуту. Они спали. Спали глубоко, крепко, беспробудно. Я убедился в этом, как только, вернувшись в центральный пост, попытался привести в чувство боцмана. Я тряс его, кричал, щипал, бил по щекам. Все было тщетно. Здоровяк пребывал в глубоком забытьи.
Внезапно я ощутил и в себе странные перемены. Мне захотелось присесть, отдохнуть. Чувство тревоги за команду, за лодку улеглось, мне стало все безразлично. Голова отяжелела так, что впору было придерживать ее руками. Я качнулся, ухватился за раструб иерофона и тут обнаружил, что он вибрирует. Иерофон работал как иерогенератор! Чья-то злая рука вставила в адаптер одну из бамбуковых игл, которые я берег для особо важных опытов, и пустила ее по 9-герцовому эбонитовому диску. Брат мой предполагал — чисто умозрительно, — что иерозвук именно этой частоты погружает его пациентов в летаргический сон. Меня неудержимо клонила прилечь, я рухнул на колени, но прежде, чем расстаться с последними проблесками сознания, падая на пайолы, я успел ударить рукой по адаптеру и выбить иглу с губительной дорожки. И все же разум мой померк. Я прилег, положив под голову фуражку. Не знаю, сколько времени я так пролежал. Очнулся от глухого удара в корпус. Подобрал фуражку и быстро выбрался по скоб-трапу на мостик. Я увидел картину, которая окончательно привела меня в чувство: саженях в двадцати от „Святого Петра“ покачивался на волне большой черный буксир под португальским флагом. Его матросы в круглых шапочках с помпонами раскручивали бросательный конец, а мичман Покровский выбирал его стоя на носу субмарины.
— В чем дело, Юрий Александрович?! — крикнул я ему с мостика.
— Они отведут нас в Лиссабон. Это нейтралы! — отвечал Покровский, не прерывая своего занятия. С борта „Антареса“ — я прочел на скуле непрошеного спасателя его имя — уже подавали манильский канат. Боцман буксира поторапливал своих матросов… по-немецки.
— Мичман Покровский! — закричал я снова. — Извольте вернуться на мостик. К погружению!
Но он еще быстрее заработал руками, подтягивая к борту буксирный канат. Тут все решали секунды. Мне некогда было раздумывать о причинах его странного непослушания. Я задраил за собой люк и открыл клапаны баластных цистерн. Погрузив лодку на перископную глубину, я бросился в корму, чтобы запустить электродвигатель, но забыл второпях разъединить муфту и закрыть выхлопную магистраль дизеля, он успел хлебнуть забортной воды, в цилиндрах его случился гидравлический удар, и я навсегда лишился надводного хода. Но оставался еще электромотор со свежезаряженной аккумуляторной батареей. Я немедленно пустил его в действие и ушел на 30-футовую глубину. Отойдя в сторону, я подвсплыл, поднял перископ и увидел, как матросы „Антареса“ вытаскивают из воды мичмана Покровского. На гафеле буксира вместо португальского развевался германский флаг.
Когда буксир скрылся, я продул цистерны и всплыл. Море было пустынно. На востоке еще синели горные кручи Гибралтара, но они таяли с каждым часом. Свежий норд-ост сносил дрейфующую лодку в океан. Я ясно понимал, что аккумуляторная батарея не позволит мне достичь берега под электромотором, поэтому решил поберечь остатки энергии для освещения, приготовления кофе и самое главное — для световых сигналов бедствия ночью. Ведь радиотелеграфную станцию нам должны были установить лишь по прибытии в Портсмут.
Я спустился вниз и попытался чем мог облегчить участь моих несчастных соплавателей. Прежде всего я поднял тех, кто лежал на железе, уложил их на койки и надежно принайтовил, чтобы качка не сбросила их на палубу. Потом я попытался привести их в чувство, давая нюхать нашатырь, вливая в рот спирт, растирая виски камфарой. Но все было тщетно. Как ни был готов я к испытаниям на море, ужас заглянул в мою душу. Я горячо помолился перед судовой иконой Николаю-чудотворцу, заступнику морского люда, чтобы он явил милость и послал нам спасение в виде какого-нибудь купца-некомбатанта.
Иерофон еще с утра показывал приближение шторма. К вечеру нас стало швырять просто нещадно. Я пытался стоять на мостике, чтобы не пропустить огни случайного парохода, но очень скоро мне пришлось задраить верхний люк и сменить промокшее платье вплоть до белья. Подкрепив себя разогретыми консервами и „адвокатом“, я выключил в лодке все освещение, кроме красной пальчиковой лампочки перед иконой св. Николая, и попробовал уснуть. Несмотря на пережитые треволнения и сильную усталость, сон бежал от меня прочь. Лодку валяло с борта на борт так, что того и гляди из аккумуляторов выплеснется электролит. Расклинившись на своей койке, то есть упершись локтями и коленями в бортик и переборку, я предавался мрачным размышлениям о том, что „Святой Петр“ со своей спящей командой превратился в подобие „Летучего Голландца“, а я — в навеки проклятого капитана Ван Страатена. Знать бы, кем и за что?
5 января 1918 года
Атлантический океан.
В сочельник умер боцман Деточка. Он держался дольше всех…
Прошел почти месяц с тех пор, как из командира боевого корабля я превратился в брата, милосердия плавучего лазарета, затерявшегося в океанской пустыне. Два насущных дела занимали все мое время: высматривание в море проходящих мимо судов и помощь сотоварищам, ставшим нечаянными жертвами моего изобретения и злого умысла моего же бывшего помощника, ученика, друга. Как я жалею, что здесь нет брата, который, несомненно, смог бы вернуть их всех к нормальной жизни. Мне же остается одно: поддерживать их угасающие силы той жалкой стряпней, которую я готовлю из яичного порошка, консервированного молока, какао и вина. Это весьма неблагодарное занятие — кормить спящих. Не все умеют проглотить мою „питательную смесь“, она вытекает изо рта, и кажется, есть опасность, что мой подопечный может захлебнуться. В шторм, в сильную качку с кормлением и вовсе ничего не выходит. Глотательный рефлекс мне удается вызвать далеко не у всех. До рождества я еще не терял надежды, что кто-то проснется и жизнь моя сразу станет легче…
…Первым погиб машинный унтер-офицер Найда. В сильную бурю лопнули найтовы, его сбросило с койки и ударило головой об острое ребро станины электромотора. Я обнаружил его, когда бедняга уже не подавал признаков жизни. Замотав его тело в одеяло, я вынес покойника на палубу и, прочитав молитву, предал его морю. Определил координаты погребения и записал их в вахтенный журнал. В тот же печальный день иссякли и последние амперы электричества. Плотность электролита упала до нуля.
Из сигнального фонаря и фитиля, пропитанного соляровым топливом, я соорудил нечто вроде коптилки. При зыбком и скудном ее свете я веду эти записи.
Через два дня умер, по-видимому от глубокого истощения организма, матрос Стороженко. Я похоронил его также по морскому обычаю.
Судя по всему, ветры и течение сносят „Святой Петр“ к Азорским островам. Тешу себя мыслью, что именно там мы получим помощь. Но, увы, Канарское течение заставило „Святой Петр“ пересечь уже тридцатиградусный меридиан. Уповаю только на то, что если пассатные ветры не ослабнут, меня все-таки прибьет к бразильскому берегу.
Провизии у меня достаточно. Но питьевая вода уже начинает портиться…
14 января 1918 года Центральная Атлантика
Вчера видел дым. Грузовой пароход шел контркурсом на норд-ост. Зажег паклю на поднятом перископе. Пароход направился было ко мне, но, заметив, что имеет дело с подводной лодкой, поспешно отвернул прочь. Не судьба! Единственное, что скрашивает мое положение и придает силу духа, — наблюдение над иерозвуковым эфиром океана. Слуховая аппаратура иерофона работает безотказно. Вот если бы еще было электричество, „Святой Петр“ оказался превосходной плавающей лабораторией. Иногда кажется, что судьба сама пошла мне навстречу: вместе войны я обрел идеальную возможность для научных занятий. С болью думаю о коварстве моего счастья. Неужели все это канет вместе со мной на дно морское?! Одно утешает: брат мой, Дмитрий Николаевич, сохранит мои чертежи, расчеты и образцы.
Декабрь 1918, а может быть, январь 1919 года Южная часть Атлантики
Думаю, что сегодня все же сочельник. Наступает 1919-й. Готовлюсь к неизбежному… Пока еще есть силы, максимально облегчил лодку: выстрелил из аппаратов все мины, осушил вручную трюма. Моя гробница должна как можно дольше продержаться на плаву. Рано или поздно ее прибьет к берегу. Какое там „рано“?! Конечно — поздно. Для меня-то уж определенно — поздно. Сегодня размонтировал и выбросил за борт иерогенератор. Идет война, и если этот аппарат попадет к врагу или в иные недобрые руки, его могут сделать новым чудовищным средством умерщвления людей.
Февраль 1919 года
Место не обсервовано (нет сил поднять секстан)
В полдень попрощался со всем белым светом. Скоро наступит тьма — черный свет смерти. Цинга делает свое дело.
По всей вероятности, „Святой Петр“ попал в мощное циклическое течение, и теперь его будет носить, пока хороший шторм не выбросит его из этого проклятого круга.
Наверное, океан не хочет со мной расставаться. Я понял его язык. А он нашел во мне собеседника. Смею утверждать: океан — существо разумное. Это наш древний пращур. Его соль носим мы в своей крови. Мы вышли на сушу, но незримые нити связывают нас с его животворными недрами. Он управляет нами, дает нам энергию, пищу, волю. Он судит нас; у одних он отнимает рассудок, у других жизнь, достойным — дарует великую силу духа. Как жаль, что мы разучились слышать голос, этого мудрого исполина.
Весна 1919 года…
Не верю в смерть в средоточии жизни!..»
Страницы дневника разлеплялись с огромным трудом. Но как только удавалось отснять очередной разворот, Оксана Петровна звонила Шулейко, и тот, немедленно приезжал и забирал листки ксерокопий. Голос кавторанга Михайлова, звучал для него в самых неожиданных местах в обеденной очереди с подносами, в пляжном шезлонге, в зале профсоюзного собрания. Он почти что наяву слышал этот голос, будто шел он со старой заезженной шипящей пластинки. Он мог даже описать этот голос: неторопливый, глуховатый, отчетливо выговаривающий каждое слово…
Эпизоды отчаянного плавания командира «Святого Петра» престранным образом вклинивались в его обыденную институтско-городскую жизнь, отчего все текущие и грядущие хлопоты, беды и радости вдруг стали казаться Алексею Сергеевичу унылыми, блеклыми, пресными. Он заболел «Святым Петром», и эта болезнь захватила его гораздо сильнее, чем все прочие былые страсти, а уж отдаваться своим увлечениям Шулейко умел, так что каждое из них — и подводная охота, и велосипед, и собирательство старинных фотоаппаратов — превращалось в самую настоящую манию.
Вот и в эти суматошные дни, как ни была забита голова экспедиционными отчетами и переживаниями за Вадима, Шулейко то и дело возвращался мыслями к Михайлову, к тайне его одиночного плавания.
Всякий раз, когда он вчитывался в новые странички дневника, ему чудилось, что он держит в руках только что принятую радиограмму, что «Святой Петр» все еще там, в океане, дрейфует по воле волн и течений, что стоит только всполошить аварийные службы, и еще можно успеть прийти на помощь обреченной субмарине. Но он хорошо помнил, как высвобождал из окостеневших пальцев иссохшую планшетку. Выходило так, что капитан 2-го ранга Михайлов из рук в руки передал ему свой дневник. И не кому-нибудь, а лично Алексею Сергеевичу Шулейко. От этой неотвязной мысли можно было повредиться в уме.
Картина в синем свете
Октябрь в Севастополе — время желтых акаций, когда их огромные плоские стручки хрустят под ногами прохожих, когда свежий ветер с моря раскачивает на белых севастопольских балкончиках зелено-фиолетовые плети плюща, когда на Приморском и Историческом, Большой Морской и Корабельной слетают, цепляясь шипами за листву, каштаны, бьются об асфальт, лопаются, и их маслянистые полированные ядра долго прыгают по мостовым и тротуарам… Ничего этого Шулейко не замечал. Работал…
В канун замечательно строенных выходных дней: седьмого октября — Дня Конституции — и субботы с воскресеньем, неожиданно позвонила из Ялты Зоя, «знойная звезда советской этнографии».
— Алексей Сергеевич, не собираетесь ли вы в наши края?
— Нет. Но если это нужно…
— Да-да-да-да! Это нужно видеть своими глазами. Приезжайте обязательно! Только захватите с собой картину. Любую. Важен только размер — метр на шестьдесят пять… Запомнили? Сюжет не важен. Меня вы найдете в пансионате «Академия», второй корпус, семнадцатая комната… Не удивляйтесь моей просьбе. Потом все поймете.
Чувствовалось, что Зою так и подмывает сказать, что именно ему нужно видеть своими глазами, удивить, ошеломить, но она сдержалась, а Алексей Сергеевич выпытывать не стал, и в тот же день — укороченный на работе как предпраздничный — отправился рейсовым «икарусом» в Ялту, которую, в общем-то, терпеть не мог из-за пошлого курортного ажиотажа, сотрясавшего этот некогда тихий и благодатный городок.
Шулейко взбежал по высокой многомаршевой лестнице, держа под мышкой картину, которую снял со стенки у себя в прихожей. То была копия полотна из Русского музея «Татары, выгружающие чай в Нижнем Новгороде», купленная в Ленинграде еще в студенческие годы, и Алексей Сергеевич готов был без особого сожаления расстаться с этим полотном, изрядно намозолившим глаза сначала в комнате, потом на кухне и, наконец, в прихожей. Правда, размеры ее рамы были чуть меньше тех, что называла Зоя, но ничего другого найти он не успел.
Счастливо миновав насупленную вахтершу, проводившую его долгим подозрительным взглядом, Шулейко — с деловым видом («Картину несу!») — поднялся на второй этаж и постучался в семнадцатую комнату.
— Как вы быстро! — обрадовалась Зоя. — Проходите. Сейчас я вам все расскажу и покажу. — Она подвела гостя к картине, висевшей над диваном, и в предвкушении будущего эффекта спросила:
— Что вы на ней видите?
— Волны… — неуверенно отвечал Алексей Сергеевич, старательно вглядываясь и пытаясь догадаться, в чем тут секрет. — Очень похоже на известную картину Айвазовского «Среди волн».
Огромные пенные валы катили прямо на зрителя, точно он видел их снизу, оказавшись посреди разбушевавшейся
стихии.
— У меня вчера разболелось ухо, — рассказывала Зоя, разматывая шнур синей лампы. — Я сидела вот здесь и смотрела телевизор… — Она выключила рефлектор и села против светящегося экрана. — Теперь погасите верхний свет. Да, вот так я сидела и ненароком посмотрела на эту картину… Смотрите сами, вот отсюда…
Шулейко направил на полотно, тускло отливавшее в бликах телеэкрана лучи синей лампы, и в этом странном смешении света вдруг увидел, как на картине проступили четкие очертания… корпуса подводной лодки. Субмарина как бы кралась под волнами… Это было хорошо придумано!
— Кто же автор? — спросил Алексей Сергеевич, придя
в себя от первого удивления.
— Я пыталась это узнать, но на полотне нет никаких пометок. Как она попала сюда? Никто не помнит. Завхоз говорит, что картина осталась вместе с мебелью от прежней организации, владевшей пансионатом. Есть инвентарный номер, но он ничего не объясняет.
Вы обратите внимание, как похожа эта лодка на ту, что мы нашли в Луана-дари?
— Похоже, да не очень… У этой рубка попрямее… Но, в общем-то, они наверняка из одного времени.
— Картина явно записана. — Зоя зажгла люстру, и очертания субмарины исчезли. — Знаете, как иконы записывали?
— Да, конечно. Поверх старого лика писался новый.
— Вот-вот… Надо снять верхний слой и рассмотреть, что здесь было написано сначала.
— Снимать краски — долгая история. Проще сделать рентгеновский снимок.
— Вы можете?
— Д-а, вроде бы у меня есть знакомые… — сказал Шулейко и подумал об Оксане Петровне.
— Тогда берите ее с собой! — распорядилась Зоя. — Вашу же повесим на место «Волн». Надо только на нее переставить инвентарный номер… Все равно она в комнатной описи значится как «картина масляная в раме 100x65»
— Но у меня рама чуть меньше.
— Ничего, — успокоила его Зоя… — Здешним ценителям искусства ничего не стоит пометить в акте, что «картина в раме» усохла. Она же ведь масляная, не так ли?!
— Так, — улыбнулся Алексей Сергеевич.
Три дня Шулейко с нетерпением ждал данных рентгеноскопического анализа. Наконец Оксана Петровна позвонила.
— Приезжайте. Мне только что принесли рентгенограмму.
Через полчаса Шулейко держал в руках еще влажноватый лист широкой рентгеновской пленки. Среди смутных разводий и пятен прорисовывался, силуэт подводной лодки. Снимок был настолько четкий, что можно было даже разобрать название корабля, выведенное на носовой скуле, — «Сирена». Но самое главное — в нижнем углу записанной картины проступали авторские инициалы, сплетенные в затейливый вензель «Г. П. — 76».
— Кто же этот «глаголь-покой»? — спросил Шулейко, прочитав инициалы на морской манер.
— Кто такой «глаголь-покой», не знаю, — отвечала Оксана, Петровна., вытаскивая закладку из корабельного справочника, — а вот судьбу подводной лодки «Сирена», удалось установить довольно точно. В 1920 году врангелевцы увели ее вместе с остатками Черноморского флота в Бизерту. Там она, простояла до 1928 года, после чего ее разобрали на металл.
— Почему портрет «Сирены» был написан в 1976 году, а не при жизни субмарины? — размышлял вслух Шулейко, — Впрочем, знать тогда о ней могли лишь историки, причем очень узкого профиля — те, кто изучает neрвую мировую войну на Черном море.
— К вашим вопросам, — вздохнула Оксану Петровна, — Я могу добавить лишь свои… Зачем и кому понадобилось записывать первую картину? Кто ее записал — сам автор, которому картина не понравилась? Или другой художник? Если автор, то кто он — знаток морской старины или…
— Или сам моряк, — продолжил мысль Алексей Сергеевич, — член экипажа этой лодки…
Оксана Петровна усмехнулась.
— Я даже подумала, уж не сам ли это Покровский написал.
— А почему бы и нет? Сколько бы могло ему быть в 76-м? Лет восемьдесят от силы…
— Инициалы не совпадают. Того звали Юрий Александрович. А на вензеле четко просматривается «Гэ. Пэ»… К сожалению, я не могу принять участие в ваших розысках, хотя, признаюсь честно, вся эта история мне интересна и в человеческом, и в профессиональном плане. Но работы у меня, как, наверное, и у вас, выше головы.
Теперь по делу вашего сына. Могу вас обрадовать. Вот заключение эксперта по холодному оружию: «Представленный на исследование предмет является ножом индийского кустарного производства и предназначен для разрезания бумаги (листов книг, конвертов и т. п.). Этот нож, хотя и стилизован под индийские национальные образцы холодного оружия, но в действительности холодным оружием не является…»
— То, что нож для разрезания бумаг не является холодным оружием, — усмехнулся Алексей Сергеевич, — это я и без эксперта знаю.
— Ну не скажите… Среди юристов нет определенного мнения, что считать холодным оружием, а что предметами хозяйственно-бытового, туристско-спортивного назначения. Вы знали, что ваш сын ходит с этим ножом?
— Да. Но я знаю и то, что Вадим никогда не пустит в ход свой нож первым. У любого мужчины должен быть нож для, самообороны, для дороги, да мало ли для какого другого дела. Я сам всегда ношу с собой нож.
— Интересно взглянуть!
— Пожалуйста.
Шулейко достал из портфеля пластиковые ножны и извлёк из них нечто вроде финки с рубчатой резиновой рукоятью.
— Ого! — воскликнула Оксана Петровна. — Вот здесь и в самом деле без экспертизы ясно — самое настоящее боевое оружие.
— Боюсь, что вы ошибаетесь. Это нож для выживания в джунглях. У него полая рукоять — для насадки на палку: Вот тогда эта штука действительно превращается в оружие — в копье. По вашей классификации это скорее туристско-охотничий инвентарь.
— Он вписан в ваш охотничий билет?
— Да.
— Тогда все в порядке. И все же я противница таких вещей…
Шулейко вышел на улицу. В голове престранным образом мешались мысли о Вадиме, о «Сирене», о справочнике союза художников, наконец, этот разговор о ножах… Надо было собраться, сосредоточиться…
С Константиновской батареи бабахнула полуденная пушка. От этого тугого гулкого звука все мысли разлетелись в разные стороны. Только тут он обнаружил, что стоит на Приморском бульваре и бесцельно разглядывает афишу рок-группы «Иерихонская труба». «Кафе „Фрегат“. Солистка — Ирена Паруцка».
Буква «С» в слове «солистка» была одной величины с литерами «ИРЕНА», так что Шулейко на мгновенье прочитал имя как — «СИРЕНА». И тут его осенило. На колоколе мусоровозки было выбито не «Ирена», а именно «Сирена». Просто первая буква затерлась. Это был судовой колокол с подводной лодки «Сирена»!
Минуты три Шулейко еще брел по Примбулю, веря и не веря в свое нечаянное открытие, потом повернулся и почти бегом бросился к стоянке такси у Графской пристани. «Жигули» с табличкой частного извоза примчали его к гаражу городского благоустройства. Показав сторожу институтский пропуск и наскоро объяснив, в чем дело, Шулейко без труда отыскал нужную машину. Рында, привешенная к контейнеру, поблескивала на солнце. Вот и славянская вязь: «…ирена». Он ощупал начало слова, будто не доверял глазам, которые ясно видели, что край колокола и в самом деле затерт, а от первой буквы осталась даже верхушечка — это подтверждали и пальцы, гладившие бугорок.
Сторож стоял рядом и бдительно следил за всеми манипуляциями явно ненормального гражданина. На лице его читалось откровенное опасение: «Как бы этот псих не спер колокол». Впрочем, он оказался добрым малым, этот сторож, из мичманов-отставников; припомнил не только фамилию шофера, подвесившего на машину рынду, но, покопавшись в амбарной книге, отыскал и его адрес — Древняя улица, дом, где ресторан «Дельфин», Павел Николаевич Трехсердов.
Шулейко немедленно отправился на улицу, что вела к руинам древнего Херсонеса.
Дверь открыл высокий крепкий старик с роскошной шапкой седых волос — живая аллегория немыслимого понятия: цветущая старость. Возраст выдавали лишь глубокие резкие морщины, изрубившие лоб и щеки, словно шрамы. «Ему бы не мусоровоз водить, а играть в кино благородных разбойников», — невольно отметил про себя Шулейко.
— Чем могу служить? — громогласно вопросил «благородный разбойник». Алексей Сергеевич коротко объяснил суть дела.
— Рында вас моя интересует… Да нашел я ее в Карантинке. Там раньше свалка от гидрографии была.
— Давно нашли?
— Давно. Вскоре после войны.
— Гм… Вы бы ее в музей сдали… Все-таки историческая вещь.
— Там такого барахла хватает. Да и не нужна она им. Я в пятьдесят втором носил. Сказали: это царский флот, империалистическая война… Несите во вторсырье. — А мне жалко стало. Вот и пристроил к делу.
Шулейко задумался, потом произнес:
— Послушайте, Павел Николаевич, продайте-ка ее мне.
— На что она вам?
— Я ее в музей определю.
— Нет. Не продам! — отрезал Трехсердов.
Сказано это было столь решительно, что Шулейко ничего не оставалось, как покинуть этот дом.
Григорий. Геннадий. Георгий!
В «библиотечный день» Шулейко отправился в следственный отдел, чтобы забрать тетрадь кавторанга Михайлова.
— Это последнее, что удалось прочитать, — Оксана Петровна извлекла из стола конверт, в котором лежал отпечатанный на машинке листок с пробелами неразобранных слов.
«…После долг (их) (и) неутешительных размышлений я пришел… принесут людям больше вреда, чем пользы… Настоящее… рассматривать (как) мою последнюю волю…
1……………………….
2. Уничтожить все три опытных образца:
а) модель № 1, исполненную в виде серебряного свистка, находящегося во владении моей жены;
б) модель № 2, исполненную в виде насадки на духовой инструмент (корнет-а-пистон), что остался на моей севастопольской квартире (футляр зеленого сафьяна).
с) модель № 3, исполненную в виде граммофона (ящик красного дерева), хранится в Форосе на даче ординарного профессора Дмитрия Михайловича Михайлова.
Душеприказчиком настоящего распоряжения объявляю вышеозначенного моего брата.
К сему руку приложил
Командир подводной лодки „Св. Петр“ Капитан 2-го ранга Н. М. Михайлов 9-й 1919 год. Атлантический океан».
Шулейко вздохнул и спрятал листок в конверт.
— Он не совсем прав… Точнее, совсем не прав.
— Почему вы так считаете? — спросила Оксана Петровна.
— «Все яд, и все лекарство» — так, кажется, говорил великий Гален. Иеро, точнее, инфразвуковая аппаратура Михайлова могла бы принести больше пользы, чем вреда. Смотря как применять его изобретение. Тут сотни примеров.
— Согласна, согласна! Я где-то читала, что с помощью инфразвуковой аппаратуры можно предсказывать не только морские штормы, но и землетрясения.
— Можно и землетрясения. Животные прекрасно слышат тот неслышимый нами гул, который идет из земных недр и который ощущается нами тогда, когда уже поздно бежать из домов. Представьте только, как бы прекрасно дополнила сейсмическую службу инфразвукового наблюдения.
— Да, но неужели, кроме Михайлова, за все это время так и никто не преуспел в этой самой инфразвуковой технике?
— Да как вам сказать… Открытие Михайлова, как это часто бывает, намного опередило свое время. Тут еще надо иметь в виду вот что: на долю двадцатого века выпало столько сногсшибательных изобретений, открытий, разработок, что инфразвуковая техника осталась где-то на обочине прогресса. Смотрите — ядерная физика, ультразвук, лазер, кибернетика, генная инженерия, космос — одна сфера ошеломительнее другой. А тут какие-то «сверхтихие звуки» — ничего никому не сулящие, ничем никому не угрожающие. Это в обыденном, конечно, сознании. Так в нашем исхоженном, истоптанном, изученном сверху донизу мире возникла немыслимая вещь — «белое пятно» инфразвука. Правда, с начала шестидесятых годов инфразвуком начали заниматься серьезно. Построены даже мощные инфразвуковые генераторы. Но все они очень громоздкие, их размеры превышают десятки метров. Михайлову же удалось вместить свои «иерогены» в обычный свисток, в сурдинку, в граммофон!.. К сожалению, свои секреты он унес с собой.
— Все, да не все! Ведь где-то остались целых три модели.
— Прошло с тех пор лет семьдесят. Где их найдешь? — вздохнул Шулейко с пессимизмом, явно напускным.
— Нашли же вы рынду с «Сирены»?! — горячо возразила Оксана Петровна, не заметив подвоха. В ней заговорил профессионал, задетый за живое, чего втайне и добивался ее собеседник.
— Что толку? Рында сказала то, что она сказала. Вот найти бы автора картины… Я тут все имена на «Г» перебрал: Геннадий, Григорий, Генрих, Густав…
— Георгий…
— Да, Георгий… Постойте, постойте!.. Ну, конечно же, Георгий! Как я раньше не догадался?!
— При чем здесь Георгий?
— Да ведь Юрий и Георгий означают одно и то же имя. У меня был школьный приятель, которого мы все звали Юркой. А по паспорту он Георгий Сергеевич. «ГэПэ» — Георгий Покровский!
— Интересно, интересно, — задумчиво произнесла Оксана Петровна. Минуточку… Сейчас мы кое-что уточним.
Она придвинула телефонный аппарат и стала набирать номер.
— Алло! Виктор Иванович? Как вы поживаете? Когда пригласите на открытие? Нет ли у вас под рукой справочника союза художников? Только Украины? Да, годится. Подожду.
Прикрыв трубку рукой, пояснила:
— Это Чижов. Наш местный скульптор.
В последнем уточнении Шулейко не нуждался, так как хорошо знал имя главного севастопольского ваятеля.
— Да, да, слушаю… Посмотрите, пожалуйста, не значится ли в справочнике некто Георгий Александрович Покровский.
Шулейко не смог сдержать иронической улыбки. Для него этот вопрос звучал столь же нелепо, как если бы Оксана Петровна вздумала выяснить телефон Ивана Грозного. Однако в следующую секунду он чуть было не опустился в изумлении на подоконник.
— Так, так! — зазвенел вдруг голос женщины. — Минуточку, сейчас запишу. Это просто невероятно! Сколько же ему сейчас? Восемьдесят девять?! С ума сойти можно — И как он себя… Поразительно. А говорят, долгожители только на Кавказе! Спасибо большое, Виктор Иванович! Обязательно побываю. Всех благ!
Оксана Петровна положила трубку.
— Ваш мичман Покровский живет в Балаклаве, — огорошила она и без того ошеломленного Шулейко. — Он старейший скульптор Крыма, а может быть, и всей Украины, а может быть, и России. К тому же автор тех статуй в Ретро-парке, что сокрушил ваш сын.
— Ясейчас же поеду к нему, — произнес Шулейко. — У него есть телефон. Спросите сначала, как он себя чувствует и сможет ли вас принять.
— Да, конечно. Спасибо. Можно по вашему? — Звоните. Два семнадцать сорок четыре.
Женский голос в трубке сообщил, что Георгия Александровича нет дома, он уехал в Севастополь и найти его можно в Ретро-парке, где он осматривает свои поврежденные работы.
— Пожалуй, я схожу вместе с вами, если вы не возражаете, — сказала Оксана Петровна.
— Да, конечно.
— Отпрошусь только у начальства… Она сняла трубку внутреннего телефона.
— Трофим Игнатьевич, я вернусь с обеда попозже. Мне надо еще раз осмотреть место происшествия. Хорошо?
Положила трубку.
— Подождите меня на улице. Я переоденусь.
Из следственного отдела она вышла, сменив тужурку с лейтенантскими погонами на приталенный жилет в цвет форменной юбки. «Надо же, — удивился Шулейко, — как удобно. Идет себе эдакая дамочка, а никто и не подумает, что офицер милиции».
В безмолвном, по случаю буднего полудня Ретро-парке они увидели его сразу. Высокий сухой старец в белой старомодной пиджачной паре прохаживался по дорожкам и постукивал тростью по останкам гипсовых фигур, прикидывая, должно быть, сколь велики разрушения и можно ли что-то восстановить. Войлочная сванетка охватывала темя бритой головы ловко и плотно, точно чашечка желудь. Издали он походил на одну из своих статуй, изображающую старого ученого в духе тридцатых годов.
Оксана Петровна окликнула его, представилась. Покровский церемонно раскланялся и тут же предупредил:
— Только не надо мне сочувствовать. Терпеть не могу, когда меня жалеют. Все в порядке вещей. О времена, о нравы! Пигмалион, переживший свою Галатею. Это еще полбеды. Вот через год настанет полная беда.
— А что должно случиться через год? — спросила Оксана Петровна.
— Не спрашивайте! — манерно махнул рукой Покровский. — Через год наступит старость: мне стукнет девяносто!
Это было сказано с таким неподдельным огорчением, что строгая женщина, чья суровая профессия почти разучила ее улыбаться, невольно рассмеялась:
— Однако откройте секрет, как вам удалось так далеко отодвинуть старость?
— Никаких секретов от очаровательных дам! Что может быть здоровее работы каменотеса на воздухе Крыма? Немного гимнастики и плавание в море. Каждое утро в любую погоду: летом — полмили, зимой — два кабельтова.
— Так вы морж!
— Теперь скорее старый бобер. Но седина бобра не портит.
Шулейко порадовался тому, что его спутница взяла верный тон. Старик был явно из породы завзятых флотских сердцегрызов. Во всяком случае, можно было надеяться, что в присутствии молодой женщины он не станет скрытничать, как Трехсердов.
— А не отобедать ли нам вместе? — предложил Шулейко.
— Прекрасная идея! — подхватил Покровский. — Последний раз я обедал в обществе прекрасных дам, если мне не изменяет память, весной семнадцатого года.
— Ну что ж, я не против, — согласилась Оксана Петровна. — А что здесь у нас поблизости?
— «Фрегат», — кивнул Шулейко на мачты парусника, вздымавшиеся над кронами каштанов.
За ресторанным столиком старик расчувствовался.
— А вы знаете, этот «поплавок», как его здесь называют, на самом деле бывшая турецкая шхуна «Алмазар», и ваш покорный слуга участвовал в ее захвате. Это был приз подводной лодки, на которой я служил.
— В Великую Отечественную? — наивно уточнила Оксана Петровна.
— Что вы, что вы!.. Еще в первую мировую.
На эстраду вышли музыканты рок-группы «Иерихонская труба». Ведущий программы, весьма упитанный бас-гитарист, подпоясанный шнуром микрофона, был краток:
— Музыканты из породненного города Киль приветствуют наших слушателей. Рок-пьеса «Иерихон»!
— «Хон!» «Хон!» «Хон!» — восторженно скандировали набившиеся в зал юнцы с высокозачесанными подкрашенными вихрами.
Вздохи мощных динамиков придавили зал. Затем грянуло нечто визгливо-заунывное, ритмично-рявкающее, отчего говорить стало совсем невозможно — голоса вязли в густой осязаемой музыке, которая воспринималась уже не ушами, а грудной клеткой, всем телом.
Ударник бил по красным, оранжевым, зеленым тарелкам и разноцветным барабанам, барабанищам, барабанчикам. Он походил на индуистского бога, которому из множества рук оставили только две и обрекли на прежнюю работу.
Двое оркестрантов держали в руках весьма странные инструменты — эдакие гибриды саксофона и валторны. В их раструбы были вставлены заглушки-сурдинки. Казалось, эти экстравагантные сакс-валторны играют беззвучно, но едва музыканты нажали на клапаны, как бокал в руке Покровского тоненько запел-зазвенел.
Шулейко сделалось не по себе. Заныло сердце, заломило виски.
Электроорган взял протяжный басовый аккорд, бас густел, понижался, он стал рокочуще-хриплым, потом как бы рассыпался на отдельные вздохи и наконец исчез совсем, но низкочастные динамики продолжали вибрировать и тонкое стекло бокалов снова запело. То был знаменитый финал рок-пьесы — «туба мирум» (труба мира) — глас иерихонской трубы, возвещающий Страшный суд.
— Иерозвук! — взволновался Покровский. — Определенно, они излучают иерозвук!
— Инфразвук, — поправил его Шулейко.
— Неважно! Здесь нельзя находиться… Я знаю эту шхуну, я делал расчеты… У нее очень коварные обводы… Они вызывают интерференцию…
— Не волнуйтесь! — успокоил его Шулейко. — Тут не раз все перестраивалось. Так что нарушены все пропорции. Инфразвук здесь лишь создает настроение.
— Очень дурное настроение… Давайте покинем это место.
— Вам плохо? — участливо спросила Оксана Петровна.
— Да… Лучше бы на свежий воздух… Отвык, знаете ли, от ресторанного шума. А эта какофония — черт знает что… Может быть, поедем ко мне? — неуверенно предложил Покровский. — Особых разносолов не обещаю, но запотевший кувшинчик изабеллы собственного разлива выставлю.
Шулейко умоляюще взглянул на Оксану Петровну. Та посмотрела на часы, потом решительно тряхнула пышными волосами:
— Едем!
Домик в Балаклаве
На узенькой тесноватой улочке буйствовали старые акации. Они лезли в окна, укладывали ветви на балкончики и карнизы; их бугристые перекрученные корни пучились и клубились, словно одревесневшие осьминоги. Их деревянные чешуйчатые щупальца выворачивали тротуарные плиты и брусчатку мостовой.
Просторный балкон почти весь вдавался в густую крону столетней акации. Ветви ее пролезали сквозь каменные балясины, обвивали их и вползали на перила. В этом зеленом шатре стояла девушка в длинном белом платье и расчесывала волосы, закрывавшие грудь.
— Это моя младшая пра, — пояснил Покровский, отворяя калитку. — Верок, к нам гости! Побудь, милая, за хозяйку. Накрой нам столик в саду.
Шулейко показал глазами Оксане Петровне на портфель с дневником Михайлова.
— Дать ему почитать?
— Пожалуй.
Пока правнучка Покровского хлопотала по хозяйству, а Оксана Петровна ей помогала, Георгий Александрович, водрузив на нос тяжелые очки, вчитывался в записи своего командира. Шулейко поглядывал на него вполглаза. Старик читал внимательно и спокойно, лишь легкая дрожь, в пальцах, перелистывающих страницы, выдавала его волнение.
— Ну что ж! — вздохнул он, когда закрыл папку и когда Шулейко рассказал, как были найдены дневник и останки Михайлова.
— Я всю жизнь ждал, что кто-нибудь меня, все же расспросит о «Святом Петре»… Верок, ты можешь еще успеть к катеру на Золотой пляж. Спасибо тебе, милая!.. Оксана Петровна, садитесь поближе. В вашем присутствии мне легче говорить правду. Впрочем, мой возраст и без того не позволяет лгать. Да и скрывать мне нечего, ибо за содеянное Бог покарал меня весьма чувствительно: в общей сумме пятнадцать лет лагерей. А год сталинского лагеря стоит трех лет царской каторги. Уж вы мне поверьте.
— Как? — удивилась Оксана Петровна. — Вас судили за «Святого Петра»?!
— Не волнуйтесь, моя дорогая. Меня судили как турецкого шпиона. Но поскольку это был чистейший бред, я утешал себя тем, что сижу не безвинно, а искупаю свой тяжкий грех перед Михайловым и всей командой. Я считал все эти годы, что «Святой Петр» погиб сразу, же, как только погрузился в Гибралтаре…
— Впрочем, начнем abovo— от яйца, как говорили древние. Итак, нарисуйте себе Геную лета семнадцатого… Чудный белый город, утопающий в солнце, зелени и женском смехе. Никакой войны! Теперь вообразите двадцатилетнего мичмана, полного жизни, любви и надежд на весьма неплохое будущее. Я прочил себя в большие живописцы… Представите себе, состоял в переписке с самой Голубкиной и имел от нее похвальные отзывы о моих работах. И вдруг нелепейший, бессмысленнейший жребий: заточить себя в стальной гроб и кануть в нем на дно морское. У «Святого Петра», по моему тогдашнему убеждению, не было никаких шансов прийти в Россию. И тогда с помощью одного очаровательного Существа, возник план. План спасения, «святопетровцев» от никчемной и неминуемой гибели. Я должен был погрузить их в глубокий сон посредством иерозвуков определенной частоты. Потом я даю сигнал ракетой на португальский буксир, и тот отводит нас в нейтральный порт. Оттуда санитарный транспорт доставил бы команду в Россию, где Дмитрии Михайлович Михайлов без особого труда вывел бы всех спящих из летаргии по своей блестящей методе. А там и конец войны.
Понимаю, для вас все это звучит как фантастика. Но мне было много меньше, чем вам, любая авантюра казалась осуществимой. Тем более речь шла о жизни и смерти. Мой план, пусть и сумасбродный, все же обещал жизнь, и не только мне одному. Помимо всего прочего, я спасал для России и Михайлова, который из своих старомодных понятий о чести не хотел видеть вопиющей бессмысленности нашего похода, да и всей войны. Для него все это было защитой Родины.
— А для вас? — спросила Оксана Петровна.
— Для меня? Я уже тогда оценивал войну с марксистских позиций, так как еще студентом почитывал кое-что… Михайлов же кончал Морской корпус, где заниматься политикой считалось смертным грехом. Это в конце концов его и погубило. Я не хочу сказать о нем ничего дурного, он был моим Учителем, и меня всегда мучила совесть за мое… За мою тайную попытку спасти его и корабль. Но его воинский фанатизм погубил все и всех. Что стоило ему принять помощь нейтрала? Все равно мы вдвоем не смогли бы привести «Святого Петра» не то что в Россию, до ближайшего бы французского порта.
— Но ведь он слышал немецкую речь.
— Чепуха. Команда на буксире была разношерстной: испанцы, португальцы, итальянцы, немцы…
— А флаг, который он видел в перископ?
— Светосила нашего перископа была настолько мала, что в него могло померещиться все что угодно. Буксир был португальский. Он пришел в Лиссабон. Меня даже не интернировали. Я обратился в русское посольство и через месяц уже шагал по Архангельску.
Гражданскую войну провел в Кронштадте. Служил на «Олеге», был ранен. В двадцать третьем списался вчистую, как негодный к строевой. Приехал в Севастополь. Ни кола, ни двора, ни ремесла.
В свои двадцать шесть я ощущал себя глубоким стариком.
Искупавшись в море, я направил свои стопы к знакомому мне домику на Владимирской горке. Он был поделен пополам. Дверь одной половины оказалась заперта, другую открыла Стеша в наряде конторской барышни.
— Ой, Юрий Александрович! — обрадовалась она. — Где же вас лихо носило? А мы вас схоронили давно вместе с Николаем Михайловичем… Я теперь одна живу! Разделились мы с Надеждой Георгиевной. Заходьте! У меня подождете. Чайку попьем.
В комнате Стеши стояла огромная кровать с никелированными спинками, пышно убранная подушками, под кисеей. Над круглым столом куполом парашюта нависал абажур. Стеша взволнованно суетилась, собирая чай под портретом Ворошилова.
— Где же работает Надежда Георгиевна? — спросил я, разглядывая флакончики на трюмо.
— А, в горбольнице сестрой… Я теперь тоже, Юрий Александрович, как освобожденная пролетарка, на почтамте тружусь. Ага! Сама себя содержу… А вы-то, вы-то, вы и раньше видные были, а теперь и вовсе в солидные мужчины взошли!
В окне мелькнула темная накидка Надежды Георгиевны. Я метнулся из-за накрытого стола…
…Бывший кабинет Михайлова оставался почти таким, каким был при жизни хозяина. В руке Надежды Георгиевны дрожала крохотная ликерная рюмка.
— Я очень рада вашему возвращению… Здесь все так переменилось. Люди стали неузнаваемо другими… Вы помните, кухарка Николая Михайловича Стеша заявила мне, что я вдова «бывшего царского сатрапа» и потому не имею права занимать целых две комнаты. И это Стеша, которая боготворила Николая Михайловича… Я буду рада, если вы остановитесь у нас. Мы с Павликом прекрасно разместимся в столовой, а кабинет — ваш. В том шкафу — чертежи. Кроме вас, никто в них не разберется. В них — вся жизнь Николая Михайловича…
Я подошел к висевшей на стенке гитаре и провел пальцем по струнам, инструмент оказался расстроенный.
— Милейшая Надежда Георгиевна… Я с благодарностью принимаю ваше предложение… Вы, безусловно, ошибаетесь, видя во мне того прекраснодушного полустудента-полуофицера, каким я остался в вашей памяти. Его нет, нет Юрочки Покровского, он давно погиб в Атлантике. Я ношу лишь его имя… Все формулы иероакустики выветрились из моей головы. Я не могу принести вам благородной клятвы, что продолжу, мол, дело учителя. Нет. Но в одном я смею вас уверить! Отныне никто ничем вас не обидит, не причинит вам никакого зла… Я смогу оградить вас и Палю от житейских невзгод. У меня есть руки! Они способны творить — ваять, лепить, рисовать, работать!..
В ту минуту я ничуть не кривил душой, ибо ясно понимал: единственное, чем я мог хотя бы отчасти искупить свою вину перед Михайловым, — это не дать пропасть в трудное время его жене и приемному сыну…
В тот же день Надежда Георгиевна сообщила о моем приезде Оленьке, она так и не захотела стать приват — доцентшей, и у нас состоялся весьма радостный вечер; описывать его не берусь. Скажу только, что очень скоро мы с Ольгой Адамовной, урожденной Зимогоровой, обвенчались в той самой форосской церкви, где братья Михайловы проводили свои опыты. Свадьбу сыграли на даче Дмитрия Михайловича, да не одну, а сразу две, так как осенью двадцать третьего решилась и судьба Надежды Георгиевны. Она приняла предложение Дмитрия Михайловича и переехала вместе с Палей жить к нему в Форос. Мы же с Оленькой поселились в комнатах Михайлова, и таким образом все устроилось расчудесно. Кроме одного, я нигде не мог найти работу. Кому нужен студент-недоучка? Кому нужен списанный по здоровью вахтенный начальник? В ту пору кораблей в Севастополе по пальцам пересчитать… В вахтеры — и то не брали. Нэп. Безработица… А через год, когда у нас Иринка родилась, положение мое сделалось хуже губернаторского. Стал я картинки акварелью писать. Гальку маслом расписывать: «Привет из Крыма». Возил в Ялту. Курортники покупали. Потом лепить начал. То по заказу горкоммунхоза, то черноморский ПУР заказец подбросит. «Морзаводец с кувалдой». «Пограничник с собакой». «Краснофлотец бьёт в рынду». «Колхозница со снопом». «Девушка с копьем»… Пошло дело. Деньги появились. Но не думайте обо, мне совсем уж плохо. Я ведь и для души писал. И даже когда своих птичниц и рабфаковцев ваял, я им лица делал живыми. То есть придавал им точное портретное сходство с людьми дорогими и близкими сердцу, которых знал, любил, помнил. У них только снопы да кепки были бутафорскими, а вот носы, губы, лбы, скулы — все это из жизни, все это на кончиках пальцев, — с душой и трепетом. «Девушка с копьем», та самая, что в Ретро-парке покалечена, — это моя жена-покойница, все с натуры. Иной раз посмотришь с такой робкой-робкой надеждой — «а вдруг оживет?». В этом, знаете ли, есть своя мистика — живых людей в гипс переводить, а потом встречаться с ними окаменевшими, когда их давно уж нет на белом свете… «Колхозник с косой»… Вы заметили, какая у него бородка? Не лопатой, нет… Там же аккуратнейшая эспаньолка, какую носил незабвенный Дмитрий Михайлович… Теперь ни косы, ни эспаньолки. С подбородком отбили. Да-с.
Гордый облик Надежды Георгиевны, жены кавторанга Михайлова, я воплотил в фигуре «Комсомолки с книгой», или «Вузовке», как значится в каталоге… Ужасное слово! Неприличие какое-то… Вы подумайте только, сказать о девушке — «ву-зов-ка». Черт знает что!
— Простите, — перебил его Шулейко. — А самого Михайлова вы не изображали?
— Нет. В тех фигурах, что выставлены в Ретро-парке, Михайлова нет.
— А фотографии его у вас не сохранилось?
— У меня вообще ничего не сохранилось. Думаю, что фотографий Михайлова вы нигде не найдете. Во-первых, он не любил фотографироваться; во-вторых… Вот во-вторых-то я и хочу все рассказать… В 1931 году я отформовал для Матросского клуба бюст Сталина. Цемент оказался некачественным, и голова вождя дала трещину. Меня арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности, припомнили офицерские погоны. Но следователю показалось и этого мало — пришил шпионаж в пользу Турции за то, что накануне ареста разжег костер на берегу моря, а значит, подавал сигнал турецким подводным лодкам. На самом деле мы праздновали Олин день рождения и в развалинах Херсонеса жарили вечером на костре мидий… Дали мне на всю катушку — двадцать лет лагерей плюс пять ссылки. Вот тогда-то я и сказал себе: «Сие есть кара. От судьбы не уйдешь». И принял свою участь как заслуженную, ибо «Святой Петр» снился мне едва ли не каждую ночь. После ареста совесть меня отпустила. Я искупал свою давнюю вину. Строили дорогу в приполярном Урале. Каково мне там пришлось — перечитайте «Один день Ивана Денисовича». На девятый год я превратился в старика-доходягу, хотя мне не было еще и сорока пяти. В ту зиму я уже готовился «к отправке на волю с фанерной биркой на ноге». Надо было найти спасение… И я его нашел. Помог мне в том не кто иной, как… капитан второго ранга Николай Михайлович Михайлов…
В конце сорокового года я, ни на что особенно не надеясь, написал письмо наркому обороны о том, что располагаю важными научными сведениями, которые могут быть использованы для защиты СССР. Упомянул о работах Михайлова на подводной лодке «Сирена».
Случилось чудо — меня отправили в Москву в Особое техническое бюро под началом весьма энергичного инженера-изобретателя Бекаури.
Особым наше техбюро называлось потому, что в нем преобладали репрессированные конструкторы. Наша группа разрабатывала сверхмалую подводную лодку «Пигмей». Для ее испытания я и еще несколько инженеров были направлены в Севастополь. Мы приехали туда за неделю до начала войны да так там и застряли, став как бы неофициальным филиалом Остехбюро.
Об Оле и дочери я ничего не знал — осужден был без справа переписки, В город нас не выводили. Но я нашел способ побывать дома… И вот вхожу я в родные комнаты в сопровождении двух работников НКВД. В кабинете Стеша клеила новые обои.
— Здравствуй, Стеша.
— Здравствуйте, коли не шутите, — отвечает она со стремянки.
— А где Ольга Адамовна?
— Там, где и все жены врагов народа. Где же ей еще быть-то?
Пропустил я это мимо ушей.
— Здесь в шкафу хранились чертежи. Целый рулон… Онас собой их забрала?
— Я ей в чемоданы не заглядывала! — Стеша пришлепнула и разгладила на стене новый лист обоев… Летом сорок второго, во время массированного авианалета, тяжелая бомба попала во флигелек, где размещался «филиал Остехбюро». Я едва выбрался из-под дымящихся обломков и, оглушенный, побрел, покачиваясь, наугад… Меня никто не хватился, никто не остановил. Шел последний штурм Севастополя… Кому я был нужен? Глупо было идти в комендатуру и просить: «Арестуйте меня снова». Но и оставаться на виду в городе, где суд правился по законам осадного положения, тоже было нельзя.
Не помню, как добрел я до старого итальянского кладбища… Старинные склепы заросли бересклетом так, что по дорожкам, когда-то ухоженным, а теперь запущенным, пришлось пробираться как по непроглядным зеленым коридорам. Солнечные блики играли на замшелых ликах мраморных ангелов и скорбящих богинь. Вдруг двери одного из склепов приоткрылись с ржавым скрипом, и из сумрака гробницы выбралось существо в драном матросском бушлате, стоптанных опорках и татарской тюбетейке. Заметив друг друга, мы оба замерли — испуганно, настороженно, выжидающе…
— Чего тут забыл? — спросило существо, заросшее седовато-рыжей старческой бородой. Трудно было узнать в кладбищенском стороже некогда блестящего капитана 1-го ранга русского морского агента в Риме барона Дитерихса. Но я узнал и невесело усмехнулся.
— Честь имею, господин каперанг, мичман Покровский. «Святой Петр» помните?
Дитерихс огляделся по сторонам.
— Прошу вас называть меня только по имени — Теодор Августович. Можно проще — дядя Федя.
Я устало опустился на могильную плиту.
— Чего вы боитесь? Мы и так уже на кладбище. Можно сказать, одной ногой в могиле… Кстати, не сдадите ли мне один из этих уютных особнячков? — кивнул я на склеп. — Вижу, вы тут вполне обжились.
— Я-то здесь по долгу службы. Сторожем при кладбище. А вы теперь кто?
— Кто я? Если хотите, зэк, расконвоированный авиабомбой… Небо выпустило меня на свободу… Но, боже мой, какая встреча! — захохотал я вдруг после всего пережитого. — Везет вам на Италию, Теодор Августович!.. Пардон, барон, дядя Федя. Сколь славен путь от морского агента в Италии до смотрителя итальянского кладбища в Севастополе!..
— Вы тоже сделали себе неплохую карьеру, — усмехнулся Детерихс. — Сколько вам оставалось трубить?
— Пустяк! Всего каких-то жалких одиннадцать лет… Так могу я рассчитывать на персональный коттедж?
— Идемте, — хмуро бросил «смотритель». — Персональный не обещаю. Вам придется разделить общество с останками пьемонтского графа Мартинелли и сбитым летчиком германской авиации…
Дитерихс нырнул в темень склепа, пропустил меня и прикрыл створки входа.
В погребальной камере горела свеча. Худощавый блондин с неровноотросшей бородкой, в обрывках авиационного снаряжения радостно стиснул ему руку:
— Майор Хохберг… Наконец-то кончилось это жуткое одиночество!
В темноте дни тянутся особенно медленно. Наверху гремела канонада. Со сводов склепа сыпалась бетонная крошка. Мы с Хохбергом резались на саркофаге в скат.
Этот майор Хохберг сослужил мне добрую службу. Через месяц, когда в Севастополь пришли немцы, под его поручительство мне выдали аусвайс — пропуск и вид на жительство. Нашлась и работа по специальности: я формовал бетонные кресты для большого кладбища немецких солдат.
Мой дом на Соборной площади почти не пострадал. С крыши ссыпалась черепица, вылетели все стекла, но все же можно было жить. Я выкатил из кабинета Стешину кровать и выселил на ее половину каких-то понаехавших к ней родственников. Но Стеша, змеиная душа, вскоре отомстила…
В Крещение сорок третьего ко мне вошли два фельджандарма в сопровождении бывшей кухарки.
— Вот он, господин офицер, — ткнула она пальцем в меня, — служил у большевиков. Сама видела, как он якшался с ихними начальниками. У меня и фотка есть. Посмотрите…
Она показала фельджандарму фотографию, которая висела когда-то в моем кабинете: открытие барельефа матросам революции, флагман 2-го ранга пожимает мне, автору барельефа, руку.
— Ком! — кивнул мне фельджандарм на дверь. — Вихадийт!
Я снова загремел в лагерь, на сей раз в немецкий. Затем меня отправили на работы в Германию. Пришли наши, освободили. Прошел проверку в фильтрационном пункте, и — о чудо! — мне разрешили ехать в Севастополь.
Я говорю «чудо», потому что на мне висел неотбытый срок за «шпионаж в пользу Турции». А может, простили, размышлял я, ведь Победа же? А может, разобрались и поняли всю вздорность обвинения? Не долго думая, вернулся я в Севастополь, с одной мыслью — разыскать Ольгу и забыть поскорее эти страшные годы. Сколько нам с ней оставалось — пять, десять лет от силы?
Стеша по-прежнему жила в нашем доме. Она встретила меня как ни в чем не бывало — с улыбкой: «С возвращеньицем!» Пока я решал, как мне с ней быть, а решить это было не просто: сообщи я, что она выдала меня немцам, как советского человека, тут же бы выяснилось, что я сидел и не досидел. В общем, пока я прикидывал так и так, Стеша, подлая баба, на другой же день донесла куда следует, что я пособник немецких оккупантов и всё такое прочее. Упредила!
Так я снова оказался в Заполярье, на Ухтинских нефтяных разработках, лагпункт номер двести седьмой… В пятьдесят четвертом выпустили. Узнал, наконец, что Ольга умерла в сорок втором где-то на алтайских ртутных рудниках. Дочь пропала без следа. Погоревал, вернулся в Севастополь. И… женился на этой проклятой бабе! А что мне оставалось делать? В то время было мне под шестьдесят — намерзся, наездился, навоевался, насиделся… Рассудил так: лучше знакомый дьявол, чем неизвестный ангел. Уж на мужа-то не побежит стучать. Да и я не подарок, так что отчасти за козни свой она поплатилась… Хе-хё…
Уж ходила она за мной, как за дитем малым. Оказывается, любила она меня еще с той поры, когда служила у Михайлова кухаркой… О, женское сердце! Перебрались вот в Балаклаву. Тут и обретаемся с полета шестого года. За столом воцарилось, благопристойное молчание. Прервал его сам же Покровский:
— Вы, кажется, спрашивали меня о портретах кавторанга Михайлова? — обратился он к Шулейко. — Да, изображений этого замечательного человека, по всей вероятности, вы нигде не найдете. У Надежды Георгиевны какое — то время хранился его бюст моей работы. Я сделал его гипсовый портрет в шестнадцатом году. Но бюст исчез. Надежда Георгиевна рассказывала мне, что его забрали итальянцы… Представьте себе, во время войны в Форосе базировались итальянские моряки, и они были весьма наслышаны о работах Михайлова.
— Да-да! — воодушевился Шулейко. — Я читал где-то об этом. В Форосе стоял дивизион морских диверсантов князя Боргезё… Неужели Михайлов был с ним знаком?!
— Не думаю. Вряд ли. В Специи у нас были друзья из тамошних моряков, но никаких князей среди них не числилось… Так вот перед первой своей посадкой я оформлял Дом культуры коммунальников на Корабельной Стороне. По Наружной стене между окнами я пустил декоративные маскароны в древнеримском стиле. Вот тогда мне впервые пришла мысль: придать условной маске черты реального лица. Я сделал слепок с бюста Михайлова… Теперь из шести маскаронов — После войны и капремонта — остался, кажется, один. Он на торцевой стене. С улицы его загораживает кожух вентилятора, а со двора «Кулинарий» хорошо видно. Я там недавно был.
— Скажите, Георгий Александрович, — вступила в разговор Оксана Петррвна; — А какова судьба бумаг Михайлова и его приборов?
— Всё его бумаги, вещи, приборы увезла в Форос Надежда Георгиевна. Последний раз я ее видел в двадцать седьмом году. От нее я узнал, что Дмитрий Михайлович арестован за то, что якобы лечил белых офицеров, и вот уже год как сослан в СЛОН…
—: Как вы сказали? — Переспросил Шулейко. — В «слон»?
— Да, в Соловецкий лагерь особого назначения. То был первенец будущего архипелага ГУЛАГа, можно сказать, северное Капри русской интеллигенции. Там создали даже театр из заключенных. Была неплохая библиотека. Вообще разрешали брать из дома книги, читать, работать. Потом заключенные о такой роскоши и мечтать не могли. Так вот в Соловки Дмитрий Михайлович увез с собой целый саквояж книг и бумаг. Он писал монографию по иерозвукам. Видимо, пользовался и трудами брата.
— Монографию опубликовали?
— Нет, разумеется! Зэкам печататься запрещено… Думаю, что и книги, и рукопись монографии так и остались в лагерной библиотеке. Там существовало такое правило: если человек освобождался или умирал, то книги оставались в библиотеке. Так сказать, на бессрочное заключение. А в тридцать девятом СЛОН закрыли, библиотеку уничтожили. Книги часто разделяют участь своих хозяев… Впрочем, судьбу Дмитрия Михайловича вам расскажет лучше меня приемный сын Михайлова. Он живет в Севастополе. Адрес, адрес… Где-то у меня был, сейчас поищу. Зовут его Павел Николаевич, а фамилию он взял матери, то есть приемной матери Надежды Георгиевны Трехсердовой…
— Трехсердов?! — вскричал Шулейко. — Пожалуйста, не ищите адрес. Я знаю, где он живет. Я был у него!
Кладбище за Михайловским равелином
В Севастополь они добирались на роскошном «Икарусе».
— Странное дело, — рассуждал вслух Алексей Сергеевич, — никогда бы не подумал, что можно испытывать симпатию к человеку, который держит твоего сына в неволе…
— Это закон его держит в неволе, а не я, — мягко поправила его Оксана Петровна. — В конце концов дело Вадима Шулейко мог вести кто-нибудь другой…
— Нет уж, лучше вы! — спохватился Шулейко.
— Надеетесь на поблажку?
— Отнюдь… Интересно, у вас кто — мальчик, девочка?
— Детей нет, хотя замужем была!
— Муж не выдержал вашей работы?
— Может быть. Работа и в самом деле не женская. То есть не для замужней женщины.
— Тогда почему вы за нее держитесь?
— Интересная, живая, творческая… Почти такая, как у вас, — улыбнулась Оксана Петровна.
— Как у меня? — удивился Шулейко.
— Вы исследователь, я следователь… Корень общий.
— В самом деле… Если вам будут нужны эксперты по морской фауне, можете рассчитывать на меня.
— Спасибо. Непременно воспользуюсь вашей помощью… Кстати, кто-нибудь из ученых сейчас занимается этими иеро- или, как их там правильно — инфразвуками?
— Недавно начали заниматься… Михайлов был одним из тех, кто, как принято говорить, намного опередил свое время. У физиков руки долго не доходили до акустики «звуков тишины». Ультразвук хорошо изучен и широко применяется в науке, в технике, в медицине. Причем, заметьте, человек в природе редко имеет дело со сверхвысокими частотами… А вот сверхнизкие частоты… Мы в них живем от рождения… Теперь начинают понимать, что многие болезни века, особенно сердечно-сосудистые, вызываются неслышимыми звуками, идущими от вибрирующих машин, мостов, домов, городов… Любое живое тело окружено инфразвуковым ореолом. Если его смять, нарушить, подавить или, напротив, усилить, с нами что-то произойдет. Что именно — это никем еще не изучено. Но тем не менее… Мы мечемся, сходим с ума, страдаем. Мы чего-то боимся порой беспричинно, нас гнетет страх — откуда, почему? Мы не знаем. Тягостно на душе, и все тут. А все дело, быть может, в том, что инфразвуковое загрязнение наших городов так же опасно для психики, как и заражение воды, почвы, воздуха — для тела. Вот к чему подступался Михайлов! Пусть интуитивно, на ощупь, слепо. Но он был первым! И беда в том, что то, что он узнал, открыл, он навсегда унес с собой.
— Навсегда ли?! — усомнилась Оксана Петровна.
— Вот это мы сейчас и выясним, — сказал Шулейко, входя в подъезд уже знакомого дома.
Трехсердов на сей раз оказался гораздо приветливей. Он предложил пройти в комнату и даже отправился на кухню ставить чайник. Все это Шулейко отнес на счет обаяния своей спутницы, ибо визит с дамой совсем не то, что вторжение нежданного гостя. От взгляда Алексея Сергеевича не укрылась и знакомая ему рында, снятая с мусоровоза и водруженная на подоконник, надо полагать, вскоре после тогдашнего разговора.
— Это вам крупно повезло, — громогласно объяснял хозяин из кухни, — вы меня дома застали. Я вообще-то на ночную рыбалку собрался… Что пить будете: чай, кофе?
— Чай, если можно.
— Сейчас сварганим. Хозяйка моя к дочери уехала… Так что перейдем на самообслугу… Значит, вас батька мой интересует? Мать, конечно, мне о нем говорила, но так, в общих чертах… Время, сами знаете, какое было. Я вам так скажу — лучше иметь язву желудка, чем отца — царского офицера. Меня со второго курса автодорожного поперли: почему в анкете не указал, что из семьи дворян?! А какое там дворянство? Отец в морях сгинул, мать до гроба медсестрой в тубдиспансере. Вот и пришлось всю жизнь «баранку» крутить… Так что немного я вам расскажут
— А в каком году умерла Надежда Георгиевна? — спросила Оксана Петровна, помогая расставлять на столе чашки.
— Дай Бог памяти, — призадумался Трехсердов, — в тридцать первом… Точно так. Отчим, то есть Дмитрий Михайлович, вернулся с Соловков в двадцать девятом, мы его схоронили в тридцатом, а через год и матушку вместе с ним положили. Жили мы тогда на Северной стороне, как, значит, нас из Фороса с «буржуйской дачи» попросили. Вот мы и сняли по дешевке полхибары на Северной у Михайловской батареи, рядом с кладбищем. На нем всех своих и закопал.
— Вы не припомните, — осторожно начал Шулейко, — была у вашей матушки такая вещица… Вроде серебряного свистка, что ли…
— Странно тогда люди жили, — усмехнулся Трехсердов. — Золото у них отбирали — не плакали, а над какими-то хреновниками, извиняюсь, дрожали… Вот тот же свисток взять. Ну, на кой ляд покойнице свисток?! С того света свистеть?! Так умирала, только о том и просила, чтоб его в гроб ей положили… Ну, положил… Дмитрий Михайлович тоже учудил. Запаял он в стекло такую штуку от старинного магнитофона, на которую голос свой
записал…
— Звуковой валик фонографа! — уточнил Шулейко.
— Во-во, валик этот запаял и велел с собой похоронить. Мол, наступят такие времена, когда Академия наук этот валик достанет и он с него как бы научное сообщение сделает, которое всю науку перевернет. Ну и достали, только не академики, а пацаны. Повадились они могилы разрывать. Ордена добывают, крестики, всякое такое, что найдут. Моих тоже копнули. В прошлое родительское воскресение пришел: все разворочено, раскручено, подрыто. И ни с кого не спросишь. Пошел в милицию, а мне говорят: кладбище бесхозное, ни на чьем балансе не значится. Через год и вовсе бульдозерами заровняют, школу будут строить. Эх, одно слово — дурократы! Я извиняюсь…
— Помолчали.
— Хорошо, что вы рынду к себе взяли, — обронил Шулейко, чтобы прервать тягостную паузу.
— Да, насчет этой рынды, — оживился Трехсердов. — В прошлый раз я вам динаму крутнул. Ни в какой Карантинке я ее не находил. Просто, с лодки снял, чтоб в походе, значит, случайно не звякнула. Для звукомаскировки. Так она у нас всю войну дома и простояла. Как память. Ну а потом я ее на машину пристроил. На счастье, что ли. Вроде помогала. В аварию ни разу не попал… Да вы чай-то пейте. Остыл.
Из дома Трехсердова вышли затемно.
— Провожать меня не надо, — предупредила Оксана Петровна. — И приходить ко мне на работу тоже… Не сердитесь и поймите: есть служебная этика, а я все время ее из-за вас нарушаю…
— Вы нарушаете ее не из-за меня, а из-за гражданина Михайлова, командира «Святого Петра»…
— Я же просила вас не сердиться… Вот когда я сдам в суд дело Вадима, мне будет, много проще с вами общаться… Сегодня пятница?
— Завтра суббота.
— Послезавтра в скверике у Петропавловской церкви собирается черный рынок коллекционеров. Там частенько всплывает то, что добывают гробокопатели. Есть у меня на примете один парнишка. Попробую с ним поговорить. Не вешайте нос! Еще не все потеряно!
Интервью с «Могильным червем»
Воскресным утром Алексей Сергеевич достал из почтового ящика конверт с двумя переплетенными свадебными кольцами. Третий помощник с «Профессора Шведе» Георгий Диденко и Зоя Зайцева, теперь уже тоже Диденко, приглашали Шулейко на свадьбу, которая должна была состояться на борту «Фрегата» ровно через неделю. В приглашение была вложена вырезка из какого-то англоязычного журнала. Алексей Сергеевич перевел отчерченный абзац, тут же, у почтового ящика:
«Проблема связи погруженных подводных лодок с берегом по-прежнему остается актуальной во всех флотах мира. Как известно, только сверхдлинные радиоволны способны проникать из воздушной среды в водную, и то лишь на небольшую глубину. Поэтому атомаринам приходится подвсплывать, выпуская буксируемые антенны, что значительно снижает скрытность плавания подводных ракетоносцев. Инфразвуковые волны с их огромной проникающей способностью позволяют передавать командирам субмарин приказы и информацию практически на любых глубинах. Опыты профессора Майкла Эльбенау по созданию инфразвуковых каналов подводной связи имеют важное стратегическое значение».
Шулейко тут же позвонил Покровскому и прочитал ему заметку.
— Я не думаю, что это тот самый Эльбенау, — сказал Георгий Александрович после некоторого раздумья. — Тот ни бельмеса не смыслил в физике… Может быть, его сын? Скорее всего однофамилец.
Наскоро позавтракав, Алексей Сергеевич отправился к Петропавловской церкви, выстроенной в виде многостолпного эллинского храма. Он поднимался по улице-лестнице вместе с толпой экскурсантов. Девушка-гид, не теряя времени, поясняла на ходу:
— …Вход в храм украшали мраморные статуи святых Петра и Павла в натуральную величину. Это были копии статуй известного скульптора Торвальдсена, созданные в Италии из знаменитого каррарского мрамора. Так как все скульптурные работы для Севастополя выполнял тогда Фердинандо Пеличчио, то, вероятно, и эти копии сделаны им. К сожалению, они безнадежно утрачены…
Ухо Алексея Сергеевича выхватило из рассказа только «Святой Петр», и он посчитал это добрым предзнаменованием.
В тенистом скверике храма раскинулось великое торжище филателистов, нумизматов, филокартистов, фалеристов и всех прочих коллекционеров. На скамьях и ступенях, между колонн и на галереях, всюду, где только можно было примоститься, поблескивали на южном солнце значки, монеты, медали, кляссеры, набитые диковинными марками… Планшеты с орденами, старинными посткартами, этикетками и бог знает чем еще были развешаны даже на кустах, выставлены на складных треногах, а то и просто разложены на коленях. Здесь менялись и торговались, восторгались и сомневались, уточняли, спорили, витийствовали знатоки, сокрушая дилетантов. У Шулейко зарябило в глазах, как на восточном базаре.
— Алексей Сергеевич! — окликнул его женский голос. Оксана Петровна махала ему рукой с подиума храма. — Хорошо, что вы пришли! Идемте скорей…
— Куда?
— Во «Фрегат»! Он там… Объясню все по дороге… Его зовут Рудик. Он проходил у меня по одному делу свидетелем… Это настоящий «могильный пират», ас, хотя ему нет и восемнадцати… Он «работал» на многих кладбищах, в том числе и на Михайловском… У вас деньги с собой какие-нибудь есть?
— Десятка.
— Впрочем, это неважно… Вы — покупатель. Коллекционируете старинную утварь: утюги, колокольчики, ступки-пестики, в том числе и свистки… Вы меня поняли?
— Все, кроме орденов и знаков.
— Да. О них и не заикайтесь. Иначе он сразу вас раскусит. В орденах он дока, каких свет не видывал.
«Могильный пират» — благообразный паренек в голубой «иерихонке» с пластмассовым значком «У нас в колхозе СПИДа нет» потягивал за стойкой бара коктейль. Оксана Петровна поманила его за свободный столик, и Рудик пересел к ним со своим бокалом.
— Серебряный свисток? — удивленно переспросил он. — Лично мне не попадался.
— А кому попадался? Кому мог попасться?
— Я знаю кому? Я уже год как на другом объекте копаю… На Михайловское перед майскими гастролеры из Еревана наведывались. Ну, мы их турнули. Может, им попался? Ну, я у наших спрошу. А на сколько она, свистулька-то эта, потянет?
— Полтинник устроит? — спросил Шулейко.
— Грузинскую народную загадку знаете? — усмехнулся Рудик. — Зелененькая, шуршит, а не деньги? Вот это как раз ваши пятьдесят рублей.
— Но это ж не орден все-таки, свисток.
— История не имеет цены.
— Тут ты прав. Стольник годится?
— Уже дело. Будем искать.
Рудик был весел и словоохотлив. Судя по всему, сорвал в базарный день хороший куш. Алексей Сергеевич поглядывал на него с брезгливым любопытством.
— Послушай, — не удержался он от вопроса, — и не страшно тебе по ночам в могилах рыться?
Рудик снисходительно усмехнулся:
— Я по ночам теперь редко работаю. Сейчас практически любую могилу днем взять можно… А потом чего страшного? Покойники не кусаются. А все остальное — опиум для народа.
— Все равно неприятно: кости, черепа… — Историю в белых перчатках не делают. Это еще Маркс утверждал.
— А ты что же… Историю делаешь? — изумился Шулейко.
— Работаю на историю, — поправил его Рудик. — Я, если хотите, археолог на хозрасчете. Люди по недомыслию, по предрассудкам и прочим причинам вместе с покойниками хоронят ценные вещи, которые не должны пропасть, истлеть, — знаки, ордена, кортики, ладанки… Зачем всему этому пропадать? Это в музеях должно быть, в коллекциях… Вот я и спасаю.
— Гм, — озадачился слегка Алексей Сергеевич. Меньше всего он ожидал столь наглой уверенности в правоте мародерства.
— Смотрите сами, — напирал Рудик. — Приехал бульдозер и заровнял старые могилы под стройплощадку… Ну, как на той же Северной, как на итальянском, английском немецком кладбищах… И кого это греет, что все регалии ушли в землю с концами?! А так — вот оно, — Рудик вытащил из кармана восьмиугольную звезду Святого Станислава, — лучами на солнце сверкает!
— Кладбища сносить — это, конечно, варварство, — не выдержала Оксана Петровна. — Но и могилы потрошить — занятие для подонков.
— Из-ви-ни-те! — искренне обиделся Рудик. — Не по адресу. Это строители потрошат. Вываливают все в отвал, и лови болты. Я с гробу оставляю все как было. Прах не тревожу. Сниму то, что покойнику не нужно, и все. И даже зарою за собой.
— Ну, хорошо, — попробовал Шулейко зайти с другой стороны. — Представь, что ты приходишь на могилу, а в ней кто-то покопался. Каково тебе будет?
— К моим могилам никто не приходит. Я советских не трогаю. Во-первых, там все равно ничего нет. Во-вторых, кодекс мы чтим! Ну а те, кто до революции похоронен, так это большей частью представители эксплуататорских классов: попы, жандармы, чиновники, царские офицеры. У них это все равно бы в революцию реквизировали, да только не успели — они раньше померли.
Шулейко набрал было воздуха, чтобы выпалить: «Да ведь и среди них были честные и достойные люди!», но вовремя уловил в голосе Рудика откровенную насмешку. В следующую секунду он понял — и это дошло до него со сладостным ужасом, — что уже ничто, никакие внутренние призывы к благоразумию и терпимости, к пониманию обстоятельств не удержат его правую руку, которая уже выхватила у Рудика ордена Станислава, сжала до рези в пальцах и с размаху что было сил — впечатала восьмиконечную звезду в лоб «могильного пирата». Столик кувыркнулся, зазвенели бокалы, взвизгнули девицы. Бармен сунул в губы свисток и залился милицейской трелью.
Мелодия старой шарманки
На третьи сутки двухнедельного заключения в камеру Шулейко заглянула Оксана Петровна.
— Ну вот, — вздохнула она, выкладывая на столик пакет с горячими «караимками», — опять я использую служебное положение в личных целях. Пора увольнять.
— Что делать, — буркнул Алексей Сергеевич, — если у вас такие кретинские законы. Можно сколько угодно грабить мертвых, но стоит только сказать, что это плохо, как …
— Сказать! — назидательно перебила Оксана Петровна — А не распускать руки. Надо уметь спорить и владеть своими нервами. Впрочем, я вас совсем не осуждаю…
Она вдруг рассмеялась.
— Сына выпустили, так тут же сел отец. Кто из вас яблоня, а кто яблоко?
— Как! Вадима отпустили?! Он не виновен?
— Считайте, что он отделался легким испугом. И порядочным штрафом. Теперь его черед учить папу уму-разуму… Позвонил мне Покровский и сказал, что чертежами Михайлова Стеша, оказывается, оклеила стены во время ремонта. Она призналась ему в этом незадолго до смерти.
— Что же он столько молчал?
— Я его тоже об этом спросила. А он говорит: «Представьте, что к вам в дом приходит полоумный старик и уговаривает вас содрать со стен обои, потому что под ними — чертежи гения. Что бы вы ему сказали?» Он сам узнал об этом недавно.
— Так надо же немедленно ехать! — вскочил Шулейко.
— Вот я и договорилась, — невесело усмехнулась Оксана Петровна, — что вы будете работать там на погрузке строительного мусора. Дом Михайлова — в зоне реконструкции жилого квартала…
— Стой! — заорал Шулейко, выскакивая из милицейской машины. Экскаватор занес свою чугунную гирю над куском последней стены михайловского дома. По грудам обломков он пробрался к стене и стал срывать с нее многослойные наросты обоев.
— Чего, клад, что ли, ищешь? — поинтересовался чумазый экскаваторщик, насмешливо глядя, как осторожно отделяет Шулейко пожелтевшие бумажные пласты.
— Клад! — уверенно отвечал Алексей Сергеевич. Наконец он добрался до нужного слоя. В его руках
оказался обрывок старого чертежа.
— Есть! — радостно закричал он пробиравшейся через завал Оксане Петровне. — Нашел!
— Да, это его рука, — сказала она, разглядывая трепещущий на ветру клочок бумаги.
Шулейко с тоской обвел глазами развалины. Оксана Петровна еще пыталась извлечь из мусора куски обоев. Но было ясно, что чертежи инфрагенератора утрачены. Навсегда.
— Ладно, граждане, — распорядился экскаваторщик, — не мешайте работать!
Чугунная гиря с размаху ударила в остаток стены. Кирпичная пыль взвилась над руинами дома.
Превеликое усердие, с которым Шулейко разбирал останки дома Михайлова, вознаградилось лишь тем, что вместо четырнадцати определенных судом суток его отпустили на седьмые. Домой он унес ворох обойных обрывков. Весь вечер, вдвоем с Вадимом они отмачивали их в ванной, осторожно отделяя клочки Михайловских чертежей. Увы, фрагменты были слишком разрозненны, чтобы дать хоть какое-то представление о Михайловском иерофоне.
Зато утро преподнесло Алексею Сергеевичу приятный сюрприз. Щелкнув замком на требовательный звонок, он даже попятился от неожиданности. В дверях стояла Оксана Петровна, облаченная в платье-«сафари» с крошечным букетиком лаванды, вставленным в одну из петелек декоративного патронташа.
— Я за вами! — улыбнулась она. — Там внизу ждет Трехсердов. Едем к его дочери. У нее сохранились какие-то бумаги Надежды Георгиевны.
— Вадима взять можно?
— Конечно.
Серые «Жигули» неслись по улицам Севастополя.
— Нинка у меня толковая, — рассказывал за рулем Павел Николаевич. — В Госстрахе работает. Она все хотела эти бумажки в музей снести. Потом жалко стало. Там такие письма про любовь закручены, в романе не прочтешь… Ну, фотографии старые на картонках — само собой.
— А чертежи, расчеты не попадались? — спросил Шулейко с надеждой.
— А черт его знает. Оно мне надо? Нинка там разбирала. Счас посмотрим. Она во-он в том доме живет…
Нина Павловна, женщина лет сорока, в халате и бигудях, вытащила из чулана стремянку и подставила к антресоли.
— Может быть, я достану?! — предложил свои услуги Шулейко.
— Ой, что вы, тут черт, ногу сломит! — весело отмахнулась от его помощи хозяйка. — Тут только я сама разберусь… Подальше положишь, поближе возьмешь… — приговаривала она, с грохотом раздвигая на антресоли роликовые коньки, старую лампу, тазик для варенья.
— Мам, ты что ищешь? — крикнула из кухни дочь-старшеклассница.
— Да портфель с дедушкиными бумагами… Ты его не видела?
— Видела.
— Как где? Ты же сама, мне велела очистить антресоли от хлама. Ну, я и очистила. Видишь, как просторно стало.
— Неужели выбросила?
— Не выбросила, а сдала на макулатуру… Мам, ну чего ты так… Мне трех килограммов на «Французскую волчицу» не хватало…
— Валечка, милая… Что же ты наделала?
— Ну ты же сама ругалась: теснота теснот, утюг приткнуть некуда. Сама же собиралась их выбросить!
— Да не выбросить, а в музей снести. Тут вмешался Павел Николаевич:
— Стоп! Когда ты их сдала в макулатуру?
— Позавчера пятница была? — спросила Валя. — Значит, позавчера.
— Вот что, — распорядился Трехсердов. — Надо на склад смотаться. Может, вывезти еще не успели. Поехали! Тут недалеко.
Монблан из старых газет, книг, журналов… Шулейко, Павел Николаевич, его дочь и Валя, утопая по колено в бумагах, перебирали связки макулатуры.
Из-под ног Шулейко вывалилась картонная коробка. Из нее посыпались письма, тетради, фотокарточки…
— Кажется, нашел! — радостно закричал он. Нина Павловна бросилась к нему, выхватила у него из-под ног несколько писем, глянула на конверты и разочарованно бросила в кучу.
— Нет, это чьи-то другие…
У подножия бумажной горы работал прессовальный автомат. Парень в джинсовой куртке бросал в него пухлые пачки бумаг, и из машины вылетали плотно сбитые брикеты.
Хрксь, хрясь, хрясь! — лязгал мощный пресс.
— Чего ищете? — полюбопытствовал парень. — Документы что ль потеряли?
— Документы, — тяжело вздохнул Шулейко.
— Пиши пропало! — махнул рукой парень. — Вчера три самосвала вывезли…
— А что это вы по воскресеньям работаете? — невесело спросил Шулейко, глядя, как машина пожирает очередную порцию старых бумаг.
— Хозрасчет у нас, — пояснил парень. — Вот и вкалываем.
Автомат работал без остановки. Вокруг него собрались все, кто искал архив командира «Святого Петра». Усталые, они понуро смотрели на четкую работу машины.
— Павел Николаевич, — Оксана Петровна первой нарушила тягостное молчание. — Но ведь у вас же оставалась труба — корнет-а-пистон… Где она?
— Да-да! — вспомнил Трехсердов. — Была такая. Это мы найдем! Она, знаете ли, не шибко фурычила. Сколько ни дуй — все сипит, шипит. В общем, отдал я ее одному мастеру. Золотые руки! У него не пропадет. Будьте-нате!
— Он далеко живет? — спросил Шулейко.
— Да в Камышовой… Тут четверть часа езды. Сгоняем в два счета!
Серые «Жигули» вырулили на главную магистраль…
Мастер по ремонту духовых музыкальных инструментов — старый лысый бородач — поднялся навстречу гостям из-за рабочего стола, заваленного инструментами и деталями труб, заставленного флаконами с кислотами, коробочками с припоями…
— Готово! Готово! — откликнулся он на приветствие Павла Николаевича. — Вот он ваш заказ. Получайте!
Мастер снял с полки сияющий корнет и исполнил на нем звонкий пассаж.
— Ну, вот видите! — расплылся в улыбке Трехсердов. — А вы переживали. Я ж говорил — не пропадет! Держите!
Шулейко растерянно повертел инструмент, заглянул в раструб…
— Здесь должна была быть такая приставка в виде сурдинки… В ней-то весь фокус!
— Была, была! — подтвердил мастер. — Я голову сломал, что за штуковина такая? Разобрал — там улитка медная, хитро закручена… В общем, пустил я ее на ремонт вот этого агрегата.
Мастер выкатил из угла старинную шарманку и закрутил ручку. Мелодия грустного вальса «Дунайские волны» — того самого, под который старший лейтенант Михайлов увозил когда-то в Форос юную Наденьку — зазвучала в мастерской… Мастер крутил ручку, улыбался и не мог понять, почему его гости не улыбаются ему в ответ…
По Приморскому бульвару, лавируя среди прохожих, мчался на колесной доске парень в шортах и пятнистой защитной куртке — Вадим Шулейко. К поясу его был прикреплен плэйер, от которого убегал проводок к крохотным наушникам.
Он гнал свою доску под музыку иеророка, слышимую лишь только ему одному. Он выписывал крутые виражи, огибая людей, словно деревья в лесу.
Никто не знал, куда он мчался на своем зыбком снаряде. Да и знал ли он сам? В ушах у него грохотало — «Хон! Хон! Хон!..»
ОБ АВТОРЕ
Николай ЧЕРКАШИН родился в 1946 году в Гродненской области БССР. Окончил философский факультет МГУ. Служил на Северном флоте. Участвовал в дальних походах на подводной лодке и надводных кораблях. Автор книги о военных моряках «Соль на погонах», «Крик дельфина», «Морское солнце», «Одинокое плавание», «Судеб морских таинственная вязь» и других. Лауреат литературной премии «Золотой морской кортик». В «Искателе» выходили повести Н. Черкашина «Крик дельфина», «Покушение на крейсер».




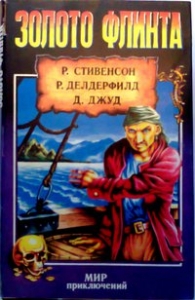
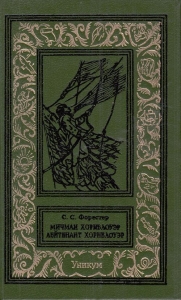
Комментарии к книге «Сон «Святого Петра»», Николай Андреевич Черкашин
Всего 0 комментариев