Йоханнес Вильгельм Йенсен Ледник
К ЧИТАТЕЛЮ
Йоханнес Вильхельм Йенсен (1873 – 1950) принадлежит к числу тех писателей, творчество которых принесло скандинавской литературе широкое международное признание и обеспечило ей почетное место в ряду выдающихся явлений европейской художественной литературы. Его произведения переведены на многие языки, а у себя на родине, в Дании, он еще при жизни был причислен к классикам национальной литературы. В начале XX века имя Йенсена было хорошо известно и русской читающей публике, увлеченно осваивающей в этот период во многом новое для нее богатство литературы Скандинавии. Сейчас, после долгих лет забвения, Йенсен возвращается к русскому читателю.
ДРЕНГ
В первобытном лесу горел костер, единственный на много миль вокруг. Он был разведен на площадке, под выступом скалы, который защищал его от ветра. В лесу гудело, ночь была темная, без месяца и звезд. Лил дождь. Но огонь под скалой спокойно горел, и яркое пламя высоко подымалось от груды хвороста; освещенное пространство как бы образовывало пещеру в глубоком ночном мраке.
Вокруг костра расположились люди; они спали, придвинувшись к огню настолько, чтобы находиться в световом круге. Они были голые. Здесь были только мужчины. Каждый спал с дубиной в руках или положив ее около себя, чтобы сразу схватить спросонок. Прутяные корзинки с различными припасами, плодами и кореньями лежали на траве около костра, яркий световой круг которого объединял эту группу среди дикого леса. В нескольких шагах от скалы, на открытом месте, где шел дождь и куда подползал мрак, виднелись остатки убитого животного, видимо зебры; это была жертва, принесенная огню.
Только один из людей не спал. Он сидел у костра почти не шевелясь. Но глаза его ни минуты не оставались в покое; это был крупный и крепко сложенный юноша необычайно высокого роста, хотя еще не вполне возмужавший. Возле него лежала огромная груда ветвей и хвороста, откуда он время от времени брал охапку и подбрасывал в костер. Едва огонь ослабевал настолько, что лежавшие с краю оказывались вне стен световой пещеры, сон их сразу становился тревожным. Но случалось это нечасто; юноша отличался особым умением поддерживать ровный огонь, он знал, сколько у него заготовлено топлива и хватит ли на ночь. Присмотр за огнем не требовал от него напряжения мысли, и он большей частью сидел спокойно, обратив все чувства туда – к дикому лесному мраку.
В левой руке он держал большой клинообразный кремень, пока лишь грубо обтесанный. Когда огонь горел ровно и вообще ничто не отвлекало внимания юноши, он направлял на то или другое место кремня острый обломок оленьего рога и, тщательно примерившись, с силой откалывал им от кремня осколок, который отскакивал в огонь. Вслед за этим он внимательно исследовал действие удара и взвешивал кремень на руке. Кремню этому предстояло стать топором, подобного которому никто еще не видал; вот почему юноша так внимательно осматривал его со всех сторон, прежде чем снова направить на него олений рог и определить, где еще следовало отколоть лишний кусок, скрывавший ту форму, которую юноша представлял себе. Грубые черты его озарялись внутренним светом, проблесками предвиденья, когда он вызывал из камня оружие; лицо его сверкало умом, когда он соображал и примерялся нанести удар; в самый же удар он вкладывал столько силы, точно ему предстояло пробить этим оленьим рогом череп врага, и выгибал спину, как будто собирался сдвинуть с места гору, хотя нужно было отбить всего лишь крохотный осколок. Оружие должно было выйти несравненное. На коленях юноши лежал топор, которым он рубил топливо для костра; но это был просто жалкий, бесформенный обломок кремня без всякого лезвия. Зато это было священное родовое наследие, которое определило судьбу юноши.
Его звали Дренг[1]. С самого рождения ему было предначертано стать хранителем огня; принадлежал он к высокочтимому и грозному роду, все члены которого пользовались преимуществом поддерживать огонь и принимать приносимые огню жертвы.
Преимущество это было столь древнее, что никто не помнил его происхождения. Ходили лишь смутные предания о том, что один из мужей племени, одержимый безумием самопожертвования, ринулся на горящую гору, где обитал всепожирающий дух огня, и вернулся оттуда невредимый, с горящей веткой в руках. Родичи, разумеется, связали безумца и бросили в мусорную кучу, на съеденье коршунам, но огонь все-таки сохранили и были им очень довольны. Злосчастный похититель, впрочем, был возвеличен посмертно: коршунов объявили неприкосновенными и стали поклоняться им, так как предполагалось, что в них переселилась душа пожранного ими. А огонь и приносимые ему жертвы стали наследственным достоянием рода похитителя, одним из потомков которого и являлся Дренг. Он пользовался подобающим его происхождению почетом, но, кроме того, его побаивались по многим причинам.
Дренг был воином. Вообще-то огненный род отнюдь не отличался мужеством; возложенный на членов этого рода труд был легок, и, благодаря жертвенной дичи, жилось им чересчур сытно. Большей частью эти представители племени были слабосильными домоседами и возмещали недостаток силы колдовством и тому подобными фокусами слабых. У большинства других племен, о которых знало это племя, но с которыми оно не водилось, хранение огня было поручено женщинам, как занятие, мало приличествующее мужчине. Но, разумеется, настоящей причиной таких порядков являлось невежество тех племен и низкий уровень их развития. Беда была только в том, что угрюмый Дренг, по-видимому, вполне разделял взгляды тех далеких дикарей и часто с презрением отзывался о своем призвании да еще награждал оплеухами тех, кто бранил его за это. Дренг уродился явно не в своих ближайших предков, и у него рано обнаружилась склонность к одиночеству. За огнем он смотрел лучше, чем кто-либо до него, но исполнял свое дело без приятной угодливости, не ползал перед сжигающим духом огня на брюхе, а лишь методически кормил его топливом; деревья же для костра он рубил с ожесточением, словно головы врагов, все это было не по сердцу почтенным мужам племени. Руки у Дренга были сильные, и он выделывал оружие лучше всех, но и это ведь не приличествовало его званию.
Он с самого детства обнаруживал вкусы, которые были отнюдь не к лицу будущему жрецу: любил ходить на охоту, да и то не гурьбой с другими юношами, а в одиночку. Совсем еще малолетком он убивал своим обломком ясеневого сука, обожженным в огне, и притаскивал домой то жеребенка трехпалой лошади, то пещерного медвежонка, а то розоватого, толстенького, еще безрогого детеныша носорога. В ту пору на такие его проделки смотрели сквозь пальцы. Но пришло время, когда ему торжественно вручили священный топор и посвятили в хранители огня на многие, многие мирные лета, лишенные бранных тревог и почестей.
Пришел конец беззаботному детству. Правда, Дренг еще пытался удирать в лес, когда пост у костра занимал кто-нибудь другой из членов семьи, но чем дальше, тем все больше и больше косились родичи на такие его суетные наклонности и умели так насолить ему за каждую отлучку, что он предпочел прекратить их. Жажда деятельности, однако, сидела у него в крови и искала выхода в напряженной внутренней жизни, в мечтах о великих делах. Тоска по настоящей деятельности и чувство зависимости от костра сделали его неприветливым, но не сделали дурным или злым, – слишком много было в нем природной живости и душевной свежести.
Несмотря на вынужденную сидячую жизнь, он вырос могучим, как тур, притом молчаливым и невзыскательным. И хотя он был молод, между ним и всем племенем успели установиться довольно натянутые отношения. Раз старшие стесняли его отвагу, надо же ему было как-нибудь отвести душу, дать себе позабавиться над ними! И вот Дренг разводил такой костер, что пламя припекало подошвы спящих и грозило пожрать все становище, или напускал такого дыму, что кашель просто раздирал всем глотки. Племени волей-неволей приходилось мириться с его грубыми шутками, но его недолюбливали. Люди жили идиллической жизнью и не желали напоминаний о том, что на самом деле все было иначе. И судьба Дренга могла бы стать весьма обыкновенной, даром что он уродился задорным и непокорным; он мог бы с течением времени озлобиться душой и стать для своих соплеменников как раз тем бичом, которого они заслуживали, или – сердце его могло бы с годами ожиреть от жирной жертвенной дичи.
Но идиллии уже грозила опасность. Давным-давно первобытные люди стали чувствовать, что природа вокруг них изменялась. Они уже не могли больше жить оседло, а кочевали. Лес уже не давал им ни прежнего простора, ни прежней верной защиты – он сам начал хиреть. В воздухе появилось что-то новое, становившееся из года в год все опаснее и теперь уже грозившее бедой всему живому. Становилось все холоднее и холоднее. Дождь не хотел переставать. Холод – что такое холод? Или кто такой? Откуда он взялся?
Обо всем этом и раздумывал Дренг, одиноко сидя у костра, пока другие спали. Думы эти неотступно занимали юношу. Он понимал, что существованию его соплеменников грозит опасность. На его памяти они еще жили по ту сторону гор на севере, и он помнил год, когда холод заставил их перевалить через ущелье на южную сторону. С тех пор они каждый год переходили с места на место и теперь жили во многих днях пути южнее того места, где сейчас сидел у костра Дренг, с тревогой размышляя об этом постоянном отступлении.
Племя с женами и детьми расположилось за много миль отсюда в долине, где все еще росли пальмы и хлебные деревья; группа у костра была всего лишь отрядом, высланным на покинутые места прежних стоянок за плодами и дичью, которые еще могли найтись в старых рощах.
У этой скалы племя жило около года до тех пор, пока и тут не стало больше житья. Дренг еще различал следы шалашей, разметанных дождем и непогодой. Тут, у скалы, играли, бывало, на солнце покрытые пушком маленькие дети племени, подбрасывая в воздух перышки и дуя на них, чтобы они летали, как птички, среди цветущих кустов. Теперь здесь было пустынно; голые камни торчали из земли, которую обесплодили постоянные дожди.
Но племя спокойно мирилось с отступлением – если вообще обращало внимание на это обстоятельство. Ну что ж, переселяться – так переселяться; южнее – так южнее, раз нельзя было дольше оставаться в лесу на севере. Пусть топливо и пища оскудевали там, где племя раскинуло свои становища; ничего не стоило сняться и двинуться на лучшие места; мало ли простора на юге? Только один из всего племени не мирился с этим – Дренг. Он следовал за своими соплеменниками, отступал вместе с ними из долины в долину, но против своей воли. В этом было какое-то насилие, и оно ожесточало его душу. Долго ли еще будет продолжаться это отступление? Не вечно ли? Неужели нельзя один раз повернуться лицом к холоду и показать зубы этой безмолвной силе, которая заставляла все окружающее блекнуть и коченеть, этому холоду, который никогда не показывался, но если забирал что-нибудь, то уже никогда не отдавал назад? Какой прок предаваться этой беспечной жизни, если из года в год приходится искать себе все новые пристанища – еще на несколько миль дальше к югу, за горами? Не лучше ли сразу наладить боевой топор и выйти на открытый бой?
Вот что приблизительно чувствовал и думал Дренг, бодрствуя у костра каждую ночь в течение этого тоскливого холодного похода по местам прежних становищ племени. Душа Дренга настраивалась на воинственный лад, его тянуло на дело, на смертный бой, но он сам до конца этого не осознавал. Он ведь был первобытным человеком, с могучими инстинктами, но без разума. Он только ни перед кем и ни перед чем не сворачивал с дороги, и эта дикая сила, слепо восстающая против всякого насилия, и послужила причиной отлучения Дренга от его племени.
Это происходило в Скандинавии в конце третичного периода, когда климат был там еще тропический, без смены времен года. Но ледниковый период уже надвигался; передовыми отрядами его были беспрерывные дожди и холодные ночи, выгонявшие людей из мирных блаженных убежищ первобытных лесов. Люди не хотели и не могли приучиться к холоду и дождю и принуждены были уходить. Они мерзли, невинные создания, пытались прикрывать себя от непогоды плащами из фиговых листьев, пели красивые жалобные песни, но северный ветер со своим холодным бичом становился между ними и их шалашами, ютившимися под смоковницами. Люди лишались приюта и должны были переселяться.
Они вздыхали, покидая родные сады, которые переставали быть гостеприимными, но там, дальше, на юге, они скоро утешались под теплым солнцем и пели от радости, видя, как водруженные на новых местах дорожные посохи пускают побеги; тут было хорошо, тут они и оставались. На следующий год холод нагонял их, и тут опять им приходилось уходить дальше. Они были, однако, очень забывчивы, чтобы подмечать свое постепенное отступление; они жили только настоящим; но упадок сказывался во всем складе их жизни, налагал на них свою печать без их ведома – они нищали и мельчали.
Дренг не мог сдаться. Его сердце питалось упорством; он рос, накапливая в себе силу сопротивления. И когда первобытный народ очутился на распутье между холодом и лесом, Дренг выбрал невозможное.
Он стал первым человеком.
ОБРЕЧЕННЫЙ ЛЕС
Ночь длинна; Дренг сидит, задумавшись, у костра.
Бодрствуя, он служит глазами и ушами своих спящих товарищей и душою этого темного, бесконечного леса. Он – в центре всего, что движется в окружности целой мили; малейший шорох доходит до него; он ощущает каждым волоском своего тела; ни малейшее дуновение не ускользает от его внимания; ему достаточно едва уловимого запаха, чтобы узнать, в чем дело. Чутье его так остро, что он, ступая по дерну, может проследить крота под землей вплоть до того места, где зверек прорывает себе ход наружу. Никогда не дремлющая бдительность зажигает искру за искрой в глазах юноши, а когда он спит, на веках у него проступают темные пятна, которые придают лицу грозное, подстерегающее выражение, отпугивающее всякого, кто вздумал бы к нему подступиться. Он молчалив, потому что все время работает головой. Никто не знает, что творится у него в душе, да и сам он того не знает, пока молнией не вспыхнет в нем порыв к подвигу.
Таков он в действительности и таким выступает при свете костра: он – молодой мохнатый лесной человек, с густыми, грубо очерченными бровями, с трепещущими ноздрями и выдающимися мощными скулами. Впадина грудной клетки заросла волосами, руки тоже мохнатые, кроме тех мест, где проступают огромные мускулы. Когда рукам его нужен отдых, ему не привыкать держать оружие пальцами ноги, и вообще он столь же часто пускает в ход одну из ног, как и руку, чтобы подбросить топлива в костер. Всем этим он похож на других лесных людей и на своих спящих вокруг костра товарищей; эти, пожалуй, только постройнее, не так мохнаты, менее грубо сложены; они ближе к лесным зверям, грации которых еще не утратили. Спят они с палицей в одной руке и с недоеденным плодом в другой. А у Дренга, который начал думать за них всех, черты огрубели и приняли выражение непримиримости.
Буйному виду Дренга отвечают бушующие в нем внутренние силы: гнев, энергия, скорбная забота о том, что происходит вокруг; силы эти все растут вместе с накопленным опытом и напрягают его душу, – того и гляди, взорвут самое бытие. Он ничего не забывает, но все связывает одно с другим и, сидя теперь у костра, обуреваемый мрачными предчувствиями гибели окружающего мира, то и дело весь закипает яростью, толкающей его на борьбу, на подвиги.
Он ясно видит, что первобытный лес обречен на смерть. Конец вечному лету. Исчезают теплые рощи, и в горах Скандинавии воцаряются бури и дожди. Дальше, на юге, в лесах еще растут пальмы и хлебные деревья, а по склонам гор, обращенным к синему морю, зреют виноградные лозы. Но долго ли так будет? Вернувшись в становища своего племени, эти молодые люди, что лежат сейчас у огня, ежась от жара с одной стороны и от холода с другой, возьмут в руки виноградные кисти, припадут к ним губами, как к сосцам полного вымени, и со смехом будут сосать до блаженной сытости. А через год Дренг уже будет разводить там костер сухими лозами и племя опять снимется с места; долго ли будет так? Лес обречен на смерть; какая-то непреодолимая сила неотвратимо надвигается с севера и уничтожает его.
Дренг смотрит вокруг себя на деревья, стоящие под дождем. Даже сейчас, ночью, видно, как уже пострадал лес, а чего не видно сейчас, о том юноша знает из дневных наблюдений. Все пальмы погибли; торчат одни почерневшие стволы, без листьев, словно огромные обглоданные кости. Стебли гигантских папоротников обуглились и почернели, а листья превратились в гниющую кашу. Мимозы и акации уже с год как свернули свои листочки, и дождь сделал их неузнаваемыми. Все вечнозеленые деревья высохли до самых корней и, словно скелеты, растопырили свои омертвевшие, ободранные ветви. Огромные кедры и каучуковые деревья валяются между останками других мертвых деревьев, показывая свои оголенные беспрерывным дождем кривые гигантские корни. Все цветы и кусты убиты этим холодным дождем. Вся почва в лесу стала болотом, усеянным трутом и большими голыми камнями. Только кое-какие из хвойных деревьев как будто пытаются бороться, но и они пригибаются к земле, кривятся, и смола белыми капельками застывает на их коре.
«У!» – гудит лес. «У!» – стонет в оголенных вершинах деревьев, а еще выше в темноте слышится какой-то визг и торопливые, учащенные взмахи усталых крыльев. Это стая диких водоплавающих птиц, у которых ноги замерзли в водах к северу от горного прохода и которые снялись оттуда, чтобы лететь к югу. Высоко, высоко в ночном мраке перекликаются между собой отрывистыми звуками изгнанники: гуси, аисты и фламинго. Невесело им. Дренг слышит их замирающее «прости» и разделяет с ними чувство бесприютности.
В глубине леса слышится шуршанье, доносящееся из горного прохода – тысячелетнего пути диких зверей.
Дренг прекрасно знает этот путь и своим всеохватывающим чутьем следит, как там всю ночь идут, топают и семенят живые существа, подгоняемые ветром. Это всякого рода зверье каждую ночь стаями уходит из лесов северного плоскогорья в южные долины. Дренг распознает зверей по их теплому запаху и знает все, что они делают ночью, хоть и не видит их. Он слышит каждое их движение и различает каждый шаг.
В течение ночи проходят длинные вереницы толстокожих – первобытные слоны, мастодонты и носороги, помахивая огромными вымазанными в глине ушами, промокшие и голодные. Время от времени в животе какого-нибудь из гигантов заурчит с голоду – словно гул обвала прокатился в воздухе, – или слон закрутит хобот вверх и закашляет так, что в лесу загудит. Громадный пещерный лев схватил насморк и огорченно чихает, на ходу вытирая себе глаза лапой. И бородавочнику не хватает воздуха – ему заложило рыло, и он уныло сопит, закрутив хвост вопросительным знаком.
Немного позади перебирают стройными ногами пугливые травоядные; они тоже переселяются. А среди топота их копыт слышится и крадущаяся поступь хищников, которым тоже нельзя больше оставаться на месте. Вот бегут газели, быстрые и нежные, как лунные блики под листвою, а с ними, припадая на передние ноги, бегут стадами и вонючие гиены с отвислым задом; дикие лошади и окапи бегут парами; теперь звери в пути и позабыли все взаимные нелады.
Северный ветер подгоняет их по проходу своим холодным бичом. Одни стаи исчезают внизу в долинах, а с севера к проходу прибывают все новые и новые. Молчаливые жирафы с хрустально-влажными глазами качают на ходу длинными шеями и сбивают своими рогатыми лбами увядшую листву с ветвей, стараясь поспевать в ногу с другими. Более мелкое зверье рысцой трусит за караваном; тут и дикобраз, и тапир, и муравьед; все, у кого только есть ноги, бегут к югу.
А над звериной тропой, по деревьям, тоже движутся переселенцы – непоседливые обезьяны. Конец и их житью-бытью в тех местах. И им как будто предъявлено наконец требование что-нибудь сделать, поразмыслить о себе, – не угодно ли? Не швыряться им больше кокосовыми орехами – прошло то время; не устраивать им и крикливых митингов на вершинах деревьев для обсуждения вопроса о том, кого следует выгнать; все они теперь изгнанницы; лес погибает. И им приходится смириться – они переселяются, хотя, разумеется, и ворчат обиженно. Они не привыкли хвататься руками за мокрые ветви, и многие сгоряча даже наотрез отказываются от этого; но, в конце концов, нужда заставляет! Они покоряются и догоняют других. Ни одна из обезьян ни разу не обернется назад. Да и мало кто из других зверей-переселенцев.
Один из огромных слонов обернулся было назад, на родные леса, да и не мог уже идти дальше, повернул обратно. Это мамонт.
Остались и еще некоторые животные; так им захотелось; но мало хорошего ждало их на родине.
Повсюду в лесу слышится странный шорох; звери встревожены, чуют беду. Бегемот вылез из своего озера, где ему стало слишком прохладно; тина так и течет с него, а он идет искать себе воду потеплее. Дренг слышит, как он с шумом выдыхает воздух из своего огромного брюха и, обнюхивая дорогу, продирается сквозь засохшие кустарники.
С какой-то странной болью в сердце прислушивается Дренг к движениям и голосам тех немногих зверей, которые хотят остаться и прячутся в лесу. Они не в состоянии уйти, но им страшно, и они дают о себе знать каким-то не своим голосом, они как-то странно присмирели, поджались. Северный олень остановился под деревом и не шелохнется; он не понимает, что творится с лесом, не понимает и себя самого; только время от времени поводит ушами, мотает головой и переминается, похрустывая лодыжками. Овцебык попросту ошалел и прет, как болван, прямо в противоположную сторону, на север, откуда ушли все остальные; что ж, его дело! Медведь хоть и ворчит, но не думает уходить, выбрал укромное местечко и сгребает увядшую листву в кучу, чтобы устроить себе удобное ложе; он простужен и хочет отлежаться на покое. Теперь к нему лучше и не подходить; он негодующе фыркает на погоду, которая нагрянула так не вовремя, когда он был занят своими пчелами. Вот он и решил соснуть, пока солнце не разбудит, а если кто-то попробует потревожить его во сне, он так куснет!.. Мишка и не чует, как долго придется ему спать. Барсук и еж следуют его примеру и зарываются в землю до наступления лучших времен.
Но не все звери так практичны. Лес и понизу, и поверху населен существами, которые не бегут и не думают искать себе надежного приюта, а только без устали бродят всю ночь; холод гоняет их с места на место, не дает покоя. Дренг слышит, как уныло бродят олени, буйволы и дикие козы; постоят с минуту, повернув нос к ветру и насторожив уши, словно принюхиваясь и прислушиваясь, чтобы понять – откуда это злое веяние, потом повернутся туда хвостом, понурят головы и поплетутся опять. К костру ни один из них не приближается; им хорошо знаком этот запах, и все они знают, что яркий свет этот умеет кусаться и пожирать хуже всякого другого в лесу.
Только раз, около полуночи, Дренг заметил неподалеку, на опушке леса, два сыплющих искры зеленых огонька и пару длинных оскаленных зубов. Это подполз саблезубый тигр, ужасное животное с торчащими изо рта острыми клинками. Как это он не побоялся огня и отважился подползти так близко? Дрожь пробежала по телам спящих; даже во сне почуяли они его приближение, и некоторые глухо застонали, а у Дренга кровь в жилах вспыхнула огнем от близости этого ужасного врага. Но тигр попятился, мигая своими голодными глазами, и ушел. Дождь хлестал его по впалым полосатым бокам; ему было холодно, и он, верно, был потрясен до самой глубины своего тигриного сердца такою свирепой жестокостью природы, превосходившей даже его собственную. Дренг слышал, как животное удалялось, пошатываясь, и как бродило по лесу без цели, уже не желая крови; Дренг знал, что животное осуждено, что ему никуда не уйти.
Но от этого Дренгу становилось еще более жутко и больно. Вот, значит, до чего дошло: тигр, этот великий отверженный, несший на себе ненависть и проклятия всех тварей, идет на огонь не для того, чтобы поживиться человечиной, но просто с тоски, и уныло уходит назад, отказавшись от ужина!
Что же такое творится на свете? Какая судьба тайно уготована миру? Кто этот ненасытный, надвигающийся с севера, уничтожающий леса и выгоняющий из них зверей? Что это за безжалостная сила? Человек это или невидимое существо, могучий и злобный дух? Нельзя ли как-нибудь убить его? Заставить показаться и вступить с ним в открытый бой? Нельзя ли остановить его нашествие метким ударом топора?
Ночь длинна. Вдали тоскливо воют волки, а в дупле дерева зловеще-печально кричит сова. Одна птица стонет, другая словно смеется, третья жалуется; крокодил плачет навзрыд, набив себе полный рот еды, а гиена, разбитая параличом грязного сладострастия, корчится от злорадного смеха; но ни одному из зверей не приходит в голову завыть на весь лес, послать вызов тому великому разбойнику, который разоряет всех без разбора. Не раздается ни единственного клича мести, никто не строит планов смертоубийства. Все твари или бегут врассыпную, или спасаются, смешавшись в беспомощной сутолоке – хищники рядом с дикими баранами, – одинаково беззащитные перед холодом.
И Дренг поклялся отомстить за них.
Было это в одну из ночей того переходного времени, когда тропический климат Северной Европы сменялся ледниковым периодом. Но память о тепле осталась в душе человечества и после того, как оно расселилось из своей северной родины по всей земле, сохранилась в виде неугасающего предания о рае земном. На севере человечество пережило свое детство, и память об этом детстве – источник глубокой тоски, сложившей легенду об утраченной земле блаженства. Даже звери, которые ведь тоже грезят по-своему, покорно и слепо хранят память о первобытном невинном состоянии мира до нашествия холода; память эта дает себя знать в простодушии, с которым они поедают друг друга.
ЗИМА
А ночь все тянулась. После полуночи на короткое время выглянул полный месяц и слабо осветил огромные тучи, обложившие вселенную. Но вскоре они снова поглотили светило, и опять стало темно, как в подземной пещере; дождь усилился и потоками заливал останки первобытного леса. С неба низвергался в эту ночь настоящий водопад, косой и бурный, и разливался по земле озерами, размывавшими ее до самых недр.
Дренг слышал, как воды собирались на горных вершинах и катились вниз, между скалами и деревьями, с подобным колокольному звону гулом бездны врывались в пещеры или вырывались из них, с глухим треском ломали скалы и сокрушали деревья. Ни один звук больше не говорил о бегстве и бедствии зверей.
Небо, бичевавшее всю землю – насколько хватало глаз и людей, и зверей – беспрерывными, бесплодными дождями, все уплотнявшееся, как бы в предзнаменование вечного мрака, и все более охладевавшее, теперь как будто собиралось с силами для последнего, всесокрушающего потопа, который поглотил бы целиком всю землю. Замерзшие стволы пальм звонко стукались друг о друга, валясь в кучу под шумным напором вод; с гор плыли целые острова из поваленных деревьев, перепутавшихся голыми корнями. Небо клокотало дождем.
И какой холодный был этот дождь! Его ледяное дыхание врывалось в пещеру из света под выступом скалы, и даже огонь, ярко озарявший непрерывно струящиеся водяные стены этой пещеры, ничего не мог поделать с этим ледяным дыханием… Спавшие у костра съежились и дрожали в тревожном сне; некоторые просыпались и ворчали на черные потоки, обступившие их, словно стенки колодца; но бессилие и неспособность подолгу сосредотачиваться на чем-нибудь заставляли этих людей опять укладываться; они закрывали голову руками, глубоко вздыхали и снова засыпали, полумертвые от холода.
Это была долгая ночь!
Дренг поддерживал костер и поглядывал на дождь глазами, которые сверкали все более и более враждебно под нависшими бровями. Сердце его ожесточилось, и он скрежетал зубами на непогоду. Но так как ничего нельзя было с нею поделать, он переносил свою энергию на обтесывание нового кремневого топора.
За час до рассвета дождь начал стихать и наконец совсем перестал. Все звуки как-то особенно гулко стали отдаваться в воздухе; на целую милю вокруг слышно было, как шумела вода, стекая с гор, и как булькало в лесных болотах. Все звери замолкли. Люди под скалой впали в забытье, спали тяжелым сном без всяких грез. В лесу, между мокрыми поломанными и опрокинутыми деревьями, начало понемногу светлеть; небо проступало из ночной темноты, какое-то бледное, пустое.
Было совсем тихо и безветренно, но очень холодно. В воздухе стоял пресный запах размытой дождем земли. Весь мир как будто лежал нагой, дрожащий от холода, в ожидании Страшного суда.
Перед самым восходом солнца утреннюю зарю заволокли новые полчища свинцовых наливных туч, которые, множась на лету, покрыли все небо. Воцарилась жуткая темнота, и на мгновение вся природа притихла. Дренг, затаив дыхание, созерцал эти новые тучи; таких черных и грозных он еще не видел.
Вдруг из черной бездны сверкнул холодный, синий, всеохватывающий огонь и превратил тучи в огненно-белые громады гор, в доходящий до зенита хаос вершин и пропастей; и вслед за молнией грянул гром, коротким раздирающим ударом; в тот же миг туча разорвалась и стремительно обрушилась на землю – но уже не водяными потоками, а белыми хлесткими кусочками – градом. На землю сыпались ледяные зерна; туча с визгом открыла пальбу по размытой, разрыхленной земле.
Гром вспугнул все живое. Из лесу доносилось многоголосое подавленное стенание. Звери, уже долго боровшиеся с водой в затопленных долинах, олени вперемежку с тиграми последним судорожным усилием вынырнули из волн навстречу молнии – она ослепила их, и они погрузились навсегда. Далеко-далеко единорог разбудил в ущелье многомильное эхо, испустив короткий отчаянный рев, словно вырвавшийся у него из самого сердца, а немного погодя затрубил где-то еще дальше, но еще исступленнее; животное совсем взбесилось и яростно мчалось по лесу.
Все спавшие под скалой проснулись и, как один человек, пали ниц перед громом, вопили, лепетали, хныкали и гладили землю, умильно прося пощады. Но поплакав и полежав некоторое время на земле и видя, что удар не повторяется, они успокоились и подползли поближе к костру. Они впивались в огонь своими кроткими, еще влажными от слез глазами и дрожали от благодарности за милость огня, позволявшего им обогреться; они протягивали к нему руки, бессознательно жуя губами, словно ели – так им было хорошо, – и с глубокой благодарностью кивали ему головой. Ах! Огонь ведь был и господин, и единственный друг. Потом они принялись усердно чесаться, а затем опять запустили зубы в яблоки, с которыми не расставались и во сне, начали жевать и перебраниваться, – одним словом, опять были счастливы, избежав уничтожения. Они даже не потрудились хорошенько посмотреть на то белое, что усыпало землю там, поодаль от них; там было, конечно, очень скверно, а тут у огня так славно, и пока ведь еще не было нужды выходить туда – день еще не наступил. Тепло скоро опять сморило их; они стали зевать, потягиваться и один за другим опять повалились на землю, свернулись каждый на своем нагретом сухом местечке, и скоро опять весь круг спал.
После града выглянуло солнце. Под его лучами белые ледяные зерна быстро исчезли с поверхности земли – таяли и испарялись. На короткое время солнечный свет залил затопленные леса, как будто солнце желало проверить работу разрушительных сил. Но вскоре над землею навис ужасный туман, и в утренней тишине по мокрому лесу пошел какой-то странный робкий скрип и трепетание.
Что-то такое совершалось, что-то втихомолку подкрадывалось; что-то новое, еще неведомое! И вся природа замерла в безмолвном ожидании; земля покорно отдавалась во власть нового болезненного чуда. Холод овладевал миром.
Тут Дренг не выдержал. Гнев, накипавший в нем месяцами под этими немилосердными ливнями, вырвался наружу. Он чувствовал, что совершавшееся теперь в лесу было последним убийственным, предательским нападением; пора было остановить этого разбойника, опустошителя! О, Дренг отправится на поиски того, кто выгоняет людей из жилищ, топит животных и опустошает землю; Дренг заставит его показаться!
Юноша снял с топорища негодный старый кремень и прикрепил острый, только что отделанный клинок; затем поправил костер и хорошенько прикрыл огонь хворостом, чтобы хватило надолго; теперь все готово – в путь! Он ласково взглянул на своих братьев, которые лежали вокруг костра, вздрагивая во сне и съежившись всем телом; даже пальцы на ногах у них скрючило от холода вовнутрь, к подошве. Дренг чувствовал, как был привязан к братьям; ведь именно их беспечность, забывчивость и легкомыслие и заставляли его выступить на защиту. Не должны они мерзнуть, не должны погибать! Дренг топором сделал перед своей грудью какой-то знак, как бы посвящая себя своей судьбе, затем, крадучись, отошел от скалы и пустился один-одинешенек в путь.
В лесу холод так и щипал тело. В тихом утреннем воздухе как будто был разлит острый невидимый яд. Дренг растерялся и пустился бежать; бежал долго, куда глаза глядят, по лесу, то перепрыгивая через опрокинутые деревья, то проползая под ними. Земля в лесу превратилась в какое-то жгуче-холодное месиво, обжигавшее ноги Дренга, когда он погружался в него, а поверхность была усеяна длинными светлыми и острыми осколками-льдинками, которые заставляли Дренга дико подпрыгивать, как ужаленного. Долго мчался он, не помня себя, как безумный, ничего не видя и не соображая, вытянув вперед руку с топором. Но бессознательно он забирал все выше по склону горы, чтобы достичь места, где было поменьше воды и где удобнее было оглядеться.
Наверху он пришел в себя, замедлил бег и стал спокойнее продвигаться дальше, хотя все еще испуганный и задыхающийся, но уже выбирающий дорогу. Высоко, на одном из уступов нагорья, лес прерывался поляной. Как настоящий лесной человек, Дренг боялся открытых мест, и заблаговременно стал пригибаться к земле, а к поляне подполз уже на четвереньках. Он как будто ожидал встретить там своего врага, крадущегося духа холода.
Осторожно раздвинув обеими руками кусты на опушке леса, он принялся осматривать окрестности. На поляне не было и следа живого существа. Дерн, исполосованный и разрыхленный дождем, совсем окоченел; опрокинутые деревья по ту сторону поляны тонули в белом тумане. Мертвая тишина. Куст, за которым скрывался Дренг, был какой-то косматый и рогатый; на всех высохших ветках висели прозрачные сосульки. Несколько сосулек упали Дренгу на руки и больно жгли ему кожу, пока не растаяли и не потекли каплями. Он лизнул их и понял, что это пресная вода с привкусом того воздуха, из которого она явилась, застывший дождь, который, согревшись, опять превращался в воду. Опрокинутые деревья были белые, а верхушки их украшены такими же ледяными штучками, словно невиданными цветами. Иногда по тихому лесу пробегала дрожь, и сосульки сыпались вниз с тихим звоном; эти тысячи мелких звенящих звуков сливались в общий тихий жалобный плач, как будто вся земля стонала в тяжком сне.
Широко раздувая ноздри, Дренг втягивал в себя морозный воздух, который обострял его чутье до крайности, но не выдавал присутствия ни живых растений, ни зверей. Зато Дренг особенно сильно чуял самого себя, ощущал течение крови в своих жилах и свое дыхание. Певучая чистота и сладость воздуха оживляла его, и он принялся фыркать и встряхиваться с такой силой, что иней так и посыпался на него с куста. Дренг вызывающе огляделся вокруг: где же этот разрушитель, на борьбу с которым он вышел? Как бы добраться до него?.. Тсс!
Что-то громко закрякало над лесом. Дренг сразу присел. Через минуту он увидел, как пара уток с налета кинулась к озерку на поляне, неподалеку от куста, вернее к прудку, образовавшемуся за ночь от дождя; прудок так и блестел в тумане, окруженный каменистыми берегами. У поверхности пруда утки перестали шевелить крыльями и вытянули лапки, чтобы погрузить их в воду, но вышло что-то странное: птицы зашагали по блестящей поверхности, упираясь в нее растопыренными лапками, а потеряв равновесие, – и хвостами. Никак нельзя было поплыть по этому пруду! Пришлось им идти пешком, и они скользили, беспомощно падали на бок, опять поднимались, останавливались на минуту с глупым видом и растерянно озирались вокруг маленькими глазками, посаженными высоко на голове. Пруд замерз, покрылся блестящей корочкой льда! Дренг глубокомысленно потянул носом. Конечно! Он подошел к пруду и стал смотреть сквозь прозрачный лед на воду, которая неподвижно покоилась на ложе из камней и щебня. Затем он испытал крепость льда своими босыми ногами; послышался сухой треск; лед еще не мог сдержать его тяжести. Дренг отправился подальше по покрытой инеем траве, которая обжигала ему ноги, и пересек поляну, чтобы подняться выше на гору. Повсюду, где не было дерна, виднелась голая земля, твердая, как гранит; но она как будто обрела голос, словно кряхтела под ногами Дренга. Это была первая зима.
Дренг стал карабкаться выше, выбираясь из полосы тумана, туда, где грело солнце и где земля еще не замерзла. Там и лес кончался, переходя в кустарники и вереск; а еще выше, на диких скалах, не росло уже ничего, кроме моха. Наконец Дренг достиг вершины и, греясь в лучах солнца, стал смотреть вниз на долину, над которою, словно белое море, разливался густой морозный туман. Солнце, все выше подымавшееся на небе, отрывало от этого тумана целые облака и гнало их по воздуху, пока они не исчезали. Вихри расшалились в голубом просторе, освещенном солнцем, и прорывали в тумане целые колодцы, образуя просветы, сквозь которые Дренгу было видно дно долины. Там валялись как попало, словно груды щепок, вырванные с корнем деревья, и целые стада утонувших животных плавали, как мухи, на поверхности вздувшихся, застывших болот.
ИЗГНАННИК
Дренгу не удалось на этот раз найти своего заклятого врага. Очевидно, он еще недостаточно высоко забрался. Озираясь кругом, он понял, что достиг лишь такой высоты, откуда открывался вид на еще более высокие горы, расположенные вдали.
Далеко к северу вздымались горные хребты, один выше другого, целое войско гор, сходившихся со всех сторон света, чтобы сообща поддержать небесный свод. А над ними громоздились еще ряды белых вершин, упиравшихся прямо в небо, и трудно было решить – облако это или же какой-то новый неведомый мир. Не оттуда ли и налетал северный ветер с морозом? Увы, тогда не скоро доберешься до могучего духа, посылающего холод в долины! Высоко живет он, и, пожалуй, человеку не осилить его.
Дренг впал в сомнение и долго простоял в раздумье, не заметив даже, сколько прошло времени. Полуденное солнце смело последние остатки тумана и открыло всю долину целиком. Какая глубина! От одного взгляда кружилась голова. Дренг обратил внимание на одну точку, видневшуюся высоко-высоко в голубом небе, какую-то черную пушинку, которая носилась по воздуху и опускалась большими кругами; это был коршун. Он быстро увеличивался и, очутившись на одном уровне с Дренгом, прижал крылья к телу и камнем полетел вниз, все уменьшаясь и уменьшаясь, пока опять не превратился в маленькую пушинку уже в глубине сверкавшей на солнце мокрой долины. Тут, на высоте, дул слабый ветерок, но снизу не доносилось ни звука.
Следы разрушения, причиненного в долинах дождем, казались с высоты только ямками и бороздками на лесном покрове. Словно кто-то забавлялся, чертя по земле пальцем. Солнце смеялось над затопленной землей, блестящие облака появлялись и пропадали. Кто же такой Дренг, чтобы о его существовании подозревал кто-нибудь из тех Могучих, что обитали наверху над всем миром? И гнался ли кто-нибудь за ним и его племенем?
По небу от скалы к скале ползли огромные облака, величиной с целые земные края, по дороге меняя свою форму, а там, глубоко внизу, по земле скользили их тени, изменяясь вместе с ними. Какое-нибудь белое облако, на небе занимавшее место с ладонь, затемняло внизу всю долину. Земля то хмурилась, то смеялась в зависимости от хода облаков по небесному своду.
Знают ли облака про людей? Они плавают над горами на головокружительной высоте, играют с солнцем, и люди для них слишком малы. Они сияют в величавом неведении и знать не знают Дренга с его топором-мстителем, Великого Дренга, который выступил, чтобы потрясти вселенную!
Дренгу стало стыдно перед улыбающимся небом, он червяком заполз под камень и долго не показывался.
Когда же он вылез из своего убежища, отрезвленный, небо уже спрятало свое лицо от солнца. Не видно было больше далеких горных вершин. Облака стали серыми и плыли очень низко, цепляясь за верхушки ближайших горных хребтов и скатываясь вниз по их склонам. Долина внизу тонула в темной гуще. Дренг стал спускаться вниз, и скоро эта гуща, оказавшаяся проливным дождем, охватила его.
Уже совсем вечерело, когда Дренг снова достиг дна долины. Ему вдруг стало страшно при мысли о товарищах. Завидев скалу, под которой утром он покинул своих, Дренг очень удивился, что дыма не видно, и остановился. Ужасная мысль пришла ему в голову, он тяжело перевел дух и огромными прыжками понесся к скале!.. Ушли! Костер погас!
Да, под выступом скалы было холодно и пусто; братья покинули место. Дренг с первого взгляда заметил, что костер был на том же месте, как он его оставил утром, но погас. Должно быть, они долго спали, и огонь потух. Топливо отсырело и не загорелось, как рассчитывал Дренг, а может быть, ветер переменился и направил дождь под выступ скалы. Как бы там ни было, костер погас. Бедняги проснулись утром – костер остыл, а хранителя огня нет! Тогда они снялись и отправились восвояси, надо полагать, в полном отчаянии. Огонь погас. И вот Дренг остался один-одинешенек! Они все ушли, а он остался один в диком затопленном лесу!
Он быстро нагнулся и отыскал их следы на рыхлой земле. Он узнавал каждый след и, тыкаясь носом в землю, выл и плакал от горя из-за того, что наделал, и от страха, что они его покинули. Было нетрудно различать следы, и он бегом отправился в погоню за товарищами. Совсем стемнело. Он вертел головой во все стороны, плакал и скалил зубы, не переставая мчался вперед, подгоняемый ужасом. Что, если он не догонит их? Что, если они погибли?
Он натыкался на места, где они, очевидно, останавливались в недоумении, куда им держать путь, и сбивались в кучу, прежде чем догадывались пойти в обход; наткнулся и на несколько брошенных жалких корзинок с припасами – наверное, им хотелось избавиться от поклажи на ходу. Он невольно приостановился и всплакнул о горемыках и о случившейся беде. Но затем мрак и жуткое одиночество погнали его дальше. По свежим следам он видел, что они должны быть неподалеку, и холодный пот, обливавший его тело, сменялся колющим жаром; он и смеялся, и плакал, продолжая свой бег.
И наконец он догнал их. Они сделали привал в пещере, где и сидели, сбившись все в кучу и жалобно воя в темноте. Еще издалека он услыхал их; крики о помощи перешли в однотонную жалобу, которую они так долго, неустанно повторяли хором, что выходила какая-то унылая песня, усталая, рассказывавшая о том, что огонь погас, а им еще далеко до дому. Дренг остановился и окликнул их, закричал изо всех сил, пропел им, что он здесь. Они замолчали. Он приблизился к ним, почти задыхаясь, почти падая от напряжения, икая от радости.
Но, когда он подошел поближе, они встали и встретили его общим яростным воем; потом гурьбой вышли из пещеры и обдали его потоком бранных слов и угроз. Он видел, как белки их глаз сверкали в темноте, видел камни в их мохнатых руках; они замахивались на него своими дубинами, словно на опасного дикого зверя!
Так, бывало, подымались они всей толпой против волка или тигра, который слишком близко походил к их становищу, но тогда и сам Дренг бывал среди них, становился в первом ряду, завывая и грозя врагу; теперь он был один, вне толпы.
Стоял почти полный мрак, и холодный дождь так и хлестал толпу, которая разъярялась все больше и больше, хлестал и его, одинокого, жалкого, удрученного.
– Да ведь это я! – крикнул он им надломленным голосом и придвинулся к ним еще ближе, чтобы они узнали его. О да, они узнали его – и камни засвистели возле его уха, а один большой камень угодил ему прямо в грудь, так что удар отозвался в спине. Тогда он умолк и попятился назад. Ему не было ни особенно больно, ни обидно, – он ведь виноват в том, что огонь погас; но кто бы это мог швырнуть в него такой большой камень? Он помедлил немного, раздумывая и все еще не веря тому, что они насовсем гонят его от себя. Но, видимо, так. Они набрали еще камней и продолжали швырять в него. Он все-таки не отступал, хотя и трудно было обороняться в темноте от стольких камней сразу. Наконец вся толпа двинулась на него с исступленными криками. Один из самых высоких шел во главе и был запевалой в хоре проклятий предателю, угасившему огонь. Предатель! Так назвал Дренга его лучший друг Гьюк.
Как? – подумал Дренг, холодея всем телом. – Что сказал Гьюк? Как мог Гьюк стать во главе толпы и одним из первых проклясть его? Неужели это Гьюк идет на него с искаженным лицом, злобно напрягшимся телом и пеной у рта? Неужели это кроткий Гьюк подступает к нему все ближе и ближе, потрясая высоко поднятыми кулаками, впереди лающей хором толпы?
Дренг не отступил, но что-то сдавило ему грудь; он грозно фыркнул, готовый выйти из себя. Но он все еще надеялся на примирение. Он хотел объясниться, пытался говорить, но они заглушали его голос своим воем. Тогда он молча стал соображать: правы ли они, в самом деле? Разве он предатель? Разве он не хотел как раз спасти их, спасти в более широком смысле, чем они понимали? Неужели и Гьюк не может понять этого?
Еще один камень попал в Дренга, и тогда он рассвирепел; глаза его налились кровью, он затрясся, раскрыл рот и тихонько завыл. Потом заметался взад и вперед, выделывая какие-то странные прыжки, высоко подбрасывая ноги и потрясая ими, как будто тело его потеряло свой вес. Он потерял и дар речи, как эта дико воющая толпа, как этот зверь, который проклял его, не желая даже выслушать его оправданий. Но они знали пределы, а он нет… Гьюк все наступал на него, изрыгая все более и более бессвязные, бессмысленные проклятия; Дренг шагнул к нему и рассек ему своим кремневым топором череп до самых зубов. Тут он глубоко вздохнул и посторонился от брызнувшей изо рта друга струи крови. Никто не ожидал ничего подобного. Дренг сделал невозможное.
Гьюк умер на месте. И пока другие толпились у его трупа, пришибленные ужасом, Дренг повернулся и ушел в глубь затопленного леса.
На другой день он сидел у потухшего костра, который так и оставался нетронутым, как Дренг его покинул; холодный пепел еще сохранял форму сгоревшего топлива, но это был уже один прах. Все еще не теряя надежды, Дренг разгребал золу и втягивал в себя воздух всей глоткой – не пахнет ли гарью, не тлеет ли где-нибудь уголек или хоть единая искорка, способная разгореться; но сырая куча золы и обуглившихся обрубков не подавала никаких признаков жизни, и пепел рассыпался по земле. Огонь окончательно погас.
Дренг провел ночь на дереве, в полузабытьи, во власти холода и собственного упорства. Неподалеку, в пещере, сидели его товарищи, сбившись в кучу, и вопили всю ночь напролет. Все время они поминали в своих жалобах Гьюка, и каждый раз имя это болью отзывалось в душе Дренга, но вместе с тем ожесточало ее.
Всю ночь, как и накануне, лил дождь, и к утру опять выпал град и подморозило. Тут Дренг услыхал, как его товарищи покинули пещеру и отправились по лесу к югу; жалобный вой их мало-помалу замер вдали. Они возвращались домой с горькими вестями, бесприютные, лишенные огня в эту зимнюю стужу.
Но они все-таки были на пути домой, и им предстояло провести без крова только еще ночь-другую; а там они опять будут в своем становище вместе с женщинами и детьми, в укромной долине, где горит старый священный костер племени. Там их примут с радостью, обогреют, и скоро все их невзгоды будут забыты. Не забудут только огнегасителя и убийцу – Дренга. О нем будут слагаться обращенные к небу песни и сказания, и мысль о том, что он брошен в одиночестве на жалкую гибель в лесных дебрях, будет служить пряной приправой ко всякой беседе.
Дренг покинул угасший костер под скалой и стал бесприютным скитальцем; несколько дней он блуждал по лесу, не зная, где он, бродил по холодным болотам, не чувствуя, где день, а где ночь. Глаза его безжизненно глядели вокруг. Иногда он вырывал кусок мяса из трупа какого-нибудь потонувшего животного и съедал его, так что голода не чувствовал, но холод и одиночество одолевали его, пригибали к земле, словно непомерно тяжелая ноша.
Однажды он вдруг почувствовал себя лучше; ему стало теплее – он бессознательно забрел к югу и очутился неподалеку от долины, где жили его братья.
После тяжелой внутренней борьбы он невольно стал приближаться к становищу; он не мог устоять, так его тянуло туда. Шел он тихими, бесшумными шагами, неслышными даже ему самому. Вот он стал уже различать следы там и тут; значит, становище близко. Но что это виднеется на лужайке, откуда знакомая ему тропинка ведет прямо к шалашам? Он широко раскрыл глаза и увидел высокий шест, а на нем рассеченный череп Гьюка; рядом же на другом шесте болталась волчья туша. Вот что они вывесили для него на случай, если он отважится приблизиться! Здесь – межа между ними. Да, вот что они приготовили для него, если он вернется, обратит свои проклятые глаза к родичам!
Дренг с трудом справился с собой и пошел назад на север, в холодные вымершие леса, нагой и одинокий.
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Шел снег. Дренг начал взбираться на священную гору.
Крупные мокрые хлопья снега таяли на мохнатой спине Дренга, но он не обращал на это внимания. Сперва он подумал было, что это падает лоскутьями само небо, но скоро понял, в чем дело; это был всего-навсего дождь, только другой, более холодный и густой. Дренг намеревался взойти на вершину огненной горы, откуда много человеческих веков тому назад его родоначальник принес огонь своим братьям. В руке у Дренга был топор. Он не помнил себя и ничего больше не боялся после тех ночей, что провел во мраке и одиночестве в обледеневшем лесу. Ему нужно было добыть себе огонь добром или силой. Пар так и валил от Дренга в эту холодную, снежную погоду, но он без устали и без оглядки все подымался в гору.
Гора находилась далеко на севере, по ту сторону долин, в которых обитало племя Дренга, пока холод постепенно не выгнал их оттуда. Но Дренг знал дорогу. В раннем детстве он привык каждый вечер смотреть в просветы шалаша на огненную пасть, выдыхавшую дым под самые небеса. Не раз слышал он предание и о том, как однажды дух огня протянул с горы вниз огромную огненную руку и уничтожил леса на много-много миль вокруг; это было ужасное время для всего племени, которому пришлось бежать и прятаться в болотах и ямах с водой, пока тот наверху не смилостивился опять. Но в последние печальные времена племя так далеко отступило к югу, что гора исчезла из виду, и Дренг не знал, где она теперь находится. Издали он не мог видеть ее вершину, скрытую облаками.
Но едва он поднялся немного наверх от подошвы горы, его охватили жуткие предчувствия. Гора, к которой прежде нельзя было приблизиться из-за каменного дождя и ярких молний, стала теперь удивительно спокойной. Уж не спит ли она? Она не говорила громовыми раскатами, не показывала огненных языков, не дышала пламенем из расселин. Она была совсем спокойна, не дрожала, не скатывала вниз раскаленных камней, была холодная и тихая. Не хитрость ли это? Не лукавое ли предательство? И Дренг без особой радости поднимался вверх; было бы лучше, если бы гора немножко подожгла ему подошвы!
Дренг давно уже миновал пояс лесов и всякой растительности и подымался вверх по крутой исковерканной каменистой поверхности. Она хранила еще следы огня, но была холодна и пропитана ледяной водой; отдельные огромные камни походили на мертвых чудовищ. Дренга мало-помалу стало охватывать безысходное уныние от предчувствия истины.
Далеко за полдень Дренг достиг вершины. Последняя крутая часть пути была усыпана чем-то вроде черного шершавого пепла, больно коловшего ноги и смешанного с желтыми и синими вонючими комками; вся эта холодная масса была сверху покрыта мокрым снегом. Дренг достиг вершины, такой же угасшей и похолодевшей, как и вся гора, на которую он взобрался.
Да, огнедышащая гора потухла. Дренг стоял на самой верхушке ее, образовавшей кольцеобразное отверстие, и смотрел в разинутую пасть горы. Пасть была холодна и набита снегом. Вокруг расстилалось небо, пропасти и целый мир пустоты.
Никогда больше не добраться Дренгу до огня! Могучий дух, обитавший на горе, исчез. Мир погас. Дренг стоял на вершине омертвевшей земли, замерзший, с окровавленными ногами, одинокий и без всякой надежды.
За несколько дней до этого, направляясь к северу, он проходил как раз то ущелье, где шла старая звериная тропа; теперь она была почти совсем смыта дождем; все звери уже перекочевали с севера на юг. Там Дренг и остановился, чтобы в последний раз оглянуться назад на юг, в нелепой и суетной надежде увидеть хоть дым от жилищ своего племени. Тут физические муки и тоска одиночества переполнили его душу, привели его в такое ужасное состояние, что он озлобился на весь мир, на все и вся. И в приливе злобы и гордости он заревел над долиной – эта была новая песнь, впервые раздавшаяся над затонувшей землей, песнь упорства, песнь отрицания. Он скалил зубы и пел вызывающе, несмотря на то, что стоял в ущелье один-одинешенек, собираясь искать свое будущее в направлении, как раз противоположном тому, которое избрали все прочие живые твари. Эхо приносило ему обратно его песню – бессодержательные, надрывные звуки, и это еще пуще раззадоривало его, заставляло превзойти себя самого в безумии.
Насытив свое сердце одиночеством и отрицанием, Дренг повернулся лицом к северному ветру и вступил в царство зимы. Да, в тот раз у него еще была надежда. Он еще не подозревал, что нельзя больше добыть огня на священной горе предков. Тогда в его воображении еще существовала гора, источник огня, бессмертного истребителя, дающего тепло. У него еще оставалась последняя надежда – самому отправиться к великому духу огня и побороться за обладание искрой, необходимой для поддержания жизни; и эта надежда питала его сердце, что бы его ни ждало впереди – приключение, удача или гибель.
Теперь он стоял на угасшей горе. Сам источник огня угас. Великий дух умер. Дренг спел в последний раз. Огнепоклонник лишился огня, лесной человек лишился леса.
И вот начался его земной путь – путь одинокого, бесприютного, голого человека – по холодной земле.
На краю пропасти сидела обезьяна, и, когда Дренг повернулся, чтобы начать спуск вниз, она оскалила свои длинные желтые зубы, словно обрадовалась. Это была старая человекообразная обезьяна, почему-то отставшая от своих во время переселения и увязавшаяся за Дренгом. Она сидела, поджав холодные ноги и сложив руки, вся дрожа от холода. Когда Дренг обратил на нее внимание, она ответила ему взглядом умных и похотливых глаз, а затем повернулась к нему своим ярким задом, сбежала несколько шагов вниз по крутому обрыву и опять уселась. Дренг нацелился ей в голову большим ледяным осколком, но промахнулся; его охватило жгучее желание съесть ее сердце.
При спуске с горы обезьяна следовала за Дренгом на некотором расстоянии, и он несколько раз швырял в нее камнями и кусками льда, но все не попадал. Обезьяна осталась его спутницей.
Едва Дренг спустился вниз от кратера, как разразилась буря, слившая воедино небо и землю.
Дренг убил лося и заснул под его теплой тушей, предварительно влив в свою утробу столько дымящейся крови, сколько влезло. В течение нескольких часов жизненная теплота отливала от туши; наконец Дренг проснулся под тяжестью окоченевшего трупа, но в ту ночь он все-таки спас свою жизнь.
Когда взошло солнце, он успел уже пройти много миль дальше, к северу; священная гора осталась позади, сверкая вершиной, навеки увенчанной снегом. На смену вечному огню явился вечный снег.
В горах снегу все прибывало, а в долинах без перерыва лил дождь и хлестал град. Ледниковый период решительно вступал в свои права.
К ЛЕДНИКУ
Дни и недели – Дренг не знал, сколько именно, – он шел и карабкался к северу, все ближе и ближе к сердцу зимы. Много пришлось ему перенести; холод так донимал его, что он под конец еле волочил ноги в какой-то дремоте, не помня себя от утомления; но он продолжал идти вперед, навстречу холоду; он все еще хотел узнать, кто обитает на высочайших вершинах.
Он потерял счет времени, как-то слился с вечностью и все шел, шел; ощущение собственного существования поддерживалось в нем только ежедневной борьбой за жизнь. Непрерывное скитание в течение все крепчавшей зимы познакомило его со снегом и льдом; он понял, что они собой представляют; ничего особенно таинственного в них не было. А северный ветер неумолчно гудел: сам себе помогай!
По ночам бывало смертельно холодно. Вся вода в расселинах скал замерзала до дна; покрытые инеем камни кусались и вырывали целые клочья кожи. Дренг не выжил бы, если б нужда не заставляла его совершать невозможное и не учила помнить ее закон.
В одну морозную ночь он почувствовал, что не доживет до утра, если останется лежать голый, измученный, под обледенелым камнем; и вот он встал и в каком-то полубреду направился к берлоге медведя, о близости которой говорил его чуть теплый запах. Оказавшись в теплой яме, Дренг даже прослезился – спертый воздух, насыщенный вонью хищного зверя, напомнил Дренгу его мать и оставленное родное жилье в первобытном лесу, где перед шалашами стояла такая же вонь от гнившей на солнце падали. Он проглотил слезы и, грезя, что попал домой, повалился рядом с медведем, мгновенно охваченный сном. Но медведь впотьмах поднялся и принялся обнюхивать пришельца, а потом и пробовать, каков он на вкус. Дренг, очнувшись, словно обезумел, и в пещере завязалась борьба. Не будь у Дренга кремневого топора, не уйти бы ему от гибели. Он убил медведя, напился его крови и, распоров ему брюхо, заполз в теплую утробу. В ней он проспал, пока туша не охладела, а прежде чем уйти из пещеры, содрал с медведя его шубу. Следующую ночь Дренг провел уже под скалой, завернувшись в медвежью шкуру, которую и стал таскать с собой повсюду. С тех пор он проводил ночи довольно сносно, а вскоре догадался кутаться в теплый мех и днем. Он сунул ноги в шкуру, облегавшую задние лапы зверя; с этих пор ему нипочем было шагать по холодной каменистой почве. Зато в борьбе с медведем Дренг лишился одного глаза.
Питался он чем попало, но, кроме животных, ему ничего не попадалось; ведь ни растений, ни плодов уже не было. На ходу он сворачивал ногой камни, нагибался и подбирал прятавшихся под ними пеструшек и полевых мышей; такую добычу он совал в рот целиком, живой и тепленькой. Мышь с брюшком, набитым всякой пряной всячиной, и с косточками, налитыми сладким мозгом, была лакомым кусочком для странника. Кроме того, Дренг убивал и пожирал всяких зверей, которых удавалось настигнуть и одолеть, начиная с зайцев и диких свиней и кончая большими лосями. Он орудовал своим каменным топором с такой силой и ловкостью, что против него не устоять было ни одному животному. Огромный тур валился, словно сраженный молнией, когда Дренгу удавалось подобраться к нему поближе и хватить его своим топором прямо в лоб. Дренг еще усовершенствовал свое оружие: обтесал себе несколько кремневых ножей, чтобы разделывать дичь, а один нож привязал к палке, чтобы оружие стало подлиннее и доставало подальше, и выучился метать его в дичь, к которой не мог подобраться достаточно близко. Звери, однако, попадались в горах нечасто, и Дренгу, подгоняемому голодом, приходилось выслеживать и преследовать их целыми днями, пока наконец убегавшая от него дичь не лежала, дымясь кровью под его коленом.
Ему нечем было согреться, кроме теплой крови убитых животных, и мясо их он пожирал сырым, так как у него не было огня.
Он выносил эти тяжелые условия, потому что надо было жить. Он влачил день за днем, потому что иначе было нельзя; но изгнание и невольное скитание в одиночестве наложили свой отпечаток на весь его облик; он рос и развивался в постоянной тоске по лучшей жизни, которая существует где-то, – вот что поддерживало его.
Во время своих неустанных скитаний он забирался все дальше и дальше к северу. И вот он достиг Скандинавских гор, на вершинах которых снег уже давно слежался и обледенел, а затем начал сползать с отвесных обрывов в долины.
В первый раз Дренг увидел Ледник еще издалека; Ледник слепо таращился на него, светясь каким-то диковинным голубовато-зеленоватым блеском, который сливался с синевой неба, и с тех пор запечатлелся в душе Дренга. Он, как всегда, завидев что-нибудь новое, совсем незнакомое, выгнул дугою спину и пошел прямо на Ледник. Но на пути лежали хребты и плоскогорья; Дренг шел, взбирался, карабкался, цеплялся за выступы руками и ногами, полз, присасывался, словно клещ, опять вставал и шел дальше, как в забытьи, приходя в себя уже где-нибудь на новом месте; так проходило время. Наконец Дренг совсем освоился с Ледником и шагал по нему, как по всякой другой, давно известной старой дороге.
Оказалось, что и там, на бесплодных ледяных камнях, можно жить. Дренг бродил меж зеленых ледяных гребней и ущелий и прислушивался к тяжелым вздохам, которые раздавались под его ногами в гулких пещерах Ледника. Он не боялся теперь ни холода, ни льда: он закутался в две толстые медвежьи шкуры, одну из которых вывернул мехом внутрь. Ноги он, кроме того, обернул лоскутами лосиной шкуры, привязав их ремешками. Ночью ему отлично спалось в углубленьях между массивными скалистыми глыбами, разбросанными по поверхности льда. А когда мороз и бури стали уж слишком донимать его, опыт указал ему на снег как на лучшее убежище; Дренг зарывался в него и уютно устраивался в снежной яме, закутавшись в свои шкуры. А выспавшись и проголодавшись, опять выползал на свет и вскачь, с развевающимися за плечами шкурами, мчался по снежным полям на охоту. Дренг перерос подвиг, который он когда-то намеревался совершить. Сначала его влекло на север желание помериться силами с холодом и отомстить ему за все зло, но ежедневная борьба за существование понемногу вытеснила это первоначальное намерение. Он не нашел в горах иных властелинов, кроме снежной бури и Ледника, которые вынуждали его напрягать все силы, чтобы только поддерживать свою жизнь. Вершины не таили ничего, кроме снега и льда. Но упорный задор, с которым Дренг пустился в путь, перешел в несокрушимую волю и выносливость в неравной борьбе с природой. Чем сильнее дул противный ветер, тем упорнее Дренг ему сопротивлялся.
Лесной человек умер в нем, еще когда он стоял на потухшей горе; а последний остаток звериной души был сломлен в нем, когда он, встав лицом к лицу с зимой, расстался с представлением о каком-то враждебном существе, населяющем ее. По мере того как он день и ночь изощрялся в борьбе за свое существование, не стремясь преодолеть непреодолимое, но беспрерывно борясь, – в его душе закладывалась основа первого язычества, веры в безличные силы природы. Необходимость переделать себя, согласно условиям, которыми он хотел управлять, закаляла его инстинкты. Впрочем, он не отдавал себе отчета во всем этом, а просто жил растительной жизнью, подстрекаемый какой-то слепой яростью, пожирал все живое вокруг себя и развивал в себе энергию, которой хватило бы на целый народ. Северный ветер, не переставая, гудел: сам себе помогай!
Дренг остался на севере. Одиноко жил он в холодных горах, добывая себе пищу. Буря и метель стали его спутниками, обширные пространства – его домом. А зима все лютовала. Ночи становились все длиннее и темнее, и почти проглатывали короткий день.
В ясные морозные ночи вспыхивали сполохи, будто взрывы бешеного веселья, и метались по небу, словно привидения умершего вселенского огня. Дренг всматривался в эту игру призраков, но не становился от этого умнее и, покачав головой, снова склонялся над оленьим следом на хрустящем снегу – еды, еды на сегодня!
Дренг рыскал за дичью и жил в ямах и пещерах под утесами. А если поблизости не оказывалось такого подходящего убежища, он пускал в ход свою медвежью силу, опрокидывал и сдвигал огромные камни, громоздил их один на другой, пока не получалась пещера, где он мог без опаски провести ночь. Такая выдумка значительно уменьшила его тревогу за свою жизнь и освободила его силы и способности для решения других задач.
Попадая в места, богатые дичью, Дренг особенно старался обустроить свой дом, или, вернее, каменное логово, в котором приходилось проводить ночей десять подряд, а иногда отдохнуть часок и днем. В такие часы он садился у входа в свое убежище и грелся на бледном зимнем солнце, под звон и прыганье кремневых осколков, погруженный в изготовление новых орудий. И когда глаза его, отрываясь от работы, блуждали по горизонту, его невольно поражало, что солнце стало таким холодным, стояло на небе так низко.
Поодаль от Дренга, на расстоянии добрых трех шагов, сидела собака и, навострив уши, с любопытством посматривала вокруг…
Дренг уже не был совсем один, да и раньше он всегда, в сущности, находился в пустыне в обществе зверей. Но они по большей части сами избегали его. Вначале за ним увязалась старая обезьяна, но она недолго прожила после наступления больших морозов. Она попыталась было кормиться остатками мяса, которые бросал Дренг, но пища эта не очень-то шла ей впрок, и она все тощала. Раз Дренг увидел, как она подобрала брошенную им медвежью шкуру и попробовала закутаться в нее; но шкура мешала бегать на четвереньках, и обезьяна, потаскав ее за собой некоторое время, бросила. Однажды утром Дренг нашел свою спутницу замерзшей на крыше того каменного логова, где он ночевал. Он было вырезал из животного сердце, но оно не годилось в пищу, разорвалось и совсем высохло от долгих мытарств.
После этого к Дренгу пристала собака.
Началось с того, что дикие собаки стали ходить за ним по пятам, уверенные, что на их долю всегда придется большая часть всякого убитого им животного. Время от времени Дренг убивал и съедал какую-нибудь из этих собак, если не попадалось другой добычи. Но одну собаку из стаи он все же щадил; к ней он как-то пригляделся и стал отличать ее от других. А она, всюду следуя за ним, понемногу совсем отделилась от своей стаи, и Дренг мало-помалу примирился с ее навязчивостью. И то сказать, она была очень скромна, никогда не подходила раньше, чем Дренг наедался сам, и покорно убегала, стоило ему только взглянуть на нее. Она была невелика ростом, с острой мордочкой и закрученным на спину хвостиком. Дренг отучил ее от вытья, швыряя в нее камнями, и она только лаяла; совсем молчать, когда происходило что-нибудь особенное, было этому маленькому зверю не под силу. И Дренг, и собака были одинаково бдительны; ничто не ускользало от их зоркого взгляда на огромном расстоянии вокруг, но чутье у собаки было все-таки тоньше. И она усердно охотилась вместе с Дренгом, которому иной раз приходилось целыми днями гоняться за оленем, пока не удавалось загнать его насмерть, и не раз собака оказывала охотнику при этом такие услуги, которые закрепляли их воинский союз.
Дренг даже привязался к собаке. Вначале, в самый разгар жестокой зимы, когда дни, ночи, недели тянулись, как одно долгое, напряженное мгновение, Дренга просто успокаивало сознание того, что собака остается при нем, не отходит от его логова на всю ночь и, случись завтра неудача на охоте, в любое время обеспечит ему хорошую трапезу. И собака как будто понимала Дренга: была очень вежлива, но никогда не приближалась к нему настолько, чтобы можно было схватить ее рукой. Но пока длились такие несколько натянутые отношения, они успели многому научиться друг от друга. Им так славно сиделось по соседству короткими зимними днями, когда у Дренга был достаточный запас пищи для них обоих, каменное логово было уже обустроено и солнце хоть чуточку пригревало их со своего далекого небесного пути.
В руках у Дренга звенел и дымился кремень; на досуге он всегда мастерил какое-нибудь новое оружие. Но сидя и обтесывая кремень, он иногда вдруг начинал жадно высматривать что-то в холодном воздухе и поводить носом над кремнем – пахло гарью, огнем! Было что-то такое внутри кремня, дробившегося под ударами, что-то, отзывавшееся тлеющими под пеплом угольями. Дренг широко раздувал ноздри и втягивал в себя этот запах гари, напоминающий ему также запах опаленного дерна после грозы или запах утреннего тумана в первобытном лесу, тяжелого ночного пота растений, испарявшегося под солнцем. Дренг глубоко втягивал в себя воздух и вздыхал, вздыхал. Да, он тосковал по огню. И готов был без конца обтесывать кремни, хотя бы только для того, чтобы вдыхать в себя этот близкий и в то же время столь далекий запах огня, издаваемый осколками кремня.
В промежутки, когда окружавшие Дренга опасности не так сильно донимали его, он принимался осматривать свою собственную особу и находил, что кожа его покрыта струпьями от грязи и насекомых и кусками запекшейся крови убитых им животных; тогда он соскабливал в себя некоторые струпья и съедал их; вот как произошла на свет чистоплотность.
Волосы, покрывавшие тело, стали понемногу выпадать – Дренг больше не нуждался в естественной шубе, так как постоянно носил звериную. Вообще, он был здоров и отлично чувствовал себя на свежем воздухе, который не давал ему лежать на боку и нежиться. Дренг окреп, сила его все росла; росло и умственное развитие, что, впрочем, не мешало ему с чисто вселенским аппетитом набрасываться на всех теплокровных животных, которые, как и он, предпочли остаться на севере и приспособиться к новому климату.
Тем временем зима прошла. Дренг не сразу понял это. Ночи вдруг стали теплее, и солнце стало подыматься выше, – как раз когда он, наученный опытом все крепчавшей зимы, готовился, стиснув зубы, к еще более жестоким морозам и еще более трудному житью-бытью. И вдруг мороз взял да и пошел на убыль!
И лишь теперь, когда стало чуточку посветлее и дни стали прибывать, Дренг понял, что он перенес за время этого ужасного долгого мрака. Пока царила тьма, он неистовствовал в беспрерывном зверском отчаянии, не помня себя, весь во власти одного стремления – защищаться; теперь он начал отмякать и отводил душу какими-то странными звуками, которые судорожно вырывались у него из горла – это был смех. Плохо ему приходилось! Но он скоро забыл об этом и как бы очнулся.
Настало лето, и Дренг решил, что холод исчез навсегда. Но зима пришла опять, да еще более лютая, чем прежде, и Дренг претерпевал самые ужасные бедствия, каких он еще и не знал. Он едва выжил. Лето опять поставило его на ноги, и теперь он научился уму-разуму, поняв смену времен года, и стал готовиться к зиме заблаговременно.
Каждая новая зима была продолжительнее и холоднее прежней, а лето все убывало, пока не превратилось просто в короткий дождливый перерыв во время вечной зимы. Ледник все рос и расширялся.
Горные вершины совсем скрылись под сплошным куполом снега, все прибывавшего и прибывавшего. Снег слеживался под давлением новых верхних слоев и превращался в мощный слой ледяного теста, которое сползало по склонам гор и понемногу заполняло долины. Короткое лето не могло особенно повредить Леднику; оно только крепче спаивало его; оттаявший от тепла снег на его поверхности замерзал снова при первых холодах, и Ледник, лишенный снежного покрова, так и сверкал сине-зеленой глубиной на всем своем протяжении и на горных вершинах и далеко в долинах. Отблеск этой зеленой бездонности со временем наполнил весь горизонт, все увеличиваясь по мере того, как Ледник незаметно расползался с вершин гор по всему краю.
Ледник вытеснял самую землю, дробил ее в порошок и стирал чудовищной тяжестью движущегося льда. Темной ночью Дренг слышал подземный грохот и скрежет льда, который разворачивал и срывал скалистую почву в своем непрестанном медленном движении вниз, увлекаемый собственной непомерной тяжестью. И Дренг в ответ на это скрежетал зубами.
В тихие морозные дни, когда холод впивался острыми зубами во все поры тела, дыхание вылетало у Дренга из носа какими-то белыми сгустками, а кровь так и колола под кожей, словно звездный дождь. Победой казалось Дренгу уже то, что он жив.
ОХОТНИК
Дренг возмужал и, закаленный несколькими зимами, мог вести своего рода обеспеченную и правильную жизнь, хотя он все еще оставался кочевником. Неосмысленная борьба с холодом сменилась более рассчитанным образом действий с тех пор, как он уразумел смену времен года и научился готовиться к зиме.
Он вялил мясо в благоприятное время года и припрятывал его про запас на время холодов. Дичи кругом водилось достаточно и зимою, но Дренг считал, что лучше всего устраивать себе прочное и вместительное жилье из камней, в котором можно было бы проводить всю холодную пору, а это привело к тому, что Дренг стал заготавливать себе на зиму и запасы пищи. Итак, оседлую жизнь он еще не вел, но каждую весну выбирал себе новое место охоты и там оставался на всю следующую зиму.
Свое жилье Дренг устраивал теперь с немалым стараньем и по определенному плану. Если ему попадалась естественная пещера, он завладевал ею, убив предварительно медведя, бывшего обычно ее первым хозяином, или устраивал себе жилье сам, громоздя большие камни один на другой и затыкая все отверстия более мелкими камнями. Это невысокое каменное жилье он стал углублять, вырывая под ним в земле яму, которую выкладывал мохом и звериными шкурами. Тут он и спасался от холода в длинные темные ночи.
Охотиться он продолжал и зимою, но никогда не отходил от дома настолько, чтобы не успеть вернуться домой на ночь.
Хотя у него не было ни огня, ни света, он все-таки мастерил кое-что в своем жилище; если Дренгу не хотелось спать и запасов вяленого мяса было достаточно, он возился с кожами, содранными с убитых животных. Терпеливо жевал он их вершок за вершком, добиваясь, чтобы они из грубых, жестких и ломких стали мягкими и хорошо растягивались. Такому приему его научила горькая нужда, как и всему остальному, что он знал; в голодные дни ему часто приходилось довольствоваться обгладыванием остатков мяса с кож, и Дренг заметил, что кожи, побывав у него в зубах, становились прочнее и приятнее на ощупь. Голод же надоумил Дренга заготовлять впрок мясо, провяливая его.
Если же Дренг не был занят выделыванием шкур, он сидел впотьмах и на ощупь, как слепой, протыкал острой костью дырки в шкурах, а потом связывал шкуры длинными ремешками, вырезанными из оленьей кожи. Он теперь наловчился кутаться в шкуры особым образом, извлекая из них как можно больше тепла; но это стоило ему долгого и упорного труда. Из кишок же убитых животных он свивал веревки, которые служили ему для разных целей. Всем этим можно было отлично заниматься и впотьмах.
А зимы становились чем дальше, тем все длиннее. Ледник забрался уже далеко в глубь страны. Нельзя было подметить, как он двигался, но с каждым годом он подвигался все дальше и дальше. Нижний край его уже достиг низменной равнины; там зеленый потрескавшийся лед столкнулся с остатками мертвого леса, и где прежде росли бамбуки и мимозы, лег теперь ледяной щит высотой с гору; где прежде росли в тропических болотах лотосы – там вздымались тусклые арки краев Ледника, из-под которых струились холодные потоки беловатой, мутной воды. Ледник беспрерывно выделял влагу и опять замораживал ее своим холодом, все рос и расползался, поглощая одну местность за другою.
Дренг хорошо изучил Ледник и знал, что тот все движется. Он соображал, прикидывал в уме и довольно ясно предвидел то время, когда здесь круглый год будет стоять зима, – Ледник захватит всю страну. И Дренг инстинктивно собирался с силами, чтобы встретить то время во всеоружии опыта и знания. Каждая проходившая зима была для него суровой школой, которая учила его готовиться вообще ко всему. И он мало что предпринимал в течение дня, в чем не скрывалась бы забота о будущем, хотя и не всегда сам сознавая это. Ледник грозил Дренгу и заставлял быть наготове.
Но в первые годы его одиночества лето бывало еще довольно жаркое, хотя и очень дождливое. Это были настоящие потопы; теплый дождь лил целыми неделями и превращал весь край в туманные болота. Тогда Ледник, омытый и прозрачный, сохранял свое бездонно-зеленое сияние и в глубинах, и на вершинах, с которых он сползал широчайшими извивами, усеянными трещинами и обломками скал, вниз, в окутанную сеткой дождя и тумана страну.
Эти летние потопы превращали Дренга в полуводяного жителя; он научился переправляться по воде на древесных стволах, орудуя длинным суком, как багром; вздувшиеся реки и озера уже не могли больше быть преградой на его пути. Если вода становилась чересчур глубока, он бороздил ее широким концом сука и все-таки пробирался вперед. Собака следовала за ним, то сидя на противоположном конце ствола, то плывя рядом. До чего они оба промокали! С них всегда так и текло, кожа до самых глаз пропитывалась водой и холодела, но они переносили все это как нельзя лучше.
Во время короткого лета Дренг опять поддавался беспечности, свойственной лесному человеку, бросал свои шкуры и без конца бродил, не имея при себе ничего, кроме своего каменного оружия. Он всеми порами своего тела впивал в себя тепло, целыми днями лежал и пекся на солнце, если только оно пробивалось сквозь сплошные облака. Но зимняя закалка уже была у него в крови и только ждала холода; у Дренга развилась память, он никогда не уходил так далеко, чтобы потерять из виду зеленоватый блеск Ледника под небесами.
Лето Дренг проводил в беспрерывных скитаниях, переходя с места на место в погоне за добычей. Он устраивал себе шалаши там, где его заставала ночь, а утром шел дальше. Однажды, во время своих охотничьих походов, Дренг спустился в южную долину, откуда был родом, и нашел лес почти сгнившим и частью превратившимся в кочковатое мшистое болото. Отдельные стволы больших деревьев уже едва можно было различить; они образовали почти непроходимую чащу валежника, заросшую кустарником и сорными травами.
Первобытному лесу уже не суждено было больше собраться с силами! Каждый год некоторые из опрокинутых деревьев пытались пустить побеги, и над погребенными в болоте пальмами зеленели новые отпрыски; но им не суждено было становиться деревьями – с наступлением зимы они погибали. Ни одно из растений первобытного леса не возродилось в своей первозданной пышности; они влачили существование в виде мелких, уродливых побегов; некоторые из них, впрочем, оказались довольно стойкими и впоследствии опять создали лес, хотя и других, более мелких размеров.
Зато были и такие растения, которые в первобытном лесу не имели никакого значения, а теперь воспрянули и общими силами принялись воссоздавать лес; это были хвойные растения, которым холод был нипочем. Ель и сосна быстро разрастались и заполняли пустоши первобытного леса. Можжевельник, в былые времена напоминавший гигантские кипарисы, перезимовав в виде мелких, медленно растущих побегов, сохранил куполообразные и пирамидальные очертания своих предков, но значительно уменьшил свои размеры. Некоторые лиственные породы – наоборот, в новых условиях из кустов и трав разрослись в большие деревья и приобрели способность сбрасывать свою листву на зиму и обновлять ее весной. К таковым принадлежали береза и дуб, которые в первобытном лесу были лишь кустами, осина, ива и многие другие. Теперь они вошли в силу, давали побеги и тянулись вверх своей недолговечной лиственной шапкой в течение лета, когда ночи стояли светлые.
Все приспособились теперь к новому порядку, к смене времен года, раз уж нельзя было иначе. Многие из перекочевавших на юг животных возвращались летом на север, и так они стали делать из года в год, отступая все южнее, по мере того, как разрастался Ледник.
Почти все птицы устремлялись на север, когда солнце начинало озарять своим ослепительным светом наводненную местность, очертания которой были им хорошо знакомы. Птицам не мешал этот избыток воды – лишь бы солнце выманило из земли траву, тростник да достаточное количество копошащихся червей. Были и такие птицы, которые навсегда остались на юге: фламинго, пеликаны и другие прихотливые птицы, довольно сомнительной наружности, но с чрезвычайно нежными плавательными перепонками на лапках. Всех же остальных – гусей, уток, лебедей, пигалиц, жаворонков и куликов – Дренг ежегодно приветствовал, когда они прилетали с юга целыми тучами и, шумя крыльями, с радостными криками бросались в обширные озера, из которых повсюду торчали сухие ветки и корни старого леса.
Там квакали жабы, пока не являлся аист и не начинал глотать их; извивались черви и плавала по освещенной солнцем воде всякая мелюзга, приманивая уток; большие щуки с быстротой молнии бороздили светлую гладь воды, спасаясь от преследования выдры; а между сгрудившимися древесными стволами строили свои города целые стаи бобров.
И начиналась кормежка, а потом высиживание яиц и рождение детенышей! Дренг утопал в изобилии – столько было яиц и дичи – и целыми неделями валялся без дела на островках, где в дуплах погибших деревьев гнездились пчелы.
Из сухопутных зверей многие тоже пытались возвращаться на север в теплую пору. Сидя на какой-нибудь возвышенности и высматривая добычу, Дренг иногда различал на южном краю горизонта, залитого ослепительным сиянием, давно знакомые очертания мощной фигуры льва в виде тени на облаках; на земле же зверь казался на таком расстоянии лишь едва заметным пятнышком. Иногда Дренгу случалось уловить и изящные очертания зябкой антилопы, которая, пожалуй, пробежала сто миль от своего нового пастбища, только бы взглянуть разок на покинутую северную родину. Это были, наверное, отдельные бродяги или изгнанники вроде Дренга, но они всегда поворачивали обратно, увидев с высоты опустошенные леса. Их судьба указывала им путь все южнее и южнее, и им предстояло стать совсем чужими в этих краях.
Некоторые сухопутные животные гостили на севере летом и уходили обратно с наступлением холодов, но таких становилось все меньше и меньше; они не могли, как птицы, переноситься по воздуху и привыкнуть к ежегодной кочевке. Бродячий образ жизни освоили лишь дикие лошади да еще некоторые другие быстроногие; вообще, Ледник скоро проложил границу между теми, кто хотел осесть на севере, и теми, кто хотел кочевать. Первые два года и бегемот пытался возвращаться на лето на север, шлепая по болотам, но так искололся о валежник и ветви, торчавшие со дна, что на следующий год уже не показался, навеки повернувшись к родине спиной, – а спина у него была широкая!
В самое первое лето нагрянула еще и целая ватага бесхвостых обезьян, которые жили на земле, как люди; но, разумеется, они забыли о зиме и занялись высокопарными словопрениями да выживаньем других животных из узкой долины, где было достаточно орехов и ягод, чтобы пропировать все лето.
Спустившись следующей весной в ту долину, Дренг нашел скелеты всей ватаги на одной горке, куда обезьяны забежали, спасаясь от холода. Буря застигла их врасплох, и видно было по их оголенным костям, как они все сбились в кучу, обнялись, да так и замерзли.
Обезьяны постоянно надоедали Дренгу, следуя за ним и во всем его передразнивая, так что Дренг теперь с удовольствием сочинил и спел всей компании прощальную песню. С тех пор он больше не видел обезьян. И южнее они, должно быть, тоже все вымерли, даром что всегда хвастались.
Умнее всех вел себя мамонт, которого Дренг часто встречал в первые годы, тянувшиеся как вечность и превращавшие Дренга в человека. И первое время он и мамонт отлично уживались на Леднике. Дренг не решался еще охотиться на этого исполина, так ; как недостаточно возмужал; кроме того, пища у них была разная – вот они и не мешали, не завидовали друг другу.
Мамонт потерял свое сходство со слоном, обзаведясь длинной шубой, защищавшей его от холода, и напоминал небольшой движущийся, обросший мохом утес, когда грузно топтался между гранитными глыбами и отряхал иней с лиственницы, прежде чем сгрести с нее хоботом себе в рот зеленые иглы. Зимой же Дренг привык встречать мамонта в занесенных снегом хвойных порослях, где могучее животное выбирало себе местечко за какой-нибудь скалой, защищаясь от ветра, и стояло смирно, свернув хобот и предоставив снегу крутиться между широченными бивнями. Так мамонт подолгу стоял, грузно покачиваясь под напором снежной бури, обрастая длинной шерстью между могучими ногами и с бесконечным терпением посматривая из-под опушенных снегом мохнатых бровей своими маленькими умными, испытующими глазами – словно олицетворяя собой одиночество.
Тихими морозными ночами Дренг, просыпаясь в своем каменном жилье, слышал глухое покашливание мамонта, будившее эхо, которое прокатывалось по ледяным ущельям и затем замирало в звенящем просторе вечной тишины. Значит, старик брел по Леднику при свете северного сияния, осторожно переступая гигантскими ногами между ледяными глыбами и ущельями. Он проходил большие расстояния в поисках скалистых островков и вершин, часто почти отвесных, где росли карликовые сосны, служившие ему пищей.
А летом мамонт с ленивым сопением лакомился молодыми березками и проделывал разные фокусы с едой: подбрасывал ее себе на спину и вертел в своем чувствительном хоботе, прежде чем отправить в рот. Линяя летом, он оставлял клочья шерсти на терновнике и в чаще других кустарников.
В светлые ночи, когда березы казались издали какими-то белыми или пестрыми руками, мамонта можно было видеть где-нибудь на дальних возвышенностях, где небо светилось золотым блеском и в полночь; он стоял там, понурив голову, хлопая ушами, чтобы отгонять комаров, и сытое, мерное жевание его неповоротливых челюстей слышалось издали – словно глухой скрежет камней под Ледником.
Но по мере того, как лето с годами становилось все короче, мамонт все реже спускался с гор; весной он стал даже уходить еще дальше к северу, раз и навсегда облюбовав холодные области. Дренг знал, что мамонт умен, а потому не преминул принять его поведение к сведению.
Дренг задумывался не на шутку. Пора первой юности миновала, оставив только чувство, что прошли бесконечно долгие годы; Дренгу казалось, что он провел в одиночестве уже целую вечность. Теперь он ни в чем не испытывал недостатка, был хозяином своей жизни и находил все новые и новые средства для облегчения своего существования. Он не боялся никого ни на небе, ни на земле, покоряя всех зверей своим топором и копьем; что же касается слепых сил, старавшихся донять его снежной бурей и мраком, то их он встречал безмолвно – они входили в тяжелый обиход его жизни; неизбежность и упорство поневоле сливались в одно целое и способствовали его развитию. Дренг победил природу и самого себя.
Но теперь одиночество стало тяготить его. Для чего он стал таким могучим? Разве нет другой цели для его сил, кроме самой этой жизни? Впрочем, он никогда не скучал: или промышлял себе пищу на сегодняшний день, или заготовлял запасы на будущее, работая даже впотьмах. Если же оставалось время, он взбирался на крышу своего каменного жилища и просиживал там дни и ночи, примечая ход звезд и пути солнца. Мало-помалу Дренг начал понимать, как движутся небесные тела, как они исчезают, как снова появляются и через сколько времени.
Его испытующий взор беспрестанно переходил с земли на небо, блуждал там и тут; в руки ему попадались все новые и новые предметы, и стоило ему один-единственный раз увидеть что-нибудь или дотронуться до чего-нибудь, чтобы предмет этот навсегда врезался в его память. Он всегда был начеку, всегда готов к восприятию новых впечатлений и всегда чем-нибудь занят. При каждом новом открытии кровь бросалась ему в голову, он суетился, как животное, когда оно в инстинктивном лихорадочном возбуждении строит себе гнездо; голова горела от напряженной работы мысли, и все спорилось у него в руках. Но ему не было весело.
Однажды летом он решил пойти на юг по следам своего племени. Следы вели от одного покинутого становища к другому, тоже покинутому, и он шел по этим следам неделю за неделей. То место, где жило племя, когда Дренг покинул его, было давно брошено, а окружавший его лес погиб. Дренгу пришлось перейти через горы и спуститься в совершенно неизвестные ему места, где ему было не по себе; наконец он увидел между деревьями дым и узнал становище своих соплеменников. Но даже тут, так далеко к югу, было не очень-то тепло; как же они жили здесь? Он с тоской смотрел на дым, но тот же дым вызывал в его памяти картину того, как родичи сидели вокруг костра или валялись по своим шалашам, целыми днями ссорясь и перебраниваясь, не доводя, однако, дело до драки. Приблизься он к ним в тот раз, когда увидал позорный столб, воздвигнутый ему в назидание, он бы услыхал их неумолчную, сварливую перебранку; да и теперь, вздумай он подойти поближе, ему не довелось бы услыхать ничего другого; да разве он добыл огонь за время своих долгих скитаний? А он сам сознавал, что это было единственное условие, при котором он мог вернуться к родному племени. И он не пошел дальше. Но то лето он провел на пустынном нагорье к северу от лесов, где, кроме его собственного племени, обитали разные дикие племена, держась на больших расстояниях друг от друга и в постоянной вражде между собою.
Со своих сторожевых высот Дренг часто видел дым от костров других племен, обитавших на юге. Но ему ни разу не пришло в голову завязать с ними отношения или хотя бы добыть у них огня. Соприкосновение с этими чужаками могло иметь лишь одну определенную цель.
И этой цели Дренг не раз достигал в то лето, когда случай сталкивал его то с тем, то с другим человеком, отваживавшимся забрести чересчур далеко к северу в пустынные места. Такие случаи давали ему возможность утолить свою тоску по людям. Иногда дело кончалось полным удовлетворением, но иногда и разочарованием, в зависимости от того, было ли это молодое существо с вкусной кровью или какой-нибудь старый, жилистый первобытный человек, которого и зубы не брали. У Дренга надолго сохранилась в памяти одна такая не совсем приятная встреча, плохо отозвавшаяся на его пищеварении: попался старый высохший лесной человек, которого он застиг врасплох у ручья во время ловли раков; Дренг накинулся на него и сразу принялся пожирать, даже не поглядев на него хорошенько. Уф! Он таки надолго набил себе оскомину, и у него чуть было навсегда не пропала охота питаться плотью и кровью себе подобных. Вообще, его влечение к людям порядком улеглось после того, как он перепробовал их с десяток. Да под конец люди и вовсе перестали заходить к северу от своих лесов; не выходили ни толпами, ни в одиночку: пошли слухи о появлении на пустынных высотах злого тролля, полумедведя-получеловека, который раздирал и пожирал всех, кто приближался к его владениям. И Дренг снова повернул на север, к своему холодному царству.
Но посидев несколько недель на одном зверином мясе, он опять стал мечтать о молоденьком, сочном, кровянистом собрате. Отведать бы этого лакомства еще хоть разочек! И эта мечта мешала ему вернуться в свое одиночество; он неохотно подвигался вперед, то и дело сворачивая в стороны, исследуя местность.
Во время одной из таких вылазок, предпринятой в надежде, которую он, уверенный в том, что его ждет разочарование, пытался даже скрыть от себя самого, он и напал на чудо.
Это был человек; наконец-то опять существо с поднятыми от земли передними лапами! Дренг увидел свою добычу, во весь опор бежавшую по равнине к одной из пещер; когда же он перерезал ей путь, она опрометью бросилась бежать по долине, перескочила через ручей и скрылась за холмом. Дренг пустился за нею, и охота началась. Продолжалась она ровно трое суток и окончилась далеко-далеко в местности, совершенно незнакомой Дренгу, что немало содействовало тому, что охота эта превратилась в великое событие в жизни Дренга. Дичь, бежавшая от него быстрее и неутомимее любого оленя, завела его туда, где земля кончалась и начиналась вода – огромное озеро, уходившее в необозримую даль. Это было море. Когда человек ударился в бегство, Дренга сразу поразило, что тот не искал спасения ни в лесу, ни в горах, а кинулся напрямик через болота и степи, простиравшиеся к западу. Разве там тоже жили люди или у этого человека вовсе не было родного племени, где бы он мог найти убежище?
Еще больше удивило Дренга то, что человек, по-видимому, был чем-то прикрыт, но не шкурами, как он сам, а чем-то другим, что развевалось за ним на бегу. Будь это нечто вроде одежды – оно было бы весьма кстати, так как время года стояло уже холодное, град и пронизывающие ветры давно давали о себе знать. Но Дренг не знал, кроме себя, ни одного человека, который умел бы кутаться от холода. Кроме того, он заметил, что бегущий как будто и не намеревался защищаться или прибегать к хитрости, а просто бежал и бежал, видя в бегстве единственное спасение, – как это бывало с дичью. И для Дренга, значит, все дело сводилось к тому, чтобы или догнать, или загнать дичь.
Дренгу, однако, приходилось напрягать все силы, чтобы поспевать по следу, и за первые часы гонки расстояние между дичью и преследователем все увеличивалось. Но вскоре Дренг начал наверстывать расстояние почти незаметно, но достаточно для того, чтобы стоило продолжать охоту. Ночью Дренг отдохнул несколько часов, поел и поспал, а на следующий день должен был до полудня бежать по следам, пока снова не увидел свою дичь.
Следующей ночью преследуемый человек попытался пустить в ход жалкие уловки: перешел через воду, вернулся назад и спрятался в каменистом поле; но Дренг снова выследил его, поднял и погнал, преследуя по пятам. Они успели пробежать уже много-много миль и очутились теперь в совершенно незнакомой Дренгу местности.
Целые табуны диких лошадей срывались с места, вскачь описывали круги, останавливались и смотрели на Дренга, проносившегося мимо них забористой рысью. Дренг на бегу скрежетал зубами не с самым кротким видом. Вообще, эта погоня мало отличалась от его ежедневной охоты – разве только тем, что дичь на этот раз была благороднее и желаннее, чем обычно.
В последний день беглец уже продвигался вперед медленно, заметно ослабевая. Теперь они выбежали к воде и повернули вдоль берега, усыпанного мелким песком, круглыми камешками и разными диковинными штучками. Дренг с любопытством приглядывался ко всему, что видел на берегу, и принюхивался к бившему в нос острому запаху, но ни разу не приостановился. С этим можно было подождать – догонять оставалось каких-нибудь несколько минут. Человек впереди еще бежал, но силы его оставили, и по спине его видно было, как ему тяжело. Наконец он покатился на песок, приподнялся и попытался двинуться дальше, но уже на четвереньках; охота была окончена.
Дренг двойными прыжками приближался к своей добыче, не бросая, однако, в нее копье и не держа наготове топор; тут достаточно было и зубов; и он уже заранее облизывался, предвкушая, как утолит голод, а главное, жажду. Вдруг он увидел, что это была женщина. Она лежала на коленях, уткнувшись лицом в песок, в ожидании своей участи. Она не издала ни звука, когда Дренг дотронулся до нее; он перевернул ее, и взгляды их встретились. Всякая мысль об убийстве исчезла у него. Разумеется, ее надо оставить в живых.
Но он все-таки оскалил зубы в последней вспышке мстительного чувства за все то огромное напряжение и труд, которых стоила ему эта охота.
И у женщины выражение ужаса в глазах сразу пропало, как только она почувствовала, что останется в живых, а затем она тоже оскалила зубы, словно собираясь укусить; но ни один из них не укусил другого. Это была первая улыбка.
С тех пор они стали скитаться вместе. Их было только двое на Леднике – единственная людская чета на севере.
Солнце прорвало тучи и увидело, что других нет… так возникла моногамия.
МОРЕ
Тут кстати рассказать, как Дренг много-много лет спустя, прожив со своей женой целый человеческий век внутри страны, был охвачен неизлечимым, хотя и неизнурительным недугом – страстной тоской по морю.
Начало ей было положено тем, что он никогда не мог забыть той трапезы из свежих раковин, которою он и женщина утолили свой голод на берегу моря, когда он догнал ее, и на их свирепых лицах появилась первая улыбка. Воспоминание об этой трапезе, когда Дренг впервые отведал соленой пищи, стало для него единственным, которое он всегда бессознательно приветствовал, словно вспоминая что-то новое, важное.
С вкусовым воспоминанием сплеталось еще удивительно ясное и приятное воспоминание о часах, проведенных тогда с Моа (имя это дали ей впоследствии ее дети) во время их отдыха на песчаном берегу. Дренг исследовал круглые камешки и другие незнакомые предметы; кое-что оказалось съедобным, хотя и не все было одинаково вкусно. Потом он глубоко вдыхал в себя запах моря, воды которого были чернее всех вод, которые когда-либо ему приходилось видеть, и не имели берегов по другую сторону – насколько хватало глаз. И на вкус эта вода была другая, странная, но довольно приятная, если не пить ее слишком много. Белые птицы с резким криком летали над волнами, катившимися куда-то далеко-далеко.
Не дал ли тогда Дренг обещание самому себе вернуться туда опять, а потом забыл его? Не оно ли взывало к нему? И почему тот день был так прекрасен, так невыразимо приятен сам по себе, что воспоминание о нем стало скрытым источником всего, что с тех пор Дренг с грехом пополам делал по доброте? Вспоминая спустя много лет о том дне, он покачивал головой, и Моа во время скитаний, подымая глаза от своей ноши, нередко подмечала, как по суровым чертам мужа пробегал какой-то слабый светлый луч, что-то вроде улыбки, скользнувшей по его лицу тогда на берегу. Моа догадывалась, что муж тоскует о чем-то, но вряд ли о ней, и смиренно поправляла на спине поклажу, всегда увенчанную грудным малюткой. Для нее во всем мире не было ничего, перед чем бы она преклонялась более, чем перед священной тоской мужа, и она выражала свое участие немой, беззаветной преданностью и готовностью сопутствовать ему до самой смерти.
Да, Дренг тосковал по морю. Годы отделяли его от краткого мига, проведенного на берегу; его жизнь стала сплошной зимой, но тот миг так и остался незабвенным, единственным. Неведомое прокралось в его сердце в тот краткий миг, когда он сидел на белом песке и смотрел на волны, катившиеся в неведомую даль, куда его взор не мог следовать за ними. Было что-то в том чудесном миге, что вошло в его кровь и плоть и предопределило участь его самого и его рода.
Но он не знал и никогда не постиг, что тоска по морю была мистической и нераздельной со светлым чувством, забрезжившим в его сердце, когда он впервые взглянул в глаза бедной загнанной Моа.
ПРИВЫЧКИ МОА
А теперь перейдем к будням. Начиналась зима, и Дренг с Моа добровольно пошли ей навстречу, пробираясь на север к краю Ледника; так Дренг обжился и чувствовал себя как дома; там они и зажили, перенося всякие лишения и превратности судьбы, сначала кочуя с места на место, потом оседло, и с годами образовали семью.
Холод не был новостью для Моа; она научилась переносить любое время года. Мало-помалу Дренг стал присматриваться к тем маленьким полезным приемам, которые она пускала в ход для самозащиты. Они были очень непритязательны и появлялись как-то сами собою и все-таки никто из привыкших к жизни в лесах не додумался бы до них. И Моа не думала, а попросту вводила их в обиход. Одежду, которая была на ней при встрече с Дренгом, она тоже изобрела сама, и Дренгу полезно было узнать, что двое людей, не подозревая даже о существовании друг друга, могли напасть на одну и ту же мысль. Это и послужило первой причиной того, что он решился нарушить цельность своего «я» и с благодарностью разделил с Моа свое одиночество; они образовали первый маленький союз на земле. В первобытных лесах мужчина и женщина сходились, как волки, и ни одна женщина там не становилась матерью без метки на загривке, оставленной зубами мужчины; Дренг с Моа были первой человеческой четой, которая сожительствовала, глядя в глаза друг другу.
Одежда Моа отличалась от одежды Дренга материалом. Это были не шкуры, а что-то вроде войлока из шерсти мамонта. Она собирала эту шерсть с терновых кустов и свивала из нее грубые нити, а их переплетала между собой и валяла эту плетенку, очень толстую и теплую. На ногах она носила плетеные лапти, а в руках постоянно таскала искусно сплетенную из тростника корзинку, куда прятала всякие мелочи и самые диковинные из своих сокровищ, которые подбирала повсюду, подобно некоторым птицам. Так, она прятала туда разные зерна, зубы зверей и камешки, приглянувшиеся ей своим цветом или округлой формой, перышки, увядшие цветы, болотный пух, всевозможные блестящие предметы и все, что отличалось мягкостью, а кроме того, конечно, и съестное, иногда весьма странного рода. Когда корзина чересчур переполнялась, Моа устраивала склады для своих сокровищ под камнями и в ямах; она никогда ничего не выбрасывала, но легко забывала, куда и что спрятала, милая женщина!
Дренг так никогда толком и не узнал, каким образом Моа попала на то пустынное плоскогорье и как умудрилась перенести холод; она была не очень многословна. Не то чтобы она таилась или не хотела сказать, но, верно, для нее попросту не существовало никакого связного прошлого. Она была сама жизнь, но жизнь лишь в настоящем; прошлое проносилось в ее памяти смутными тенями пережитого, но не существовало само по себе. Она очень выразительно встряхивала своей гривой, когда Дренг спрашивал ее, как она ушла от своего племени, и охотно пыталась рассказать длинную историю, которая, судя по ее мимике, была вполне достоверна. Но все сводилось к необычайно выразительной игре глаз, а с губ слетало всего несколько слов или, вернее, певчих звуков; она же воображала, кажется, что познала целый мир. Да и как же было Дренгу не понять ее? Она ведь была вся здесь, всегда такая теплая, такая близкая Дренгу, и служила ему, чем могла; какие же ему еще нужны повествования!
Дренг так или иначе пришел к заключению, что Моа, по какой-то, от нее самой не зависящей причине, была изгнана своим племенем, как и он, и забрела в пустыню. Случилось это с нею, должно быть, в очень раннем возрасте, так как она лишь недавно достигла полной физической зрелости и, очевидно, провела в одиночестве несколько зим. Верно, и она была того же закала, что и Дренг, это восстановило против нее племя, но также дало ей силы прожить в одиночестве и без огня. Северный ветер откинул волосы с ее лба и научил ее помогать самой себе.
Любопытно было, что она в борьбе с зимой выработала в себе ту же силу сопротивления, что и Дренг, но только на иной лад. Он убедился в этом постепенно, живя с нею и наблюдая ее привычки. Она не охотилась: все звери внушали ей только страх, и особенно самые маленькие, вроде мышей. Мышь могла заставить ее с диким воплем броситься без оглядки на гору. Зато Моа преспокойно поедала муравьев, улиток и всяких козявок, мух и прочих насекомых, только не пауков. Очевидно, она разбирала животных, руководствуясь своими собственными правилами.
В сущности же, она питалась почти одной растительной пищей и придумала целый ряд новых кушаний, вкусных и невкусных. Плодов, которые росли в первобытных лесах, ей уже негде было взять, и она питалась травами, кореньями и злаками, которые отыскивала, бродя по болотам и каменистым полям. О способности же ее разыскивать наиболее питательные из этих трав и кореньев говорила вся ее наружность, пышущая здоровьем и свежестью. Летом она таким образом благополучно пробавлялась, осенью же все болота покрывались ягодами, которыми не брезговал, бывало, и Дренг; но чем она питалась зимой, когда на пустынном плоскогорье нельзя было найти ни козявок, ни зелени? У нее не было, как у Дренга, сознательного стремления собирать запасы на холодное время; но она все-таки как-то перебивалась.
Просто-напросто у нее так была развита природная потребность собирать и копить, что она долгое время, когда неоткуда было взять другой пищи, могла кормиться содержимым своей корзинки и других своих потайных складов. Она собирала все, что можно и сколько можно, и это слепое пристрастие сливалось у нее с инстинктом самосохранения; вот у нее всегда и были запасы, и таким образом она перебивалась зимой.
Моа умела сушить различные съедобные корни, а кроме того, они сами высыхали от долгого лежания в запасах, и таких сухих кореньев у нее накапливался ворох. Но всему прочему она предпочитала семена известных сортов злаков; она собирала их по зернышку и особенно тщательно припрятывала их целыми кучами.
Пожалуй, началось с того, что ей полюбились эти семечки, такие маленькие, похожие на детенышей диких овец, которых хочется приласкать и взять под свою защиту. Но она и тут, как всегда, не знала меры; ей хотелось набрать их как можно больше, бесконечно много – просто ради того, чтобы иметь; ей нужен был целый мир прелестных крошечных детенышей. Потом нужда заставляла ее съедать эти семечки. Одной горсти ей хватало, чтобы быть сытой на весь день.
Особенно усердно собирала она семена высокого злака с длинными шершавыми колосьями – дикого ячменя. Дренг хорошо знал их; и ему случалось иногда отведать зернышек из колоса, запутавшегося у него в волосах; ничего, было довольно вкусно. Но Моа собирала их ежедневно в большом количестве, и скоро они вошли в пищевой обиход и ее, и Дренга.
Годы шли, и Моа все развивала свои привычки – и во время кочевок у подошвы Ледника, и во время более или менее продолжительных остановок на местах. Дренг предоставлял Моа заниматься своими делами, а сам охотился и совершенствовал свое оружие. Время от времени он замечал в руках у Моа что-нибудь новенькое, взявшееся откуда-то словно само собой. Из клочьев шерсти мамонта и других животных, которые Моа повсюду прилежно собирала, она, сидя у порога своего жилья, свивала нити и плела из них зимнюю одежду. На лето же она стала плести себе легкие юбки из волокон тростника и травяных стеблей. Она перепробовала для этого все сорта трав, пока наконец не облюбовала невысокую травку с голубыми цветочками – лен. Эта травка особенно пригодилась ей для работы, и с тех пор неутомимым пальцам Моа пришлось повозиться с этой травкой.
Для хранения зерен Моа стала плести из прутьев корзины поплотнее и все щели в них замазывала глиной, чтобы зерна не просыпались; таким путем женщина на ощупь подошла к изготовлению горшков; но наладилось это дело лишь тогда, когда мужчина снова добыл огонь.
У них уже было несколько детей. Первый ребенок родился в отсутствие Дренга, а во второй раз Моа сама ушла из жилья, спряталась за большой камень и, поохав там с часок, вернулась назад с новым ребенком. Это были маленькие слепые создания, с коричневым пушком по всему телу; первое время они почти целыми днями спали в плетеной корзинке за спиной у Моа. Но они быстро росли; старший пузанчик уже расхаживал за порогом жилья и исследовал все, что только попадалось ему под руку. Отец сделал ему кремневый топорик, величиной с ноготь большого пальца, и маленький мужчина отважно набрасывался с ним на щенков, копошившихся вокруг жилья. Удалось-таки Дренгу снова полюбоваться на маленьких пушистых ребятишек, пускающих по ветру пушинки, как птички, – точь-в-точь как в прежнем первобытном лесу; но теперь это все-таки выглядело совсем по-другому!
Жилище приходилось устраивать попросторнее и попрочнее, чтобы хватило места всей семье. Уходя на охоту, Дренг заваливал вход в жилище большим камнем, и Моа сидела там с детьми, занимаясь своим плетеньем. Днем она отодвигала в сторону какой-нибудь из камней поменьше, чтобы внутрь лился свет, а то там бывало темновато, особенно зимой. Все холодное время года они проводили на одном месте, оттого и жилье им требовалось попросторнее; Дренгу приходилось еще устраивать особые помещения для запасов вяленого мяса, кореньев и зерна. Обычно он старался выбрать для жилья место, уже защищенное от ветра, предпочитая естественную пещеру или горный утес, к которому прислонял камни, или, если не находилось ничего другого, приходилось довольствоваться углублением в земле.
Ледник, надвигаясь на них своими краями, вынуждал их кочевать и часто просто спасаться бегством. Таким образом, они были постепенно оттеснены так далеко на юг, что, судя по местоположению, очутились приблизительно там, где Дренг родился и провел свое детство. Он узнал это по многим приметам, например, по близости потухшего вулкана; но на месте прежнего первобытного леса простирался теперь на большое расстояние сплошной щит льда с такими глубокими расселинами, что в них утонули бы самые высокие деревья. Разница была настолько велика и удивительна, что Дренг, переживший всю эту перемену, по временам с трудом узнавал и себя самого.
Между тем кочевать им становилось все труднее. У Моа прибавилось еще несколько ребятишек, и хотя она с великой охотой таскала их за собой – один сидел в корзинке за спиной, второй на одной руке матери, третьего она вела за руку, и еще несколько цеплялись ноготками за подол ее юбки, – все-таки управляться было нелегко, почти невозможно, так как приходилось забирать с собою еще множество необходимых предметов. Моа тащила на себе тяжесть больше своего собственного веса, все с той же сосредоточенностью и добротой, и они кое-как кочевали – поневоле, вынуждаемые Ледником, – но долго так не могло продолжаться.
Дренг сам ввел в свой быт немало разных улучшений, из-за которых трудно было сниматься с места, где семья уже обжилась. Так, он начал обзаводиться домашними животными. На охоте ему часто удавалось захватить живьем какое-нибудь животное – жеребенка дикой лошади, самку северного оленя. Он приводил их домой и держал на привязи вблизи своего жилья. Эти пленники служили про запас, на случай недостатка дичи. С течением времени затея эта все разрасталась, и Дренг обзавелся целым стадом диких лошадей, оленей и коз, расплодившихся в неволе. Ночью на них стали нападать волки, и Дренг устроил загородки и плетни. По осени он большую часть своего скота резал и вялил мясо на зиму. Но некоторых животных, ставших совсем ручными и как бы членами семьи, оставлял зимовать. Моа и дети кормили их травой, которую собирали летом и сушили. Почти ручных лошадей и оленей, впрочем, не очень трудно было водить за собой, тем более что животные даже мирились с тем, что Моа навьючивала на них часть своих пожитков, и таким образом они еще и приносили пользу. Дети же особенно быстро сдружились с родившимися в неволе маленькими лошадками, такими ласковыми, почти не дикими, и придумали садиться на них верхом во время кочевок.
Шествие двигалось в следующем порядке: во главе шел с кремневым топором в руках Дренг, всегда грозный и готовый в любую минуту отразить нападение. У него был только один глаз, но этот единственный глаз видел все, мигом схватывал каждую мелочь на целую милю вокруг. Загораживавшие путь большие камни Дренг на ходу сворачивал руками, а затем откатывал в сторону ногой, не останавливаясь и не спуская глаз с горизонта. За Дренгом следовала Моа со своей поклажей, дети и животные в трогательном согласии – малые верхом на больших. Шествие обычно поливал дождь, а на горизонте мигал зеленый глаз Ледника, такого родного, знакомого им всем и все-таки гнавшего их с места на место! Да, так кочевал человек каменного века со всем домашним скарбом и домочадцами.
Но наконец кочевки прекратились. Прожив целый год на скалистом плоскогорье, они не захотели двигаться оттуда, и Ледник обложил их со всех сторон.
Плоскогорье занимало пространство в несколько миль и было довольно ровным, но настолько высоким, что Ледник не мог переползти через него, а растекался вокруг. Образовался как бы остров, со всех сторон окруженный льдом; на этом острове семья Дренга и осталась жить, а Ледник все ширился и двигался вперед.
И семья Дренга росла; мальчиков и девочек было уже столько, что число их превысило родительский запас чисел и даже понятие «много». Но каждый в отдельности давал о себе знать, ел за настоящего человека – независимо от того, был он пронумерован или нет. Моа, упражнявшая раньше свои собирательные способности на вещах преходящих, теперь нашла себе задачу и, казалось, намеревалась произвести на свет целый народ. Каждый год, с наступлением короткого лета, украшавшего скалистый остров цветами и листвою деревьев, из корзинки за спиной Моа высовывалась новая пушистая головка.
Старшие повырастали, и у Дренга уже появились почти взрослые сыновья; и они тоже начинали зорко осматривать горизонт, озаренный зеленым блеском Ледника, и чуть раздувать ноздри, как будущие великие звероловы.
ОГНИВО
Впрочем, Дренг и его семья вряд ли выжили бы на северном скалистом острове среди льдов, вряд ли вынесли столько суровых зим, прерывавшихся лишь коротенькими дождливыми летними промежутками, если бы Дренг, вынужденный много суровых зим обходиться без помощи огня, наконец не добыл-таки его вновь.
Но и тут подтвердилось то, чему учила Дренга вся его жизнь в борьбе с невзгодами, а именно, что бытие человека обновляется лишь после того, как истощатся все надежды. Огонь появился в самый разгар зимы и крайней нужды. И появился не от удара молнии, не в виде упавшего камня, вообще – не как благодать свыше. Жалкий, покинутый божеством Дренг сидел среди льда и до тех пор добивался огня, колотя камнем о камень, пока огонь не вспыхнул. И все же это было великое чудо, что огонь вспыхнул у него под руками, великая победа, навеки обогатившая Дренга и давшая ему господство на земле.
Дренг давно уже знал, что огонь каким-то непостижимым образом скрывался в камне или в окружающем кремень воздухе; Дренг чуял дух огня, когда откалывал от большого кремня осколки для своих ножей или обтесывал крупное оружие; чуял сильный запах гари, будивший в нем так много воспоминаний – о тлеющих под золою угольях, о первобытных лесах, булькающих болотах, грозе… И он усвоил себе особую привычку, которую Моа подметила, но не могла понять: обрабатывая кремни, он непременно нагибался лицом к камням и как будто впивал в себя что-то, широко раскрыв рот и раздувая ноздри. В эти минуты Дренг чуял дух огня, и не мудрено, что мысли его направлялись тогда путями, по которым Моа не могла следовать за ним. Случалось также, и даже нередко, что огонь показывался, особенно когда Дренг обтесывал кремень в темноте; из камня невзначай выскакивали, вспыхивали и в одно мгновение гасли искры, похожие на брызги радуги или на каких-то маленьких вестниц из мира звезд; они вспыхивали и пропадали под руками Дренга, оплодотворяя его мысли.
Но с тех пор, как Ледник сомкнулся вокруг жилища Дренга, зимы становились все суровее, мороз крепчал и все кругом превращалось в лед, который трескался и звенел в разреженном воздухе; наконец стало так холодно, что Моа и детям приходилось все время лежать дома, под целой горой теплых шкур. Тут-то Дренга и обуяло вдруг отчаянное упорство, как в то первое время, когда он остался голым и одиноким, лицом к лицу с холодом, грозившим лишить его жизни. Теперь, сейчас же, нужно было совершить что-то, сделать невозможное!..
И он взялся за то, что было под рукой и лучше всего знакомо ему, – стал отбивать от глыбы кремня осколок за осколком. Изо дня в день, и при слабом свете солнца, и в тумане сидел он, закутанный до бровей в шкуры, у входа в свое жилье и дробил кремень за кремнем. Он не давал себе отдыха, глядя, как они дымились в щиплющем морозном воздухе. Груды осколков и щебня росли вокруг него, а он, не переставая, дробил и дробил… Так прошел первый день. Солнце, далекое, тусклое и холодное, как кусок льда, закончило свой путь по небу и склонилось к краю земли за нескончаемыми снежными полями; надвинулась ночь с северным сиянием и большими мерцающими звездами; каменное жилище Дренга занесло снегом, и только темная дыра в том месте, откуда тянуло теплом, говорила о присутствии там живых существ.
Стадо северных оленей прошло мимо по скрипучему снегу, хрустя лодыжками; они шли, понурив заиндевевшие морды, приостанавливаясь и испуская странный хриплый гортанный звук pay, – это их разговор. А северное сияние полыхало над Ледником и разливалось по небу, словно чей-то безумный, беззвучный смех. Плеяды хмуро мерцали, то показывая все свои звезды, то затягиваясь дымкой.
На другой день, едва забрезжил рассвет, Дренг опять уселся у входа в свое жилище и без устали, не особенно надеясь на успех, бил камни; лицо у него совсем застыло, только ноздри продолжали вздрагивать и раздуваться. Бешеная работа согревала его, но – это и был весь результат. А бедная Моа думала, что холод заколдовал его. Но Дренг продолжал свое. Раз огонь был здесь – значит, можно было и выбить его наружу! В каком-нибудь камне он наверняка сидит, и пусть даже в этом и состоит проклятое счастье Дренга, что камень, заключающий в себе огонь, должен попасться ему в руки последним из всех, и пусть камней тут хватит хоть на целый век – Дренг состарится, одряхлеет за этой работой, а своего добьется! Когда запас камней истощался, он принимался таскать к своему жилью новые и перекатывать туда из ближних мест все глыбы, какие только можно было сдвинуть с места, а потом разбивал их. Но огонь все не давался. И лютая зима прошла.
Летом Дренг насобирал камней отовсюду, где только мог найти их, и перед его жильем вырос целый холм из камней. Все лето он почти только тем и занимался, что бродил под холодным проливным дождем да отыскивал и таскал домой камни, камни и камни, чем в конце концов довел до слез даже обычно такую сдержанную Моа. Она и дети без устали собирали запасы, хотя на их острове и не оставалось уже почти ничего съедобного. Ручных зверей больше не было. Как же быть? Чем жить? Дренг не дотрагивался до своего охотничьего оружия, и когда Моа смотрела на него влажными глазами, отвечал ей каким-то чужим, неузнающим взглядом. Он стал на себя не похож – грязный, заскорузлый, весь в каменной пыли и облепленный щебнем чуть ли не до самых бровей; единственный глаз дико сверкал воспаленным белком, а в пустую впадину другого глаза набились грязь и пыль. Порою и самому Дренгу начинало казаться, как Моа, что мороз вселился ему в душу.
Но следующей зимой он добыл-таки огонь!
Однажды он, по обыкновению, сидел и разбивал камни, почти одурев от запаха гари, который начал действовать на него одурманивающе, – его так и клонило ко сну, хотелось спать, спать без просыпу… Вдруг под руки ему попался камень, который сразу дал крупные искры. Дренг ударил по нему еще, посильнее, и из камня так и брызнул огонь голубыми искрами, целые снопы искр, которые, прежде чем погаснуть, извивались некоторое время в воздухе огненными змеями. Огонь! Огонь!
Дренга как будто обдало жаром, его охватила смертельная усталость, и пришлось ему с минуту посидеть не шевелясь. Руки бессильно повисли, он не смел повторить удар и, умоляюще поводя глазом вокруг, остановил его на солнце, которое тускло блестело вдали, словно жмурясь от холода, потом окинул взглядом весь засыпанный снегом остров и белый, пустынный Ледник. Никогда еще Дренг не видел всего своего мира так ясно, как сейчас; теперь он впервые осознал этот мир – какой он есть. И глубоко вздохнул.
Затем Дренг опять ударил по камню и увидел, как посыпались на снег крупные, словно живые, искры; они падали и потухали, оставляя в снегу маленькие углубления с черной угольной точкой на дне. Дренг раза два всхлипнул; слабость овладела его сердцем при этом переходе от полной безнадежности к счастью, в которое он все еще не смел поверить. Но оно было в действительности. И Дренг встал, сосредоточенный, охваченный важностью минуты, и, едва переводя дух, быстро сложил костер. Он еще с тех пор, как хранил огонь в первобытных лесах, знал, что для этого требуется: трут, чтобы поймать искру и дать ей разгореться в огонь, и топливо, чтобы поддержать огонь. Через несколько минут костер горел ярким пламенем.
Сначала Дренг дал искре упасть на сухую губку трута, которая тотчас же начала тлеть в том месте; образовалось огненное пятнышко, которое все расползалось, чернея в середине и пламенея по краям; тогда он стал осторожно раздувать этот трутовый уголек; тот потускнел, и послышалось шипение. Дренг быстро насыпал на трут стружек и перестал дуть; в ту же минуту показался язычок пламени, маленький голубовато-желтый пух с горячим дыханием, помедлил немножко, то вытягиваясь, то сжимаясь, спрятался и вновь высунулся вместе с дымом, когда Дренг опять принялся дуть. Дул он изо всех сил, и, когда перестал, пламя с жадным треском охватило стружки, и они разом загорелись! Дренг Зажег от них ветвь. Вот он – огонь! Дренг держал его в руках и никому не был обязан его появлением; огонь был достоянием Дренга – огонь, огонь!
Моа услыхала чьи-то крики около жилища, чудовищно-радостный рев и пение; потом земля загудела у нее над головой под чьими-то пляшущими стопами, словно там прыгал медведь, то дыбом, то на четвереньках. Да неужто это голос мужа? У нее помрачилась душа, и она выползла наверх в полной уверенности, что пришел конец и Дренгу, и им всем. Она нашла его на крыше жилища, на которой он отплясывал, размахивая горящей веткой. Увидев огонь, Моа радостно осклабилась и застыла на месте, повернув носки внутрь, хохотала и жмурилась, словно ослепленная. Она поняла, что случилось. Ну да – ее супругу и божеству угодно было создать огонь! Это даже не особенно удивило ее. Чего он не мог? А как хорошо-то. Моа щурилась на огонь, мигала и смеялась. А Дренг так и бесновался, так и ревел от радости: Моа, Моа! Дети тоже выползли наверх, зачихали на морозе, а увидев огонь, вытянули шеи и стали придвигаться поближе, насторожившись.
Какой день выдался! Сплошной день, без начала и без конца. Огонь был торжественно освящен жертвоприношением – вяленым мясом и старым салом; первая жертва задымилась на морозном воздухе. Дивный оживляющий чад! Как он радовал семью, разжигая аппетит, суля изобилие и забвение – с набитыми желудками и ртами!
Огонь набрался сил и свирепо обвивал топливо всеми своими пожирающими языками, прикрывал добычу всем своим призрачным диким телом, которое вытягивалось, высоко взметывалось на воздух, расщеплялось на отдельные языки, пряталось и снова высовывалось. Топливо шипело и трещало, огненные языки свирепо дышали, вздувались, гудели и изрыгали дым, который поднимался высоко вверх и свивался в облако.
Чудо, да и только! Но величайшим чудом было то, что костер грел, грел не на шутку; от него становилось жарче, чем летним днем, он был ближе, чем солнце. Дренг смотрел, как дети его смеялись, глядя на костер, и как на их грубых, жалких лицах проступало новое счастливое выражение; смотрел, как они тянулись ручонками к теплому огню, желая поласкать его за его доброту, а потом со страхом отскакивали. Не очень-то он подпускал к себе! И Дренг громко смеялся: небось они живо научатся отличать хорошее от опасного. Моа посматривала на всех; ее лицо, в морщинах, но с молодыми глазами, было озарено огнем радости. Она уже достала свою работу, которую бросила было по случаю чрезвычайного события, и принялась доплетать нужную корзинку. Вечером был разведен огонь в самом жилище! Костер, разложенный на земляном полу, в первый раз дал им возможность осмотреться в своем помещении; до сих пор они хозяйничали там на ощупь. Для семьи, живущей на Леднике, настали новые времена.
Дренг осмотрел чудесный камень, из которого можно было добыть ударами кремня сколько угодно огня. Камень был увесистый, ярко-желтого цвета, блестел против света и в изломе отдавал запахом сырого лука. С первого взгляда следовало догадаться, что это был настоящий огненный камень. Никогда еще Дренгу не приходилось держать в руках ничего важнее и драгоценнее этого камня, порождавшего в нем совсем новую радость обладания, будившего мощное желание господства и удовлетворявшего это желание. Этот камень делал Дренга всемогущим; это было первое сокровище его рода и всего человечества. Теперь Дренг не только раздобыл огонь, но мог, в случае если бы этот огонь погас, добыть его вновь в любое время! Вот чего не могли обитатели первобытных лесов! У них был только священный костер, от которого приходилось запасаться огнем и осторожно переносить его, в виде тлеющих головней, в корзине, с места на место. Случись тому костру погаснуть, им было не зажечь его снова. У них не было искры. А Дренг добыл ее. И он решил устроить для своего огнива особое хранилище из самых тяжелых гранитных глыб, какие только в силах был своротить.
Настала ночь, и все в жилище уснули, сытые и спокойные, разнеженные теплом; все, кроме Дренга; он не мог уснуть. Важная находка этого дня взбудоражила в нем всю кровь, и радость горячей волной струилась по его жилам; он лежал и озирался вокруг неестественно возбужденным взглядом, как будто напряжение пришло уже после того, как цель была достигнута путем долгого безнадежного труда. Огонь тлел, не давая света, приглушенный в яме на полу и бережно прикрытый золой. Сквозь маленькое отверстие, которое Дренг проделал для дыма в крыше, между большими камнями, виднелась маленькая приветливая звездочка.
Низкая, прикрытая камнями яма, где помещался Дренг со всем, что ему принадлежало, была пропитана запахом огня и горелого дерева, из которого вылетел весь его летний дух, и Дренгу чудилось, что он вновь очутился в первобытном лесу, пропитанном острыми запахами прорастания и цвета, между смолисто-росистыми пальцами. Перед его взором вертелись ослепительные солнечные круги, и ему чудилось, что он привольно плавает в море дикого блаженства, высоко-высоко над вершинами деревьев. Видел ли он павлинов или сам был сияющим радужным павлином и несся над лесом в солнечном тумане, распустив свой хвост, усеянный чародейскими глазами? Или вернулись к нему его детские годы, и царские леса вновь покрыли землю, а Ледник, покрывший оставленную землю, – был только дурным сном?
До слуха долетали знакомые ночные звуки – глухое подземное трение ползущего льда о скалистую почву, шум падения ледяных глыб и завыванье северного ветра в пустынных ущельях; или это – шум дождя в вершинах первобытного леса, вздохи и протяжный скрип высоких деревьев? Кровь шумела у него в ушах, он едва отличал звуки извне от звуков внутри себя самого. Грудь его судорожно колебалась от радости, когда он вспоминал о своем сокровище; перед взором его ходили солнечные круги, и он терял всякое чувство времени. Он не узнавал себя самого; не сознавал действительности. Он ли это так бесконечно долго и все ожесточеннее и ожесточеннее боролся с зимой, видя, как дети его мерзнут, и не зная, чем согреть их, – пока наконец сердце его не отвердело, как тот кремень, который он разбивал на куски?.. Пусть бы вся земля окаменела – он все-таки выбил бы из нее огонь! Но он ли это добыл теперь огонь? Да! Теперь он опять ощущал в своей груди сердце, чувствовал горячие струи, которые текли в его груди и почти душили его…
Он лежал, не выпуская из рук огнива, и ему чудилось, что уже целая вечность прошла с тех пор, как он испытал силу этого камня; ему мучительно хотелось вновь увидеть брызжущие из камня искры. Кровь бушевала в его жилах вселенским пожаром. Надо, надо ему увидеть огонь, утолить свое сердце созерцанием богатства, которое стало его осязаемой собственностью! И он присел – голова его кружилась, – протянул камень перед собой и куском кремня высек в темноте огонь.
Большая голубая искра отскочила от камня, голубая и ослепительно яркая, словно сильнейшая молния, создавая целый мир перед взором Дренга.
Мгновение:
Он не в яме, а под открытым небом, и вокруг него зеленое мерцание, в котором тонет, расплывается все, что он видит; над головой его колышется, словно живая, крыша, преломляющая ослепительно яркие лучи, и он понимает, что он в воде, глубоко-глубоко; вода сжимает его в своих теплых и крепких объятиях и щекочущими пузырьками струится по его бокам. Обзор его узок, но расплывается, раздвигается по мере того, как сам он скользит вперед. И он видит другие движущиеся существа, крупных хищных панцирных рыб, которые при встрече с ним мгновенно, одним косым ударом хвостового плавника виляют в сторону, и прозрачных скользких угрей, которые, извиваясь, быстро исчезают между морскими пальмами. На дне, с виду гораздо ближе, чем на самом деле, как будто расстилается пестреющий цветами луг; это – тысячи мерцающих кораллов и студенистых полипов; их щупальца, усаженные глазами и присосками, извиваются во все стороны в глубокой воде, в которой все предметы становятся крупнее и выпуклее, так что не разобрать – где полип, а где просто колеблются прозрачные лопасти водяных растений, растущих на дне и облепленных рачками и слизняками. В глубине растут целые рощи, и в тени то лиственных, то рогатых растений, оставляющих лишь кое-где зеленые просветы, скользят всевозможные огненно-желтые и небесно-голубые рыбы; они глотают теплую воду и вновь выпускают ее через жабры, вращая своими плоскими блестящими глазами и озираясь во все стороны. Маленькие волокнистые морские коньки, с выпяченной нижней челюстью, прицепились к водорослям змеиными хвостами, раздули спинные плавники, словно маленькие паруса, тихо колышущиеся под напором течения, и знать ничего не хотят.
Медленно скользя вперед, Дренг понял наконец, что это он бросает тень на чащу водорослей, над которой плывет и разводит вокруг себя зыбь, заставляющую колебаться весь подводный лес. Сам же он, по-видимому, нечто крупное и опасное, так как все рыбы, даже самые свирепые, уступают ему дорогу; вокруг него все время расчищается некоторое свободное пространство; должно быть, это неспроста! Он проплывает над разными скалами и ущельями в глубине, ловя в непроглядном донном мраке мелькание хвостов жирных угрей, спасающихся бегством; он скользит над низкими коралловыми рифами, спугивая целые стаи блестящих рыбешек, и наконец приближается к ослепительной колеблющейся крыше – и проплывает сквозь нее. Вынырнув на илистую отмель, между корнями дерева, он оказывается на опушке большого леса, пропитанного сыростью и смолистым потом деревьев.
Небо над ним совсем белое от водяных паров и как будто покоится на самых вершинах пышных исполинских папоротников, которые, вперемешку с хвощами и плаунами, составляют лес. Наверху, между вершинами папоротников, порхают исполинские насекомые, странные мухи, стрекозы и огромные клопы; блестящие крылья их хлопают и громко трещат и вверху, и внизу. Болотистая почва в этом лесу, скрепленная переплетающимися мангровыми растениями и поваленными черными стволами деревьев, дымится и почти горит от происходящего в ней гниения; в тине сидят большие надувшиеся жабы с вытаращенными глазами и силятся подпрыгнуть всякий раз, когда мимо пролетает какое-нибудь гигантское насекомое. Полусгнившие стволы обвиты червеобразными растениями-паразитами и кустами, которые кажутся живыми и словно щупают влажный воздух своими мясистыми и пузырчатыми железами. Между корнями хвоща, где выступивший сок образовал серые лужицы, плавают головастики и улитки. В черной тине между древесными стволами сидят в ямах, подстерегая добычу, крабы, и снуют рыбы с подвижными глазами и плавниками, заменяющими им ноги. На поверхности горячей тины то и дело с бульканьем вздымаются и лопаются пузыри.
Солнца совсем не видно; над всей местностью стоит какой-то светящийся туман. По временам по этому туману словно пробегает дрожь, и небо становится еще белее, но не прозрачнее; это невдалеке сверкает молния, сопровождаясь глухим ударом грома. На южной стороне неба, над влажным папоротниковым лесом, виднеется перламутровое сияние – это солнце, лучам которого не прорвать насыщенной парами атмосферы.
Но вот неподалеку, между воздушными корнями дерева на илистом острове, Дренг замечает подобное себе существо, большую панцирную саламандру телесного цвета с человеческими глазами. Она сидит, опустив хвост в воду, и то смыкает, то размыкает свои рыбьи челюсти, усаженные длинными хищными зубами: она как раз пожирает саламандру своей же породы, но несколько поменьше. Все твари почтительно освобождают вокруг нее место. И Дренг чувствует, что такой же с виду и он сам; чувствует себя в душе такой же саламандрой; всеми порами воспринимает он все окружающее, но ничего не осознает.
Тут искра погасла, и Дренг очутился в темноте, в своем жилище на Леднике.
Дренг вздохнул; он знал, что ему грезилось что-то, но не мог припомнить что. Он прислушался к дыханию детей; все крепко спали в уютной берлоге. Наверху, в ночной тишине, одиноко гудел холодный ветер. Издалека доносилось кряхтенье Ледника и треск льда в ущелье. Дренг вдруг мучительно ощутил, что время уходит. Надо опять высечь огонь, еще хоть разочек! И он высек огонь. Длинная желто-голубая искра отделилась от камня.
Мгновение:
Дренгу чудится в этом молниеподобном свете, что душа его ширится и растет, вмещая в себя все, что этот свет озаряет, хотя все это для него – непостижимый, неведомый мир. Стоит зима; ночь, но отовсюду струится свет, и в этом свете движутся тысячи людей. Ну да, это на углу одной из улиц Чикаго, и магическая искра отделилась от воздушного провода электрического трамвая! Освещенные и переполненные вагоны непрерывной вереницей прорезывают улицу, черную от толпящегося народа, а над нею, мимо ярко освещенных этажей домов, грохочет воздушная железная дорога. Идет снег, но улицы города оживлены, полны людей и пеших, и едущих в экипажах, автомобилях, бесконечных трамваях, дымящихся поездах. Город, похожий на пылающий лес из железа и камня, выдвигает свои многомильные утесы-дома и смешивает свое пронизанное огнем и острым серым дымом дыхание с морозом зимней ночи. Тысячи чужих и враждебных друг другу людей толпятся между высокими торговыми домами, возвышающимися своими ярко освещенными фасадами над пропастями улиц; широкие цельные окна, окна над окнами подымаются от земли, высятся светлыми колоннами и теряются там, наверху, в тумане и дыме земного мрака.
Посередине тротуара плиты на значительном протяжении встречают падающий снег смягченным матовым светом, пробивающимся снизу сквозь толстые стеклянные чечевицы; свет этот быстро и беспрерывно вибрирует. Вибрацию эту производят тени, отбрасываемые спицами огромного махового колеса. Там, внизу под домами, пульсирует машина, питаемая угольным костром. Эта машина – бьющееся сердце, гонящее в город искусственный дневной свет по медным жилам, проложенным под обледеневшими плитами улиц. Свет дуговых фонарей над головами всех этих суетящихся людей дрожит почти незаметно в такт мельканию колеса. Это колесо – новый чудесный цветок папоротникова леса.
Дренг вздрогнул от холода и прилива энергии. Искра погасла, и он опять очутился в темноте с огнивом в своих могучих руках. Он был как-то ошеломлен и сидел, погруженный в состояние мучительного и блаженного оцепенения, не осознавая ни мира, ни себя самого. И он не вынес этого состояния. Он снова высек огонь.
Мгновение:
Теперь он перенесся всего на полстолетия вперед: Дренг был уже древним стариком, а его потомки, населившие Ледник, составляли целый народец, сильную закаленную породу со смешанными чертами Моа и самого Дренга. Моа не было уже в живых, но нечего было бояться, что ее привычки исчезнут, – род продолжал развивать их. Да, Дренг состарился; душа его уже не охватывала весь мир, а ограничивалась одной узкой сферой его сморщенного одеревеневшего тела. Время шло… И однажды он вдруг затосковал и спустился в каменное жилище, которое устроил для себя и своего огнива и куда никто не смел следовать за ним. Он завалил за собой вход тяжелым камнем, и сыновья, и внуки, стоявшие вокруг в благоговейном молчании, слышали, как старец ворочался и пыхтел там, словно медведь, собирающийся залечь в своей берлоге на зиму. Потом они услыхали под землей гудение его голоса:
Рано бури жизни Вкус мне дали к простоте; Под землей глубоко — Ждет усталого приют.Прошел день, прошла и ночь, а Дренг не выходил, и люди не осмеливались спуститься к нему. Но они слышали его пение:
Хлебный плод срывал я Там, где ныне льды трещат. О земле погибшей Будет поздний род вздыхать.И на третий день еще доносилось из ямы замирающее пение Дренга:
Юношей стоял я У воды без берегов. К ней и рвусь. Все помню. Моа! С тобою встречусь там?Тут они увидели исходивший из могилы свет и в ужасе отступили. Только неделю спустя сыновья Дренга решились засыпать землей каменное логово, куда спустился старец.
А огненный свет, виденный ими, был огнем, который высек Дренг. Просидев три дня и три ночи, погруженный в свои думы, он наконец ощупью добрался своими старческими зябкими руками до огнива и высек искру.
Мгновение:
Все вокруг озарилось ярким неземным светом! Дренг очутился в живом лесу. Почва – кожа с грубыми порами, поросшая и здесь, и там волосами, а местами покрытая твердой полосатой, белой с черным роговицей. Холмы и длинные морщинистые долины обозначают выступающие под кожей суставы земли и гигантские ребра, а равнины и впадины усеяны глыбами – старыми побелевшими костями. Щебень по берегам кровяного болота состоит из выброшенных волнами человеческих зубов, а из самого болота торчат кочки – пальцы всевозможных рук, начиная с недоразвитых детских ручонок и кончая сильными, мускулистыми мужскими кулаками. А сам лес, частый и убегающий вдаль, где он сливается в бледно-розовую дымку, состоит из обнаженных деревьев, с ветвистыми членами, с глазами на стволах и с шапками из длинных ниспадающих человеческих волос. Не все деревья одинаковы. У некоторых кора совсем бело-розовая, и под ней просвечивают голубые жилы; глаза зеленые, а листва пышная, рыжая. У других – кора скорее коричневая, глаза темные и волосы черные. Но лес так велик, что разница эта мало заметна.
Лес сливается в одну общую массу, хотя и не все деревья одинакового пола и возраста. Там есть деревья-мужчины, с суковатыми ветвями и с брюшком, и есть стройные нервные девушки с трепещущими волнами пышных, длинных волос, похожие на березки весной. А из-под земли высовывают свои круглые головки малютки-побеги.
Некоторые деревья уже состарились, побелевшие волосы их поредели на макушках и торчат во все стороны; стволы искривились, и кора изборождена; но есть и совсем молоденькие деревца с молочной кожицей и светлым пушком на округленных пухлых ветвях.
Рогатые корни каждого дерева сливаются с почвой, но остальные органы живут сами по себе; кроме глаз, на каждом стволе по одному или по нескольку ушей; между ветвями открывается рот, и по всему дереву рассеяны ноздри. Но дыхание у них общее – весь лес дышит одним лихорадочным дыханием; и под землей, и во всех деревьях до последней веточки заметен один общий пульс, такт которого можно проследить по всей местности, как мирное, беспрерывное и чуть примитивное колебание – вверх и вниз; могучее общее сердце бьется глубоко в самых недрах земли. И атмосфера общая, весь лес пахнет испариной.
Насколько хватает глаз – а воздух так чист, что взор проникает на сотню миль, – тянется этот безграничный лес телесного цвета. Тут и там он кажется какими-то теневыми пятнами овальной формы, которые передвигаются с места на место. Сам Дренг сидит в лесу старым корявым пнем, с высохшим, как трут, глазом, и, отыскивая взором, откуда падают тени, видит множество плоских камбаловидных гигантских существ, висящих и плавающих в пространстве под красным небом. Одно из них – огромный овал – висит на страшной высоте над лесом. Дренг не может различить, что это такое, видит только, что оно все время скользит и движется и что его тонкие прозрачные края волнообразно, равномерно и беспрерывно колеблются в продольном направлении, словно плавники камбалы. В сравнении с этими гигантскими летучими овалами лес и все внизу кажется таким мелким и незначительным. Но красный свет с неба увлекает взор еще дальше ввысь, мимо летучих существ, и тогда они сами сразу мельчают, в воздухе становятся пушинками и забываются – так необъятно велик небесный свод, теряющийся в бесконечном мировом пространстве.
Пространство это окрашено в чудесный розовый цвет утренней зари, того источника, откуда вытекли все смутные сказания о радости жизни. Солнце стоит совсем низко, но не слепит, так что можно хорошо рассмотреть это чудесное газообразное тело, то пышно покоящееся в своем шаровидном состоянии, то сжимающееся, то расширяющееся, более чем воздушное и все же плотное, – словно рой пчел в летнем воздухе. Кругом висят планеты, которым начертаны счастливые пути вокруг солнца, а на дальнем плане целые полчища звезд рассказывают о том, что неисчислимые солнца вращаются каждое само по себе в одиночку, свободные, но повинующиеся одному и тому же блаженному закону движения. Голубые и желтые мировые тела висят совсем близко, так, что можно различить на них очертания частей света. Млечные же пути отделены миллионами миль и плывут в мировом пространстве легкими облаками.
А надо всем этим крутится звездный туман с ядром в зените, чудовищный, светящийся круговой вихрь, который образует как бы колесо, закрывающее почти четвертую часть неба. Оно всегда стоит там над живым лесом, как знамение вечной центробежной силы, действующей в бесконечности.
Искра потухла, и Дренг очутился один во тьме, во мраке. Могила сомкнулась вокруг него. Она была тесная и убогая, как те первые каменные логова, которые он устраивал себе, когда нагим и одиноким был отдан во власть зимы.
Время шло, а он все еще смотрел. Между камнями было отверстие, и сквозь него виднелся краешек звездного неба. И последнюю глубокую радость дало Дренгу осознание того, что он лежит под знакомым с детства звездным небом, в своей собственной черной земле.
Над ним в тумане мерцали Плеяды, то показывая все свои семь звезд, то снова затягиваясь влажной дымкой, мерцали и светились, неизменные, вечные.
СЫНОВЬЯ ДРЕНГА
Народ на севере все размножался. По мере того как рос Ледник, росло и потомство Дренга и Моа, делясь на многочисленные семьи и небольшие роды, рассеявшиеся по скалистому острову и продолжавшие вести жизнь своих родоначальников.
Вначале в ледниковых людях текла кровь их истинных предков, людей леса. Сыновья Дренга совершали набеги к югу, нападали на лесной народ и брали себе от них жен; их сыновья поступали точно так же, а потом так уж и повелось, что молодые люди льдов, возмужав, испытывали свое мужество, отправляясь в леса добывать себе жен. Такие набеги всегда приурочивались к весеннему времени и сопровождались буйным веселием пиров, о которых молодежь мечтала заранее, а старики хранили благодарную память. Кроме похищения юных лохматых девушек, набеги эти имели целью желанную перемену пищи, на почве сближения с родичами молодых невест. Ходили веселые сказания о похищении женщин и следовавших затем пирах, когда в праздничном чаду съедали и невест, так что приходилось повторять набег снова, чтобы не вернуться домой с пустыми руками. На чужбине гуляли вовсю!
Но по возвращении молодежи восвояси похищенных лесных девушек держали в почете, отчасти потому, что они были редкостью, отчасти за их плодовитость; и та полупроизвольная гримаса и чмоканье, с которыми сначала приближались к ним, чтобы попросту съесть их, превратились со временем в проявление ласки и выражение радости обладания.
По мере того как Ледник разрастался, расстояния, однако, все увеличивались, и требовались уже целые годы, чтобы разыскать коренных лесных людей на юге и вернуться обратно с похищенными у них женщинами. Обычай похищения стал забываться еще и по другой причине: ледниковые люди с течением времени сами размножились настолько, что молодые отпрыски разных семей, хоть и связанные узами дальнего родства, оказывались достаточно чужими по отношению друг к другу, чтобы при встречах возбуждать взаимное любопытство и изумление, которые сводят юношей и девушек вместе. Всему свое время. И весенние охоты за женщинами тоже отошли в прошлое. Потомки Дренга и его прямые предки стали двумя разными породами людей. Предания о прелестных темно-мохнатых дочерях первобытных лесов все росли и расцвечивались фантазией, но отдельные подлинные образцы, которых удавалось еще добывать, пахли мускусом и были не по вкусу людям льдов. Мечта, от которой слюнки текут, – одно, а неаппетитная действительность – другое. И после того, как расстояние и время совсем отрезали эти два народа один от другого, всякая реальная склонность к диким женщинам стала считаться безнравственной; зато мечты, обильно питаемые неудовлетворенным желанием, принимали все более увлекательные формы, и в конце концов должны были создать особый мир красоты.
Таким образом, навеки углублялась пропасть между двумя народами, разделенными по милости Ледника. Они перестали быть равными друг другу. И разделение это стало роковым. Первобытный народ, все отступавший перед Ледником, оставался все тем же, тогда как Дренг, который не мог покориться, стал другим и передал своему потомству в наследство свою изменившуюся сущность. Лесные люди постоянно отступали перед зимой, уходили все дальше и дальше на юг, чтобы продолжать жить по-прежнему, оставаться такими же, и это отступление, одновременно с их размножением, завело их в отдаленнейшие уголки земли и разбросало по всем частям света. Потомство же Дренга, осев на севере, приспособлялось ко все осложнявшимся условиям существования, отчего и подвигалось в своем развитии. Люди льдов перестали походить на голых и беспечно-забывчивых дикарей, от которых произошли; они стали совсем другими людьми.
Сыновья Дренга, ведя полную трудов и опасностей жизнь звероловов на Леднике, вырастали в крупных и мощных людей. Одежда сделала излишним волосяной покров на теле, и кожа их побелела и порозовела от долгого пребывания в тени; от вечно же ненастной погоды посветлели и волосы на голове, а глаза, в которых прежде отражался под нависшими бровями мрак лесных чащ, приняли отблеск, свойственный Леднику в его глубоких изломах и зеленовато-голубоватом сиянии на краю горизонта между льдом и небом.
И все повадки ледниковых людей стали иными, нежели у их далеких первобытных предков; они не вскакивали и не мчались, как бешеные, в сокрушительном порыве, не бросались вдруг на землю и не почесывались где придется, как народ лесов: житье-бытье приучило их сначала хорошенько обдумать любое дело и потом уж действовать. Они жили не только мгновением, как баловни вечного лета первобытных лесов; им приходилось все запоминать и предусматривать, если они хотели пережить все времена года. Взамен довольно безобидной страстности первобытного народа они усвоили самообладание, похожее на хладнокровие. Важность задач вынуждала их дважды обдумать любое дело и не торопиться с его выполнением. Вот что сделало их сосредоточенными и с виду грустными; в их жилищах не слышалось беззаботного щебетанья, как в лесных шалашах. Но радость жизни и пылкость нрава были глубоко заложены в их натуре и все крепли, хоть и редко прорывались наружу. В этом смысле они все были похожи на Дренга, про спокойствие которого в течение всей жизни сложились в его роду целые предания, как и про бешеные вспышки его первобытных сил в двух-трех особых случаях. Рассказывали, что никто никогда не видел, чтобы он смеялся, и вместе с тем имелись доказательства, что он наслаждался жизнью шире, чем какое-либо другое живое существо; поэтому он и стал бессмертным! Одноглазый старец пользовался среди народа льдов все большим и большим уважением, переходившим в смутный страх; каждый пережиток его времен почитался священным. Все вело свое начало от него.
Жизнь на скалистом острове на протяжении многих-многих поколений (скольких – никто не мог запомнить) и многих тысячелетий во всем походила на жизнь Дренга и Моа, первых прародителей, и кончилось тем, что все в этой жизни было признано незыблемым раз и навсегда.
Мужчины изготовляли оружие и охотились. В этом отношении не происходило никаких перемен, кроме той, что дичь попадалась все реже и реже и приходилось рыскать за нею все дальше; зато все семьи стали держать ручных оленей, которых и резали в случае неудачной охоты. Главной добычей звероловов считался мамонт; еще с незапамятных времен люди льдов объявили ему войну, загоняя его в ямы и убивая гарпунами. Беда только, что и мамонтов становилось все меньше и приходилось разыскивать их на дальних скалистых островках, после долгих странствий по Леднику.
Поэтому не мудрено, что возвращение звероловов, после долгого отсутствия, с вестью о такой добыче вырастало в целое событие и поднимало на ноги все население; по всему острову раздавались трубные звуки, извлекавшиеся из Мамонтова бивня, и радостные крики. Сигнал этот относился главным образом к тому роду, к которому принадлежал счастливый зверолов, первым выследивший мамонта. И весь род снимался с места, все способные ходить и ползать отправлялись по Леднику в многодневный путь к тому месту, где лежала исполинская добыча, забирали с собою огонь, шкуры, юрты, и вокруг мамонта вырастало целое становище, где начинались нескончаемые пиры; объедались до бесчувствия. Счастливые люди, кишевшие вокруг мамонта, сами походили на зарезанных – в крови с головы до пят; они сбрасывали с себя шкуры и в чем мать родила кидались с головой в дымящуюся утробу гиганта, каждый предварительно запасался кремневым ножом, только что обтесанным и еще пахнувшим гарью, словно его опалила молния. Женщины задирали на себе одежды до самой шеи и бешено рычали, прыгая между тушей мамонта и кострами. Творились неописуемые вещи, все дозволялось при убое мамонта.
Пиршество начиналось с теплого желудка мамонта, набитого полупереваренной пищей – целыми копнами иголок лиственницы, мохом, тмином, корою и ягодами, – опаленной и сдобренной желудочным соком; эта лакомая каша так и просилась в желудки пирующих и как будто растекалась у них по всем жилам – они ведь редко отведывали растительной пищи. Каша эта была любимым блюдом и Одноглазого на склоне лет; он любил говорить, что она напоминает ему его юность, проведенную в смолистых первобытных лесах. Поэтому добрая часть желудка мамонта с начинкой откладывалась для принесения в жертву на могильном кургане Дренга, по возвращении домой. Старые звероловы умели пересказывать слышанное от прадедов, которые, в свою очередь, слышали от своих предков про любимое лакомство Дренга. К преданию этому добавлялось как нечто особенно достопримечательное, что люди льдов во времена Дренга, его сыновей и внуков были еще настолько малочисленны, что им со всеми их домочадцами как раз хватало одного мамонта, чтобы наесться досыта. Вот, значит, как давно это было! Теперь же ледниковые люди, соберись они все вместе, запросто сожрали бы в один присест столько мамонтов, сколько у человека пальцев на руках, да и на ногах в придачу.
Старые предания и песни, минувшие времена и судьбы – все оживало во время этих мамонтовых пиров; опьянение мясом развязывало языки, порождало ужаснейшие кошмары и разжигало фантазию. Люди упивались достоверными и увлекательными рассказами о том, как какой-нибудь мамонт в бешеной ярости затаптывал охотников насмерть, – этакий бесстыжий мамонт, не пожалевший голодных людей! Когда же наедались досыта, до того что последний кусок застревал в глотке, фантазия объевшихся сама собой начинала рисовать сверхъестественного мамонта. Увиденного божественным прародителем или даже (это обычно бывало после доброй порции мамонтовых почек) ими самими зимней ночью на Леднике – огромного старого самца с бивнями, достававшими до северного сияния, и белой, как снежные хлопья, шерстью – самого отца-мамонта, предвещавшего голод! После такого обжорства у кого-нибудь непременно обнаруживался скрытый до поры до времени дар песнопения; и после этого много славных песен переходило из уст в уста, песен, отдававших жирной гарью костра, жареным мясом и мерцающими звездами!
Уходя домой, племя забирало с собой мамонта всего без остатка, так сказать, со всеми потрохами, костями и кожей. Несъеденное на месте мясо резалось на ломти и уносилось в корзинах домой для вяления. Шерсть шла на одежду и законопачивание жилищ; кости, кишки, жилы тоже имели свое назначение, все годилось для дела. И вот, когда все было доставлено домой, начинался дележ. Это требовало особенно много времени, так как всем обитателям скалистого острова полагалось по доле, согласно известным незыблемым обычаям.
Ледниковые люди всегда делили между собой мамонта; с тех самых пор еще, как Дренг Древний сам заправлял убоем и заботился о том, чтобы все и каждому досталось поровну. Так и повелось из рода в род, но только чем дальше, тем труднее становилось это исполнять: люди так размножились, что прямой дележ стал невозможным; приходилось действовать по обстоятельствам, установленных предками законов дележа никоим образом нельзя было нарушить; но размножение племени вынуждало прибегнуть к новым толкованиям этих законов, а это скоро так запутало сами законы, что лишь немногие умели в них разобраться. Прежде всего выделялась часть счастливому зверолову, выследившему добычу; ему полагался один из бивней, из которого он делал себе великолепный рог, чтобы трубить, или новые превосходные гарпуны. Второй бивень полагался Одноглазому и приносился в жертву на его могиле вместе с частью желудка мамонта и прочего добра; затем мясо и все остальное делилось согласно строгим правилам: род, которому посчастливилось убить мамонта, получал главную долю, а остальные роды – по степеням их родства, так что не оставалось ни одной семьи, которая не получила бы своей доли, хотя бы и крохотной. Всего больше доставалось, разумеется, роду Гарма, происходившему от первенца Одноглазого; роду этому принадлежало право принимать жертвы, приносимые Одноглазому. И, несмотря на то что недолго было съесть мамонта, один такой экземпляр мог задать хлопот одной семье на несколько лет, а всему острову, по крайней мере, на большую часть зимы – столько всякой всячины можно было сплести и свить из шерсти, кишок и жил. Да, просто удивительно, сколько всего содержало в себе такое животное, которое, как бы велико оно ни было, издали казалось лишь букашкой, ползающей по Леднику!
Кроме этого огромного северного слона, добычей звероловов бывали косматые носороги, олени и мускусные быки, белые медведи и разные звери помельче, а также лисицы и зайцы, ютившиеся между скалистыми островками или шмыгавшие по льдам. Людей на охоте сопровождали собаки, которые со времен Дренга расплодились и образовали множество разных пород, а все вместе – ручную породу, крепко враждовавшую со своими старыми дикими родичами – те сдружились с волками и затем слились с ними. Приносили собаки пользу и в домашнем хозяйстве, карауля стада оленей и не давая им убежать с острова.
В общем, образ жизни ледовиков, включая охоту и выделку оружия, оставался неизменным со времен их праотца Дренга, хотя с тех пор сменились бесчисленные поколения. Жильем служили те же ямы в земле, прикрытые сверху тяжелыми каменными глыбами. Одежды были по-прежнему из кож, изжеванных и смазанных жиром и скрепленных, по доброму старому способу, ремнями из оленьих шкур. Ни о какой перемене нечего было и помышлять – такой порядок установил сам Дренг, и другого у людей не могло быть. Что годилось для него, должно было годиться и для его детей, войти в обиход всех его кровных потомков.
Об одном только обстоятельстве вряд ли подумал в свое время сам Отец, а именно, что потомство его так размножится на скалистом острове. Правда, остров был велик; от одного конца до другого было несколько дней пути, но все же с течением времени народу на острове стало слишком много. И не переставали рождаться все новые потомки: весь остров кишел ребятишками; они родились в жилых ямах людей льдов, как мухи в навозных кучах. Соединяясь вместе, дети из нескольких семей составляли целое полчище, рыскавшее повсюду и небезопасное для одиноких взрослых путников. Детям хотелось есть, и, скаля зубы целой толпой, они давали понять, что съедят что угодно. Случалось даже так, что какой-нибудь малец, находясь в толпе, оскаливал зубы на источник собственного происхождения, как бы не узнавая его, что невольно должно было настраивать сам источник на грустный лад.
Но кроме трудностей, связанных с добыванием пищи для такого количества ртов, были и другие гнетущие обстоятельства. Пища делилась неравномерно – как раз потому, что все на острове были равны! Общественность мешала собственному развитию отдельных единиц. И вот это в связи с некоторыми внутренними порядками, обусловленными почитанием памяти отца племени, начинало угнетать народ льдов. Порядок, установленный Дренгом и первоначально имевший в виду защиту интересов всех и каждого, теперь грозил пресечь свободное развитие отдельных членов племени, а вместе с тем и всего маленького общества на острове. Культ Всеотца, мало-помалу приведенный в систему, правда, объединял людей в одно целое, но зато и сдерживал их развитие. Все вращалось вокруг одного центра – кургана Дренга, а иначе и быть не могло. Но большое и все возраставшее неудобство было связано с тем обстоятельством, что общий культ обеспечивал особые преимущества одному известному роду, происходившему от Гарма, первенца Дренга. Этот род охранял могилу Дренга и принимал за него жертвы.
Никому не верилось, чтобы Одноглазый Всеотец умер: он ведь не был убит в свое время и не погиб невзначай, как другие люди, а просто сошел в свое жилище, когда ему заблагорассудилось, и там остался. Многие даже уверяли, что видели его спустя несколько человеческих веков, и находились люди, которые по временам замечали огонь, выходивший из могильного холма. Старик, наверное, был еще жив, а тогда ему, разумеется, требовалась пища, и для него нельзя было жалеть лучшей доли охотничьей добычи. То же, что род Гарма, охранявший могилу, принимал жертвы и более или менее открыто сам угощался ими, признавалось в порядке вещей; ведь то, что доставалось главе семьи, доставалось и всей семье! Никто также не считал для себя обидным и уступать для общей пользы половину своей добычи. Но в последнее время самому зверолову уже едва оставалась и десятая часть. Приходилось чуть ли не попросту охотиться для других! Вдобавок потомки Гарма хотели распоряжаться не только дележом охотничьей добычи, но и в других делах, и заставляли всех слушаться себя, пользуясь тем священным страхом, который внушала могила Одноглазого Всеотца. Да и власть была в их руках: они владели огнем и его источником.
Разумеется, у каждой семьи был свой костер, который охранялся и поддерживался с величайшей заботливостью; пусть даже в тяжелые времена приходилось жертвовать куском сала – шли и на это, только бы не дать огню погаснуть. Если же такая беда все-таки случалась, ничего другого не оставалось, как запастись головней от древнего костра, зажженного самим Всеотцом и перешедшего в род Гарма. Но, понятное дело, потомки Гарма не давали огня даром, а брали хорошую мзду или обязательства на будущее время. Род Гарма развил в себе тонкое понимание собственных выгод, которое отнюдь не притуплялось, переходя по наследству. Кроме священного костра, потомки Гарма обладали еще и самим огненным камнем, так что наделены они были щедро, даже с избытком. Им-то огонь был обеспечен, если бы даже погас костер, – они знали тайну огня. Злые языки болтали, что Одноглазый, передав своему старшему сыну искусство добывания огня, завещал ему посвятить в тайну всех, но Гарм счел за лучшее сохранить ее для себя одного. Другие утверждали, что Одноглазый унес камень с собою в могилу, чтобы он никому не достался, а Гарм нарушил священный мир могилы и присвоил себе камень. Как бы там ни было, все знали, что чудесный камень оставался в роду Гарма. Он переходил по прямой линии от отца к старшему сыну; никто никогда и не видал его, кроме самого старшего в роде. И не было такой чудесной силы, которую не приписывали бы этому камню! Впрочем, к нему еще ни разу не прибегали для обновления священного костра, который не угасал со времен Дренга.
Люди льдов охотно подчинялись роду Гарма из уважения к общему праотцу. Но результатом такого культа Всеотца было то, что сохраняемые родами предания о жизни и привычках Одноглазого навеки предопределили весь уклад их жизни. Род Гарма крепко стоял за это, так как в этом был залог его могущества. Разрешалось лишь то, что было закреплено преданием, о чем можно было сказать: так поступал Старик. Все первые простые обычаи, вызванные в свое время обычной необходимостью – хоть их и держался сам Дренг, – приобрели глубокое священное значение и исключали всякие новшества, способные подействовать в освободительном духе. В результате – весь жизненный обиход застыл; люди едва осмеливались шевельнуться, стесненные на каждом шагу благочестивыми соображениями. Охотничий пыл в людях мало-помалу остывал, но делать было нечего, приходилось покоряться необходимости; нельзя ведь было и помыслить отказать могиле Всеотца в жертвах, которые являлись вполне естественною данью каждого сердца, движимого благочестием. Род Гарма целиком придерживался того же мнения и со своей стороны старался укреплять благочестие, усердно лакомясь мамонтовыми желудками, приносимыми народом в жертву Одноглазому.
Так обстояли дела и продолжали обстоять, пока Ледник все расползался, а это продолжалось долго. На небе появлялись незнакомые звезды с хвостами, гостили там некоторое время и снова исчезали, поселяя в умах людей мистический ужас. Поколения сменялись одно другим; мусорные кучи около жилищ откладывали один слой угля и костей над другим; мужи, еще так живо помнившие свое собственное раннее детство, как будто оно было лишь вчера, видели своих детей взрослыми и отцами, игравшими с собственными малютками, которым предстояло увидеть то же самое… А между тем народ льдов все так же обтесывал свои топоры, все так же рыл себе в земле ямы и прикрывал их огромными каменными глыбами – все согласно темному, но незыблемому преданию, гласившему, что сам Всеотец делал т а к, а не иначе. Души угасали в сером сумраке однообразной жизни, длившейся веками.
Ледник продолжал произносить свои речи скалистому острову, как он это делал тысячелетиями: раздавался глухой рокот и гул обвалов в пещерах подо льдом, скрежет льда о скалистую почву и шум подземных вод, но никто не слушал; слишком знакомы были эти звуки, слух с ними свыкся.
Немало было на Леднике мужей, но они были связаны по рукам и ногам, сами того не сознавая. И вот, в то время как мужи предавались своей охоте и своему добровольному рабству, женщины вводили в обиход немало разных улучшений – незаметно, как-то само собой. Никому и в голову не приходило уделять женщинам место в установленном мужчинами общественном строе; они стояли вне круга, очерченного необходимостью, и поэтому пользовались полной свободой. Не то чтобы у женщин не водилось своих мелких обычаев, такие были и, пожалуй, хранились еще незыблемее мужских, так как были созданы привычкой, а не самими женщинами. Но женскому полу была свойственна какая-то смутная детская забывчивость, сродни первобытной беспечности лесных людей, которые изо дня в день смотрели и не примечали многого, но на новое кидались жадно. И так как нет ничего менее женского, чем быть не похожим на других, то восстание против чего-нибудь нового иногда считалось настоящим преступлением.
В ежедневном быту женщины следовали привычкам Моа: возились со всякого рода плетеньем, с припасами и, разумеется, прежде всего со своими малышами. Матери постоянно таскали их на спине, даже у себя в жилище, и даром что больше уже не кочевали – ведь так делала и сама Моа! Летом женщины собирали зерна и прочее съедобное, что росло на острове, а зимою сучили шерсть и плели себе одежды; этот обычай был так же стар, как солнце и месяц.
Но, кроме того, женщины теперь лепили горшки из глины и обжигали их на огне. А разве Моа так делала? Может быть, да; а может быть и нет. Прежде женщины обмазывали свои корзинки глиной и вешали их сушиться над огнем; но вот одна такая корзинка была впопыхах подвешена слишком близко к огню; огонь охватил ее, и осталась одна затвердевшая глина; это и был первый горшок. Он появился благодаря неосмотрительности, а этим отличался весь женский пол. Это выходило у них так мило! А потом, наверное, какая-нибудь молодая пышнотелая бабенка просто поленилась предварительно обмазать глиной прутяную форму и слепила горшок на авось, сразу. Смело, но удачно! Другие стали подражать, да так и пошло – все лепили себе глиняную посуду без формы.
Но обожженные горшки привели к важной перемене в быту – появилась привычка варить пищу вместо того, чтобы только поджаривать ее над огнем, как прежде. Положим, горшок еще не ставили на огонь, но в сам горшок совали раскаленные камни, пока кушанье не было готово.
У женщин была поистине привольная жизнь: они целыми днями возились у очагов, в то время как мужчины охотились. Вот они и пробовали готовить еду и так и сяк, поджаривали, нюхали, вынимали из горшков, клали снова, пробовали, мешали и перемешивали. Простое любопытство и праздность научили их также печь хлеб. Как было не попробовать поджаривать и подогревать всякие лакомые вещи, прежде чем начать грызть их? И они поджаривали на черепках зерна ячменя до тех пор, пока те не становились сладкими-пресладкими; потом они перетирали зерна между двумя камнями, брызгали на муку водой или молоком и пекли чудеснейшие лепешки; ребятишки в подражание им усердно лепили такие же из грязи, а мужчины, раз отведав лепешек, очень их одобрили, и хлеб стал постоянным блюдом – поскольку хватало зерна. Испеченные на раскаленных камнях и посыпанные золою лепешки имели солоноватый вкус и являлись ценной приправой к пище, особенно зимой, когда неоткуда было достать свежей зелени.
А иногда женщины совали в глиняный горшок всякую всячину – коренья, лук, мясо, жир, разбавляли водою и опускали в горшок раскаленный камень, который не только кипятил кушанье, но и придавал ему вкус приправой угольков и золы. Когда такой взятый с очага камень, светившийся в жилье, как солнышко, и брызгавший искрами и звездочками, опускали в горшок, вода в нем начинала кипеть, а сам горшок – качался и выпускал густой пар под крышу жилища; сразу видно было, что сила огня изгоняла из воды какой-то злой дух! Он сердито ворчал и так ворочался там, что приходилось придерживать горшок, чтобы он не опрокинулся. Правда, предания ничего не говорили о том, чтобы Моа в свое время умела кипятить воду, но как знать? То, что теперь делалось, наверное, делалось и всегда. Варка пищи окончательно вошла в обиход.
Когда женщины не упражнялись в своих поварских выдумках, они плели себе одежды, одну тоньше другой, но всегда в строгом соответствии с общим вкусом. Одно столетие считалось безусловно необходимым носить на себе лишь шкуру белого медведя, открывавшую весь перед. Белые медведи почти перевелись, а женщинам почти не приходилось выходить из жилищ по милости этой не подходившей для холодных времен моды. Но что же было делать? Необходимость одеваться именно так обусловливалась тем, что никому не полагалось даже мельком видеть женскую спину! Впоследствии трезвые потомки не могли понять такой однобокой стыдливости предков.
Разумеется, женщины на Леднике собирали также всякую всячину, чтобы принарядить, приукрасить себя. Волчьи зубы, проткнутые посредине и нанизанные на ремешок, удивительно шли к шейке такого слабого существа, каким являлась женщина. Косточка, продетая в носовой хрящ, принадлежала к числу тех украшений, которые могла добыть себе любая женщина, а потому продержалась в моде сравнительно недолго. Зато очень ценилась красивая окраска лица, достигаемая смазыванием кожи охрой, которую доставали у источников на острове. Эта яркая окраска скоро была распространена и на все тело, и, чего греха таить, соблазнила самих мужчин; им тоже понравилось смазывать себя смесью охры и жира, пока все тело не становилось огненно-красным и не блестело издалека во всей своей красе.
Но кроме таких улучшений, касавшихся собственной наружности, женщины установили обычай, которого не знала Моа Древняя. Теперь следы этого обычая терялись во мраке поколений, и о происхождении его никто и не думал. Женщины доили самок прирученных оленей и ввели молоко в домашний обиход. Быть может, за этим обычаем скрывалась грустная и красивая история, бессловесная, как сердце матери, история о женщине, у которой не хватало молока для своего младенца и которая стала занимать молоко у оленьих самок, оставленных про запас зимовать около жилищ. Впоследствии же оленье молоко полюбилось и взрослым. Теперь в кладовых всегда стояли горшки со свежим или свернувшимся молоком, и много оленьих самок оставалось по этой причине в живых. Впоследствии же этот обычай далеко зашел.
В общем, все мирно уживались на Леднике и жили честно и просто. Но постоянный прирост населения приводил к скученности людей и не давал им двинуться вперед. Быть может, северяне навсегда и остались бы на том же уровне, на положении бедного и честного племени звероловов, замкнутого в бесплодном созерцании прошлого, если бы кольцо, плотно охватывавшее все их существование и сжимавшее их все теснее и теснее, наконец не выбросило еще одного, подобного Дренгу, отщепенца и освободителя, который, против воли своего народа, поднял этот народ на высшую ступень.
А одновременно с этой переменой подверглись коренному изменению и условия жизни на Леднике – на том Леднике, который навсегда определил человеческую судьбу.
ЕДИНОРОГ
Жил-был муж по имени Видбьёрн[2] , он не принадлежал к роду Гарма и с раннего детства наслышался о произволе и несправедливостях, чинимых этим родом. Отец Видбьёрна частенько сидел в своем жилище, прижавшись спиной к дальнему углу, шевеля губами и всем своим видом показывая, что проклятия так и кипели в его душе; случалось же это, когда потомки Гарма наносили ему обиду, ложившуюся ему на сердце раскаленным камнем; но он так и не издавал ни звука; молча проглатывал свою ярость, хотя и был отважным звероловом, ежегодно приносившим Ильдгриму, старшему в роде Гарма, кучу мамонтовых зубов и другой охотничьей добычи.
Отец Видбьёрна был силач, а Ильдгрим – жалкий карлик? едва волочивший свое тучное тело от кладовых со съестным к ложу, где спал, да обратно. Еще ребенком Видбьёрн дивился, глядя на этих двух и слушая, как Ильдгрим помыкает его отцом, которому он едва доходил до груди. Когда же Видбьёрн бродил по острову в толпе других ребятишек и мальчишеский аппетит разжигал в них смелость, разговор их всегда сводился к тому, что они вырастут и съедят Ильдгрима! Слюнки текли от таких разговоров, но тут же ребятишки боязливо шикали друг на друга: ведь у Ильдгрима был священный камень, который убивал людей и сам собой возвращался назад в его руки, – ой-ой!
Впоследствии, когда Видбьёрн вырос и сам стал звероловом, и он научился благоговеть перед Всеотцом, и его заставили дать у священной могилы обет жертвовать потомкам Гарма большую, часть своей добычи. При этом Ильдгрим дал понять Видбьёрну, как давал понять и другим, что добровольные приношения пойдут ему самому на пользу, заслужат ему благоволение Всеотца, который должен скоро вернуться и забрать с собою весь народ в ту богатую землю, о которой Видбьёрн, наверное, знает. Еще бы! Видбьёрн хорошо знал все, что касалось чудесной земли вечного лета, которая была потеряна, но, по словам Ильдгрима, должна была снова отыскаться. Но он не особенно много о ней думал; ему было хорошо и на Леднике. Что же касается жертв, то Видбьёрн вознаграждал себя за убытки, добывая себе вдесятеро больше прежнего. Он стал отважным звероловом и самым веселым мужем на своем острове, вечно распевал и никогда ни с кем не враждовал; ладил даже с Ильдгримом.
Но вот Видбьёрн загляделся на одну девушку, и согласию этому пришел конец. По обычаю, молодые люди, желавшие соединиться и зажить самостоятельно, испрашивали себе благословение на могильном холме Всеотца и получали огонь для своего домашнего очага от священного костра. Всякий другой огонь был запрещен и считался нечистым. Ни один добропорядочный человек и не нарушал обычая, а на скалистом острове только и водились одни добропорядочные люди. Но благословение стоило немало и связывало навеки, да еще зависело от доброго согласия Ильдгрима – дозволит ли он парочке соединиться или нет. Видбьёрну он отказал. Ильдгрим всегда недолюбливал семью Видбьёрна, а девушка приглянулась ему самому. Звали ее Воор[3].
– Весна, и она была прелестна.
Но кто подумал бы, что Ильдгрим попросту отказал и дело с концом, тот плохо его знал. Ильдгрим отказал Видбьёрну весьма осторожно: когда, мол, возложишь на могилу Всеотца рог единорога, тогда и получишь Воор. А это было делом несбыточным.
Видбьёрн, однако, улыбнулся и отправился на Ледник. Целый год он пропадал и вернулся, сразив чудовище. Это был величайший подвиг, когда-либо совершенный на Леднике. Никто даже не считал его возможным. Только Дренгу Древнему впору было обладать достаточным для этого мужеством и силой. Но Видбьёрн все-таки совершил подвиг, за что и получил прозвище Победитель Единорога и прославлен в песнях и сказаниях.
Сам же он увековечил всю охоту на лезвии своего копья. Сначала он провел длинную поперечную черту, а от нее четыре продольные черточки вниз и одну наискосок вверх – это означало единорога. Затем была проведена отвесная черта, перечеркнутая сверху другою, поперечной, – это был сам Видбьёрн со своим гарпуном. Все остальное – борьба и поражение единорога – подразумевалось само собою.
В сущности, этот зверь был носорог. Но не тот обыкновенный, обросший шерстью и злющий риноцерос[4], который ходил по пятам мамонта на скалистых островках и часто падал под ударами народа льдов. Тот тоже был свиреп и опасен, и не очень-то приятно было иметь с ним дело, но все же он был ничтожен в сравнении с единорогом.
Это был совсем особенный, имел только один рог и был почти в три раза больше обыкновенного носорога. Туловище его было даже длиннее туловища мамонта, только ростом он был пониже. Ужаснее же всего было то, что, несмотря на свою неимоверную тяжеловесность, он бегал и прыгал с быстротой оленя и нападал первый, даже если его не трогали; встреча с ним приносила смерть. Стоило ему почуять охотников, как он огромными прыжками кидался на них с пронзительным и оглушительным ревом. Огромный, в рост человека рог, торчавший у него на лбу между глаз, угрожал пронзить каждого, кто осмелился бы приблизиться к нему хотя бы на расстояние одной мили. Один вид этого сверхъестественного зверя, скачущего во все стороны с ловкостью собаки, поражал страхом всякого; это было самое быстроногое и самое тяжеловесное животное на свете. Когда он пускался галопом, то оставлял на земле не следы, а целые ямы, где мог укрыться взрослый мужчина, а на бегу вдруг поворачивался и кидался в стороны, не давая людям опомниться; нечего было и думать спастись от него.
Страшнее всего было то, что его почти невозможно было приметить на Леднике или на поросших ивняком скалистых островках, где он обитал. Лежа на льду, он походил на продолговатую каменную глыбу или на поросль карликовых растений, пока вдруг не срывался с места, а там – один миг, и он тут как тут! Звероловы и предвидели свою участь с первой же минуты – едва увиденный ими издали посторонний предмет на льду, принятый ими за мертвого, вдруг оживал; значит – наткнулись на единорога; через минуту он пронзит их насквозь или растопчет в прах! Лишь очень немногим удавалось спастись от него, и от них-то и узнавали то немногое, что было теперь известно об ужасном звере.
Люди льдов были уверены, что этот единорог – единственный, что это самка, уцелевшая еще с тех пор, как все звери были изгнаны из потерянной земли. Чудовищу не удалось тогда найти себе пару и пришлось коротать жизнь в одиночестве, остаться на Леднике старой девой. Вот отчего оно так вытянулось, было таким жилистым и так злилось на весь свет. Немногие, пережившие встречу с чудовищем, рассказывали, что у него были маленькие красные глазки, словно оно плакало целую вечность. А когда в новолуние по Леднику разносились громкие стоны, люди говорили, что это жалуется единорог, повернув хвост к северному ветру, – сердце его разрывалось от тоски по своей парочке, которую ему не суждено было найти.
У единорога, значит, никогда не было детенышей; вот откуда бралась эта ужасная юношеская прыть: чудовищная самка скакала, словно телка, даром что была старая, такая старая, что бока у нее поросли кремнем. Люди, видевшие ее воочию и дрожавшие при одном воспоминании о ней, говорили, что у нее вся кожа была в складках – и на морде, и везде, где только не была покрыта совсем побелевшей шерстью; и об эти складки или морщины прямо можно было порезаться; чудовище как будто носило на себе каменистые отложения веков! И рог его вырос куда длиннее, чем у самцов, оттого что чудовище – даром что осталось в девичестве – достигло неимоверной старости.
Недаром люди считали, что одолеть такого зверя, сохранившего всю прыть и горячность молодости да приложившего к этому опыт бессмертия и горечь бездетности и закалившего эту смесь в одиночестве среди льдов, – дело более чем несбыточное. Но Видбьёрн все-таки одолел единорога.
Подробности самой охоты так и не были выяснены; Видбьёрн, бывший ее единственным участником, рассказывал о ней весьма восторженно, на песенный лад, но чрезвычайно кратко: он-де до тех пор дразнил старую деву, пока она с разбега не свалилась и не застряла в расщелине Ледника; там он ее и прикончил. Рог оказался величиной в рост самого Видбьёрна, а он был не из низкорослых. Колец же на роге было столько, что и не сосчитать; ни дать ни взять – шип Скорби, который нарастал слой за слоем целую вечность.
Кроме рога Видбьёрн принес с охоты и сердце единорога, с виду совсем молодое и нежное, но такое твердое, что его не брал ни один топор.
Ильдгрим, от имени Дренга Древнего, взял рог на сохранение, а ко всем празднествам и песням в честь великого подвига Видбьёрна повернулся своей жирной спиной. Уговор он, по-видимому, совершенно забыл.
Когда же Видбьёрн смущенно намекнул, что теперь-то следует получить обещанную Воор, Ильдгрим произнес туманную речь, которую можно было истолковать приблизительно в том смысле, что он лишь шутил, предлагая Видбьёрну пойти уложить единорога, и полагал, что предложение его так и будет принято в шутку. И всякий беспристрастный муж наверно согласится, что подобное предложение могло означать лишь тонкий, иносказательный отказ. Раз же Видбьёрн так неосторожно и дерзко ловит его на слове, то он, Ильдгрим, склонен придать своему предложению добавочное истолкование: оно выражало смиренное пожелание Видбьёрну быть порядком изувеченным в награду за беспокойство. И если теперь Видбьёрн явился домой целым и невредимым, то он, значит, обманул ожидания Ильдгрима и был в долгу у Всеотца за такой оборот дела! Вот что сказал Ильдгрим.
Переговоры велись у жилища потомков Гарма – старой обители Дренга, то есть на священном месте, и события быстро привели дело к развязке. Когда Видбьёрн понял, что ему не дадут ни Воор, ни огня для собственного очага, он на минуту рассердился и невольно замотал головой, на которой носил снятую с головы мускусного быка шкуру с рогами. Ильдгрим подумал, что он хочет забодать, втянул в себя живот и затрясся, словно от холодного сквозняка. Видбьёрн улыбнулся и сразу успокоился.
Затем он смерил Ильдгрима взглядом с ног до головы, громко посмеиваясь при этом, хлестнул карлика самой маленькой розгой, какая только подвернулась, и хотел уже уйти, но Ильдгрим принялся вопить, словно роженица в муках, и со всех сторон налетели потомки Гарма с ремнями и палками, чтобы связать Видбьёрна и задать ему трепку.
Тогда в Видбьёрне проснулся дух Дренга, и никто оглянуться не успел, как он совершил невозможное – убил насмерть одного из сыновей Ильдгрима, считавшихся неприкосновенными. Остальные отступили, онемев от ужаса, а Видбьёрн в бешенстве схватил труп за одну руку, наступил на него и оторвал руку от тела, чтобы отбиваться ею, как палкой. Но никто уже не нападал на него, и он с ревом швырнул оторванную руку под ноги Ильдгриму, разом остыл и ушел.
В тот же день Видбьёрн похитил Воор, и они вместе бежали на Ледник.
ВИДБЬЁРН И ВООР
Никто на скалистом острове, не исключая и собственных родичей Видбьёрна, не одобрял его злодеяния. Убийство еще можно было понять, но он ударил прутом жреца и натворил бед на священной почве; это считалось смертным грехом. Ни единая душа не вступилась за Видбьёрна, когда его при большом стечении народа объявили отлученным от могилы Всеотца. Он был навсегда изгнан из среды народа льдов, и каждый, кто хотя бы вспомнил о нем по-дружески, не говоря уже о том, чтобы подать ему помощь пищей и кровом, подвергся бы такому же отлучению. Видбьёрн и Воор были обречены на вечное скитание по Леднику, без огня и без приюта, и всякий, кому они попались бы на пути, был волен смотреть на них как на простую дичь, желанную цель для гарпуна.
Проклятая своим народом молодая парочка поселилась на отдаленном скалистом островке Ледника и там в полном одиночестве вкушала сладость взаимной близости и горечь изгнания.
У них не было огня; сырое же мясо чем дальше, тем сильнее просится в горшок и на вертел. Время, впрочем, было летнее, и беглецам отлично жилось в юрте из шкур, а по скалам росли кое-какие травы и злаки, которые Воор собирала и приправляла ими сырое мясо. Она так же скатывала из собранного зерна лепешки, но – увы! – их ей приходилось подавать уставшему от охоты Видбьёрну сырыми и пресными. Видбьёрн, однако, выражал мимикой полное удовлетворение, поедая их, а съев, пел песню о том, что горячая еда, в сущности, недостойное баловство. Под осень же на островах поспели ягоды, которыми можно было приправлять сырую пищу, так что изгнанники чувствовали себя прекрасно, несмотря на весьма скромную обстановку. Но вскоре начались холода, ночные заморозки, выпал снег, и парочку настигла зима.
Видбьёрн заблаговременно соорудил хорошее, прочное жилье из тяжелых камней и заготовил большие запасы звериных шкур, а Воор навялила мяса и кореньев. Кроме того, Видбьёрн привел пару диких оленьих самок, которых пустил пастись на привязи, пока они не привыкнут и не станут давать молока. Так изгнанники приготовились встретить зиму. И зима наступила бурная и очень холодная, а они пытались прожить без огня. Видбьёрн слыхал, что такие попытки уже бывали, но теперь готов был усомниться в этом.
Ночи тянулись долго, и стояла такая темень, как в утробе земной; под конец едва можно было разобрать, где находишься и даже существуешь ли вообще. Хорошо, что их было двое – один, находя ощупью другого, по крайней мере, убеждался в собственном бытии. Крепко задумывался Видбьёрн в такие ночи. Перед его взором вставало родное селение с тучными кострами; свет их как будто бил ему в глаза, и даже по коже его разливалось тепло при одной мысли о них. Да, потомки Гарма и другие смирные, добродетельные люди сидят себе теперь у огня и, приятно поеживаясь, разговаривают о том, как убийца Видбьёрн скоро впадет в такую нужду, что начнет колотить свою жену и обвинять ее во всех бедах, а уж в середине-то зимы парочка наверняка явится домой просить пощады. Тут Видбьёрн улыбнулся в темноте.
И даже тогда, когда к концу года смертельный холод и непрерывный снег грозили погубить солнце и месяц, Видбьёрн смеялся, прижимая к себе Воор. Но она дрожала. Благодаря своей молодости и здоровью, они могли пережить зиму, но нелегко им приходилось. Чета новоселов была слишком счастлива, чтобы грустить, и ни одной жалобы не срывалось с их уст, но мерзли они ужасно. И Видбьёрн твердо решил добыть огонь.
Прежде всего он отбросил всякую мысль о том, чтобы достать огонь у других. Проще всего было бы, конечно, прокрасться домой и выпросить огонь или украсть его у одного из костров; но этого-то ему ни за что не хотелось. Менее невозможным казалось похищение головни из самого священного костра потомков Гарма, нанеся им формальный визит при полном параде – с гарпуном и топором… Но нет, Видбьёрн не мог пойти на это. Раз Ильдгрим и его род унаследовали костер, то он принадлежит им, и никому другому. Мысли Видбьёрна также долго витали вокруг таинственного огненного камня, хранимого Ильдгримом в могиле Всеотца. А если забраться туда как-нибудь ночью и похитить камень? Дренга Древнего там наверняка давно нет в живых; это всего лишь суеверие; в худшем случае там тлеют его кости, а они ведь не причинят человеку зла. Но Древний все-таки жил когда-то и дал огонь своему роду; так, пожалуй, правильнее будет оставить все ему принадлежащее как оно есть. Никуда не годится оскорблять предка, если возможен другой выход. На том Видбьёрн и порешил. Еще бы!
Он натаскал из сосняка топлива и сложил из него костер; вот что он успел сделать в первую же зиму.
Через год они снялись с места и отправились в путь, прожив только еще одно лето на скалистом островке. Лето выдалось особенно жаркое и грозовое; солнце так и жгло, и чуть ли не каждый день гремел гром и лил проливной дождь. Ледник заметно поубавился от этого. На островке оттаяло и ото льда освободилось вдвое большее пространство, чем обычно; окрестные острова тоже стали с виду значительно больше. В светлые ночи ледник как-то тускло мерцал своими зелеными пропастями навстречу молниям. Днем же, когда не лил дождь, облака подымались высоко-высоко и как будто раскалялись добела, росли, словно живые, наливались и сияли под лучами солнца, пока опять не затягивали все небо и не собирались над Ледником в жаркую грозовую тучу. Молнии ударяли прямо в лед и раскалывали его насквозь до самого дна; громовые раскаты будили эхо в таявших ущельях. Вот это погодка! Ни Видбьёрн, ни Воор не нуждались в огне этим летом. Но Видбьёрн не забыл зиму; страдания Воор глубоко запали ему в душу. Он знал, что надо добыть огонь во что бы то ни стало.
Бурное лето прошло, не принеся парочке ничего нового и важного, кроме чудо-малютки, которого Видбьёрн с восторженным гиканьем вынес на дождь. Мальчуган родился с двумя зубками, и счастливый отец пророчил ему великое будущее. Пока же он стал великим обжорой.
Но когда холод опять стал надвигаться на островок, Видбьёрн встревожился. Он ведь так и не добыл огня. Ночи сначала посинели, а потом почернели. Видбьёрн стонал во сне, если ему случалось на время забыться от своих неотвязных дум. А однажды ночью он обнял Воор и признался ей, что никак не может добыть огонь, при этом в его голосе слышались слезы. Но он предложил ей переселиться, что она скажет на это? Ну, конечно, Воор была готова идти за ним хоть на край света. На том они и порешили. Видбьёрн намеревался двинуться к югу. Раз он не мог добыть огонь, приходилось переменить место жительства. Он слыхал, что подальше к югу Ледник кончается и там расстилается жаркая земля с большими лесами, где живут голые дикие люди; надо было попытаться добраться туда.
Лето уже давно минуло, когда маленькая семья сдвинулась с места: несмотря на позднее время года, гроза устроила им прощальный салют раскатами грома и оплакала их потоками дождя, облившего Ледник, который так и сверкал своим бездонным зеленым блеском при свете молнии. Видбьёрн оглянулся вокруг: все небо изборождено молниями, целый мир огня, но для него – ни искорки! Он улыбнулся, но это была беспомощная поблекшая улыбка, пробежавшая по застарелым глубоким складкам около рта. Затем они пустились в путь, ни разу не оглянувшись назад.
Маленькое стадо полуручных оленей да кое-какие шкуры для юрты и одежды – вот и все имущество семьи, если не считать оружия Видбьёрна и корзинок Воор с разной мелочью. Снаряженные таким образом, совершали они свой путь к югу. Зима застигла их в пути, и зима суровая, но она зато облегчила им путь, засыпав Ледник снегом, который, смерзаясь, образовывал бесконечно гладкую, снежную равнину, куда удобнее было идти по такой равнине, чем по голому льду, изрезанному трещинами и расщелинами.
Всю зиму они шли, но ушли не очень далеко, а Видбьёрну казалось, что он успел уже состариться. Лишь с большим трудом и напряжением всех сил удавалось ему отгонять нужду от маленькой холодной юрты, которую они раскидывали на снегу. Часто ему приходилось целые дни и ночи выслеживать дичь, пока удавалось вернуться домой с добычей; и все это время он думал о двух беззащитных существах, оставленных в юрте. Перед ним – быстроногое животное, не дававшееся в руки, а за ним – страх за семью, сковывавший его ноги, но приходилось двигаться вперед, чтобы было с чем вернуться обратно. По возвращении домой он находил юрту занесенную снегом, а вокруг нее ковыляли олени со спутанными передними ногами и дышали инеем.
Их Видбьёрн щадил, как ни трудно ему было добывать дичь, – их молоко было единственным средством спасения для Воор во время его долгих отлучек; ими можно было пожертвовать лишь в самом крайнем случае. Воор собирала для них мох и ягель на каменных глыбах по скалистому плоскогорью, выступившему из-под ледяного щита, и защищала их от волков, когда Видбьёрн с собаками был на охоте. Когда же ему удавалось сделать добрый запас дичи, они снимали юрту и шли дальше.
Во время буранов им не оставалось ничего другого, как прятаться в какую-нибудь нору или пещеру и пережидать там непогоду. Таким образом, им приходилось иногда по неделям просиживать в кромешной тьме, и они чуть не теряли дар речи. Вообще они претерпевали такую жестокую нужду, что впоследствии не могли даже вспомнить о ней; она парализовала душу и сама стирала в ней свои собственные следы. Вообще, зима тянулась так долго и была так сурова, что у этих двух людей ум заходил за разум, и в конце концов они сами не помнили – в пути они или на месте, не помнили, куда идут и кто они сами. Право, как будто прошли тысячи лет. Северное сияние раскидывалось по небу в тихом безумии, бродило призраком близкой и все же далекой вечности над головой этой семьи, лишенной огня, заблудившейся в снегах.
На самом же деле зима эта была короче обыкновенного; оттепель наступила внезапно и бурно. Но от нее Видбьёрну с семьей было не легче, пока они пробирались по снегу.
Последнее время, впрочем, они двигались гораздо быстрее прежнего, Видбьёрн придумал приспособление для езды, которое впоследствии превратилось в сани. Вместо того, чтобы вьючить на оленей сложенную юрту и прочие пожитки, он заставил их тащить за собой всю поклажу по снегу волоком, подложив под нее, чтобы воз легче скользил, служившие подпорками для юрты березовые палки. Волоком олени могли тащить гораздо больше, чем нести на себе, и скоро Видбьёрн с Воор стали и сами присаживаться на воз. Это было значительное улучшение, которое еще сильнее закрепило узы между семьей и оленями.
Видбьёрн очень радовался новоизобретенным саням и скоро придумал для них форму, на которой и остановился, как на лучшей. Оказалось, что достаточно и двух длинных березовых палок, но с загнутыми вверх передними концами, чтобы они не зарывались в снег и соединявшие их ремни не перетирались. Для того же, чтобы сама поклажа не волочилась по снегу и не задерживала хода, он положил поперек этих двух полозьев несколько выгнутых ветвей, накрепко привязав их ремешками; вот сани и были готовы. У Видбьёрна были руки, а необходимость довершала остальное.
В хорошую погоду, когда солнце ярко освещало ровный хрустящий снег, Видбьёрн гнал оленей рысью, весело гикая на них, и тогда и он, и Воор как будто просыпались от долгой спячки и узнавали милые чумазые лица друг друга. Да, невзгоды могли одурманить их и повергнуть в состояние духовной слепоты и забвения времени, но настоящей печали они не знали и вновь находили самих себя, скользя под лучами солнца по замерзшему снегу на санях, запряженных резвыми, испускающими на бегу гортанные крики оленями, в сопровождении лающих собак. Эх, ну! Мальчуган высовывал голову из мешка за спиной Воор и таращил круглые заспанные глазенки на мир, быстро проносившийся мимо саней. Так продвигались они вперед.
И так добрались до моря. Видбьёрн направился на юг, но по дороге отклонился к востоку, и это привело его от Ледника на побережье Упланда[5]. Попозже, когда стаял снег, покрывавший также материк у южного края Ледника, Видбьёрн увидел, что они попали на свободную ото льда низменность, с озерами, болотами, ручьями и с торчащими кое-где скалистыми вершинами, продолжавшимися и в море в виде шхер и островков.
Ледник остался далеко позади на севере, но еще не так давно доходил и сюда, спускаясь в самое море. Поэтому берег и шхеры были еще голы и словно отполированы льдом; да и по всей низменности Видбьёрн видел следы Ледника, а подальше к северу, по берегу все еще тянулся рукав Ледника, заполнявший собою фьорд[6]. Видбьёрн слышал с той стороны грохот и вздохи, когда лед обрушивался в море и уплывал в виде ледяных гор. Но через несколько лет Ледник совсем отошел от берега, а ледяные горы, показывавшиеся иногда далеко в море, были уже не здешние, а приплывали с крайнего севера.
То-то Видбьёрн раздувал ноздри и принюхивался, знакомясь с морем! Острый соленый запах всколыхнул со дна его души что-то издавна таившееся там и непонятное ему самому: это заговорила в нем тоска Дренга по морю; она была в крови у Видбьёрна. Воспоминание о море, любимом детище души Дренга, передавалось от него потомкам как смутное влечение, которому достаточно было солено-влажного веяния с моря, чтобы проснуться. Видбьёрн, широко раздувая ноздри, втягивал в себя морской воздух, и море усыновило его.
Выразилось это в том, что ему тотчас же захотелось отправиться дальше. Он уже и без того стремился к южным лесам, а тут его еще пуще стали манить эти неустанно катящиеся вдаль волны; не мудрено, что все существо Видбьёрна охватила тоска по дали, стремление в дальние края. Как раз тут, где был положен предел его стремлениям, ему и показалось, что на самом деле он только что начал свой путь. Да, море стало ему поперек дороги, но оно же должно было послужить путем!
Видбьёрн с Воор поселились в этой низменности, между окаймленными кустарником болотами и озерами, так далеко к югу от Ледника, что его зеленое мерцание едва брезжило вдали на севере. С другой стороны горизонт оканчивался шхерами и открытым морем. Дичи в этой местности водилось достаточно и все прибывало: животные целыми стадами переселялись в освобожденный от ледяного покрова край. Пресные озера и ручьи внутри страны кишели рыбой: лососями, щуками, угрями, которые пришлись Видбьёрну по вкусу и которых он скоро наловчился приманивать извивающимися на крючке червями. Само море казалось блестящим рыбным полем; киты пригоняли к берегу целые стаи сельдей, которые шли такой сплошной массой, что по ней попросту можно было ходить, как по суше. Да, сытное тут было житье, и сердце Видбьёрна так переполнилось, что его еще сильнее стало тянуть вдаль. Душа его жила на лунном мосту между шхерами, когда море вздымалось и заключало весь мир в свои бурные, безбрежные, как вечность, объятия.
Но он никуда не двинулся. Прошли годы, а Видбьёрн с Воор все еще жили в низменности между Ледником и морем. Воор дарила семье ребенка за ребенком. Но, хоть и нельзя было двинуться дальше, Видбьёрн не переставал строить планы путешествий, его мысли неустанно вертелись вокруг одного – как бы найти средства двинуться дальше. Зимой он, конечно, мог пользоваться санками и совершал на них далекие поездки по замерзшим озерам и между шхерами; даже забирался иногда далеко в море, если лед был крепок, но в конце концов открытое море все-таки преграждало ему путь. Летом сани стояли без дела; весенние оттепели превращали всю низменность в одно сплошное вздувшееся болото, которое так же основательно загораживало Видбьёрну путь, как и море. Необходимо было принять какие-нибудь меры.
На Леднике не было повода задаваться мыслями о плавании, хотя охотники за мамонтами, пожалуй, и умели переправляться через весенние разливы на льдинах, оторвавшихся от Ледника. Но ходили туманные предания о том, что Всеотец в свое время здорово плавал по водам; говорили, что он и с юга приплыл туда: по одним рассказам – на древесном стволе, по другим – на спине заколдованной черепахи; во всяком случае, способом, недоступным для простых смертных. На что только не был мастером Одноглазый! Видбьёрн и не мечтал тягаться с Всеотцом по части сверхъестественных способностей; он был простой человек, который пробивался, как умел, для чего ему были даны руки и голова. Тем не менее Видбьёрн мудрил-мудрил да и умудрился-таки освоить искусство плавания.
Крупного леса в стране не водилось, но Видбьёрн имел возможность убедиться, что в былые времена таковой существовал. В ясные дни, когда солнце освещало темные болота, на дне их можно было различить целый подводный склад поваленных, покрытых тиной древесных стволов различной толщины. Это был, очевидно, потонувший лес, и Видбьёрн размышлял, глядя на этот безмолвный, погруженный на дно мир, который, насколько он понимал, принадлежал давно минувшим временам. В зеркальных водах мшистых болот-озер отражалось небо с воздушными далекими облаками, и только сквозь собственное отражение, смотревшее на него из воды, как живое, Видбьёрн проникал взором на дно, где покоился потонувший лес. И вот что удивительно: когда он всматривался в этот лес, его собственное отражение исчезало, а когда видел самого себя – скрывались из глаз деревья.
Но как бы там ни обстояли дела с исчезнувшим лесом, Видбьёрна манило добраться до леса живого, находившегося подальше, на юге; в том лесу было все его будущее. Однажды он опустил на дно ремень с петлей, желая выловить один большой круглый ствол, с виду совсем свежий, сохранивший даже следы листьев и до сих пор смолистый. Видбьёрну пришло в голову: нельзя ли использовать этот лес минувших времен, добыть себе со дна болота судно для переправы на юг? Мысль была недурна, но ствол рассыпался в прах, едва он потянул его к себе: вытащился один пень, да и тот оказался насквозь прогнившим и набитым тиной. Таким образом, лес потонул для Видбьёрна и в прямом, и в переносном смысле.
Одновременно он шел, однако, по другому следу, менее чреватому настроением, но зато скорее ведущему к цели. Видбьёрну хотелось перебраться через море, отделявшее его от южных земель; для этого ему надо было научиться плавать по воде, и он, сам того не зная, делал в этом отношении постепенные успехи. Покрывавшие низменности обширные озера и болота были окружены редкими порослями березы, осины и различными карликовыми деревьями и кустами; порядочной высоты достигала лишь береза, но и та не давала сколько-нибудь крупных бревен. Пришлось поэтому выбросить из головы всякую мысль о переправе на древесных стволах. Черепахи же, попадавшиеся ему, были величиной всего с ладонь, и если Всеотец в самом деле приплыл на одной из них, то тут, разумеется, не обошлось без колдовства. Видбьёрн подметил, однако, что пустой черепаший щит хорошо держится на воде; форма его была приспособлена для этого как нельзя лучше. Беда только, что человека он не мог удержать на себе. Видбьёрн был прежде всего тяжелым, в чем ему то и дело приходилось убеждаться. Но, когда ему случалось бродить по болотистым местам с бесчисленными ручьями, он часто переправлялся через них по мосту из ветвей и кустарников, которые валил в воду, пока они не выступали на поверхность. Если же вода была слишком глубока и широка, он умудрялся набросать на воду такую кучу ветвей и даже целых деревьев, которая сама могла поплыть, так что можно было переправиться на ней с помощью шеста.
Чтобы куча не рассыпалась, он скреплял ее ремнями; и вот из такой кучи мало-помалу, путем бесчисленных повторений и создался плот; Видбьёрн стал плотовщиком.
Он то и дело плескался в воде со своими новыми судами, все улучшая их; это занятие стало его второй натурой. Он испытывал всякого рода предметы – держатся ли они на поверхности воды, не пропускают ли воду; хорошо ли разрезают ее струи и сохраняют ли равновесие. Видбьёрн постоянно возился на берегу моря, по уши завязнув в своих водяных занятиях, посиневший от холода и с неизменной каплей на кончике носа; солнце подымалось и проходило над его головой, а он все возился. Он стал хорошим плотником и настоящим моряком. И что самое удивительное: ничего он так не боялся, как воды; инстинктивный ужас охватывал богатыря, не знавшего страха, и заставлял корчиться и реветь, как кабана, стоило ему попасть в глубокое место. Видбьёрн не умел плавать. Он видел, как все животные весело лезли в воду, но сам ничего не мог с собой поделать. Как раз когда вода поднимала его, когда он чувствовал, как податливая и тяжелая сила выпирает его члены вверх, им и овладевал безумный страх, нелепая потребность уцепиться за что-нибудь, от которой он так и не смог избавиться всю свою жизнь. Его сыновья, наоборот, были прирожденными пловцами и ныряли в воде, словно выдры; кожа у них была всегда холодная и сморщенная от постоянного купания и беганья под дождем.
Все сыновья Видбьёрна были белокурые, с белой кожей, огрубевшей и сморщенной от воды. Летом же на их лицах высыпали веснушки, свидетельствовавшие о темной крови, примешанной к крови их рода матерями, выведенными из лесов; солнечный загар выступал в виде пятнышек. Белокурые же волосы детей отливали красноватым золотом, напоминавшим немножко о темных южных кудрях, выбеленных севером. Глаза сохраняли отражение летнего блеска Ледника. Сыновьям Видбьёрна предстояло стать славными мореходами.
Но чем беспомощнее был в воде Видбьёрн, тем больше имел оснований задумываться над изобретением предмета, который бы сам собою держался на воде и мог вдобавок удержать тяжесть его тела. За этим же скрывалась мысль о путешествии за море, и все дальше и дальше; и вот это влечение унаследовали от Видбьёрна и его сыновья.
Не будет преувеличением сказать, что Видбьёрну не сиделось на месте ни единого дня, пока они жили на побережье, и все-таки семья продолжала жить там, пока дети не подросли. Мальчики превратились в мужей с сильными ловкими руками и хорошей памятью; они плотничали и соображали не хуже отца. Орудия создавали работу, а работа создавала орудия. Видбьёрн и его сыновья точили теперь свои каменные топоры и резцы – в отличие от предков, которые довольствовались грубым обтесыванием. Много труда и времени было потрачено на то, чтобы отполировать твердый кремневый топор о точильный камень; но зато он и вонзался в дерево где следует, не уродуя своего лезвия. Видбьёрн с сыновьями продолжали придумывать, и всякое новое изобретение делало их умнее. Они унаследовали взгляд Дренга, его зоркие, близко поставленные глаза, которые так и искрились, бегая по предметам, над которыми работали руки. И наконец они добились того, что смастерили на берегу перед жильем первый корабль.
Это было нечто вроде длинного плота из скрепленных березовыми прутьями древесных стволов, но не с плоским, а с углубленным днищем, в котором все щели были замазаны салом и законопачены звериной шерстью, так что плот не только держался на воде, но и давал пловцам сухое помещение. Величина судна была порядочная, оно могло поднять нескольких человек, и ход у него был хороший. Шесты же были снабжены плоскими концами или лопастями, с помощью которых можно было двигать судно по глубокой воде, где до дна было не достать. Видбьёрн вместе с сыновьями опробовал свое судно на озерах и остался им очень доволен. Eсли ветер был попутный, они поднимали вверх густолиственные ветви; ветер упирался в них и гнал судно так, что пловцам не приходилось и браться за весла; шкура, распяленная на березовых палках, ловила ветер и везла еще лучше.
Приставив к глазам руку, Видбьёрн смотрел на юг, где на горизонте небо сливалось с морем; теперь уже совсем скоро они отправятся а путь! Но сначала надо было сделать судно побольше или выстроить их несколько – на всю семью.
Воор молчала и смущенно смотрела на своего господина, когда тот, с радостным блеском голубых глаз и напоминая всеми своими движениями готового взлететь орла, объявлял ей, что скоро они отправятся в путь. Муж повторял это уже столько лет, что дети Воор успели; за это время стать такими же большими и – не в обиду им будь сказано – такими же невменяемыми, как отец. Воор с глубоким изумлением взирала на своего супруга, который мог оставаться все таким же сияющим и полным надежд, как в дни их первой безграничной юности, даром что оба они были уже не молоды. Но его планы пугали ее и, когда он заводил свою песню о дальнем пути, она окидывала свой дом взглядом человека, сраженного ударом и бессильного подняться вновь. Воор было о чем жалеть.
Она не оставалась без дела те долгие годы, в течение которых Видбьёрн, так сказать, каждый день собирался сниматься с места; она невозмутимо жила день за днем и обустраивала дом. Для Воор не существовало ни будущего, ни многообещающих мечтаний, но зато она была верна себе в малом. Пока Видбьёрн до забвения всего окружающего увлекался постройкой своих судов, Воор, верная своему призванию, занималась насущными делами и под ее руками хозяйство с годами все росло и расширялось. Она никогда не увлекалась, никогда не меняла своих привычек; чисто по-женски, забывая хорошее для лучшего, она ввела с годами в обиход много новых и необходимых вещей.
Видбьёрн, пожалуй, мало обращал внимания на ее мелкие повседневные заботы – он ведь всегда был занят и увлечен своими мечтами о мореплавании; но он видел ее такой, какой она была, – сдержанной, вечно деятельной, как сама доброжелательная судьба, и ставшей как бы его вторым будничным «я». Воор всегда была дома, пышная и кроткая – даже в проливной дождь, – с длинными светлыми волосами, распущенными по плечам и вечно с малюткой, вечно снующая туда-сюда по недалеким путям домашнего очага, то кормя, то охраняя и защищая. Редко можно было увидеть ее на таком расстоянии от дома, чтобы нельзя было окликнуть ее, и в таких случаях за обедом непременно появлялось угощенье, в виде дополнительного блюда из зелени.
В эти годы грозы были особенно частыми, и раз-другой Видбьёрну случалось видеть при свете молнии Воор, стоящую под проливным дождем среди прижавшихся к ней детей и домашних животных. Она спокойно смотрела на непогоду, которая загоняла всех под ее крылышко; гром ее не касался, как и все, чем ведали Великие там, наверху, и вообще мужчины; вот она и оставалась спокойной, а дети и боязливые животные жались к ней, черпая успокоение в ее сердце.
Такой она и осталась в памяти Видбьёрна и тогда, когда молодость давно уже прошла; солоноватый вкус дождя на языке, сернистый запах близко ударившей молнии и – Воор, юная, Цветущая, с мокрыми распущенными волосами, благоуханная, как дикая бузина, простирающая отягченные цветами руки-ветви навстречу солнцу и дождю.
Теперь Воор превратилась в коренастую, крепко вросшую в свою семью мать, всегда готовую защищать свое добро, вооруженную молчанием и наученную опытом не торопиться и пока что оставить все как есть. Она чистосердечно улыбалась каждый раз, когда Видбьёрн с торжеством объявлял ей, что готов новый корабль, – скоро в путь! Воор был уверена, что судно придется поправлять и перестраивать еще не раз. Только когда муж очень уж твердо и уверенно говорил о поездке, так что она начинала казаться Воор неизбежной и близкой, она терялась и недоумевающе озирала свой дом, с которым так сжилась. А как же быть с коровами? Разве и их повезут по воде? Кроме того, у Воор было одно поле с ячменем, другое со льном, да целый огород с грядками гороха, тмина, лука и свеклы, что же она, и поля возьмет с собой? О чем это он говорит?
Да, Воор было жаль расстаться со многим. Она держала домашних животных, и у нее было полевое хозяйство. Вышло это все само собою. Сначала у семьи не было огня и нужда заставляла Воор перебиваться разными способами; потом же, когда огонь был добыт, она и вовсе разошлась – чего она только не предпринимала! Коровы были дороги ее сердцу; их она завела, когда очаг ее еще не был согрет огнем и они спасали жизнь и ей, и детям; никогда бы ей не пережить тех холодных дней, не будь у нее коров.
Дикий рогатый скот перекочевывал в низменность по мере того, как Ледник отступал; это были стройные, легконогие, похожие на оленей животные, с большими влажными глазами и любопытные, как в, первый день творения. Маленькие новорожденные телята, еще нетвердые на ногах и ковыляющие вслед за матерями, сразу овладели по-девически ненасытным сердцем Воор, и она, присаживаясь на корточки, простирала к ним руки и манила к себе.
Вначале животные даже не были пугливы; они начали бояться только после того, как Видбьёрн стал охотиться на них. Но и тогда коровы, по простоте своей, часто останавливались совсем близко, располагались полукругом и, повернув рогатые головы мордой к неведомому им существу, спокойно смотрели на него, пережевывая какой-нибудь цветок. Если он подходил близко, они отбегали немножко и опять оборачивались, останавливались и, осев на задние ноги, смотрели своими темными как ночь глазами и осторожно пофыркивали влажными ноздрями. Случалось также, что та или другая корова выступала из круга, движимая непреодолимым любопытством, приближалась и даже пробовала принять угрожающее положение, брыкая передними ногами и весьма зловеще посапывая; только кроткие глаза совсем не соответствовали этой воинственной осанке, да и скоро корова опять становилась сама собою, склоняла голову набок, моргала дрожащими веками и поворачивала обратно.
Улучив подходящий момент, Видбьёрн метал копье, и одно из животных оставалось на месте, барахтаясь с копьем в теле, а все стадо галопом пускалось прочь. Охотнее всего Видбьёрн убивал больших быков; на них охотиться было интереснее, и порою они даже волновали в нем кровь, сами переходя в наступление.
Теперь низменность изобиловала стадами животных; в солнечные дни с вершины холма открывались тянущиеся на многие мили болота и луга, испещренные тенями бегущих облаков вперемежку с кучками животных. Тут бродили не только дикие быки да коровы, но и олени, и туры, а по зарослям пробивались стада кабанов; на холмах в черничнике ютились медведи; у ручья лисицы ловили лапой форелей; в молодом березняке ходили стада лосей, а у карликовой сосны вдруг неожиданно появлялись крылья и вслед за ними – огромный глухарь; вереск казался живым от множества птиц.
Вблизи все пространство кишело зверьем, а вдали стада уже сливались в туманные полосы, уходившие за горизонт. Таким образом, в мясной пище недостатка не было и добывать ее было легко; это-то изобилие и позволяло Видбьёрну спокойно заниматься постройкой судов, чтобы уплыть за море.
Но Воор в первый же год попросила Видбьёрна поймать ей живьем несколько коров, которых она хотела приручить. Олени не прижились здесь, захирели, тоскуя по своей родине на Леднике, и перестали давать молоко. Просьба ее была исполнена, и коровы в первый же день послушно улеглись на привязи, жуя свою жвачку и поглядывая кругом глубокими сытыми глазами. Они давали гораздо больше молока, чем олени, были кроткими и скоро стали лучшими друзьями детей. Воор любила их – они были ее сокровищем, ее подругами. Она возилась с ними и вела с ними дружеские беседы; теплота их наполненных кровью рогов передавалась ее рукам и доходила до ее сердца. От них приятно пахло травой, которую они ели, и той пищей, которой они делились с другими.
Щедрые материнские руки Воор необычайно искусно справлялись с коровьим молоком. Она приготовляла из него творожный сыр. Это сделалось само собой – ведь молоко сохраняли в сычугах и у Воор всегда был запас круглых сырных лепешек. Когда мужчины возвращались домой со своих водяных трудов – с кораблестроения, рыбной ловли или плавания по озерам, они не знали, как и благодарить мать за ломтик сыра.
Мальчики в благодарность делали для нее костяные ножи и шила. А Видбьёрн заинтересовался пряжей, которую терпеливо сучили пальцы Воор и ее дочерей, – особенно после того, как сам начал плести неводы для рыбной ловли. Для этой цели им требовалось много пряжи, и он, как всегда, постарался найти кратчайший путь; повозившись денек-другой и посверкав глазами, он подарил Воор веретено, с помощью которого можно было получать в десять раз больше льна, чем работая такое же время одними пальцами. Веретено состояло из палочки с насаженной на него круглой бляхой, которая – стоило ее пустить в ход – вертелась сама собой, хорошо вытягивая пряжу; ссученные нитки наматывали на палку и продолжали прясть, не боясь, что пряжа спутается. Веретено имело большой успех у женщин и, не переставая, жужжало в доме.
С тех пор как снова был добыт огонь и Воор обожгла себе большой запас горшков и корчаг, она стала также делать масло. По правде сказать, изобретение это обязано было своим происхождением личной потребности Воор: она любила натираться ароматными мазями. Сначала они и дочери натирались густыми сливками, плававшими поверх молока, так что их легко можно было снять. Но мазь эта особенно била в нос, если ей давали постоять некоторое время, а еще лучше, если ее усердно взбалтывали в горшке. Это стоило порядочных трудов, и женщинам приходилось заниматься этим поочередно, но они охотно трудились, пока сливки не сбивались в масло, которым они могли натереться. Видбьёрну тоже очень понравилась эта мазь, но, по грубости натуры, он предпочитал ее для внутреннего употребления, и Воор приготовляла для него большие порции этой мази. Мало-помалу масло стало своего рода лакомством, вносящим разнообразие в ежедневный обиход.
В выпечке хлеба Воор тоже сильно продвинулась вперед; но все, что касалось зерна и земледелия, введенного ею, было связано с ее особым таинственным союзом с землею, специальным женским культом, начало которому было положено в тот счастливый день, когда вновь был приобретен огонь.
ОТТЕПЕЛЬ
Как обильно льется дождь! Не звучит ли он влюбленным шепотом, Долгою задушевно-любовною беседой Из уст в уста — Между дождем и землей?Видбьёрну все доставалось словно в подарок. Когда ему, проклятому отщепенцу своего племени, пришлось отправиться в изгнание, судьба надоумила его добраться до более благодатных мест, до рая животных (где, однако, сам он никогда не чувствовал себя дома); кроме того, – уж благодать так благодать! – сам климат изменился, стал теплее. Видбьёрн стремился на юг, и юг шел сам ему навстречу.
Солнечный диск обещал северу великую оттепель. Ледник внезапно и быстро пошел на убыль. Вначале Видбьёрну еще виден был с того места, где находилось его жилье, зеленоватый отблеск льда на северо-западном краю неба; но потом отблеск этот все дальше и дальше удалялся и наконец совсем исчез – Ледник скрылся за горизонтом. И неудивительно – такая погода способна была растопить горы. Теплые ливни и грозы почти не прекращались. Всю весну над землею носились тучи, грозившие потоком; порою солнце прорывалось сквозь них и дарило земле такую яркую многообещающую улыбку, что даже животные подымали головы от мокрой земли и оглядывали мир, словно первозданный.
Черные градовые тучи, прорезываемые молниями, носились по небу и при ярком солнце убеляли землю градом. Когда же туча проходила и раскаты грома затихали вдали, над зелеными лугами перекидывалась радуга, а на травинках трепетали сверкающие капли дождя, словно слезинки на ресницах ребенка. Одна, две и даже три чудесные радужные дуги перекидывались одна над другою по небу – окрашенные райскими цветами мосты, не то опирающиеся на землю, не то висящие между облаками и победоносным солнцем. Каждая туча знаменовала проигранное сражение, порождавшее надежду.
Дни и ночи с неба отвесной стеной падал дождь, полосуя и бороздя землю; озера вздувались, реки переполнялись, выходили из берегов и, пенясь и крутясь, неслись, неслись по низменности к морю. Но дождь был теплый и нес в своем неистощимом лоне зародыш нового времени.
У детей Видбьёрна глаза загорались, когда они глядели на дождь, от которого выскакивали на поверхность земли лужицы, словно кучки человечков, которые на минутку подпрыгивали к небу и опять падали и уходили в землю, а дождь приносил все новых и новых. Радуга осеняла детство потомков Видбьёрна, суля им все блага мира.
Зима все еще ежегодно возвращалась, но холод уже не держался так долго, и оттепель с каждым разом все усиливалась. Каждую весну низменность наводнялась, и Видбьёрну не раз пригодились его суда для спасения своей семьи и своего добра. Временами вся местность покрывалась водой, из которой торчали только более высокие места в виде островков и холмов, куда толпами бешено кидались дикие звери, так что страшно было подойти к ним, да множество утонувших зверей плавало вокруг. Видбьёрн, строивший свои корабли во многом ради забавы, теперь начал понимать, что строил их недаром; эти игрушки могли сослужить службу и в настоящей беде. И Видбьёрн улыбался так, что лицо его сияло.
Разве солнце не друг ему? И разве он не может довериться земле? Ведь она сама дала ему огонь, когда он был одинок и лишен огня. Солнце и земля совместными усилиями растопили Ледник и дали ему огонь. Никогда не забыть Видбьёрну того дня, когда почва, неподалеку от его жилья, вдруг разверзла дымящуюся пасть и изрыгнула из недр своих огонь; это был ужасный миг, повергший всех в несказанный страх, но затем этот страх сменился бешеной радостью.
Вся земля дрожала, словно предвещая близкий конец, раскаты грома неслись из самых глубин ее; ужасные подземные толчки сбили с ног самого Видбьёрна, а с болот слышался невероятный вой – животные совсем обезумели и смешались в кучу, не разбирая ни друзей, ни врагов.
И в самый разгар смертельного ужаса и оцепенения Видбьёрн вдруг увидал, что из трещины в земле пышет огонь и кусты вокруг нее пылают. Он вскочил и сообразил, что это за чудо; с бессмысленным смехом, шатаясь, кинулся к огню; земля ходила под ним ходуном, он падал, со смехом вскакивал опять на ноги, и наконец добрался до огня. Сердце готово было выпрыгнуть у него из груди от счастья и благодарности. Огонь! Огонь! Он добыл огонь и закричал в порыве бешеной радости, ураганом понесся домой,
к Воор, которая лежала, прижавшись лицом к земле, и замахал над головою горящей веткой. Огонь! Огонь! Да, земля даровала Видбьёрну огонь, ибо она добра.
Когда огонь запылал в жилище, Видбьёрн вышел на дождь и заплакал; дождь и слезы струились по его бороде, а он, упоенный, ослепленный благодарностью, не сводил глаз с освещенных солнцем облаков.
С тех пор прошло много лет, и у Видбьёрна были уже взрослые сыновья, которым он мог рассказать о своей дружбе с землею и с солнцем. И каждую весну Видбьёрн зажигал большой костер в память о богатстве и щедрости земли. На этом костре он сжигал молодого жертвенного быка, и раз само небо милостиво довольствовалось дымом, то Видбьёрн с сыновьями всласть угощались аппетитно поджаренным мясом. Огонь был дарован Видбьёрну в ту пору года, когда кукует кукушка и северное небо светится по ночам от солнца, которое не уходит далеко. В эту-то пору он ежегодно и зажигал свой веселый костер в память о первом костре, зажженном для него самой землею.
С тех самых пор люди стали разводить костры в этот день, даже когда были далеко друг от друга, и не могли видеть братских огней. Обычай этот с тех пор никогда не забывался на Севере.
Воор, как всегда оставшись в стороне от того, что предпринимали эти огромные важные мужчины – Видбьёрн с сыновьями, – стала чтить землю на свой женский лад, потихоньку от них, движимая благодарностью за огонь, горевший в ее очаге.
Тайком вышла она из дому в первую же светлую ночь, когда солнце удалилось на покой за далекий Ледник, которому уже не суждено было больше грозить ей и ее домашним, и принесла земле в жертву пригоршни ячменя, крупных зерен злака, собранного ею в прошлом году колос по колосу; она собственными руками терпеливо шелушила каждое зернышко, и у нее не было лучшего дара – чем отблагодарить землю. Земля не пожалела для них огня, на котором Воор могла снова печь хлеб, и земле полагалась за это жертва. Правда, жертва была настолько скромная, что нечего было показывать ее кому бы то ни было, но все-таки не оставлять же землю в эту светлую ночь без всякой жертвы! И Воор с девичьей стыдливостью разбрасывала по голой земле зерна ячменя и, сделав свое дело, вернулась домой.
В течение лета зерна взошли и заколосилась пышная нива. Воор истолковала это в том смысле, что земля втихомолку приняла ее жертву, и вся зарделась от радости и смиренной благодарности за этот молчаливый ответ земли, вернувшей ее жертву сторицей. Но рвать ли ей эти колосья? Для нее ли они предназначены? Ну, разумеется! Чтобы женщина, да не приняла смиренно и признательно милость, выпавшую на ее долю! Воор истолковала появление нивы как великое, бескорыстное предложение союза и приняла предложение, преклонив колени; у нее ноги подкосились от такой милости земли! С материнской благодарностью и детским простодушием приняла она этот дар могучего существа.
Так первая золотая нива заволновалась под летним ветром в знак тайного союза, прекрасной и невинной связи между богатой Землей и безмолвным девичьим сердцем Воор.
Перед следующим летом Воор опять вышла в поле, чтобы принести свою жертву земле в то время, как мужчины жгли костры на холмах, радостно приветствуя солнце на севере. И в это лето нива ее выросла еще пышнее. Но Воор не всю ее сжала по осени – оставила часть, полагая, что, может быть, владычица-земля сохранит эту часть для себя.
Воор со свойственной ей практичностью и не без хитрости сообразовала свои жертвы с тем, что ей хотелось получить от земли в обмен. Так, она жертвовала земле семена льна, которые не годились в пищу, и получала осенью стебли и волокна для своего веретена. Затем, не жалея, сеяла семена репы и брала себе потом из земли коренья, хотя они по самой природе своей скорее принадлежали земле, зато Воор жертвовала земле капустные корешки, а себе брала вершки. Но что бы она ни делала, земля молчаливо и свято хранила союз, а дождь и солнце помогали произрастать тому, что эти двое делили между собою.
Вот как было положено начало полевому хозяйству Воор. Союз с землей и домашний скот долгие годы составляли счастье Воор; в эти годы она рожала и растила детей, слушая изо дня в день разговоры Видбьёрна о том, что скоро они отправятся в путь. Но пока они все оставались на месте, и Воор жила себе день за днем, создавая домашний очаг.
Ее доброта никогда не была забыта. Сердце Воор было таким любвеобильным, что у нее слезы выступали на глазах при виде птиц, летящих с соломинками в клюве к своим гнездам. Она была такая кроткая, что грубые молодцы, ее сыновья, ради нее никогда не убивали животных без нужды. Память о Воор на все времена была связана с телятами и ягнятами, которые, родившись весной, зябли в поле около своих маток. И само время года между зимою и летом было названо и освящено ее именем.
Но настал все-таки день, когда Воор пришлось расстаться с родным домом и пройти длинный путь испытаний и страхов, прежде чем ей был дарован новый родной дом. Как-то раз оттепель наступила так внезапно и бурно, что заставила семью сняться с места и искать спасения в море.
Началось с того, что тепло наступило необычайно рано, снег растаял вдруг и с гор потекли шумные потоки, а реки вышли из берегов еще раньше, чем успел взломаться лед. Огромные глыбы, оторвавшиеся от Ледника, поплыли вниз с такой быстротой, что не успевали даже растаять по пути. Плохо приходилось обитателям скалистого плоскогорья на севере. Видбьёрн судил об этом по множеству трупов животных, приплывавших оттуда по течению; воды там, видно, было по горло, если не выше! Приносило это раннее половодье и человеческие трупы, большей частью знакомые Видбьёрну, и он начал бояться – что станет с народом.
Однажды он увидел плывущий по воде труп с торчащим из воды вздутым животом; на нем сидел ворон и старался клювом проковырять кожу. Видбьёрн подплыл к мертвецу и узнал в нем жреца Ильдгрима. С того дня Видбьёрну полюбился ворон!
Но скоро ему стало не до старых недругов; было о чем подумать: нагрянули землетрясение и наводнение; первое рушило горы, изрыгая гром и огонь, второе надвигалось быстро и молчаливо, словно удав, своими пальцами-волнами захватывая все, что попадалось на пути. Далеко на севере, за Ледником и горами, Видбьёрн увидел однажды огромный столб огня, смешанного с гигантскими ледяными обломками; целые горы подбрасывались силой огня под облака в блеске молний и снова падали на землю. Затем заклубился белый густой пар и скоро, точно облаком, затянул все небо. После этого наступил мрак, поднялся вихрь и с неба полил дождь грязи.
Огни пронизывали окутанный сумраком мир по всем направлениям.
С гор с ревом ринулись потоки, быстро достигшие берега и встретившие тут ураган с моря. Ледник, таявший с бешеной быстротой, образовал бурные реки, которые твердой ледяной грудью пробивали себе путь к морю, где им готовили отпор бушующие волны, встававшие на дыбы. Закипел бой, поглощавший берега и шхеры.
Когда буря улеглась, наступила полная тишь, и вся низменность представляла собой сплошное вздувшееся озеро, сливавшееся с морем. Водная поверхность медленно вздымалась и опускалась, лелея в своих бездонных объятиях все звезды ночи. Из массы погибших животных образовались настоящие плавучие острова, плавно качавшиеся на воде и подставлявшие лучам месяца целые чащи перепутавшихся тел, ног и рогов.
А Видбьёрн со своей семьей давно уже был в открытом море. Когда Видбьёрн понял, что Ледник и земля вступили в схватку и что на суше оставаться опасно, он живо снарядил свои плоты и суда, запасся пищей и огнем и отплыл со всем своим домом. Для Воор этот час разлуки равнялся почти смертному часу. Но пылающие горы и огненный дождь советовали им уезжать. И они доверились морю. Они были уже далеко от берега, когда всепоглощающий поток ринулся с гор, но бешеные волны настигли суда, уже наполовину потеряв свою силу, так что не смогли перевернуть их. Настал штиль, и водная равнина не двигалась, а лишь тихо колыхалась в такт дыханию спящего моря. Видбьёрн и его дети сидели на своих судах, грустные, молчаливые, как звезды над ними и под ними в глубине. Грузные морские чудовища всплывали на гребнях бурунов между ледяными горами, отдувались и опять ныряли, сверкая в лунном свете мокрыми плавниками.
Но вот настало утро; могучее красное солнце показалось на востоке над морем, навстречу солнцу подул свежий ветер. Видбьёрн и его сыновья натянули паруса из шкур, и ветер понес суда вперед.
Когда они вышли в открытое море, глазам открылась покинутая земля. На севере возвышались горы, освобожденные от снегов, игравшие всеми цветами, словно на заре бытия. Ледник был побежден и сам потопил себя в море. Но выше всего вздымалась гора с круглой вершиной, над которой столбом стоял дым, тихо поднимавшийся к синим небесам. И Видбьёрн понял, что снова водворился мир. Солнце победило и принимало теперь жертву от земли!
Но ветер все уносил суда прочь от этой земли, на восток, пока их со всех сторон не окружило безбрежное море. Люди уже думали, что им настал конец. Лишь на десятые сутки, когда все уже лежали без сил, на востоке показалась земля. Видбьёрн увидел, что они спасены, и назвал эту землю «Страной Жизни».
Здесь они и поселились. Видбьёрн развел костер и вступил во владение новой землей, приветствуемый шумным хлопаньем крыльев перелетных птиц, державших путь с юга к северным озерам.
И здесь, видно, происходила борьба между солнцем, водой и облаками; земля лежала обнаженная, дымясь от влаги, то вся в свету, то в тенях от быстро бегущих облаков, улыбаясь солнцу. Но весна победила, и радуга перекинулась над зеленым покровом земли в знак того, что и здесь человек может считать себя дома.
Видбьёрн осмотрелся и увидал березовый лес, массу отличных стволов для постройки судов; тут можно было построить огромные удивительные корабли и объехать на них весь свет! Тут он и решил остаться.
НОВОСЕЛ
В Стране Жизни Видбьёрн столкнулся с первобытным населением. Ему и в голову не приходило, чтобы эти маленькие шелудивые дикари, ютившиеся в чащах, словно насекомые, были те самые красивые, голые люди, которые грезились ему в лесах на юге. И все-таки это были они. Они были прямыми потомками того самого народа, который в свое время изгнал Дренга, принеся его в жертву зиме.
Понадобилось немало времени, пока пугливые туземцы успокоились настолько, что Видбьёрн мог хорошенько присмотреться к ним; вначале они прятались в кустах, как лисицы, и спасались бегством, как только к ним приближались. Чтобы лучше укрыться от погони, они обычно удирали на четвереньках или пробирались ползком, выставляя из высокой травы одну спину, прикрытую жесткой шкурой; при этом они время от времени оборачивались лицом назад, скалили зубы, двигались дальше. Отбежав же на порядочное расстояние, вскакивали на ноги и снова пускались наутек, пока не считали, что они в безопасности. Видбьёрн прозвал туземцев Гревлингами[7] за их следы и особый запах.
Ему стало ясно, что они смотрели на него и на его высоких белокурых сыновей с величайшим ужасом и в то же время с благоговением, считая их, вероятно, какими-то сверхъестественными существами. Да и как им было иначе смотреть на этих светловолосых и голубоглазых великанов, приплывших к ним по воде на судах, о которых дикари не имели и понятия? Видбьёрну приходилось всячески приманивать их знаками внимания и ласки и ходить с зелеными ветвями в руках вместо оружия. И все-таки дикари не подходили, а подползали на брюхе, взвизгивая, как щенята от страха и покорности. Кроткая Воор присаживалась на корточки и, кладя себе на колени ячменные лепешки, приманивала детей Гревлингов.
Постепенно устанавливалось кое-какое сближение, но, даже убедившись в том, что эти высокие белые люди не намереваются сожрать их, Гревлинги все-таки продолжали валяться перед ними на земле, как перед сверхъестественными существами. Видбьёрн, таким образом, не встретил с их стороны никаких препятствий к своему владению страной.
Земля здесь была богата обширными сосновыми и березовыми лесами, изобиловавшими дичью. Внутри страны расстилались бесконечные степи, где паслись табуны диких лошадей и овец в таком количестве, что их и глазом было не окинуть. Тут Видбьёрн в первый раз увидел дикую лошадь. Она покинула Скандинавию задолго до его прихода. Правда, по преданиям, предки его в незапамятные времена знали животное, у которого было всего по одному пальцу на каждой ноге и которое бегало со скоростью ветра, но Видбьёрн считал все эти предания баснями, которых столько накопилось с минувших времен, но теперь ему довелось увидать этих животных воочию.
И Видбьёрн возложил большие надежды на более близкое знакомство с ними. Это были красивые животные со следами белых полос на желтовато-серых боках и с большими подвижными ушами. Они были очень живого нрава, любопытные, шаловливые и готовые в любую минуту помчаться веселым галопом по степи. Сыновей Видбьёрна очень занимали резвые животные, и они пытались подобраться к ним, держа в одной руке кусок хлеба, а в другой сложенный аркан; лошадки невольно соблазнялись, приплясывали на месте, ласково извивались и, видно, очень не прочь были познакомиться, но когда юноши подходили чересчур близко, они все-таки во весь опор пускались прочь, так что в воздухе только мелькали впадины всех четырех копыт. Животные громко ржали, особенно молодые жеребцы, которые носились, размахивая гривами и сверкая белками глаз; юноши окликали их самыми ласковыми именами, и лошадки кивали головами, отвечали веселым ржанием, но не подпускали к себе – дескать, рано еще!
Дело в том, что туземцы только и умели, что убивать лошадей; приручать их, делать своими друзьями – на это у них не хватало ума. Вообще, они проявляли к животным такое бесчувствие, которое казалось Видбьёрну и непонятным, и возмутительным. Мало того, что они убивали животных на охоте, они еще хладнокровно мучили их ради забавы; им и в голову не приходило подойти к животным дружелюбно; насколько мог понять Видбьёрн, эти трусливые двуногие считали себя неизмеримо выше всего, что называлось животным. У Гревлингов, вообще, было множество особенностей, которыми они гордились и которые Видбьёрн охотно оставлял, нисколько им не завидуя.
Судьба первобытного народа успела подвергнуться многим изменениям с того времени, когда Дренг Древний расстался с ним в потерянной земле. Большинство его родичей направилось прямо на юг и рассеялось в дальних тропических странах, откуда не подавало о себе никаких вестей на протяжении чуть ли не целого земного периода, пока потомок Дренга Колумб не отыскал одну их ветвь на Вест-Индских островах. Еще позже другой потомок Дренга Дарвин встретил один из последних побегов племени, сохранившийся во всей первозданной чистоте, на Огненной Земле.
Но в те времена, когда жил Видбьёрн, они успели дойти только до Южной Европы и лишь понемножку переселялись в Африку и Азию. На севере всегда оставались арьергарды, которые лучше выдерживали холод, нежели остальные; и после того, как климат на севере стал теплее, многие из них опять перебирались на старые места, следуя за возвращавшимися животными и перелетными птицами, но только не оседали на месте, а кочевали туда-сюда, сообразуясь со временами года.
В ту эпоху, когда первобытные люди ушли из Скандинавии, страна эта еще соединялась с остальным материком Европы; лишь позже ее отделили от материка проливы, через которые люди не могли уже перебраться, но зато они шли в обход по берегам балтийских земель и вместе с тем распространились в глубь Руси; Видбьёрн, таким образом, застал их на побережье Балтийского моря.
Вначале пришельцы и туземцы не могли договориться, и одни готовы были думать про других, что у тех вовсе нет языка, а только бессмысленные звуки. Но они скоро научились улавливать смысл сказанного, и различие языков дало первый толчок к образованию понятий, которые затем облеклись в твердые формы. Впрочем, Видбьёрну было нетрудно уловить в казавшемся ему сначала совсем чужим языке Гревлингов знакомые слова, которые, должно быть, когда-то звучали совсем одинаково на обоих языках. Гревлинги умели также рассказывать саги и старые предания; так, например, у них сохранилось смутное предание о человеке, который убил своего брата и был за это проклят и изгнан в пустыню. Видбьёрн с большим интересом выслушал рассказ об этом злодеянии и дал рассказчику кусок хлеба.
Жившие тут первобытные люди были уже не совсем теми, какими их когда-то оставил Дренг. Бесприютность и нужда изменили их к худшему, сделали более чувствительными к невзгодам и более завистливыми. От беспечности и косного добродушия, которыми отличались когда-то их лесные предки, не осталось больше и следа; они уже больше не раскачивались на верхушках деревьев, держа в руках одно яблоко и стряхивая от нечего делать все остальные на землю; волосяной покров на их теле вытерся от времени и нужды; его заменили пот и пыль изгнания. Но ничему-то они не научились, разве только прикрывать себе спину от зимней стужи, от которой вечно убегали в буквальном смысле слова; им даже невдомек было одеться толком, и они постоянно таскали за собой старые овчины, которыми защищали спины от непогоды. Но выделать эти овчины они не догадывались, и овчины были жесткие и ломкие. Ими дикари пользовались во всех случаях, прикрывались ими и в минуты опасности, и на охоте, и засыпая у своего очага. Эти люди не строили себе жилищ, а ютились, как настоящие горемыки, в ямах, на голой земле или где-нибудь под кустом, а когда дело шло к зиме, толпами тянулись на юг, подобно перелетным птицам и не показывались на севере до весны. Между тем у них всегда был огонь. Они таскали его за собой в корзинках с трутом, совсем как их предки в первобытное время, но ни на шаг не продвинулись вперед в пользовании огнем. Горшков они не знали. О выпечке хлеба не имели понятия, а также и не подозревали, что вообще существует зерно, даром что бродили в нем по горло: страна изобиловала диким ячменем. Нечего было и ожидать, чтобы они догадались выращивать себе зерно! Не умели они и строить судов, зато хорошо плавали сами и таким образом перебирались через небольшие водные препятствия. Копий они не метали и обходились самыми простыми топорами, грубо обтесанными кремневыми осколками.
Зато Гревлинги обладали оружием, которое было совершенно новым для Видбьёрна: они умели пускать трость с кремневым наконечником в долгий и верно рассчитанный полет по воздуху.
Для этого они пользовались рогами антилопы, между острыми концами которых натягивали жилу. Это был л у к, а как Гревлинги додумались до него, они и сами не могли объяснить; но они показывали, скаля зубы, как ловят ядовитых змей и втыкают им в голову кремневые наконечники, чтобы придать своим стрелам силу. Видбьёрн впервые содрогнулся, когда на его глазах от такого выстрела упала дикая лошадь и околела в судорогах, даром что стрела только оцарапала ее. Это было гнусное колдовство, и Видбьёрн не захотел учиться пользоваться луком. Зато сыновья его не могли оторваться от этого оружия и в скором времени сами изготовили себе такие луки, но из ветвей осины. Яд был им, однако, не нужен – они ведь не охотились из засады. Они были сильны и в скором времени так наловчились метать стрелы из лука, что могли – конечно, не на слишком большом расстоянии – пробить стрелой туловище тура.
Гревлинги пользовались луком не только на охоте: они часто усаживались в круг и щипали пальцем его натянутую жилу, которая издавала при этом манящий звук, словно ветерок летал над дальними мирами.
Гревлинги очень любили вызывать такие звуки и умели их разнообразить: один щипал жилу на луке, и гудение ее отдавалось в пустом черепе, к которому были прикреплены рога; другой колотил дубиной по дуплистому дереву, а третий что есть силы свистел в полую кость; остальные, усевшись вокруг звуковых дел мастеров, хором издавали странные гортанные звуки. И все эти звуки вместе производили глубочайшее впечатление не только на самих судорожно корчившихся музыкантов, но и на слушателей.
В этой сладкой смеси звуков были какие-то чары, которые заставляли не только людей, но и животных вспоминать и оплакивать что-то; в ней чудились отзвуки леса, пробуждавшие дремлющие на дне души воспоминания о потерянном рае.
Первоначально Гревлинги, по всей вероятности, пользовались этими манящими звуками на охоте, чтобы привлечь внимание пугливых и быстроногих животных, таких как дикие лошадки. Когда же лошадь, приблизившись, пытливо склоняла голову набок и, навострив большие пушистые уши, ловила чудесные звуки, несшиеся по воздуху со стороны далеких блаженных пастбищ, со струны арфы вдруг слетала отравленная стрела и вливала огонь смерти в жилы животного. Это было прибыльное искусство. Вся душа первобытного человека оказалась в этом орудии – смеси ядовитой змеи и сладкозвучной арфы.
После же долгих упражнений Гревлинги настолько усовершенствовались в музыке, что начали культивировать это искусство как искусство, не зависящее от охоты. Они прикрепили к луку несколько струн различной упругости, а для усиления звуков сняли рога с пустого, скалящего зубы черепа и заменили его черепашьей скорлупой, дававшей более полный отзвук; в костяной дудке стали просверливать дырочки, чтобы она стонала на разные лады, а дуплистое дерево срубили, чтобы переносить его с места на место; кроме того, они научились придавать своим жалобным звукам известный темп; таким образом из душевного убожества и нытья возникло искусство – музыка. Да, они были настоящие артисты!
Видбьёрн и его семья не отличались дарованиями подобного рода, но были весьма восприимчивы к ним и прямо-таки упивались музыкой, которой Гревлинги угощали их, исторгая вздохи из самой глубины их души и вызывая на их лицах то яркую краску, то бледность. Музыка усмиряла буйный дух пришельцев; они стояли точно пригвожденные к месту, захваченные чарующими звуками, которые манили куда-то вдаль.
И когда пришельцы стояли вот так, прислушиваясь, они, наверное, очень напоминали красивых диких лошадей, которых музыка тоже располагала к доверчивости; и они тоже тянулись всем телом вперед, словно очарованные и оцепеневшие…
Благодаря музыке Гревлинги завоевали расположение Видбьёрна – он доверился им, решив подружиться.
Вообще же нельзя сказать, чтобы Видбьёрн научился чему-нибудь особенному у туземцев, наоборот, он влиял на них. И Гревлинги проявили изумительную способность к подражанию; чуть ли не в мгновение ока выучились они и носить одежду, и варить пищу, и ездить на санях, и плавать на лодках, – всему, что знал и умел Видбьёрн. Причем они освоили все это так хорошо, что скоро стали говорить об этом, как о самых простых вещах, которые, в сущности, были им давным-давно знакомы. Они даже были не прочь посмеяться над Огнебородым, который корчил из себя изобретателя всех этих простых и понятных всем вещей! Да уж, они-то не занимались подобными открытиями! Впрочем, им никогда не удавалось продвинуться в пользовании этих простых вещей дальше того, чему они научились у Видбьёрна, пока они опять не заходили посмотреть, как у него идут дела.
Под веснушчатыми руками Видбьёрна орудия и дерево приносили все новые плоды. Он ничего не оставлял в первоначальном виде; все принимало более совершенные формы, стоило только ему обвести предмет своими блестящими голубыми глазами. Ни одна новая лодка, ни новые сани не выходили из его рук простым повторением старых. Гревлинги, наоборот, изо всех сил старались сделать все как следует, придерживаясь старых, знакомых образцов, и достигали в этом отношении совершенства, какого вообще можно достигнуть, следуя за тем, что само собой разумеется.
В свою очередь, они передавали новые изобретения дальше, вплоть до самых отдаленных племен первобытного народа, и те охотно перенимали новое, но часто навеки застревали на одной из его ступеней, так как были уж чересчур удалены от первоисточника.
Видбьёрн и Гревлинги худо-бедно ладили между собою. Каждая сторона сохраняла свои обычаи. А обычаи эти были различные. Так, например, Гревлинги сжигали своих покойников; это был, по-видимому, символический обряд, говоривший о тех временах, когда мертвецов жарили и съедали. Как бы в память о том древнейшем обычае, члены семьи и теперь съедали маленький кусочек положенного на костер покойника – только из уважения к нему; неловко же было отправиться на тот свет совсем уж несъедобным! Когда же Гревлинги выучились у Видбьёрна печь хлеб, они стали делать из теста изображения покойников, которые и съедали при обряде сожжения трупа, и этот новый обычай мало-помалу вытеснил старый.
Видбьёрна не возмущало сжигание трупов, хотя запах и был противен ему; он привык на Леднике к другому обычаю, но вовсе и не ожидал, чтобы все народы жили одинаково. Люди Льдов не верили в смерть. С той самой поры, как Всеотец сошел в свое жилище и навеки скрылся там от глаз всех, вошло в обычай оставлять тяжелобольных или очень старых людей в их собственных жилых ямах, куда им ставили некоторый запас пищи, а затем обычно засыпали яму землей. Продолжали ли после того засыпанные жить там, никому не было известно, но им, во всяком случае, была дана для этого полная возможность.
И в повседневной жизни Гревлинги, в общем, своими привычками сильно отличались от Видбьёрна. Женщины находились у них в самом жалком положении. Процветал самый непринужденный разврат. Украденное считалось законной собственностью. Трусливы Гревлинги были до омерзения, хотя и очень храбрились – на расстоянии. Чувство благоговения перед чужим превосходством было им незнакомо. Они бросались наутек от самых ничтожных животных, но не молчали, когда возвышала свой голос природа; они выли и возились в темноте, словно стаи волков, вечно ссорились и поносили друг друга – жалкие грязнули, – но до драки у них никогда не доходило.
Между Видбьёрном и Гревлингами как-то само собой установилось подобающее расстояние. Видбьёрн остался жить на побережье, возясь со своими новыми большими кораблями, а Гревлинги продолжали кочевать все по тем же направлениям – к югу с наступлением холодов и опять обратно на север на лето. Видбьёрн ласково встречал их, когда они приходили, но более близких отношений между ними не завязывалось. Каждую весну Видбьёрн зажигал костер и устраивал жертвенный пир, для которого теперь предпочитал более сладкое мясо дикой лошади; как раз в эту пору всегда являлись и старые знакомые – Гревлинги. Их охотно угощали, а они всегда приносили кучу новостей. Пир сопровождался музыкальным увеселением и меновой торговлей – у Гревлингов часто оказывались вещи, которые могли пригодиться Видбьёрну, а он обладал сокровищами, которых ждали Гревлинги.
Как-то раз один из этих бродячих дикарей принес с собой удивительный топор, который Видбьёрн тот час же выменял себе и принялся усердно изучать. Топор был красивого красноватого цвета и такой блестящий, что в нем было можно видеть собственное лицо, как в воде. А замечательнее всего было то, что топор не поддавался обычной обработке, как другие топоры из камня, не дробился и не раскалывался. Зато он расплющивался от ударов, сильно нагревался и становился таким мягким, что ему легко было придать любую форму. Само вещество, из которого он был сделан, увесистое, но не твердое, не имело ни запаха, ни вкуса. Это была медь.
Видбьёрн пока что не особенно увлекался этим материалом, хотя и выменивал себе всякие вещи из него: Воор понравилось обвешивать себе шею украшениями из этого материала. Для выделки же орудий оно мало годилось из-за недостаточной своей твердости. Кремень оказывался сподручнее. У Видбьёрна были свои отточенные кремневые резцы и топоры, которые жадно впивались в дерево и стойко выдерживали силу любого удара.
Но впоследствии Видбьёрн ближе познакомился с достоинствами меди и оценил их лучше. Делая из нее украшения для Воор, он открыл, что медь тает на огне; он уже знал, что она сильно нагревается под ударами и становится заметно мягче, и вот однажды попробовал нагреть ее на огне, а она вдруг утекла от него, извиваясь красной змеей между углями. Он просто не знал, что и подумать. Потом он нашел ее в золе – она уже была холодным слитком – и снова принялся за нее. Мало-помалу он стал пользоваться медью для разных целей. Гревлинги говорили, что получают ее от племен, живущих к югу и к востоку, но сами не понимали преимуществ этого вещества перед камнем и большей частью приносили ее в виде топориков или палочек для втыкания в носовой хрящ.
Позже Видбьёрну случалось выменивать у Гревлингов разные вещички и из другого, похожего на медь, вещества, которые они тоже приносили с собой из своих странствий; это вещество было желтее и еще мягче меди, так что годилось только для выделки бус и серег для женщин. Познакомился Видбьёрн и с каким-то белым металлом, а также с разными раковинами, красивыми камешками и тому подобным добром, которое притаскивали Гревлинги.
Общение понемногу потеряло отпечаток новизны, Гревлинги убедились, что белые люди такие же обыкновенные существа, как и они сами. Один год какое-то из племен осталось зимовать по соседству и отлично перенесло холод. Гревлинги ведь научились теперь строить себе жилища и обрабатывать шкуры. С тех пор они и осели на месте, устроившись по примеру семьи Видбьёрна. Вообще, они проявили немалое любопытство, наблюдая за работой Видбьёрна и подражая ему во всем. При этом они научились глядеть как-то по-особому, исподлобья и постоянно как бы воровали глазами, не желая даже поблагодарить хозяина.
Видбьёрн оставлял их в покое. Выучившись двигаться по морю, они промышляли рыбной ловлей, но лодок для этого они не строили, а предпочитали пользоваться выдолбленными древесными стволами, идею которых тоже заимствовали у Видбьёрна. Крупного леса здесь было вдоволь, и выжечь себе с помощью огня такое корыто из толстого бревна не составляло особого труда, само же корыто вполне удовлетворяло потребности Гревлингов. И затейливый корабль, который теперь строил на берегу Видбьёрн, давно уже не возбуждал в них прежнего, валившего с ног изумления, а скорее просто мозолил глаза и мутил душу, как какая-то болячка, от которой было лишь одно средство избавиться…
Корабль Видбьёрна все рос. А с ним росли и его планы. Корабль должен был вместить весь род Видбьёрна и унести егона край света, прямо в потерянную землю! ГоловаВидбьёрна кружилась от избытка замыслов и от работы. В разгаре творчества он бегал взад и вперед с пылающим лбом и с затекшими от прилива крови руками, а глаза его метали искры. И с какой осторожностью и ловкостью применял он тут свои орудия, как бережно и зорко направлял их, деревья же валил одним взмахом топора. Увидев цель, он шел к ней напролом, как бык, и, опьяненный работой, восторженным гиканьем приветствовал солнце – сам похожий на солнышко своими огненно-рыжими кудрями и бородой. Но случалось ему в припадке бешеного нетерпения и крушить всю свою работу огромным своим молотом. Он неистовствовал, как разъяренный бык, пока оставалась в целости хоть одна щепка. Случалось же это, когда он бывал недоволен результатом или обижен тем, что дело не сразу ладилось. На другой день он являлся на место работы свежий и отрезвленный, ерошил свою рыжую гриву и начинал снова. Сыновья помогали ему во всем.
Теперь он строил себе первый корабль с килем. Из меди он выковал себе якоря и гвозди для скрепления шпант и, так как предстояло выстроить корабль таких огромных размеров, что ни Видбьёрну, ни сыновьям его и никакой другой человеческой силе не сдвинуть было его с места, то строитель, наученный опытом, с самого же начала подложил под киль круглые бревна, чтобы катить на них корабль до самой воды, когда он будет готов.
Передней части киля, выступающей перед носом корабля, Видбьёрн, пустив для этого в ход всю свою изобретательность, придал форму головы чудовища с разинутой пастью. Довольно трудно было определить, что это была за тварь, да Видбьёрн и сам не отдавал себе ясного отчета в этом. Но в его крови бродили еще призраки смутных воспоминаний, унаследованных от предков, которые воочию видели отвратительного морского змея, спавшего теперь вечным сном на дне морском; вот он и руководствовался в своей работе представлением о чем-то невозможном, чудовищном и осуществил-таки свою фантазию. Эта голова могла и должна была ужасать китов, когда придет время. Пока же корабль строится, пусть она глядит в море да набирается тоски по чудесной земле, которую Видбьёрн намеревается отыскать под знаменем этой головы.
Сам же Видбьёрн, пока корабль строился, обратил свой молниеносный взор на нечто другое – на степь, тянувшуюся к востоку без конца и края, откуда ни погляди на нее; а ведь Видбьёрн заходил далеко в глубь страны. И эта земная беспредельность тоже не давала ему покоя, как и море. Неужели же ему никогда не суждено попасть туда, вдаль? Неужели он всегда будет ограничен этим узким горизонтом, где восходит солнце? Неужели он никогда не вступит во владение тем новым миром? А дикие лошади – почему это им дано забираться к востоку, сколько им угодно?
Га! Давай же ловить лошадей, приручать их и вновь налаживать старые сани! Зимой Видбьёрн вихрем понесется на них по снежным полям! И пошла возня с ловлей и укрощением лошадей; смех, крики. Воор являлась с угощением для животных и протягивала им кусочки хлеба на ладони, чтобы лошади по жадности не откусили ей пальцы. Лошади мягкими губами подбирали с ладони все крошки, а затем Воор обтирала свои замусоленные руки об их гривы и смеялась тому, что они не отстают от нее, обнюхивая ее руки. Видбьёрн сделал себе бич с наконечником, который со свистом разрезал воздух и кусался не хуже овода. Этот бич сумеет заставить лошадей скакать и мотать головой.
И вот Видбьёрн с сыновьями устраивает дикую скачку по степи. Славные лошадки бегут более чем охотно, галопом скачут впереди саней, воображая сгоряча, что убегают от саней и от своей неволи. На санях же сидит Видбьёрн и хохочет – пусть себе несут кони; именно это ему и нужно. По бокам саней скачут сыновья, которые давно выучились садиться верхом на своих быстроногих скакунов и заставлять их бежать куда надо. Кони и всадники словно слились в одно целое и несутся вихрем. Эй, ну! Держись!
Но летом Видбьёрну не сдвинуться с места в санях. И он начинает ломать себе голову.
Долго думает он. Вон те валики, на которых он катит к воде свои суда… Что, если приладить к саням такой валик да заставить его все время вертеться и катиться под полозьями?.. Валик не дает покоя Видбьёрну. И вот он пробует: обматывает ремнями оба конца толстого деревянного обрубка и подвязывает его под санями; но ремни не дают валику вертеться… Но зачем ему касаться земли всей своей длиной? Взять да обтесать всю середину, оставив утолщения лишь на концах. Теперь валик удобнее подвязать, но дело все-таки не ладится, пока Видбьёрн не догадывается просверлить самые полозья и пропустить сквозь эти дыры тонкую часть валика. Вот когда сани покатились-таки по земле! Но деревянные кругляшки на концах приходится делать покрупнее, а для этого брать стволы потолще, а такие стволы нелегко обтесывать. Так почему же прямо не приладить к саням шест, а на него уже надевать круглые обрубки или чурбаны, просверлив в них дыры?
У Видбьёрна даже волосы зашевелились при этой мысли, и он таки осилил работу. После нескольких месяцев упорного труда и бесконечной рубки каменным топором, он стал наконец обладателем первой телеги.
Теперь осталось только запрячь лошадей! Видбьёрн привел пару коней, и они выкатили белки на это деревянное сооружение о двух, может статься, роковых колесах. Кони похрапывали и слегка дрожали, готовясь к галопу – хотя бы на край света в погоне за свободой!
Прекрасно! Видбьёрн ничего не имел против галопа; пусть только лошадки дадут сначала надеть на себя ременные постромки. Два-три удара этими ремнями по бокам коней сразу заставили их влезть в постромки и усилили в животных жажду свободы, а Видбьёрну только того и надо было. Еще по уздечке из оленьего рога в рот коням, чтобы им было на что выпускать пену, и – прочь с дороги, ребята!
Видбьёрн весело покатил, но не прошло и двух минут, как телега загорелась!
Да, истинная правда – как то, что солнце кружится по небу. Видбьёрн понесся вихрем, деревянные колеса стали бешено тереться о деревянную ось и задымились почти в тот же миг, как телега тронулась. Лошадям почудилась гарь степного пожара, и они пустились во весь опор. Дым повалил от обеих ступиц, потом посыпались искры, и вдруг пламя охватило оба колеса, телега стала погребальным костром для сидевшего на ней Видбьёрна. Тут все Гревлинги, которые исподтишка подглядывали за ним, уткнулись носом в землю и, подняв руки над головами, униженно залепетали мольбы Всемогущему – не губить их!
Но скоро они опомнились и едва не отшибли себе ляжки, хлопая по ним в припадке неистового хохота над финалом поездки. Видбьёрн свалился, лошади взбесились, порвали постромки и унеслись в степь, а Видбьёрн остался бороться с огнем на обломках своей сломанной телеги. Ему опалило волосы и бороду, и он получил изрядные ожоги всего тела, но ни на что не обращал внимания, даже на Гревлингов, которые подбежали и хохотали ему прямо в лицо. Он сам хохотал во все горло, выпучив глаза от испуга и восторга, махал над головой горящим обломком телеги и испускал безумно радостные вопли: Огонь!
Скорее домой, в свою мастерскую, чтобы проделать все заново! Но пока он бежал, он вдруг замолк – голова его опять заработала.
За ним грохотал дикий смех заплесневевших двуногих, которые ничего не подозревали, ничего не поняли, кроме того, что человек свалился и обжегся.
И с этих пор они все более и более открыто потешались над Видбьёрном, когда он, как шальной, носился в своей телеге. Они выстраивались перед ним и притворялись верующими, благоговейно затаив дыхание, а затем сразу же расступались, как расшалившиеся свиньи, будто бы от восторга перед выдумкой Громовержца. При быстрой езде телега Видбьёрна основательно громыхала, главным образом оттого, что колеса были не совсем круглыми. Когда при первой попытке вспыхнул огонь, Гревлинги было и впрямь поверили, что перед ними сам Громовержец, оттого и пали ниц. Вот за этот-то свой промах им и хотелось отплатить Видбьёрну. В их смехе сквозило злорадство, ненависть, на какую способно лишь воровское сердце.
Ну и расквитаются же они!
Но Видбьёрн не замечал, что затевалось против него. Он был весь поглощен своей телегой. Конечно, он немедля соорудил себе новую и, чтобы не давать колесам загореться, придумал поливать их водой; один из сыновей садился с ним в телегу с горшком воды и все время смачивал концы оси. Так Видбьёрн управлялся, пока не додумался смазывать ось и ступицы жиром и салом. Сами колеса он тоже улучшил: круглые поперечные обрубки оказались непрочными да и отрубать их от толстых древесных стволов было нечеловечески трудно; вот он взял да и положил крест-накрест два обрубка потоньше и просверлил посередине дыру для ступицы, а на концы креста натянул обод из крепкой осиновой ветки толщиной в руку и обмотал обод ремнем из свиной кожи. Поверх этой кожи он натянул второй осиновый обод, чтобы предохранить от трения первый, и вот – трудно было придумать колесо лучше этого. А чтобы оно не шаталось, он удлинил ступицу. Усовершенствовал и саму телегу, приделав к ней дышло для запряжки лошадей и вагу для прикрепления постромок.
Теперь Видбьёрн знал, что стоит ему только поехать на несмазанной телеге, как появится огонь. Таким образом, Видбьёрну, как и его праотцу Дренгу, огонь удалось добыть во время работы.
Позже Видбьёрн научился добывать себе огонь по-своему: устроил особое колесо с осью и вертел ось, колесо же оставалось неподвижным. Опыт научил также, что ось лучше делать из осины, а ступицу из вяза. Вот и в его распоряжении оказалось своего рода огниво, которое давало ему огонь, когда только требовалось.
Так как это колесо не предназначалось для езды, то Видбьёрн не стал приделывать к нему обод, а так и оставил торчать сложенные накрест спицы с загнутыми концами. И это орудие сделалось со временем таинственным знаком для всех потомков Дренга, рассеявшихся по земле; этому кругу с лучами приписывались всякие непостижимые значения; в действительности же единственным тайным смыслом этого знака было: неутомимость и огонь, а прежде и после всего – труд.
Наконец Видбьёрн начал собираться в путь. Корабль был почти готов, он вышел довольно вместительным. На него надо ведь было погрузить и телегу, и несколько пар лошадей; еще бы! И за морем придется кататься.
Оставалось только запастись зерном на несколько недель – до далекой земли путь неблизкий. И Видбьёрн не замедлил помочь Воор разжиться зерном. Он видел, как она ходила и ковыряла землю суком, чтобы вскопать ямки для зерен, и разом повернул дело по-новому: придал суку удобную изогнутую форму и впряг в него быка: Воор незачем было тратить свои силы. Теперь еще одна богатая жатва – и они могут сняться с места!
КРОВЬ ЗАГОВОРИЛА
Наступила весна великого путешествия; корабль стоял вполне готовый к отплытию, жадно разинув на море свою драконью пасть.
Видбьёрн развел в этом году свой обычный костер с радостной надеждой запалить следующий в своих новых владениях. Зато Воор на этот раз скрепя сердце сеяла в землю зерно; она знала, что ей не придется жать его. Но она все-таки сеяла, потому что зерно дала земля и в землю оно должно было возвратиться.
Вместе с перелетными птицами вернулись бродячие Гревлинги, и их щедро угостили жертвенным конским мясом. Видбьёрн по случаю предстоящего плавания принес жертву солнцу, луне, морю, земле и всем силам природы. Жертвоприношение сопровождалось обильными пирами, на которых Гревлинги угощали хозяев берущей за сердце музыкой. Арфа неистово гудела, словно ветры всего света, барабан стучал, словно переполненное горем солнце, а костяная дудка жалобно хныкала; потерянная земля была близка! Между номерами музыкальной программы Гревлинги, зимовавшие на месте, делились новостями с родичами, вернувшимися с юга; они усердно шушукались между собой, но Видбьёрн, увлеченный музыкой, ничего не видел.
Все же он заметил, что его гости в несколько подавленном состоянии духа, и устроил катание на своей новой чудесной телеге – авось они повеселеют, когда увидят, как он правит конями и громыхает по степи. Сверкающие глаза Видбьёрна, обыкновенно столь зоркие, не заметили, что Гревлинги стояли, втянув шеи в плечи и давясь от бешенства; не слыхал он и того, как они скрежетали зубами, сжав губы и онемев при виде его быстрой езды.
И новые свидетели этой шальной скачки были оскорблены до глубины души. Недолго было умереть со страху, глядя на колеса, вертевшиеся с такой бешеной скоростью, что почти нельзя было различить спиц. А как они громыхали! Словно издевались над самим Громовержцем и теми, кто стоял тут и слушал. Да разве мало собственных ног, чтобы ходить?
И что же будет дальше? Что воображает о себе этот чужак, у которого в голове вспыхнуло безумие и который так дерзко и упрямо пытается ослепить всех и каждого своими нелепыми выдумками? Мало ему было существующих обычаев и обрядов? Или он хочет во что бы то ни стало не быть похожим на других? Ведь он не выше всех прочих людей – это он сам доказал, обращаясь с ними, как с равными. А они все-таки дали себя поистязать! Ведь сколько меди пошло на его корабль да на колеса проклятой его громыхалки, той самой меди, что прежде украшала шеи и носы Гревлингов; она позеленела от их пота и, в сущности, была их собственностью! Да что он еще сказал?..
Да, Видбьёрн сказал нечто, уязвившее Гревлингов глубже всего остального; при одном воспоминании об этом желчь разливалась у них до самых белков глаз. Видбьёрн случайно обронил на ходу это свое замечание, да и забыл о нем; но для туземцев оно явилось кровной обидой, такой страшной грубостью, которую нельзя было простить.
Он во всеуслышание сказал, очевидно рассчитывая отравить Гревлингов до мозга костей, что большое счастье, что он с самого начала додумался пустить судно носом вперед, не то, пожалуй, люди до скончания веков плавали бы боком! Вот что сказал он, и как это было бессердечно! Гревлинги ни о чем больше не совещались на пирах Видбьёрна и вкладывали всю свою душу в музыку и пение, чтобы усыпить в Видбьёрне всякое подозрение.
Несколько дней спустя после разведения костров Видбьёрн отправился в степь за дичью. Недоставало еще кое-каких запасов для корабля, а по рассказам Гревлингов, в степи кое-где появились большие стада буйволов. Гревлинги же посоветовали Видбьёрну взять с собою четверых взрослых сыновей; они поехали верхом, а он в телеге.
А днем, через несколько часов после их отъезда, к жилищу Видбьёрна стали со всех сторон подползать Гревлинги и толпами засели в кустах вокруг, а трое-четверо открыто направились в дом.
Дома оставались только Воор с тремя дочерьми, из которых младшая была еще совсем маленькая, да сын-подросток по имени Орм[8]. К нему-то и обратились Гревлинги и завели разговор о всяких пустяках. Орм хорошо знал их; они часто приходили во двор Видбьёрна с разными просьбами. На этот раз они попросили только глиняный горшок, но когда Орм повернулся к ним спиной, чтобы пойти за горшком, они набросили на него ременные арканы и повалили наземь. Орм отчаянно сопротивлялся и чуть-чуть не высвободился, да подоспели на помощь другие Гревлинги и одолели мальчика.
На шум вышла Воор с маленькой девочкой; внизу в каменном доме остались две взрослые дочери. Воор ни слова не сказала Гревлингам. Взглянув на них и увидав лежащего на земле связанного Орма, она одной рукой схватила тяжелую дубину, другой подняла и прижала к себе девочку и принялась биться за свою жизнь и за жизнь детей. Билась она, пока свет не погас в ее глазах, неистовствовала, как разъяренная медведица, пока не потеряла сознание.
Гревлинги все прибывали; травы и кусты вокруг дома кишели ими; их было такое множество, что они образовали сплошную массу, колыхавшуюся, как море во время прилива и отлива; теснились, лезли друг на друга и даже мешали друг другу предпринять что-нибудь. Но мало-помалу они справились: одни взялись за корабль, другие ломали сани Видбьёрна, третьи убивали домашних животных. Обеих старших дочерей вытащили из дома; они громко кричали, но им бросили на головы шкуры, и заглушённые крики похищенных девушек скоро замерли вдали.
Одна кучка схватила Орма и поволокла к дереву, чтобы замучить. Глаза у Гревлингов готовы были выскочить из орбит от кровожадной ярости, волосы торчали дыбом, как шерсть у хищников ночью, все тело подергивалось, они сопели и фыркали. У них даже язык отнялся от судорог, сводивших скулы и растягивавших рот в холодном злобном смехе. Раздавался лишь голос Орма, раздавался так одиноко, потерянно среди этого множества людей. Мальчик говорил много, словно ему надо было сразу истощить весь свой запас слов. При этом его ломающийся, как у всех подростков, голос звучал ровно и спокойно, даже во время истязаний.
Стоя обнаженным перед своими палачами, он не мог преодолеть дрожь и объяснял им, что это его тело выражает свое недовольство на то, что его хотят лишить детородства. Кроме того, ему неприятно было в такой тесноте и он морщился от духоты и вони, которою обдавала его толпа. Им же хотелось заставить его вопить и жаловаться, и они поджаривали ему подошвы горящими угольями, ломали пальцы ударами палок. Орм вытягивался от боли, но молчал; он был из тех, кто не поддается насилию. Потом он обронил словечко насчет погоды. Тогда они принялись за мальчика всерьез, стали мучить его основательно. И им удалось заставить его заплакать.
Рыская далеко в степи, Видбьёрн вдруг увидел густой дым и сообразил, что дыму неоткуда больше подняться, как от его жилища, очень удивился и, прекратив охоту, повернул назад. Дым становился все гуще и выше; Видбьёрн даже различал в нем языки пламени и погнал лошадей во всю прыть. С вершины одного из холмов он увидел, что горит его корабль.
Дорога к дому поросла частым мелким березняком, из которого вдруг с неистовым ревом высыпали несметные рои Гревлингов и кинулись навстречу Видбьёрну. Но они даже не успели подбежать на расстояние выстрела из лука – один вид богатыря, мчавшегося с поднятым молотом на громыхающей колеснице, отнял у них все мужество. Они разом повернули спины и сиганули в кусты, как стая испуганных поморников. Их маленький военный план расстроился в самом же начале. Продолжая свою бешеную скачку к дому, Видбьёрн не встретил больше ни одного Гревлинга.
И возле дома их не было, но остались следы, говорившие, что они только что бежали отсюда. Видбьёрн лишь мельком взглянул на свой корабль – судно было объято пламенем и погибло, только обуглившаяся драконья голова еще разевала свою пасть на море; возле дома он увидел дела похуже. Гревлинги хозяйничали и развлекались тут, видимо, целый час; все пространство возле дома было забрызгано кровью. Воор… Воор лежала мертвая, сжимая в объятиях изуродованный труп девочки! Обе взрослые дочери пропали.
Сына же Видбьёрн нашел умирающим, привязанным к дереву. Он стоял, склонив голову на плечо, но повернул бледное лицо и улыбнулся отцу, когда тот подошел. На веснушчатых щеках мальчика чуть заметны были следы слез; потухшие глаза были полузакрыты, он уже не видел, но еще шевелил посинелыми губами, силясь сказать что-то.
Они распороли ему спину и вырвали легкие у живого.
Еще раз зашевелил он губами. Видбьёрн припал к ним ухом и услыхал, как мальчик его шептал, что ему теперь хорошо. Затем Орм уронил голову на грудь и умер.
Светлыми северными ночами березка стоит, низко свесив частые ветви с густой листвой и белея своим пятнистым стволом, i словно стройным станом. Нежное деревце все дрожит, словно женщина, окутанная длинными пышными волосами, и северное небо, с розовой улыбкой держащее в своих объятиях заснувшее солнце, не знает, почему березка прячет свое лицо – от счастья ли трепещет или плачет? Увы! Березка скорбно поникла своей светлой, только что распустившейся листвой, увидав во сне, что ее пышная зеленая верхушка – окровавленные волосы, а каждый листочек – кровоточащая рана и что так и стоять ей до тех пор, пока снежная буря не окутает ее обнаженное тело своим белым саваном.
Трепещущее деревце, возбуждающее жалость чудесной северной ночи, – это Воор, кроткая Воор.
А большая белая звезда, неустанно кружащая по небу, когда другие звезды уже успокоились и светятся на одном месте, звезда, не сверкающая, но похожая на застывшую слезу мальчика, – это безвременно погибший Орм. Он светит тусклым светом, проходя свой путь, который был прерван на земле раньше, чем он успел пожить; вот он вечно и кружит над землею, сохранив свое нежное и упорное сердце.
Девочка же, убитая на груди матери, светится то вечерней, то утренней звездочкой, беленькой и задумчивой, словно душа ребенка, одиноко играющая сама с собой на путях вечности.
ПОД ЗНАКОМ МОЛОТА
Но скорбь Видбьёрна была словно кровавое озеро, в которое погружается заходящее в середине зимы солнце, будто долгие и темные северные ночи.
Прошли годы, пока дух его вновь прояснился, и все это время душу его окутывал мрак, и он грозным мстителем носился по стране. В степи свирепствовал ураган убийств и пожаров. Видбьёрн гремел далеко окрест своей телегой, ставшей колесницей смерти; за ним летели на конях его быстрые, как молнии, сыновья, и где проносились они, след их устилали трупы Гревлингов. Видбьёрн размахивал своим огромным каменным молотом, когда-то служившим ему мирным орудием при постройке корабля; молот не застревал в ране, как топор, разил с размаху и оставался в руках мстителя, а Видбьёрн продолжал мчаться, оставляя за собой трупы. Он опустошил страну на много миль вокруг, выкуривая Гревлингов из зарослей огнем и истребляя их целыми толпами. Все, что могло дать им пристанище и защиту, обращал он в пепел; во все стороны, насколько хватало глаз, расстилалась сожженная степь.
Словно гнев зимы обрушился на землю – не уцелело ни одного ростка; словно листья беспощадным осенним вихрем были развеяны, сметены Гревлинги.
Но убийства и месть не могли долго служить целебным средством. Не утолял горе Видбьёрна вид предсмертных судорог, искажавших лица несчастных, которых он осуждал на смерть, но которые как будто и сами не ведали, что такое сделали. И он с течением времени понял, что Гревлинги действовали в полном неведении, повинуясь голосу своей природы, и что больше всех виноват он сам, не принявший против них мер предосторожности. С ним случилось то же, что бывает с тем, кто освободит волка из капкана в лесу, – зверь возьмет да и вцепится зубами в глотку! Гревлинги были лесными дикарями, которые не умели думать и не выучились помнить. Разум не участвовал в их злодеянии; оно было вызвано минутной вспышкой непреодолимой жажды крови, и Гревлинги уже позабыли эту вспышку, позабыв вместе с тем и свою вину. Теперь они смотрели на Видбьёрна как на зачинщика, который бушевал тут целую вечность, истребляя их толпами. И их наполняло одно чувство – немая ненависть. Они даже не знали, что значит умереть, хотя и были изрядными трусами.
И, осуждая их на смерть, Видбьёрн встречал в их взгляде одну ненависть; занося над их головами молот, не видел в их глазах ни следа раскаяния или сожаления, как и в глазах зверей, и – дробил им черепа, как зверям. В конце концов у него рука перестала подыматься на них.
Их было так много. И, наверное, они были правы. Прибавилось и еще кое-что, оказавшееся сильнее Видбьёрна. Далеко на востоке настиг он наконец племя, похитившее двух его взрослых дочерей. В его глазах уже стояло красное зарево, в воздухе пахло местью и кровью, но тут Видбьёрн увидел у своих ног белокурых дочерей Воор и свою собственную плоть и кровь, они молили пощадить тех разбойников, которые обесчестили и похитили их! Видбьёрн заплакал и даровал им жизнь.
Он перестал мстить и вернулся домой. Целые месяцы проводил он в бездействии, в безмолвных жалобах, как лиственный лес осенью. Волосы его побелели. Но здравый смысл мужа и страсть к строительству взяли-таки свое. За это время он продумал все до конца и определил судьбу Гревлингов и свою.
Воор с двумя детьми осталась в прежнем жилище Видбьёрна; он забросал его землею и насыпал над ним высокий курган. Сам же поселился южнее, в прибрежном лесу, где росли крупные строевые деревья. Тут он начал строить новый корабль, такой длинный и широкий, что любопытные Гревлинги, которые опять стали робко подходить к жилью Видбьёрна, долго ломали себе головы – каким образом он заставит это судно двигаться по воде. На носу корабля Видбьёрн опять посадил драконью голову с разинутой пастью, которая как будто смеялась жутким безмолвным смехом.
Но когда корабль был готов и спущен на воду со своими пустующими скамьями, на которых можно было разместить на двадцать гребцов больше, чем всего было сыновей у Видбьёрна, он высадился с сыновьями на берег, захватил ровно двадцать Гревлингов, сильных, молодых мужчин, и привел их связанными на судно. К каждой скамье были приделаны медные кольца, которые он и надел своим пленникам на ноги. Они уж думали, что пришел их конец, но Видбьёрн накормил их и обошелся с ними так заботливо, что они потупили глаза. Затем он попросил их взять в руки весла и грести. Тут они поняли, каким образом собирался Видбьёрн двигать свое судно.
Потом, когда они начинали тосковать по родине и, сравнивая свою прежнюю собачью жизнь с теперешним беззаботным и прочным положением, горестно вздыхали о прошлом, отчего их сила убывала, Видбьёрн ободрял их похвалами и обещаниями скорого ужина. Они ужасно гордились силой рук, развивавшейся от гребли, и на похвалы умиленно скалили зубы; хороший же ужин стоил того, чтобы приналечь на весла лишний часок в день. Гревлинги стали хорошими гребцами и ни в чем не знали нужды. Видбьёрн забрал с собою на корабль и нескольких женщин, чтобы сильнее привязать к судну свою команду и обеспечить себе ее прирост в будущем.
Вообще, Видбьёрн перенес на свой вместительный корабль все свое добро, свои телеги, лошадей, домашний скот, сено, зерно, шкуры, инструменты, медь и оружие. На корме помещался очаг, где горел огонь, который Видбьёрн мог зажигать и тушить по своему желанию. Порядок на корабле установился такой: Видбьёрн стоял у большого весла на корме и правил, а пленники гребли; на носу же помещались его сыновья, высматривая землю и не выпуская из рук оружия.
Так они вышли в плавание по морю.
И этот корабль, со всем, что на нем было, отдался на волю ветра, течений и обитавшей на нем живой силы; он стал как бы живым островком, прообразом того расцвета способностей, который вызывается сопротивлением и необходимостью и который распространился с Ледника на всю Европу, а затем, перебросившись через моря, развился в то, что впоследствии создало общественный распорядок белой расы.
В Стране Жизни остался лишь старший сын Видбьёрна – Варг. Он взял себе в жены одну из дочерей Гревлингов, смуглую страстную деву степей, и пожелал разделить с нею судьбу, оставшись на ее родине. От них и от двух белых дочерей Видбьёрна, ставших женами туземных мужей, произошел большой народ, кочевавший по востоку и югу верхом и в телегах.
А Видбьёрн так долго плавал по морю под Полярной звездой, что стосковался по Упланду, где прожил лучшие годы своей жизни в тоске по чужбине. Ему захотелось увидеть то место, где волновалась первая нива Воор, напоминавшая ее пышные волосы. И он нашел туда дорогу, направив корабль на огнедышащую гору; днем путь ему указывал стоящий над вершиной столб дыма, а ночью – зарево на небе.
В Упланде Видбьёрн и остался жить. Ледник совсем растаял, вода давно спала, и вся страна покрылась дерном и молодым лесом, одевшим мокрые песчаные холмы и скалы. Глубокие котловины, выдавленные Ледником во многих местах скалистой почвы, были теперь до краев заполнены водой, такой чистой и прозрачной, что виден был лежащий на дне круглый отшлифованный камень, когда-то просверливший себе ложе, а теперь поросший мохом; маленькие водяные ужи с пятнистым брюшком чувствовали себя здесь как дома. Но даже среди жаркого лета здесь нет-нет да и веяло в лицо могильным холодом от векового льда, все еще покоившегося под прикрытием слоя щебня в некоторых расселинах скал на севере.
Лес был полон всякого зверья; из чащи, с потаенных тропинок по-прежнему глядели глаза, как будто животные вечно жили здесь. Сосны потели смолой в полуденную жару и испускали испарения, напоминавшие о том времени, когда они были тропическими растениями. Осина, береза и рябина, многозначительно кивая листьями, шептались о потерянной земле – как раз тут под нами, – говорили они, покачивая мудрыми головами. А в кустах благоухала, еще нежнее и слаще прежнего, малина – безмолвный, но искренний и щедрый привет северного лета.
Пчелы с озабоченным жужжанием собирали мед с цветов, которые жили всего одно лето, но впитывали сжатую душу земли, смолотой Ледником из первобытной сердцевины гор и испытавшей влажные капризы неба, мороз, дождь и солнечный жар. Ветры небесные одели голые морщинистые камни лишаями и мохом; перелетные птицы заносили семена разных трав и растений, приносили пыльцу и сентябрьские вихри из-за моря, и земля Упланда облачилась в новые зеленые одежды.
Из каждой щели суровых скал торчали свеженькая былинка или крохотный цветочек с пряным запахом. И в каждой чашечке цветка, задыхаясь, барахталась мохнатым тельцем пчелка, а когда она улетала, цветок кивал ей раза два, оправлял свою рубашонку и опять жмурился на солнце.
Видбьёрн сварил себе из меда питье, которое ударило ему в голову, и ему стало чудиться, что он подглядел любовную встречу солнца с наготою южного склона, пропитанного ароматом трав. Разомлевший от меда и жара нагретого солнцем каменистого ложа, смотрел он на пчелиный рой, заслонявший собою солнце и похожий на большой парящий в воздухе шар, который то расширялся, то сжимался, вздымая к небу огненную песнь, смотрел – и вновь обрел утраченную землю, да еще целый мир в придачу. Наконец-то Видбьёрн вернулся на свою родину!
Потекли годы. Он присматривался к лесам Упланда – не найдется ли тут материала для кораблестроения. Пока деревья были еще совсем молоденькие и не пригодны для дела; но лес вырастет, и тогда потомки Видбьёрна построят себе суда, целый флот кораблей! Молодые гладкие деревца уже колыхались и кивали верхушками, словно зная, что им предстоит сделаться кораблями и плыть на край света.
Видбьёрну пришлась по душе оседлая жизнь, и он велел вытащить свой корабль на сушу, перевернул его вверх килем и устроил под его сводом обширный зал; это и была первая готическая[9].
постройка. И потомки Видбьёрна впоследствии, поселяясь в новых землях, превращали свои корабли в кровли для зал, а сами странствовали под этими сводами – уже в ином, духовном смысле.
Видбьёрн съездил на остров, окруженный когда-то Ледником, и нашел там свой народ. Много потомков Дренга погибло во время великого весеннего наводнения, но оставшиеся в живых вели все ту же жизнь, как и до изгнания Видбьёрна. Теперь он возвратился на колесах с молотом и огнем, оставив за собою на берегу свой корабль, и его родичи, которые еще помнили его, раскаялись в старой обиде.
Видбьёрн сместил потомков Гарма и повелел людям льдов расселиться. Остров их давно перестал быть островом, весь мир был открыт, но не находилось мужа, который бы указал им, что границы проходят лишь в них самих. Видбьёрн указал им это.
И, чтобы они перестали тесниться вокруг могилы Всеотца, Видбьёрн своей властью объединил их около нового знака – Огнеродящего Колеса. Эту святыню он утвердил в Упланде, одной стороной прилегавшем к морю, и положил начало большим жертвоприношениям в честь весеннего солнца, в огненном оке которого завещал людям льдов часть древнего Одноглазого. Молодежь он посылал странствовать по морю, как сам странствовал когда-то; теперь же пора ему было осесть и упрочить царство, дух которого должен был наложить свой отпечаток на молодежь, чтобы она всегда помнила свою родину и вводила на чужбине обычаи Белого Человека.
И вот, народ льдов сплотился вокруг Видбьёрна под знаком Огненного Колеса и Молота. Многие из них, после того как и горные хребты освободились от льдов, перешли через них и основали Норвегию; другие вместе с Видбьёрном поселились на побережье и занялись земледелием. Впоследствии молодежь превратила все европейские моря в свою родину, высаживалась в Англии, Дании, Германии, на побережья Средиземного моря и расселялась во все стороны, – но крепко хранила свое единство.
На старости лет Видбьёрн предался наблюдению за ходом небесных тел, понял, как происходит годовой круговорот, сжился со звездами более, чем кто-либо до него, и, умирая, передал свое знание сыновьям в наследство. Они должны были хранить его в тайне от всех, чтобы навсегда оставить за собою умение предсказывать положение солнца в различные времена года и, согласно этому, давать народу советы.
Сам Видбьёрн, пока был полон сил, не прибегал для упрочения своей власти ни к каким тайным и темным знаниям. Искусство добывать огонь, открытое им, стало общим достоянием; он не хотел, чтобы оно послужило орудием закрепощения людей. Но он сделал Огненное Колесо священным знаком в руках всех и каждого как знак вечной благодарности людей земле и солнцу и как символ плодородия. Влияние же свое Видбьёрн упрочил с помощью молота и своей всемогущей руки.
На досуге Видбьёрн составил описание своей жизни и высек его на вечные времена на одной из каменных плит скалистой почвы. Ледник отшлифовал эту первую скрижаль. Описание заключалось в двух знаках: один должен был изображать корабль, а другой – колесо. Так зародилось изобразительное искусство и литература.
Пока глаза не отказались служить, Видбьёрн продолжал работать и с деревом, и с металлом, с любовью используя каменные орудия, которыми владел так мастерски. Но в часы досуга он любознательно испытывал и медь, и другие новые материалы, которые привозили ему с востока сыновья; он все испытывал на огне и примечал особенности каждого материала. Как-то раз навестил его самый старший сын, Варг, и принес большую глыбу нового замечательного металла, которую положил прямо в руки старика, а было это еще раньше, чем медь вошла в общее употребление. Видбьёрн долго держал глыбу на вытянутой руке и внимательно рассматривал ее со всех сторон, взвешивал и ощупывал своими покрытыми шрамами, корявыми пальцами. Металл отличался холодным, синеватым блеском, напоминавшим лед, был очень тяжел и тверд настолько, что не поддавался каменному резцу. Видбьёрн лизнул металл, и его горьковатый вкус напомнил ему солоноватую горечь моря; потом понюхал – пахло кровью. Тогда Видбьёрн впал в глубокое раздумье. Это было железо.
Из этой глыбы железа Видбьёрн и выковал себе новый молот, впервые изменив своему старому испытанному каменному оружию.
Видбьёрн был еще так силен, что одним ударом этого железного молота мог уложить на месте лошадь перед жертвенным камнем, да так, что в ее черепе не оставалось ни одной целой косточки. Но умудренный старостью, он понял, что в народе всегда останется потребность преклоняться перед его силой, даже когда она перестанет существовать, – и это прозрение человеческого сердца еще раз задало работу его искусным рукам.
Видбьёрн почти все время проводил в своем зале, где всегда царила полутьма, и все привыкли видеть там его рослую фигуру и преклоняться перед нею с подобающим Молотовержцу благоговением. Видбьёрн взял и потихоньку вытесал столп по своему образу и подобию, дал ему в руки свой молот и поставил в темной глубине зала, где сам обычно показывался народу. И к его удовольствию, все входившие преклонялись перед изображением с тем же почтением, как и перед ним самим. Старик посмеивался в свою седую бороду, польщенный таким успехом дела рук своих и находя какую-то жестокую отраду в том, что так оправдалось его знание человеческого сердца.
Теперь он решил отойти на покой.
Он перестал показываться вне своего священного убежища, но продолжал мерещиться своим родичам в полумраке зала, с поднятым молотом в руках, и его старший сын, единственный посвященный, брызгал на него жертвенную кровь и передавал народу привет от великого возницы и мореплавателя.
Видбьёрн, в котором было больше человеческого, чем в ком бы то ни было до и после него, был обожествлен северянами и получил почтительное прозвище Громовика, Молотовержца, Вещего и место на небесах рядом с Древним Одноглазым. Но их кровь осталась в жилах рода. От Дренга, который не гнулся под напором враждебных сил, и от его потомков через Видбьёрна, отца открытого боя, – произошли все короли и бонды[10] Севера.
Коренные северяне достигли большого искусства в земледелии и мореходстве. Они вывозили для себя с востока рабов и жили с ними сотни лет. С течением времени покорители и покоренные скрестились и смешались в один народ, но между ними всегда лежала грань, хотя они и были одного происхождения, – грань, положенная Ледником, глубокая разница в их духовном развитии. Одни, очутившись впереди, были навсегда связаны со своим прошлым; другие жили весь свой век, удручаемые невозможностью догнать первых, которым им страшно хотелось подражать. От свободных мужей, и от пленников, и от их смешанного потомства, среди которого попадались свободные душою работники в ярме и строгие господа с рабской душой, и произошло население Севера и тех стран, где северяне расселились и укрепились.
Видбьёрна, после того как он закрепил место за своим преемником, потянуло в уединение. Однажды ночью он покинул свой зал, сел тайком от всех на корабль и пустил его по волнам. Он чувствовал бремя годов и радовался, что сложит свои кости в море. Корабль качался на волнах в морском просторе, а он сидел и смотрел на сбои сложенные руки. Время перестало существовать для него.
Занялась заря; его друг – солнце взошло на небо. Потом снова погрузилось в море огромным красным диском.
На ночное небо взошла луна с кроткими безжизненными чертами Воор.
На утреннем небе показалась маленькая умершая девочка и тихо светила на море, пока не угасла.
Тогда и он навсегда смежил глаза.
ЖАВОРОНОК
Свейном звали одного мореплавателя; он приплыл на своем корабле к земле, которая почти сливалась с морем и состояла из множества островов, разделенных фьордами и проливами. В одном из этих фьордов он заблудился и так долго носился между всеми этими островами с их широкими мысами и низинами, что страна успела ему полюбиться.
Она отлого поднималась над морем, образуя обширную волнистую равнину, усеянную щебнем и обломками скал, и казалась такой свежей, благоуханно-влажной, словно только вчера вышла из-под ледяного покрова. Свейн высадился на землю и нашел приветливый мелкопесчаный берег с каймой из нанесенных прибоем пестрых камешков, ласково льнувших друг к другу; зеленый дерн доходил почти до самой синевы моря, а подальше, внутри страны, пышно раскинулись луга и болота, светлый молоденький лес, прерывавшийся широкими полями. Всюду было множество чудесной дичи, а фьорд и его притоки, которые, улыбаясь, текли среди цветов, изобиловали рыбой. Небесный свод нежно обнимал эту, едва выдававшуюся из моря землю, показывая ей целые миры облаков и играя снопами лучей, исходивших от притаившегося за облаками солнца.
Свейн отправился дальше, но не забыл низменную страну и вернулся к ней. На этот раз стояла ранняя весна, и дул свежий ветер. Тучки носились взад и вперед, как хлопотуньи-хозяйки; их никто и не думал торопить, а они все-таки спешили управиться со своим делом.
На серых полях росли хвощи, выскочившие рядом с кротовыми кучками, словно тонкие костяные пальцы. В черноземе, который разбух от влаги и наливался на солнце, блестели мелкие камешки, словно влажные глазки, а в бледной траве золотились кое-где желтые цветы точно с подернутыми плесенью стеблями. Южнее склоны холмов начали зеленеть, и в их зелени проглядывали одинокие нежные фиалки, словно крохотные, посиневшие от холода детские личики.
Тянувшиеся вереницей облака отбрасывали тени на влажные поля, которые то темнели, то опять озарялись светом солнца; оно, словно огненное колесо, пробивалось сквозь тучи, обдавало всю землю огнем, оплодотворяло ее и снова исчезало. Облака дышали над землею, словно привидения странствующего моря, проносились над холмами, как бы преследуя друг друга; их подгонял влажный ветер, насыщенный запахом земли.
А в вышине, в беспокойных небесах, где клубились облака и откуда солнце брызгало теплом, согревая веки, висел жаворонок и пел.
Медленно, точно опьяненный, подымался он в вышину, то в свете, то в тени, но не переставая заливаться песнью – би, би-бибиби-би, би, – пока, словно увлеченный грезой и с сердцем, расширившимся от вдыхаемого воздуха, не поднимался так высоко, что совсем тонул в облаках и солнечном сиянии. Теперь как будто пел сам влажный воздух над полем, где журчали и пускали пузырьки прозрачные быстрые ключи…
И ночи были теплые. Жабы сидели по горло в воде и, как маленькие болотные тролли[11], лаяли на отражение солнца в пустынных пока водах; на дне выпускали зеленые коготки черные крючковатые корни аира, а к воде склонялись ивы в почках, закутанных в серенькие шубки на случай перемены погоды. Прилетели перелетные птицы. Все пускало ростки, побеги.
Свейн заслушался песни жаворонка и решил остаться, чтобы вырастить тут своих детей и отдать им во владение эту землю, которую впоследствии назвали Данией. Свейн поселился на уютном фьорде при устье реки. По всей долине тянулись болота и леса, а за холмами начиналась вересковая степь.
Дети Свейна, как только начинали ползать, целые дни мелькали в вереске светлыми макушками, знакомясь с предметами окружающего мира. controlБольшие булыжники, то одинокие, и каждый со своей особой физиономией, то жавшиеся по-товарищески в кучки, останавливали внимание малышей, которые, заложив ручонки за спину, простаивали перед такими немыми громадами подолгу, в ожидании – чем они себя покажут. Их крохотные пальчики тянулись к круглым, пузатым, но безголовым кустам можжевельника, – он кусался! – и дети уж больше к нему не совались.
С другими же предметами они быстро осваивались: и с самим вереском, похожим на железное дерево, усыпанное маленькими чешуйчатыми розами, и с вечнозелеными листьями брусники, похожими на маленькие лодочки, и с багульником, обильно усеянным тонкими, странно пахнущими шишками. Дрок цвел огненными цветами, а потом весь обвешивался большими черными струпьями, похожими на обгоревшие мечи: отчего бы им уж не вырасти длиной в аршин и не висеть на вершине высокого дерева! Пестрые кукушкины слезки высились в сторонке своими похожими на смоковницы стеблями, плауны ползли по шершавому ковру под вереском и посылали на разведку туда и сюда длинноголовые ростки; это были самые ребячливые, зелененькие деревца в вересковой роще.
Дети никогда не слыхали, что все эти искалеченные непогодой растения были когда-то тропическими деревьями в лесу, росшем на этом самом месте; но они все-таки отлично знали это. Смакуя веточки вереска, они сразу узнавали, что он высокого происхождения, уроженец жарких мест, – такой он был горьковато-ароматный.
Они понимали, что и можжевельник знавал лучшие времена. И они любили в играх воображать осоку пальмой, вздымающей к небу свои блестящие угловатые плоды, величиной с целые хлебы.
Теплыми летними днями, когда задыхающееся стрекотанье кузнечиков слышалось в вереске повсюду и нигде, в раскаленном воздухе степи вдруг появлялись миражи – рощи и озера; дети ясно различали там исполинские деревья и находили этот большой воздушный лес вполне естественным.
А просыпаясь светлыми ночами, дети иногда вспоминали свои круглые камешки, которые лежали в степи, как телята в стойлах, и, верно, скучали в одиночестве.
Дети подымали головки и выглядывали в светлую мглу ночи; и в полусонной, но прозорливой душе легкой паутинкой проносились видения, отблеск исчезнувшего чуда прошлого, – на севере в эти светлые ночи как будто вырастал тропический лес.
Детство – вот потерянная земля.
На этом заканчивается миф о Дренге.
Примечания
1
Dreng – мальчик, парень (дат.).
(обратно)2
Hvidbjorn – белый медведь (дат.).
(обратно)3
Vaar (дат.)
(обратно)4
Риноцерос – латинское название носорога.
(обратно)5
Упланд – часть Швеции, в которой теперь находятся главнейшие города этой страны: Стокгольм, Упсала и др.
(обратно)6
Фьорд – узкий, длинный, в конце очень разветвленный залив. Скандинавские фьорды часто имеют высокие скалистые берега.
(обратно)7
Gr Evling – барсук (дат).
(обратно)8
Orm – змей (дат.).
(обратно)9
Готическое зодчество, готическая архитектура отличается тем, что дуги (окон, дверей, крыш) имеют стрельчатый вид, почему вместо слова «готический», происходящего от названия древнего народа, жившего в нынешней Германии, употребляется часто слово «стрельчатый»
(обратно)10
Бонды – обладатели больших поместий.
(обратно)11
Тролли – сказочные существа, напоминающие наших леших. Живут в лесах, горах.
(обратно)

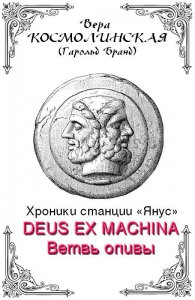


Комментарии к книге «Ледник», Йоханнес Вильгельм Йенсен
Всего 0 комментариев