Мишель Зевако Смертельные враги
Глава 1 СМЕРТЬ ФАУСТЫ
Двадцать первого февраля 1590 года, на рассвете, над папским Римом, Римом Сикста V, поплыл похоронный звон. Глухой шум, перекатывавшийся в это же время по еще темным улицам, указывал, что людские толпы двинулись к какому-то им известному месту... Этим местом была площадь дель Пополо. Именно там возвышался эшафот. Именно там топор, сверкнув в руках палача, должен был вскоре занестись над чьей-то головой. Эта голова покатится по помосту, палач схватит ее за волосы и покажет народу – так записано в приговоре... Это будет голова молодой и красивой женщины, чье имя, вызывающее в памяти самое необычайное приключение тех отдаленных веков, почти с восхищением повторяет шепотом народ, толпящийся вокруг эшафота: – Фауста! Фауста! Фауста скоро умрет!
Девять месяцев назад принцесса Фауста Борджиа была захвачена в Риме, в ту самую ночь, когда горел Палаццо-Риденте, куда она завлекла доблестного Пардальяна, и заключена в замок Сант-Анджело. Шевалье... единственный человек, которого она могла полюбить... которому отдалась... которого, наконец, хотела убить и которого, по-видимому, считала мертвым. И вот великолепная искательница приключений, мечтавшая возродить к жизни традиции папессы Иоанны, ждала того дня, когда будет приведен в исполнение вынесенный ей приговор. Казнь была отсрочена; страшно вымолвить: в тот день, когда Фаусту должны были передать в руки палача, стало известно, что она беременна. Но теперь, когда ребенок появился на свет, уже ничто не могло спасти ее.
Вскоре пробьет час, когда для Фаусты придет расплата за ее мужество и за ее великую борьбу с Сикстом V.
Сегодня утром Фауста должна умереть!
Тем же утром в одном из роскошно-изысканных залов, каких немало в Ватикане, два человека, стоя лицом к лицу, почти вплотную, бросали друг другу исполненные смертельной ненависти слова, звучавшие еще более жутко из-за их неподвижных, как у изваяний, поз. Оба были в расцвете сил и приблизительно одного возраста. И оба, хоть и служили церкви, с высокомерным изяществом носили элегантные костюмы кавалеров того времени. Вне всякого сомнения, то были знатные вельможи. В их сердцах бушевала ненависть к одному и тому же сопернику, и любовь к одной и той же женщине сделала их врагами.
Первого звали Александр Перетти. Перетти! Та же фамилия, что и у Его Святейшества Сикста V. Этот человек и вправду был племянником папы и недавно стал кардиналом де Монтальте. Его открыто называли преемником Сикста V, чьим доверенным лицом и советником он являлся.
Другой звался Эркуле Сфондрато; он принадлежал к одному из самых процветающих семейств Италии и исполнял свои обязанности верховного судьи с суровостью, которая превратила его в одного из самых страшных вершителей воли Сикста V.
Вот что эти люди говорили друг другу:
– Слушай же, Монтальте, слушай этот похоронный звон... Ничто не может теперь спасти ее, ничто и никто!
– Я брошусь в ноги к папе, – рычал племянник Сикста V, – и добьюсь ее помилования...
– Папа! Да если бы у него достало силы, он бы собственной рукой убил ее! Ты ведь знаешь, Монтальте, – только я один могу спасти Фаусту. Вчера ей зачитали приговор. Эшафот уже воздвигнут. Если ты не поклянешься мне Иисусом Христом, Его терновым венцом и Его ранами, что отказываешься от Фаусты, через час ее уже не будет в живых!
– Клянусь... – с трудом произнес Монтальте. И замолк, обезумев от боли, гнева и ненависти.
– Ну, – взревел Сфондрато, – в чем же ты клянешься?
Теперь они стояли так близко друг от друга, что их одежды соприкасались. Налитые кровью глаза метали молнии, рука каждого судорожно сжимала рукоятку кинжала.
– Клянись, клянись же! – повторил Сфондрато.
– Клянусь, – прорычал Монтальте, – что скорее вырву себе сердце, чем откажусь от любви к Фаусте, даже если она возненавидит меня ненавистью столь же неугасимой, как неугасима моя к ней любовь. Клянусь, покуда я жив, никто не поднимет руку на Фаусту – ни палач, ни верховный судья, ни сам папа! Клянусь, что буду в одиночку защищать ее, если понадобится, против целого Рима. А пока, верховный судья, умри первым – ведь именно ты вынес ей приговор!
И в тот же миг кардинал Монтальте, племянник папы Сикста V, поднял свой кинжал и молниеносным ударом вонзил его в плечо Эркуле Сфондрато.
Затем с хрипом, в котором звучало то ли проклятие, то ли мольба, Монтальте бросился вон.
Эркуле Сфондрато, как подкошенный, упал на колени, но почти тотчас же поднялся, быстро расстегнул камзол и обнаружил, что кинжал Монтальте не смог прорвать кольчугу, прикрывавшую его грудь. На губах Эркуле появилась зловещая улыбка, и он прошептал:
– Эти стальные рубашки, изготовленные в Милане, и вправду крепкой закалки. Ну что ж, Монтальте, будем считать, что я принял твой удар! И клянусь тебе, что уж мой-то кинжал найдет дорогу к твоему сердцу!
Между тем Монтальте устремился в лабиринт коридоров, огромных залов, дворов и лестниц. По крытой галерее, соединявшей Ватикан с замком Святого Ангела, он добежал до темницы, где побежденная Фауста ожидала смерти.
Весь дрожа, Монтальте приблизился к двери, которая охранялась двумя солдатами. Они хотели было скрестить перед ним свои алебарды, но, надо полагать, власть племянника Святейшего Отца была в Ватикане столь велика или, возможно, выражение его лица было в тот момент столь ужасно, что стражники попятились.
Монтальте открыл окошечко, которое позволяло наблюдать за тем, что происходило внутри темницы.
Вот что увидел через это окошечко кардинал Монтальте... Мимолетное и зловещее явление из смертного сна.
На узкой кровати распростерта молодая женщина... Молодая мать... она... Фауста, женщина ослепительной красоты. Взяв обеими руками ребенка, она поднимает его, и в этом движении сквозит и сила, и нежность; она смотрит на дитя своими огромными темными глазами, сверкающими, словно черные алмазы.
У кровати стоит служанка.
Странно спокойным голосом Фауста произносит:
– Ты возьмешь его, Мирти, и воспитаешь. Вы уедете во Францию, в Париж. Я хочу, чтобы он вырос далеко от Рима, далеко от Италии. А когда он станет взрослым, ты расскажешь ему и обо мне, и о его отце. Не бойся, никто не станет противиться твоему уходу из замка Святого Ангела, я добилась, чтобы с моею смертью умерла и месть Сикста V.
– Все сделаю, госпожа! – ответила Мирти и разрыдалась. – И я ничуть не стану бояться. После вашей смерти я должна жить, и я буду жить ради него!
Фауста слабо кивает головой, принимая это торжественное обещание. Минуту она хранит молчание, а затем, устремив глаза на ребенка, продолжает:
– Сын Фаусты... Сын Пардальяна... Что с тобой будет? Каким ты вырастешь? Отомстишь ли за мать? Сын Фаусты и Пардальяна, пусть сердце твое не знает жалости, любви, сострадания – всех тех чувств, что превращают человека в раба! Я хочу, чтобы ты пронесся по жизни безжалостным метеором, воплощением самого Рока. Прощай, сын Пардальяна! Я поцелую тебя, перед тем как умереть, и пусть моя сила и гордость перейдут тебе. Сын Пардальяна и Фаусты, что станется с тобой?..
Она склоняется к лобику младенца, целует его и передает служанке.
Все кончено. Мирти берет на руки ребенка, которого она должна увезти как можно дальше от Рима. Она отходит и отворачивается, словно желая скрыть от едва вступившего в жизнь крохотного невинного существа – сына Фаусты, сына Пардальяна, как его мать вступает в смерть.
Фауста неторопливо открывает золотой медальон, висящий у нее на груди, вынимает оттуда крупинки яда и кидает их в заранее подготовленный кубок.
Все кончено. Одним глотком Фауста осушила кубок и упала на подушку... бездыханная.
Глава 2 ВЕЛИКИЙ ИСПАНСКИЙ ИНКВИЗИТОР
По другую сторону двери послышался жуткий крик тревоги и ужаса. Это Монтальте; потрясенный, он кричит во весь голос, он рычит, сраженный этой непредвиденной развязкой: – Умерла?.. Как?! Она умерла! Безумец! Почему я не подумал о том, что, не желая попасть в лапы палача, Фауста покончит с собой!
И почти тотчас же он неистово обрушился на дверь; яростно колотя в нее кулаками и задыхаясь, он призывал:
– Скорее! Скорее! Помогите! Вдруг ее еще можно спасти?!
Попытка оказалась бесплодной, и, обращаясь к стражникам, которые безучастно присутствовали при этом взрыве отчаяния, он закричал:
– Откройте! Да откройте же! Говорю вам – она умирает... Ее надо спасти!
Один из стражников ответил:
– Эту дверь может открыть лишь верховный судья.
– Эркуле Сфондрато?! Будь я проклят!
И Монтальте рухнул на колени, обхватив голову руками и сотрясаясь от рыданий.
В этот момент чей-то голос произнес:
– Я тоже имею право открыть эту дверь... И я открываю ее!
Одним прыжком Монтальте вскочил на ноги, взглянул на человека, сказавшего эти слова, и прошептал с выражением скрытого ужаса, смешанного с почтительностью:
– Великий испанский инквизитор!
Иниго де Эспиноза, кардинал-архиепископ Толедский, великий испанский инквизитор, близкий родственник и преемник Диего де Эспинозы, был человеком лет пятидесяти, высоким, сильным, с лицом спокойным и бесстрастным, лишь изредка выражавшим хоть какое-то искреннее чувство. Вот уже месяц инквизитор находился в Риме. Он приехал сюда с миссией, о которой никто ничего не знал. Он вел многочисленные беседы с Сикстом V, при которых никто не присутствовал. Правда, было замечено, что престарелый папа – некогда весьма крепкий мужчина и опасный соперник в дипломатических баталиях – выходил после этих бесед с Эспинозой все более и более разбитым, все более и более постаревшим. Стало известно также, что назавтра инквизитор должен отбыть обратно в Испанию.
Следуя повелительному жесту Эспинозы, стражники поклонились, дрожа, и отошли в дальний конец коридора.
Не добавляя к сказанному ни слова, Эспиноза открыл дверь и вошел в темницу.
Монтальте устремился вслед за ним; сердце его отчаянно билось от безумной радости, его переполняла надежда – столь же великая, сколь и безрассудная. Совершенно уверенный, сам не зная почему, что сейчас свершится чудо, – ради него и прямо у него на глазах! – он бросился к узкой кровати, на которой покоилось тело Фаусты.
Внезапно он замер как вкопанный... Его блуждающий взор, исполненный боли, ярости и ненависти, остановился на крохотном существе, лежавшем на руках служанки.
Единственного взгляда на этого ребенка хватило, чтобы в мозгу этого сильного человека закружился целый вихрь беспорядочных мыслей, проникнутых всепоглощающей злобой, начисто сметающей любое человеческое чувство и не оставляющей ничего... ничего, кроме смертельной ненависти... Этот младенец – сын Пардальяна!
По-видимому, какой-то таинственный, но безошибочный инстинкт предупредил невинное создание, ребенок жалобно заплакал и прильнул к той, кому отныне было суждено стать его матерью.
Мирти, не сводя глаз с искаженного лица незнакомца, еще крепче сжала ребенка в своих объятиях, словно защищая его.
Ни одна деталь этой мгновенной немой сцены, красноречивый смысл которой был поистине ужасен, не ускользнула от острого взгляда великого инквизитора.
Однако он сказал спокойно, почти мягко, указывая на открытую дверь:
– Вы свободны, женщина. Выполняйте материнский долг, завещанный вам... Ступайте, и да хранит вас Господь!
И добавил повелительно, обращаясь к двум стражникам, по-прежнему неподвижно стоявшим в глубине коридора:
– Пропустите ее, да свершится милосердие Сикста!
Мирти, прижимая к груди сына Пардальяна и не проронив ни слова, переступила порог и быстро удалилась.
Эспиноза закрыл дверь и спокойно сел у изголовья мертвой Фаусты.
Когда ребенок исчез с глаз Монтальте, тот повернулся к Фаусте, чье побледневшее лицо в ореоле роскошных длинных волос выделялось на фоне белой подушки. Минуту он смотрел на нее, а затем упал на колени, схватил ее – уже холодную – руку, свисавшую с кровати, и, запечатлев на ней долгий поцелуи, разрыдался:
– Фауста! Фауста!.. Неужели это правда, и ты умерла?..
Вдруг он вскочил; глаза его налились кровью, в руке был зажат кинжал, он ревел:
– Горе тем, кто убил ее!..
Но оказавшись лицом к лицу с инквизитором, он словно очнулся, и понимание происходящего мгновенно вернулось к нему. Теперь он уже обращался к Эспинозе, и голос его был то страстным, то умоляющим:
– Монсеньор! О, монсеньор! Я чувствую: это вашей волею я приведен сюда! Зачем?.. О, монсеньор... Не знаю, возможно, мой рассудок гибнет, но мне кажется... да, да, я догадываюсь... я чувствую... я вижу – вы здесь для того, чтобы свершилось чудо... Ведь вы вернете ее к жизни, ведь так?.. Ради всего святого, говорите же, монсеньор!.. Говорите же, или, клянусь Господом, я последую за ней!..
Яростным жестом он направил кинжал в свою собственную грудь, готовый поразить себя.
Тогда Эспиноза, по-прежнему спокойный, сказал:
– Сударь, яд, который принцесса Фауста приняла на ваших глазах, был ей продан Магни, известным торговцем травами... Магни – мой человек... Существует единственное противоядие... Это противоядие у меня при себе... Вот оно!
И Эспиноза, порывшись в своем кошеле, вынул оттуда крохотный флакон.
Вопль безумной радости сорвался с губ Монтальте. Он обхватил ладони инквизитора и прошептал дрожащим голосом:
– Ах, монсеньор, спасите ее!.. Спасите Фаусту, а потом возьмите мою жизнь... Я отдаю ее вам.
– Ваша жизнь слишком дорога, кардинал... То, что я собираюсь просить у вас, слава Богу, менее существенно.
Это было сказано очень просто, даже ласково.
И тем не менее у Монтальте возникло ясное предчувствие, что инквизитор предложит ему какую-то чудовищную сделку, от которой и будет зависеть жизнь или смерть Фаусты. Однако же он посмотрел Эспинозе прямо в лицо и сказал:
– Все, что угодно, монсеньор! Просите!
Эспиноза подошел к нему совсем близко, почти вплотную, и, смерив взглядом, произнес:
– Берегитесь, кардинал!.. Берегитесь!.. Я спасу эту женщину, ибо дороже ее жизни нет ничего на свете... Но взамен вы будете принадлежать мне... Запомните это!
Монтальте яростно тряхнул головой, дабы показать, что его решение бесповоротно, и хрипло сказал:
– Я запомню, монсеньор. Спасите ее – и я принадлежу вам... Но ради Бога, поторопитесь, – добавил он, вытирая со лба бисеринки пота – знак тревоги.
– Я не забуду вашего торжественного обещания, – строго сказал Эспиноза.
И, указав на недвижную Фаусту, повелел:
– Помогите мне!
Нежно, словно лаская, Монтальте обхватил голову Фаусты своими дрожащими ладонями и, трепеща от надежды, тихонько приподнял ее, в то время как Эспиноза вливал ей в рот содержимое флакона.
– Теперь подождем, – сказал инквизитор.
Через несколько мгновений по щекам Фаусты разлился легкий румянец.
Склонившись над ней, Монтальте с невыразимой тревогой следил за действием противоядия – это действие казалось ему слишком медленным.
Наконец чуть заметное легкое дыхание оживило приоткрытые губы, и Монтальте, почувствовав на своем лице это слабое дуновение, в свою очередь, сам глубоко вздохнул, словно желая помочь невидимой работе, которая совершалась в этом организме.
Он положил руку на грудь Фаусты и тотчас выпрямился, глаза его заблестели: ее сердце билось... да, очень тихо, но все-таки билось!
– Она жива! Она жива! – вскричал он, обезумев от радости.
В тот же миг Фауста открыла глаза и устремила их на склонившегося над ней Монтальте; почти тотчас же, тяжело вздохнув, она вновь закрыла их.
Грудь ее поднималась от равномерного дыхания. Казалось, она спит.
Эспиноза, который невозмутимо созерцал эту сцену, сказал:
– Не пройдет и двух часов, как принцесса Фауста полностью придет в себя.
Монтальте, отныне уверенный, что чудо наконец свершилось, кивнул, показывая, что он согласен с этим утверждением, и склонившись перед Эспинозой, спросил:
– Каковы будут ваши приказания, монсеньор?
– Господин кардинал, – отвечал инквизитор, – я прибыл из Испании специально за неким документом, на котором стоит подпись Генриха III Французского и который скреплен его печатью. Документ заперт в маленьком секретере в спальне Его Святейшества. Никто не может проникнуть в эту спальню в отсутствие папы... Никто... кроме вас, Монтальте!.. Этот документ, – повторил он после небольшой паузы, – этот документ нам нужен!
С этими словами Эспиноза пристально посмотрел Монтальте прямо в глаза.
Кардинал холодно ответил:
– Извольте... Я иду за ним.
И тотчас, тяжело ступая, вышел.
Оставшись один, Эспиноза, казалось, погрузился в глубокие размышления. Затем он подошел к Фаусте и, слегка прикоснувшись к ее плечу, чтобы разбудить, сказал:
– Хватит ли вам сил, сударыня, выслушать и понять меня?
Фауста открыла глаза; ее серьезный и проницательный взгляд остановился на инквизиторе – тот довольствовался этим немым ответом и продолжал:
– Прежде чем я уйду, сударыня, я хочу успокоить вас касательно судьбы вашего младенца... Он жив... В это самое время ваша служанка Мирти, должно быть, уже покинула Рим, увозя тот священный груз, который вы доверили ей... Однако не думайте, будто Сикст V сохранил этому ребенку жизнь единственно ради того, чтобы сдержать данную вам клятву... Если ребенок еще жив, сударыня, то лишь потому, что Сиксту известно: вы где-то спрятали десять миллионов и завещали их вашему сыну... Если Мирти смогла беспрепятственно покинуть Рим, значит, Сикст знает, что вашей служанке ведомо то место, где зарыты миллионы.
На минуту Эспиноза умолк, желая увидеть, какое действие возымело его сообщение.
Фауста по-прежнему не сводила с него огромных черных глаз. Опытный взгляд инквизитора не обнаружил на этом бесстрастном лице ни малейшего следа волнения; но он должен был добиться своего и потому настаивал:
– Вы слышите меня?.. Вы меня хорошо поняли?
Фауста сделала знак, что поняла его.
Эспинозе пришлось и на сей раз довольствоваться этим безмолвным ответом.
– Это все, что я желал вам сказать, сударыня. Он степенно, пожалуй, даже почтительно, поклонился, медленно направился к двери и открыл ее. Но прежде чем перешагнуть порог, он обернулся и добавил:
– Еще одно слово, сударыня: господину де Пардальяну удалось спастись в пожаре Палаццо-Риденте... Пардальян жив, сударыня!.. Вы слышите меня? Пардальян жив!
После чего Эспиноза спокойно вышел.
Глава 3 СТАРОСТЬ СИКСТА V
Большой письменный стол, два кресла, небольшой секретер, несколько табуретов, узкая кушетка, скамеечка для молитвы, над ней – великолепное золотое распятие – чудо искусства Бенвенуто Челлини, единственный предмет роскоши в этом помещении; обширный камин, где пылает яркий огонь; пушистый ковер, тяжелые, плотно задернутые занавеси – такова была спальня Его Святейшества Сикста V.
Годы и постоянные труды сделали свое дело – это уже не тот богатырь, каким он был когда-то. Но огонь, который подчас еще вспыхивал в глазах под этими насупленными бровями, все же выдавал в старике неутомимого борца и хитрого интригана.
Сикст V сидел за письменным столом, спиной к камину. Он думал:
«К этому моменту Фауста уже приняла яд. Для тебя, палач, для тебя, народ Рима, праздник окончен: Фауста умерла!.. Служанка Мирти покинула замок Сант-Анджело, унося с собой ребенка Фаусты...-сына Пардальяна!..»
Папа поднялся, заложив руки за спину, сделал несколько шагов, затем вновь сел в кресло, повернул его к огню и протянул к пламени свои исхудавшие руки; он вновь вернулся к своим думам:
«Да, те несколько дней, что мне еще осталось прожить, будут спокойными – ведь этой авантюристки больше нет!.. Теперь мне, прежде чем я умру, остается лишь покончить с Филиппом Испанским... Покончить с ним! С католическим королем! Да, клянусь Небом, – ведь он хотел покончить со мной. Никто не может бросить вызов Сиксту V и остаться безнаказанным!.. Но как с ним покончить? Как?»
Папа повернулся к секретеру, вынул оттуда пергамент и медленно пробежал его глазами. Он прошептал:
– Да, вырвать такое признание у трусливейшего Генриха III – это был отличный замысел... Но еще более я горжусь тем, что решился так долго хранить его... Однако теперь Филипп прознал о его существовании, и великий инквизитор прибыл сюда, грозя мне смертью!.. Мне – главе всех католиков! Сикст V пожал плечами:
– Умереть – что за важность!.. Но умереть, так и не осуществив свою мечту – не изгнав Филиппа из Италии? Италия, объединенная с севера до юга, Италия, целиком покоренная и подвластная папе – хозяину мира... Что делать? Послать этот пергамент Филиппу? Через кого-то, кто никогда не доберется до места?.. Может быть... Уничтожить его? Для Филиппа это стало бы страшным ударом... Я поклялся Эспинозе, что уничтожил его... Да... одно движение – и он станет добычей этого пламени!..
Папа наклонился и приблизил к огню раскрытый пергамент, на котором видна была большая печать... печать Генриха III – короля Франции.
Языки пламени уже лизали края пергамента.
Еще мгновение – и конец мечтам Филиппа Испанского.
Внезапно Сикст V отодвинул документ от огня и, качая головой, повторил:
– Что же делать?..
В этот момент чья-то рука грубо схватила пергамент.
Сикст V в ярости обернулся и обнаружил перед собой своего племянника, кардинала Монтальте. Секунду они смотрели друг другу в глаза.
– Ты!.. Ты!.. Как ты смеешь?! Да я сейчас!..
И папа протянул было руку к лежащему на столе молотку черного дерева, чтобы позвать слуг и отдать приказание...
Одним прыжком Монтальте очутился между ним и столом и холодно сказал:
– Ради вашей жизни, святой отец, не двигайтесь и никого не зовите!
– Как! – сказал, вставая во весь рост, Сикст V. – Ты осмелишься поднять руку на папу римского?
– Я пойду на все... если не получу от вас то, за чем пришел!
– Чего ты хочешь?
– Я хочу...
– Ну же, решайся! Тебя ведь толкает безрассудная храбрость!
– Я хочу... Я хочу помилования Фаусты.
Папа сделал удивленный жест, но вспомнил, что Фауста умерла, и улыбнулся:
– Помиловать Фаусту?
– Да, святой отец, – сказал Монтальте, склонившись в почтительном поклоне.
– Помиловать Фаусту? Пожалуйста!
Среди многочисленных бумаг, загромождавших стол, папа отыскал чистый лист, преспокойно набросал на нем несколько строк и подписал их недрогнувшей рукой.
Пока папа писал, Монтальте успел быстро пробежать пергамент, который он вырвал у Сикста.
– Вот помилование, – сказал Сикст V, – полное и безоговорочное. А теперь, когда ты получил то, чего хотел, верни мне тот пергамент и уходи... уходи... Тебя – сына моей любимой сестры – я тоже прощаю!
– Одно слово, святой отец, прежде чем я верну вам тот пергамент: раз вы подписали помилование, стало быть, вы считаете Фаусту мертвой... Так вот, дядюшка, вы заблуждаетесь: Фауста не умерла!
– Фауста жива?
– Да! Ибо я спас ее, я сам дал ей противоядие, которое вернуло ее к жизни.
На минуту Сикст V задумался, а потом сказал:
– Ну что ж, пусть! В конечном счете, что мне за дело до живой Фаусты? Отныне она бессильна против меня. Ее могущество в делах церкви умерло в тот миг, когда у нее родился ребенок... Но ты – на что надеешься ты, чего ждешь от нее? Неужто ты все еще лелеешь безумную мечту о любви к тебе? Трижды безумец! Знай же, несчастный: ты скорее разжалобишь самый твердый камень, нежели Фаусту!
И добавил сурово:
– На свете не существует двух Пардальянов!
Побледневший Монтальте закрыл глаза.
Он и впрямь не раз уже думал об этом безвестном Пардальяне, которого любила Фауста. И тогда он чувствовал, как им овладевает слепая, смертельная ненависть. И тогда яростные проклятья срывались с его уст, и мысли о мести и об убийстве неотступно преследовали его. Но сейчас он ответил бесцветным голосом:
– Я ни на что не надеюсь. Я ничего не хочу... только спасти Фаусту... Что же касается этого пергамента, – добавил он жестко, – я отдам его Фаусте, и она отправится в путь, чтобы передать его Филлипу Испанскому, которому он и принадлежит... А для большей безопасности я сам буду сопровождать принцессу.
Сикст V не мог сдержать свое раздражение. Осознание того, что со стороны это выглядит так, будто он уступает едва скрытым угрозам, было для него невыносимо. Презрев кинжал Монтальте, он совсем уже собрался позвать стражу, когда внезапно вспомнил, что в конце концов, после долгих колебаний сам спас этот пергамент от огня. Несколько минут назад он в нерешительности размышлял об этом документе, не зная толком, что предпринять. Монтальте, сам того не желая, невольно подсказал ему выход из положения... Почему бы и нет? Да и имеет ли значение, кто именно повезет пергамент – Фауста или ее сообщник, раз все равно он не дойдет до места? Итак, решение было принято. Он ответил:
– Возможно, ты прав. А поскольку я помиловал и тебя, и ее, то – ступай!
Четверть часа спустя Монтальте уже был у Эспинозы и говорил ему:
– Монсеньор, пергамент у меня.
В холодных глазах инквизитора вспыхнул огонек, тотчас же, впрочем, погасший, и испанец сказал по-прежнему спокойно:
– Давайте его сюда, сударь.
– С вашего позволения, монсеньор, принцесса Фауста сама отвезет пергамент Его Величеству Филиппу Испанскому... Ведь именно это, я полагаю, самое важное для вас.
Эспиноза чуть нахмурился:
– Почему принцесса Фауста?
– Потому что я вижу в этом верный способ оградить ее от любых новых опасностей, – твердо сказал Монтальте, глядя ему в лицо.
– Согласен, господин кардинал. И впрямь, главное, как вы говорите, – чтобы этот документ как можно быстрее попал в руки моего государя.
– Принцесса отправится в дорогу, как только силы позволят ей предпринять это путешествие... Я могу уверить вас, что пергамент дойдет по назначению; я буду иметь честь самолично сопровождать госпожу Фаусту.
– Право, – серьезно сказал Эспиноза, – принцесса будет под надежной охраной.
– Я тоже так полагаю, монсеньор, – холодно ответил Монтальте.
Глава 4 ПРОБУЖДЕНИЕ ФАУСТЫ
Когда Фауста пришла в себя, первым ее чувством было безмерное удивление. Ее первой мыслью было: Сикст V не позволил, чтобы она ускользнула от топора палача. Однако в крике Монтальте, выражавшем свою радость при виде ее воскрешения, звучало столько страсти, что ей захотелось узнать кто же этот человек, который так любит ее? Она раскрыла глаза и узнала племянника папы. Она сразу же смежила веки и подумала:
«Он добился от Сикста, чтобы тот подарил мне жизнь... Но к чему мне жизнь, когда погибло мое дело и когда Пардальяна нет больше на свете?! Что я теперь? Ничто. И должна вернуться в ничто. Это произойдет еще до наступления вечера!»
Приняв такое решение, она стала прислушиваться к разговору и поняла, что ошиблась. Нет! Дело не в Сиксте V. Это Монтальте в одиночку, ценой какой-то гнусности, на которую он героически согласился, совершил чудо и вырвал ее из лап папы римского и самой смерти. Она тотчас же увидела, какую выгоду могла бы извлечь из такой преданности. Но к чему? Она хотела, она обязана умереть!
Однако, невзирая ни на что, она все-таки с интересом слушала то, что говорилось рядом с ее ложем. Что это был за документ? Какое отношение имеет к ней этот пергамент? Она почувствовала, что кто-то прикасается к ее плечу... услышала чьи-то обращенные к ней слова. Она открыла глаза и взглянула на Эспинозу. И мало-помалу ее разум стал опровергать се собственные доводы.
Ее сын? Да! Ее мысль уже обращалась к этому невинному созданию. Он жив... Он свободен... Это – самое важное... что же до всего остального, то лучше его матери умереть, чем быть погребенной в темнице. Но внезапно, словно удар грома, раздались роковые слова, эхом отозвавшиеся в ее затуманенном мозгу: – Пардальян жив! Два слова, воскрешающие в памяти прошлое... и опьяняющую страсть... и смертельные схватки! Прошлое, которое казалось ей таким далеким и которое, однако, было так близко – ведь всего несколько месяцев миновало с того дня, когда она захотела погубить Пардальяна в пожаре Палаццо-Риденте! Пардальян, столь ненавидимый... и столь любимый!..
Что же осталось в прошлом?
Она – богатая, некогда могущественная и обожаемая властительница – побеждена, разбита, унижена; все ее замыслы потерпели крах.
Он – бедный дворянин, не имеющий ни кола ни двора и, тем не менее, силой своего гения и своего щедрого сердца побеждающий любые интриги.
И высшее унижение для нее: ее любовью пренебрегли...
Пардальян жив! И, значит, для Фаусты смерть будет означать бегство от противника! Для Фаусты, которая никогда не отступала! Ну нет, она не хочет умирать!.. Она останется жить, чтобы продолжить трагическую дуэль и выйти наконец победительницей из этой великой схватки.
Тут в темнице вновь появился Монтальте.
Пока он склонялся над ней, она скользнула по нему быстрым и уверенным взглядом, оперлась спиной о подушку и величественно произнесла – так, словно она по-прежнему была грозной властительницей, желавшей с самого начала обозначить непреодолимую границу, разделяющую их. Итак, эта странная женщина, не ведающая, казалось, ни слабостей, ни усталости, спросила:
– Вы желаете говорить со мной, кардинал? Я слушаю вас.
И ее черные глаза, необычайно серьезные и исполненные внимания, встретились с глазами Монтальте.
Монтальте, который, быть может, мечтал покорить ее, побежденный первым же ее взглядом, склонился еще ниже, почти пал ниц в безмолвном обожании. Фауста поняла, что он безоглядно отдает ей душу и тело, и улыбнулась ему, ласково повторив:
– Говорите, кардинал.
И Монтальте тихим, дрожащим голосом сообщил ей, что она свободна.
Не выразив ни удивления, ни волнения, Фауста сказала:
– Значит Сикст V меня помиловал?
Монтальте покачал головой:
– Папа не помиловал, сударыня. Папа уступил воле, оказавшейся более сильной, чем его собственная.
– Вашей... не так ли?
Монтальте поклонился.
– Но в таком случае он отменит помилование, подписанное им по принуждению.
– Нет, сударыня, ибо одновременно с этим я получил от Его Святейшества документ, который станет вам защитой.
– Что это за документ?
– Вот он, сударыня.
Фауста взяла пергамент и прочла:
«Мы, Генрих, милостью Божьей король Франции, Господом нашим направляемый, устами нашего духовного отца, Святейшего папы римского, желая укрепить и сохранить в нашем королевстве католическую апостольскую римскую церковь, учитывая, что Господу было угодно, во искупление грехов наших, лишить нас прямого наследника, полагая, что Генрих Наваррский не способен править во Французском королевстве как еретик и зачинщик ереси, всем своим добрым и верным подданным объявляем: Его Величество Филипп II, король Испании, есть единственный, кто может наследовать нам на французском троне, будучи супругом Елизаветы Французской, нашей возлюбленной сестры, преставившейся ранее, и призываем наших подданных, оставшихся верными сынами Святой матери Церкви, признать его нашим воспреемникомиединственнымнаследником.»
– Сударыня, – сказал Монтальте, когда увидел, что Фауста закончила чтение, – слово короля имеет во Франции силу закона, и посему это воззвание толкает в партию Филиппа две трети Франции. Таким образом, Генрих Беарнский, покинутый всеми католиками, обнаружит, что его надежды рухнули навек. Его армия сократится до кучки гугенотов, и ему не останется ничего другого, как поспешно вернуться в свое Наваррское королевство, да и то если Филипп согласится ему его оставить. Тот, кто принесет Филиппу этот пергамент, доставит ему, таким образом, и корону Франции... И если этот человек обладает таким выдающимся умом, как вы, сударыня, он может вести переговоры с испанским королем, отнюдь не забывая и своих интересов... В Италии ваша власть свергнута, сама ваша жизнь здесь в опасности. При поддержке Филиппа вы сможете обрести такое могущество, которое наверняка пришлось бы по душе честолюбивейшему из честолюбцев. Я отдаю этот пергамент в ваши руки и прошу вас о помощи: доставьте его Филиппу!
Фауста опустила в задумчивости голову.
Ее сын? Он был под охраной Мирти, и Сиксту V до него не дотянуться... Позже она сможет разыскать его.
Пардальян?.. Его она также отыщет немного погодя.
Монтальте?.. Что касается его, то решать надо было немедленно. И она решила: «Ах, этот? Да он попросту станет моим рабом!»
Вслух же сказала:
– Если человек зовется Перетти, у него должно быть довольно честолюбия, чтобы действовать себе во благо... Для чего вы вырвали для меня это помилование у Сикста?.. Для чего помешали мне умереть?.. Зачем открываете передо мной это блистательное будущее?
– Сударыня... – пробормотал Монтальте.
– Я скажу вам: потому что вы любите меня, кардинал!
Монтальте упал на колени, умоляюще протянув к ней руки.
Повелительным жестом она остановила страстные излияния, которыми готов был разразиться молодой человек:
– Молчите, кардинал. Не произносите непоправимых слов... Вы любите меня, я знаю. Что ж, пусть так. Но я, кардинал, не полюблю вас никогда.
– Почему? Почему? – простонал Монтальте.
– Потому, – серьезно отвечала она, – что я уже люблю, кардинал Монтальте, а Фауста не может любить одновременно двоих.
Монтальте гневно выпрямился:
– Вы любите?.. Любите?! И вы говорите это мне?!
– Да, – просто ответила Фауста, глядя ему прямо в глаза.
– Вы любите! Но кого?.. Пардальяна, ведь так?..
И Монтальте яростным жестом выхватил кинжал. Фауста, недвижно лежавшая на кровати, спокойно посмотрела на него и голосом, от которого у Монтальте похолодело сердце, сказала:
– Вы сами произнесли это имя. Да, я люблю Пардальяна... Но, поверьте мне, кардинал, вам лучше убрать кинжал... Если кто-то и должен убить Пардальяна, то не вы.
– Не я? Но кто же тогда?! – прорычал Монтальте, побледнев как полотно.
– Я!
– Господи, почему?
– Потому что я его люблю, – холодно отвечала Фауста.
Глава 5 ПОСЛЕДНЯЯ МЫСЛЬ СИКСТА V
После ухода племянника Сикст V долго сидел, задумавшись, за письменным столом. Его размышления прервал приход секретаря – тихим голосом тот сообщил, что граф Эркуле Сфондрато настойчиво просит удостоить его аудиенции; секретарь добавил, что граф казался чрезвычайно взволнованным.
Имя Эркуле Сфондрато, внезапно ворвавшееся в размышления папы, блеснуло для Сикста ярким лучом, и он прошептал:
– Вот человек, которого я искал!
И добавил – уже громче:
– Пригласите графа Сфондрато.
Мгновение спустя появился верховный судья; он вошел решительным шагом и молча остановился перед папой по другую сторону стола; черты лица его были искажены, вся поза выдавала бушевавшие в нем чувства.
– Итак, граф, – сказал Сикст, пристально глядя на него, – что вы желаете сообщить мне?
Вместо ответа Сфондрато торопливо расстегнул камзол, приподнял кольчугу и показал отметину на груди, оставленную кинжалом Монтальте.
Папа взглядом знатока осмотрел рану и холодно произнес:
– Отличный удар, клянусь честью! И если бы не стальная рубаха...
– Вот именно! – сказал Сфондрато. мрачно улыбнувшись.
Затем, приведя свой костюм в порядок, он презрительно передернул плечами и процедил сквозь зубы:
– Удар кинжала – это пустяки... Я, может быть, и простил бы его тому, кто его нанес. Но есть нечто, чего я не прощу ему никогда, что порождает во мне смертельную ненависть, что заставит меня преследовать его везде и повсюду, пока мой кинжал не пронзит его сердце... Мы оба любим одну и ту же женщину!
– Прекрасно, – невозмутимо сказал Сикст. – Но к чему вы говорите мне это?
–Потому, святой отец, что это близко касается вас, потому что женщина, которую я люблю, носит имя Фауста, а человек, которого я ненавижу – это Монтальте!
Сикст V коротко глянул на него и холодно проронил:
– Я оценю по достоинству полученные от вас сведения.
Папа взял со стола пергамент и твердой рукой начал писать.
Сфондрато стоял, не шелохнувшись; он думал: «Он, верно, прикажет бросить меня в какую-нибудь темницу, но, клянусь преисподней, горе тому, кто посмеет прикоснуться к верховному судье!..»
Сикст V заполнил наконец пергамент.
– Вот вам бальзам на вашу рану, – сказал он. – Вы ведь просили у меня герцогство Понте-Маджоре и Марчиано. Это грамота на владение.
Пораженный Сфондрато машинально взял документ и спросил:
– Может быть, вы не расслышали, Ваше Святейшество?.. Человек, которого я собираюсь убить... Монтальте... Монтальте! Ваш племянник! Тот самый, на кого вы указали конклаву как на вашего преемника!
Папа поднялся; теперь он уже не казался сгорбленным. На его лице появилось выражение несказанной горечи. Он произнес:
– Мало просто поразить кинжалом этого Монтальте, ибо я хочу куда большего. Надо нанести удар по его начинаниям, по его любви, похитив у него Фаусту... Поверьте мне, это будет гораздо надежнее любого кинжального удара!
– О! – вскричал Сфондрато, задыхаясь от волнения. – Какое же преступление должен был совершить Монтальте, если вам, его дяде, пришла в голову подобная мысль?
– Этот человек, – отвечал папа с леденящим душу спокойствием, – мне больше не племянник. Монтальте – мой враг. Монтальте – враг нашей церкви! Он – заговорщик! Он вырвал из моих рук оружие, которое может разрушить папское могущество, и Фауста, помилованная папой, – да-да, помилованная мною! – Фауста, живая и свободная, сама отвезет это оружие проклятому испанцу.
– Фауста помилована! – воскликнул пораженный Сфондрато.
– Да, – подтвердил Сикст, – Фауста свободна!.. Не пройдет и нескольких часов, как она, быть может, покинет Рим и отправится под охраной Монтальте в Эскуриал, дабы вручить Филиппу документ, отдающий ему французский трон. Вот каково преступление Монтальте, ставшего послушным служителем великого инквизитора!
– Фауста свободна! – Сфондрато заскрежетал зубами. – Фауста уезжает с Монтальте! Пока я жив, этому не бывать. Клянусь преисподней!
Он решительно бросил на стол грамоту, только что пожалованную ему Сикстом и делавшую его герцогом:
– Возьмите обратно эту бумагу, святой отец, освободите меня от обязанностей верховного судьи, но взамен сделайте начальником вашей полиции. Не больше чем через час я верну вам сей важный документ... Эшафот готов, палач ждет. И пусть я умру от невыносимой муки, но эта женщина принадлежит палачу, и ее голова упадет с плеч! Я схвачу Монтальте и обреку его на смерть как бунтовщика и богохульника; что же до великого инквизитора, то одного удара кинжалом будет достаточно, чтобы навсегда избавить вас от него... Я жду, святой отец, приказывайте!
– Если я соглашусь с вами, – мрачно сказал папа, – я не проживу и трех дней!
Сфондрато, в изумлении взглянув на него, попятился, а Сикст пояснил:
– Неужели вы думаете, что Монтальте, Фауста да и сам великий инквизитор много значат, когда Сикст V взвешивает их жизни в своей ладони? Клянусь кровью Господней, стоит мне только сжать кулак, и я раздавлю их! Но над великим инквизитором стоит Инквизиция! Перед нею я бессилен. Если я нанесу им удар... если попытаюсь вернуть себе этот документ, инквизиция убьет меня... А я пока не хочу умирать... Мне нужно прожить еще два или три года, чтобы обеспечить окончательное торжество папской власти!.. Понимаете ли вы теперь, почему Монтальте, Фауста и Эспиноза должны свободно покинуть мое государство?
Новый герцог Понте-Маджоре слушал с напряженным вниманием, а когда папа кончил, сказал:
– Ну что ж, святой отец, пусть они едут... Но как только они окажутся за пределами вашей страны, я нагоню их, и – клянусь вам! – в тот же миг их путешествие закончится.
– Может быть! Однако же все знают, что вы служите мне, так что... К тому же, герцог, уверены ли вы в своих силах?
– Я не испугаюсь и сотни Монтальте! – вскричал новоиспеченный герцог.
– А великий инквизитор?
– Дайте приказ – и он умрет!
– А Фауста?
– Фауста! – пробормотал Сфондрато и стал белее мела.
– Да! Фауста, несчастный! Она же убьет вас! Сломает вас точно так же, как я ломаю это перо!
Резким движением пальцев Сикст V переломил перо, которое машинально вертел в руке, и, отвечая на безмолвный вопрос герцога, властно заявил:
– Нет, нет, помимо себя я знаю лишь одного-единственного человека, способного противостоять Фаусте... и победить се... Этот человек – шевалье де Пардальян!
Герцог даже скрипнул зубами с досады, затем преодолел волнение и спросил хриплым голосом:
– Вы полагаете, святой отец, что он добьется успеха там, где я потерплю поражение?
– Я видел, как он одерживал верх в страшнейших схватках. Да если бы Пардальян пожелал... если бы у кого-то хватило ума и достало ненависти, чтобы разыскать этого человека и убедить его... Да, я уверен, что нет иного способа остановить Фаусту и Монтальте!
– У меня хватит ума и достанет ненависти, Ваше Святейшество! Я согласен уйти в тень. И раз на свете есть бульдог, которому под силу растерзать их своими челюстями, значит я отправлюсь за ним, приведу его сюда, и вы натравите его на них! – прогремел Понте-Маджоре.
И добавил про себя: «При условии, что потом я непременно обломаю ему клыки...»
– Натравите! Натравите!.. Легко сказать... Знайте, герцог, что Пардальян не тот человек, которого можно натравить когда угодно и не кого угодно... Нет, клянусь телом Христовым, Пардальян идет в бой только в том случае, если враг ему под стать!.. И тогда горе тем, на кого он обрушивается... Натравить Пардальяна! – повторил папа со зловещим смехом и пожал плечами.
А затем, уже серьезно, добавил:
– Один Господь Бог может обрушить молнию!
– Святой отец, неужто вы говорите так о человеке?
– Герцог, – сурово сказал папа, – Пардальян, быть может, единственный человек, который заставил Сикста V восхищаться собой... Ну что же, герцог, коли вы так хотите, попробуйте убедить Пардальяна.
– Где мне его искать?
– В лагере Беарнца. Вы поедете верхом и направитесь к Генриху Наваррскому. Вы сообщите ему точное содержание документа, который Фауста везет к Филиппу, документа, который у нас вырвали силой! Ваша официальная миссия этим и ограничивается. Остальное уже касается только вас... Вам предстоит найти Пардальяна и сказать ему: «Фауста жива! Фауста везет Филиппу пергамент, который отдает ему французскую корону».
– И это все, что я должен буду ему сказать, святой отец?
– Да, все... вполне достаточно, уверяю вас!
– Когда нужно ехать?
– Не медля ни секунды.
Глава 6 ШЕВАЛЬЕ ДЕ ПАРДАЛЬЯН
Эркуле Сфондрато, герцог Понте-Маджоре, выехал из Рима по дороге, ведущей во Францию. Он сразу пустил коня в галоп. Страсти бушевали в его груди. В ней клокотали ярость, ненависть и любовь. В полулье от Вечного города он внезапно остановился и долго безмолвно взирал на высящийся вдали силуэт замка Святого Ангела; черты его лица были искажены. Он сжал кулаки и прошептал:
– Берегись, берегись, Монтальте, с этой минуты я становлюсь твоим смертельным врагом, и ничто не сможет выбить оружия из моих рук!..
И еще тише, но на сей раз ласково, добавил:
– О, Фауста!..
После чего он вновь понесся вскачь – и вот уже несколько дней по горам и долинам мчится стрелой неукротимый всадник, которого ведет вперед месть.
Понте-Маджоре проехал всю Францию, загнав нескольких лошадей и останавливаясь лишь тогда, когда едва не падал с седла от усталости.
В нескольких лье от Парижа он нагнал дворянина, который тоже направлялся к столице; Понте-Маджоре заговорил с незнакомцем, желая узнать последние новости о короле Генрихе.
– Сударь, – отвечал неизвестный всадник, – Его Величество король расположился со своим войском в деревушке Монмартр, в аббатстве бенедектинок госпожи Клодины де Бовильс; говорят, дни свои она проводит в молитвах, а ночами пытается обратить короля-еретика в святую веру.
Понте-Маджоре внимательно взглянул на незнакомца, выражающегося с такой насмешливой непочтительностью, и увидел человека лет сорока, с тонким лицом и медальным профилем, одетого безо всякой вычурности, но с элегантностью, – она сквозила в его манере носить камзол и плащ, складки которого красиво ниспадали на круп коня.
– Если вы желаете, сударь, – продолжал неизвестный, – я проведу вас к королю, он как раз назначил мне сегодня вечером явиться к нему.
Удивленный Понте-Маджоре бросил почти презрительный взгляд на простой, лишенный каких бы то ни было украшений костюм всадника.
– О! – усмехнулся незнакомец, – вы будете еще более удивлены, увидев короля: он носит такой потертый камзол, что, право, почти наверняка устыдится вас, устыдится ваших блестящих позументов, великолепного плаща из генуэзского бархата, вот этой шляпы с невиданным пером и золотых шпор...
– Довольно, сударь, – прервал его Понте-Маджоре, – не доводите меня до крайности или, клянусь Господом Богом, я докажу вам, что хотя на моем камзоле – серебро, а на шпорах – золото, однако в ножнах у меня – сталь.
– В самом деле, сударь? Ну что ж, я не стану донимать вас и лишь выражу вам свое восхищение – не подобает знатному вельможе, прибывшему сюда прямо из далекой Италии...
– Откуда вы это знаете? – гневно оборвал его Понте-Маджоре.
– О, сударь, если вы не желаете, чтобы это было известно, вам следовало бы оставить ваш акцент по ту сторону гор.
И с этими словами дворянин отвесил изящный и непринужденный поклон и спокойно продолжил свой путь.
Понте-Маджоре поднес было руку к кинжалу, но затем присмотрелся повнимательнее к могучим плечам незнакомца и предпочел опустить ее, буркнув себе под нос:
– Надо сначала выполнить миссию, ради которой я здесь. Вот встречусь с королем, разыщу проклятого Пардальяна, тогда и настанет время преподать урок этому наглецу, если он еще встанет на моем пути. Эй, сударь, – продолжал он вслух, – не сердитесь, прошу вас, и позвольте мне принять великодушное предложение, только что сделанное вами.
Незнакомец вновь поклонился и произнес, почти не разжимая губ:
– В таком случае, милостивый государь, следуйте за мной.
Оба всадника пустили лошадей рысью и к вечеру, когда солнце уже начало клониться к закату, оказались на высотах Шайо.
Французский дворянин остановился, вытянул вперед руку и объявил:
– Париж!..
Над столицей нависла угрюмая тишина; впрочем, зданий почти не было видно – лишь бесконечное нагромождение крыш, среди которых вздымались шпили бесчисленных церквей и массивные каменные стены, призванные защищать город, который сейчас был охвачен полотняным кольцом – палатками королевского войска; кольцо это все больше сжималось.
Пока Понте-Маджоре вглядывался в панораму осажденного города, его спутник, казалось, думал о чем-то своем. Наверное, в его мозгу всплывали воспоминания; наверное, само место, где он сейчас находился, напоминало ему какой-нибудь героический или счастливый эпизод из его жизни, которая по всей видимости была полна приключений... На лице его блуждала слабая улыбка. Вероятно, это было поэтичное воспоминание, воспоминание о том редком часе из прошлого, который не был замутнен печалью и горечью.
– Итак, сударь, – сказал Понте-Маджоре, – я к вашим услугам.
Незнакомец вздрогнул и, вернувшись из страны своих грез, прошептал:
– Поедемте...
Они спустились к Парижу, повернув в сторону Монмартра.
Под стенами они увидели все тот же муравейник осаждающих войск.
На крепостных валах томились безразличные ко всему ландскнехты. Их окружало множество священников и монахов с подоткнутыми рясами и откинутыми капюшонами; у некоторых из них на голове был шишак, кое-кто носил кирасу; все были вооружены пиками, алебардами, копьями, кинжалами, старыми мушкетами или же попросту крепкими дубинами. Кроме того, каждого из них украшало распятие – либо зажатое в руке, либо подвешенное у пояса. И все эти странные солдаты сновали взад и вперед, хлопотали, проповедовали, богохульствовали, а заодно и неплохо несли охрану города.
Монахи то и дело отгоняли от себя огромную толпу оборванцев; едва передвигая ноги, эти люди с упорством отчаяния лезли на зубцы крепостной стены и кричали оттуда жалобными голосами:
– Хлеба!.. Хлеба!..
– Судя по всему, – сказал Понте-Маджоре, усмехаясь, – парижане не отказались бы от приглашения пообедать.
– Да, это правда, – прошептал незнакомец, – их мучит голод. Бедняги...
– Вы жалеете их? – спросил Понте-Маджоре с той же ухмылкой.
– Сударь, – отвечал незнакомец, – мне всегда было жалко людей, которых мучит голод и жажда, ибо я сам в моих долгих странствиях по белу свету частенько не мог поесть и попить всласть.
– Вот уж чего со мной никогда не случалось, – презрительно фыркнул Понте-Маджоре.
Незнакомец окинул его с ног до головы странным взглядом и с улыбкой отвечал:
– Оно и видно.
Хотя ответ был очень простым, он прозвучал как оскорбление, и Понте-Маджоре побледнел.
Он, наверное, ответил бы на сей раз прямым вызовом, но вдали послышался мощный гул, который, приближаясь, все нарастал, перекатываясь от одного отряда к другому, и наконец его раскаты докатились до них:
– Король!.. Король!.. Да здравствует король!.. Словно по волшебству, вопящая и исступленная толпа заполнила крепостные валы, оттолкнула солдат-монахов, захватила орудия. Из многих сотен глоток раздавалось:
– Сир!.. Сир!.. Хлеба!..
– Вот и я, друзья мои! – кричал Генрих IV. – Эй, клянусь чревом Господним, какого черта вы не открываете мне ворота?
И тогда незнакомец и Понте-Маджоре стали свидетелями одного из тех волнующих событий, какие история с умиленной улыбкой заносит в свои хроники.
Когда Генрих IV спешился и двести или триста окружавших его всадников последовали его примеру, стала видна целая вереница мулов, груженных огромными хлебами. Генрих IV первым взял один из них, насадил его на огромный шест и протянул на крепостной вал голодающим. Тс в мгновение ока разделили хлеб на мелкие кусочки и проглотили их.
– Что он делает? – вскричал потрясенный Понте-Маджоре.
– Вы же видите, сударь, что Его Величество приглашает парижан отобедать!
Тем временем всадники из королевского эскорта принялись помогать своему повелителю. Со всех сторон самыми различными способами осажденным передавали еду, и те с восторгом принимали ее; на крепостной стене звенели радостные крики и благословения, которые вскоре вылились в приветственный вопль:
– Да здравствует король! Когда все хлебы были розданы, король сказал:
– Ешьте, ешьте, друзья мои, завтра я принесу вам еще.
– Браво, сир! – воскликнул незнакомец.
– Интриган! – пробормотал Понте-Маджоре.
Генрих IV обернулся к тому, кто так громко выразил свое одобрение, и с радушной улыбкой приветствовал его:
– А, наконец-то!.. Вот и господин де Пардальян!
– Пардальян! – с удивлением прошептал Понте-Маджоре.
– Господин де Пардальян, – продолжал Генрих IV, – я весьма рад видеть вас. И поспешность, с какой вы ответили на мое приглашение, сулит мне надежду, что на сей раз вы станете на нашу сторону.
– Сир, вы отлично знаете, что я всецело предан Вашему Величеству.
Хитрые глаза Генриха IV остановились на секунду на улыбающейся физиономии шевалье; король сказал:
– В седло, господа, мы возвращаемся в деревню Монмартр. Господин де Пардальян, извольте занять место подле меня.
Когда кавалькада уже трогалась, Пардальян обратился к Понте-Маджоре:
– Сударь, если вам будет угодно назвать мне ваше имя, я буду иметь честь по прибытии в Монмартр представить вас, как я и обещал, Его Величеству...
– В таком случае соблаговолите представить Эркуле Сфондрато, герцога де Понте-Маджоре и Марчиано, посланника Его Святейшества Сикста V к Его Величеству королю Генриху и к шевалье де Пардальяну!
Легкая дрожь пробежала по телу Пардальяна, но его беззаботный и насмешливый нрав тотчас же взял верх:
– Черт возьми, я и не ожидал подобной чести! Когда король уезжал во главе своих дворян, с крепостной стены ему вслед неслись благодарственные крики.
– До свидания, друзья мои, до свидания! – воскликнул Генрих IV.
И повернувшись к Пардальяну, который скакал рядом с ним, вздохнул:
– Какая жалость – такие симпатичные люди упорно не желают открыть мне ворота!
– О, сир, – сказал шевалье, пожимая плечами, – эти ворота растворятся сами собой, как только вы того захотите.
– Как это?
– Я уже имел честь говорить Вашему Величеству: Париж стоит мессы!
– Посмотрим... попозже, – произнес Генрих IV с тонкой улыбкой.
– Все равно это придется сделать, – прошептал шевалье.
На этот раз Генрих ничего не ответил.
Вскоре эскорт остановился перед аббатством; король въехал туда в сопровождении Пардальяна, Понте-Маджоре и нескольких дворян.
Когда государь, ехавший впереди, спешился, Пардальян, который, по-видимому, уже успел предупредить его о прибытии папского посланника, представил герцога:
– Сир, имею честь представить Вашему Величеству господина Эркуле Сфондрато, герцога Понте-Маджоре и Марчиано, посланника Его Святейшества Сикста V к королю Генриху IV и к шевалье де Пардальяну.
– Соблаговолите следовать за нами, сударь. Господин де Пардальян, когда вы получите сообщение, Которое господин герцог должен вам передать, не забудьте, что мы ждем вас.
Шевалье поклонился, и король повернулся к людям, занятым разгрузкой мешков. Один из мешков, ударившись обо что-то, издал серебристый звон, и этот звук заставил Беарнца, которому вечно не хватало денег, прислушаться. Заметив того, кто наблюдал за переносом драгоценного груза, король радостно воскликнул:
– Эй, Санси, неужели вы наконец нашли покупателя для вашего замечательного бриллианта и привезли нам толику денег, чтобы заполнить наши пустые сундуки?
– Я и вправду нашел, сир, но не покупателя, а заимодавца – под залог этого бриллианта он согласился одолжить мне несколько тысяч пистолей, которые я и принес моему королю.
– Благодарю, мой славный Санси. – В голосе Генриха IV прозвучало плохо скрытое волнение. – Не знаю, когда я смогу вернуть вам их, да и смогу ли вообще, но, клянусь чревом Господним, деньги не главное для дворян вроде вас и меня!
И бросил потрясенному герцогу Понте-Маджоре:
– Пойдемте, сударь.
Войдя в зал, служивший ему рабочим кабинетом, где трудились двое его секретарей – Рюзе де Болье и Форже де Френ, – король сказал:
– Говорите, сударь.
– Сир, – сказал герцог Понте-Маджоре с поклоном, – Его Святейшество поручил мне передать Вашему Величеству копию документа, который святой отец полагает чрезвычайно занимательным.
Генрих IV с величайшим вниманием прочел копию уже известного нам воззвания Генриха III. Дочитав, он невозмутимо произнес:
– А оригинал?
– Мне поручено сообщить Вашему Величеству, что оригинал находится в руках принцессы Фаусты; я думаю, в этот час она в сопровождении кардинала Монтальте находится на пути в Испанию, куда направляется, чтобы передать сей документ Его Католическому Величеству.
– Что еще, сударь?
– Это все, сир. Папа римский счел своим долгом засвидетельствовать свои дружеские чувства Вашему Величеству и предупредить вас. Что до всего остального, святой отец слишком хорошо знает недюжинный ум Вашего Величества и потому убежден, что вы сумеете принять меры, какие сочтете нужными.
Генрих IV кивнул в знак согласия. После недолгого молчания он пристально взглянул на Понте-Маджоре:
– Кардинал Монтальте, кажется, – родственник Его Святейшества?
Герцог поклонился.
– И что же произошло?
– Кардинал Монтальте поднял, открытый мятеж против святого отца! – резко сказал Понте-Маджоре.
– Понятно!..
И обратившись к одному из секретарей, король приказал:
– Рюзе, проводите господина герцога к шевалье де Пардальяну и устройте так, чтобы они смогли свободно поговорить. Затем, когда они закончат, приведите господина де Пардальяна ко мне.
И заключил с любезной улыбкой:
– Ступайте, господин посол, и не забудьте, что мне будет приятно повидать вас перед вашим отъездом.
Несколько минут спустя Эркуле Сфондрато, герцог Понте-Маджоре, остался наедине с шевалье де Пардальяном, весьма и весьма заинтригованным, но умело скрывающим свое любопытство под привычной маской иронии и беззаботности.
– Сударь, – сказал шевалье непринужденным тоном, – будет ли вам угодно сообщить мне. чему я обязан величайшей честью, коей меня удостаивает святой отец, посылая ко мне, бедному дворянину без гроша в кармане, столь важную персону, как герцог Понте-Маджоре и Марчиано?
– Его Святейшество поручил мне объявить вам, что принцесса Фауста жива... жива и свободна.
Шевалье чуть заметно вздрогнул, но тотчас взял себя в руки:
– Смотрите-ка! Госпожа Фауста жива!.. Ну что же, рад за нее... Однако почему эта новость может заинтересовать меня?
– Простите, сударь? – вырвалось у пораженного герцога Понте-Маджоре.
– Я говорю: какое мне дело до того, что госпожа Фауста жива? – повторил шевалье с таким простодушно удивленным видом, что Понте-Маджоре еле слышно пробормотал:
– О! Но... неужели он ее не любит?.. Тогда это все меняет!
Пардальян продолжал:
– А где принцесса Фауста находится сейчас?
– Принцесса находится по дороге в Испанию.
– Испания, – вслух размышлял Пардальян, – страна инквизиции!.. Мрачный гений Фаусты неизбежно должен был обратиться к этому орудию деспотизма... да, это было неизбежно!
– Принцесса везет Его Католическому Величеству документ, который обеспечивает Филиппу Испанскому французский трон.
– Французский трон?.. Проклятье! И что же это за документ, скажите на милость, чтобы отдать вот так, ни за что ни про что, целую страну?
– Заявление покойного короля Генриха III, признающего Филиппа II своим единственным наследником.
Мгновение Пардальян оставался погруженным в глубокую задумчивость, а затем поднял голову – на лице его играла насмешливая улыбка:
– И это все, что вы имеете мне сообщить от имени Его Святейшества?
– Это все, сударь.
– В таком случае соблаговолите извинить, но Его Величество король Генрих, как вы знаете, ждет меня... Прощу вас передать Его Святейшеству мою признательность за драгоценные сведения, которые он мне сообщил, а сами примите благодарность вашего покорного слуги.
Генрих IV встретил сообщение герцога Понте-Маджоре с чисто королевской невозмутимостью, но на самом деле удар оказался ужасным, и Беарнец в тот же миг увидел зловещие последствия, которые он мог иметь для Франции.
Он тотчас же созвал на тайный совет тех из своих верных людей, кто оказался поблизости, и когда Пардальяна провели к королю, он обнаружил возле Генриха Рони, дю Бартаса, Санси и Агриппу д'Обинье, срочно откликнувшихся на призыв государя.
Как только шевалье сел, король, только его и ждавший, кратко пересказал свою беседу с Понте-Маджоре и зачитал копию документа, которую Сикст V велел ему передать.
Пардальян, уже знавший в чем дело, и бровью не повел. Но четыре советника пережили мгновение невыразимого потрясения, а за ним последовал настоящий взрыв:
– Надо его уничтожить!!!
И только Пардальян ничего не сказал. Король не спускал с него глаз:
– А ваше мнение, господин де Пардальян?
– Я скажу то же, что и все остальные: надо завладеть этим пергаментом или же на ваших надеждах можно поставить крест, – холодно ответил Пардальян.
Король одобрительно кивнул и, пристально глядя на шевалье, словно желая подсказать ему желаемый ответ, прошептал:
– Кто же тот человек – настолько сильный и мужественный, насколько и хитроумный, – который сможет справиться с этим делом?
Рони, Санси, дю Бартас, д'Обинье – все как один, словно заранее сговорившись, повернулись к Пардальяну. И эта безмолвная дань уважения таких выдающихся людей, не раз блистательно доказавших свою доблесть в войне или в интриге, эта дань уважения была столь непосредственной и искренней, что шевалье почувствовал легкое волнение. Но он сдержался и ответил с присущей ему замечательной безыскусностью:
– Значит, им буду я.
– Так вы согласны? Ах, шевалье, – воскликнул Беарнец, – если когда-нибудь я стану королем... настоящим королем Франции... именно вам я буду обязан своей короной!
– Вы ничем не будете мне обязаны, сир... И Пардальян добавил со странной улыбкой:
– Видите ли, госпожа Фауста – моя старинная знакомая, и я бы не отказался перекинуться с ней парой слов... Я постараюсь сделать так, чтобы этот документ никогда не попал в руки Его Католического Величества... Что до способов, какими я стану этого добиваться...
– Сударь, – живо прервал его король, – это касается только вас... Вы получите все необходимые полномочия.
Пардальян удовлетворенно улыбнулся.
После минутного размышления король сказал:
– Чтобы облегчить, насколько возможно, выполнение этой тайной миссии, которая должна во что бы то ни стало оказаться успешной, вам следует действовать под прикрытием другой миссии, на сей раз – официальной. Поэтому вы направляетесь к королю Филиппу Испанскому, дабы потребовать от него вывести войска, размещенные им в Париже.
И повернувшись к секретарю, король приказал:
– Рюзе, подготовьте письма, аккредитующие шевалье де Пардальяна в качестве нашего чрезвычайного посланника при Его Величестве Филиппе Испанском.
Пардальян же тем временем размышлял с печалью и покорностью судьбе: «Положительно, мне на роду написано умереть в шкуре дипломата!.. Что бы сказал мой достопочтенный батюшка, если бы, восстав из гроба, увидел собственного сына, вознесенного в ранг чрезвычайного посланника?»
При этой мысли ироническая улыбка чуть тронула его губы.
– Ну, и скольких же людей вы желаете получить в свое распоряжение? – продолжил король.
– Людей?.. Но для чего, сир?.. – произнес Пардальян со своим обычным простодушно-удивленным видом.
– Как для чего? – воскликнул пораженный король. – Не собираетесь же вы предпринять такое путешествие в одиночку? Не собираетесь же вы самолично бороться с испанским королем и его инквизицией?.. Не собираетесь же вы, наконец, в единоборстве оспаривать у Филиппа французскую корону, чтобы отдать се мне?
– Клянусь честью, сир, – ответил шевалье с невозмутимым спокойствием, – я не знаю, что именно собираюсь предпринять!.. Но совершенно ясно одно: если мне суждено добиться успеха, то только в одиночку... А стало быть, я и буду действовать в одиночку, – заключил он холодно, устремив сверкающий взор на короля.
– Клянусь чревом Господним! – вскричал ошеломленный Генрих IV.
Пардальян поклонился, давая понять, что его решение непоколебимо.
Мгновение Беарнец смотрел на него с восхищением, которое он даже не пытался скрыть. Затем его взгляд обратился к советникам, онемевшим от удивления, и наконец король воздел руки к небу, что, по всей видимости, должно было означать: «Да уж, от этого чертова шевалье можно ожидать всего, даже невозможного!»
И обратившись к Пардальяну, который спокойно, почти безразлично ждал продолжения беседы, Генрих спросил:
– Когда вы рассчитываете уехать?
– Сию минуту, сир.
– Хорошо, очень хорошо, просто превосходно! Дайте мне вашу руку, сударь!
Пардальян пожал руку короля и тотчас вышел, а сразу же за ним – Санси, которому Беарнец шепотом отдал какое-то распоряжение.
В тот момент, когда шевалье уже намеревался сесть в седло, Санси вручил ему верительные грамоты и приказ о его полномочиях, говоря:
– Господин де Пардальян, Его Величество приказал мне передать вам тысячу пистолей на дорожные расходы.
Пардальян с явным удовлетворением принял пухлый мешочек, но при этом насмешливо спросил:
– Вы говорите, господин де Санси, тысячу пистолей?
И получив подтверждение, отозвался:
– Черт подери, неужто король наконец-то разбогател?.. Или же его скаредность, о которой так много говорят, всего лишь легенда? Как! Тысяча пистолей?.. Это слишком! Право, слишком!
С этими словами от тщательно запрятал мешочек в глубины своего плаща.
Покончив с этой немаловажной операцией, он вскочил в седло и пожал руку Санси:
– Передайте королю, чтобы на будущее он был побережливее со своими пистолями... А не то, мой бедный де Санси, вам придется заложить даже застежки от камзола.
И он покинул ошеломленного де Санси, не знающего, что вызывает в нем больше восхищение: несгибаемое мужество Пардальяна или же его безрассудная беззаботность.
Глава 7 БЮССИ-ЛЕКЛЕРК
В то время, когда король ожидал шевалье де Пардальяна, в келью по соседству с кабинетом, где Беарнец совещался со своими приближенными, вошла аббатиса Клодина де Бовилье. Аббатиса приблизилась к стене, открыла маленький потайной глазок, скрытый в гобелене, и через это узкое отверстие стала слушать беседу, не упуская из нее ни слова, и наблюдать за тем, что творилось в кабинете.
Когда Пардальян вышел от короля, Клодина де Бовилье закрыла глазок и тоже покинула келью.
Минуту спустя она уже была наедине с королем; тот, заметив серьезное выражение ее обычно радостного лица, галантно воскликнул:
– Ой-ой-ой, мой нежный друг, откуда взялась эта тучка, которая омрачает вашу красоту и гасит блеск ваших прекрасных глаз?
– Увы, сир! Настали суровые времена! А ноша нашего служения слишком давит на слабые женские плечи.
Направив таким образом разговор в нужное ей русло, Клодина начала длинный рассказ о своих заботах аббатисы и о денежных затруднениях, с которыми она ежедневно и ежеминутно сталкивается.
– Сто тысяч ливров, сир! Имея эти деньги, я спасу обитель от разорения. Неужели вы откажете мне в этих несчастных ста тысячах ливров?
Настроение Беарнца заметно ухудшилось, как только прозвучала эта весьма кругленькая сумма. Но Клодина настаивала, и король жалобно произнес:
– Увы, душенька, да где же я возьму вам столько денег?.. Ах, если бы парижане открыли мне ворота!.. Если бы я был французским королем!..
Прозвучало это довольно-таки неубедительно и было сказано из чистой галантности, в чем Клодина прекрасно отдавала себе отчет. Тогда она решила умерить свои притязания:
– Коли дело лишь за тем, чтобы подождать, сир, то я, быть может, и обошлась бы пока как-нибудь... Но если бы, по крайней мере, вы пообещали мне дать какое-нибудь аббатство побольше... Фонтевро, например.
– Ох, мое сердечко, ну что вы говорите! Аббатство Фонтевро первейшее в королевстве. Претендовать на управление им могут лишь лица королевской крови или уж во всяком случае принадлежащие к какому-нибудь прославленному дому.
Таким образом Клодина де Бовилье покинула своего августейшего возлюбленного, ничего от него не добившись, кроме разве что нескольких туманных обещаний. И потому, идя по широкому коридору, ведущему в ее покои, она шептала:
– Раз Генрих не хочет ничего для меня сделать, я перейду на сторону Фаусты – она-то, по крайней мере, умеет быть признательной за оказанные ей услуги.
И Клодина горько улыбнулась:
– А ведь сто тысяч ливров – не Бог весть какая сумма!.. Этот отказ дорого вам обойдется, мой милый король... очень дорого!
Вернувшись к себе, аббатиса долго о чем-то размышляла, после чего призвала к себе одну из сестер-послушниц, дала ей подробнейшие инструкции и выпроводила со словами:
– Ступайте, сестра Марьянж, и действуйте побыстрее.
Не прошло и часа, как сестра Марьянж ввела к аббатисе мужчину, старательно кутавшегося в широкий плащ.
Когда дверь за сестрой захлопнулась, аббатиса сказала:
– Прошу вас, садитесь, господин Бюсси-Леклерк... Здесь вы в безопасности.
Бюсси-Леклерк поклонился и ответил свирепым тоном:
– Сударыня, чтобы привести в этот дом отверженного Бюсси-Леклерка, достаточно было назвать ему одно имя...
– Пардальяна?
– Да, сударыня. Чтобы настичь этого человека, Бюсси проедет сквозь объединенные армии Беарнца и де Майенна... Иными словами, я не боюсь ничего, когда меня ведет моя ненависть.
– Хорошо, сударь, – сказала Клодина с улыбкой. И помолчав, продолжала:
– Господин де Пардальян только что отбыл с намерением помешать планам одной особы, которую я люблю... Надо предупредить эту особу о грозящей ей опасности. Зная вашу ненависть к господину де Пардальяну, я приказала позвать вас и теперь спрашиваю: хотите ли вы утолить свою ненависть и свое честолюбие? Хотите ли избавиться от того, кого ненавидите, и в то же время обрести могущественного покровителя?
Бюсси задумался.
– Имя могущественного покровителя? – спросил он.
– Фауста!
– Фауста!.. Разве она не умерла?
– Она, слава Богу, жива и здорова!
– Но... Простите меня, сударыня, однако чего ради вы, именно вы, предупреждаете Фаусту об опасности, которой она подвергается?
– Видите ли, сударь, принцесса была, в совсем еще недавние времена своего всемогущества, благодетельницей для нашего дома... Та, которую я так долго называла своей государыней, наверняка сумеет по-королевски оценить оказанную ей услугу...
– Отлично! – пробурчал Бюсси. – Такой довод мне понятен!.. Итак, мне предстоит предупредить Фаусту, что господин де Пардальян идет по ее следу и хочет расстроить ее планы... А кстати, каковы ее планы?
– Возложить корону Франции на голову Филиппа Испанского.
Бюсси-Леклерк подпрыгнул от удивления:
– И вы хотите помочь Фаусте в осуществлении ее замысла, вы?.. вы?..
Клодина поняла смысл этого восклицания. Оно, по-видимому, не слишком оскорбило ее.
– Я выведала намерения короля Генриха. Если он станет королем Франции, монмартрское аббатство и его аббатиса не получат от этого ни богатств, ни привилегий. И тогда...
– Прекрасно, сударыня, и этот довод мне совершенно понятен. А посему я согласен стать вашим посланником. Теперь прошу вас ввести меня в суть дела.
– В нескольких словах вот она: речь идет о манифесте Генриха III, который признает Филиппа своим единственным наследником... Принцесса везет королю Испании этот документ, господин де Пардальян должен завладеть им, действуя в пользу Генриха Наваррского, а вы должны предупредить Фаусту, помочь ей и защитить ее... Это приводит меня к мысли, что вам была бы полезна помощь нескольких надежных шпаг.
– Я тоже думал об этом, – сказал Бюсси, улыбаясь. – Стало быть, я отправлюсь в путь и постараюсь подобрать себе нескольких спутников покрепче. Что я должен буду сказать принцессе от вашего имени?
– Просто-напросто, что к ней вас послала я и что я по-прежнему буду ей верной служанкой.
– И это все, сударыня?
– Это все, господин Бюсси-Леклерк.
– В таком случае я прощаюсь с вами, – сказал Бюсси с поклоном.
Когда занялся день, Бюсси-Леклерк уже мчался рысью по Орлеанской дороге. В пути он размышлял: «Бюсси, вы были одним из столпов Лиги... одной из самых надежных опор герцогов де Гиза и де Майенна... одним из самых деятельных и самых влиятельных людей королевства... комендантом Бастилии, на каковом посту вы сумели сколотить недурное состояние... Вы напрямую переписывались с главными министрами Филиппа, вы одним из первых прознали о притязаниях этого монарха на французский трон и поддержали их... Короче говоря, вы были фигурой, с которой следовало считаться.»
– Будь я трижды проклят!.. – вдруг воскликнул он. – Клянусь рогами Вельзевула! Вот теперь еще и ветер против меня и пытается сорвать с меня плащ!.. Пусть чума унесет господина Борея[1] и его проклятых подручных!.. Этот мерзавец ветер, наверное, хочет, чтобы тот, кем я уже перестал быть, оказался узнанным каким-нибудь сторонником Лиги или даже богомерзким гугенотом, пропади они все пропадом!.. Хм... А между тем мне вовсе не улыбается быть узнанным! Справившись с плащом и закутавшись в него, он продолжал:
– Ага!.. Вот так-то будет лучше... Итак, я остановился на том, что я был важным лицом... А теперь?.. Что я теперь? Разнесчастный человек! Сколько невзгод обрушилось на бедного Леклерка! Пришлось расстаться с должностью коменданта Бастилии, поспешно бежать из Парижа, прятаться, таиться по каким-то щелям! И это мне, славному Бюсси! А впереди – перспектива быть повешенным, если я попаду в руки Майенна, и быть четвертованным, если меня схватит Беарнец!
Наступила пауза, затем горькие размышления продолжились:
– Повешен!.. Четвертован!.. До чего же много во французском языке противных слов!.. Повешен! Четвертован!.. Раньше я и не замечал, как эти два слова угрюмы и тошнотворны... Да, недаром говорят, что учиться никогда не поздно!.. Ну так что же, Бюсси, что предпочитаешь? Казнь через повешение или четвертование?.. Хм!.. Если память мне не изменяет, у последнего виденного мною повешенного язык вывалился изо рта на добрый аршин... Это было отвратительно!.. У последнего же четвертованного, которого я видел, руки-ноги буквально расшвыряло во все четыре стороны... Да, да, как сейчас вижу – остались только туловище и голова... Значит, если меня, Бюсси, четвертуют, то я обращусь в безрукий и безногий обрубок? Фи... Но клянусь папскими потрохами, я вовсе не хочу быть пугалом для птиц!.. А раз так, то решено – я не буду ни повешен, ни четвертован!
В этот момент его лошадь взбрыкнула; он ее пожурил, затем ласково потрепал по холке, и плавное течение его мыслей возобновилось.
– Итак, что касается политики, тут у меня крушение полное... Правда, может послужить утешением то, что я спас часть своего состояния, благо у меня хватило ума укрыть ее. Это все-таки кое-что, но этого мало. И вот именно в тот момент, когда все рушится, когда у меня нет другого выбора, кроме как скрыться за границей и жить там в безвестности и забвении, – именно в этот момент появляется славная, чудная, замечательная аббатиса – да осыплет ее Небо всеми милостями! – и возвращает меня к жизни, подарив мне возможность обеспечить себе блестящее положение при Филиппе – ведь не буду же я настолько наивен, чтобы связать свою судьбу с Фаустой, нет, клянусь преисподней! Бюсси всегда напрямую обращался к самому Господу, а не к Его святым. Сверх того, эта аббатиса, святая женщина, даст мне средство отомстить Пардальяну!.. Столько везения сразу! Если я не окажусь глупцом, мне одним махом будут обеспечены и карьера, и состояние... Не хвастаясь, скажу – все признавали, что голова Бюсси-Леклерка варит так же хорошо, как крепка его рука... Мне осталось лишь нанять несколько мерзавцев себе в подмогу, ну да невелика важность, по дороге я всегда найду что-нибудь подходящее...
Глава 8 ТРОЕ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ
На обочине разбитой ухабистой дороги стоял одинокий постоялый двор, являя миру свое ветхое крыльцо. Вид этой затерянной в глуши развалюхи был столь притягателен, что любой прилично одетый путник, проходя мимо, заметно ускорял шаги.
Но вот неведомо откуда появились какие-то люди. Их было трое, все они были молоды – старшему едва ли лет двадцать пять. Но что за вид у них был! Оборванный, помятый, потертый. И однако же в их манере носить плащ, в непринужденности их осанки и изысканности жестов сквозила природная элегантность, вовсе не свойственная заурядным бродягам.
Они в нерешительности остановились у крыльца.
– Что за разбойничий притон! – пробормотал самый молодой.
Двое других пожали плечами; старший сказал:
– Ну и привереда этот Монсери!
– Клянусь честью, – воскликнул средний, – мы падаем от усталости, наши желудки урчат от голода, так не будем же слишком разборчивыми – впрочем, наши средства нам этого и не позволяют! – войдем и, за неимением ничего другого, хоть отдохнем.
Поднявшись по шатким ступеням крыльца, они оказались в большом и пустынном зале.
– Четыре стола, двенадцать табуретов... чтобы казалось, будто эта пустыня заставлена мебелью, – сказал Сен-Малин.
– Какая же это мебель? – возразил Шалабр, указывая на щели и выбоины в столах. – Они же того и гляди рассыплются!
– Огонь! – крикнул Монсери, кивнув в сторону огромного камина, в котором догорало несколько головешек. – Огонь и дрова!..
И схватив с пола охапку сухой виноградной лозы, он бросил ее в очаг и принялся раздувать пламя, в чем ему охотно помогали двое остальных; вскоре в камине уже полыхал, потрескивая, яркий огонь.
– Так-то будет веселее, – сказал он.
– К балкам ничего не подвешено, – заметил Сен-Малин, оглядев зал, – только сажа да паутина.
– И никого нет, – откликнулся, в свою очередь, Шалабр. – М-да, веселое местечко!
– Эй! Эй! Хозяин! – позвал Монсери, стуча по столу эфесом шпаги.
Хозяин появился, не слишком поспешая. Это был великан, окинувший их наметанным глазом; не выказав ни малейшей услужливости или любезности, он пробурчал:
– Что вам угодно?
– Пить!.. Пить и есть.
Хозяин протянул мощную волосатую руку:
– Плату вперед!
– Негодяй! – воскликнул Монсери.
В ту же секунду его кулак обрушился на физиономию великана, который свалился наземь. Впрочем, он сразу же поднялся и вышел, усмиренный, согнувшись в поклоне и бормоча:
– Сейчас я обслужу вас, господа!
Мгновение спустя он уже поставил на стол три стакана, кувшин с вином, хлеб и паштет, после чего покинул их, заявив:
– Больше у меня ничего нет.
Все трое с грустью посмотрели на скудное угощение, а затем переглянулись.
– Что поделаешь, – вздохнул Сен-Малин, – быть может хорошие дни снова вернутся...
Они пододвинули стол к очагу и, сняв плащи, аккуратно сложили их на табуретах; все трое оказались с кинжалом и рапирой на боку и с пистолетом за поясом. Печальные и унылые, они набросились на еду, слишком скудную для их ноющих от голода желудков.
– Эх, – вздохнул Монсери, – прошли те времена, когда мы жили в Лувре и там же и ели по четыре раза в день, как и подобает уважающему себя доброму христианину!
– Да, славное было время! – сказал Шалабр. – Мы звались дворянами Его Величества, состояли при его особе и были даже близки к нему.
– А наша служба? Всегда подле короля, всегда в его охране, покидали его только по его собственному приказу...
– И частенько хороший удар кинжала или шпаги, всаженной между лопатками, освобождал Его Величество или же избавлял нас самих от какого-нибудь слишком уж энергичного врага... Да, навыка мы не теряли!
– И Гиз мог бы кое-что порассказать об этом.
– Еще бы, ему пришлось близко познакомиться с нашими кинжалами!
– Черт подери, в тот день, когда мы ухлопали Гиза, мы спасли королевство!
– И тем самым сразу обеспечили себе будущее.
– Да, но монах, нанесший королю смертельный удар кинжалом, уничтожил все наши надежды, – задумчиво прошептал Сен-Малин.
– Пусть все рогатые черти в аду вечно жарят на своей сковороде распроклятого Жака Клемана! – вскричал Монсери.
– Да, для нас это был тоже сокрушительный удар...
– После смерти короля нам быстро дали понять, что в Лувре мы существовали только его милостью.
– Куда ни глянь – все поворачиваются спиной.
– И друзья короля, и друзья Лиги, и друзья Беарнца.
– Мы давали отпор, – мягко сказал Сен-Малин. – И не один поплатился жизнью, получив из засады хороший удар кинжалом.
– Да, но сейчас?.. Во что мы превратились?..
– Смерть всем чертям! Когда я жую чудовищное черное месиво, которое проклятый трактирщик выдаст за хлеб, когда я глотаю гнусную жидкость, которую он называет вином, знаете ли вы о чем я думаю? Так вот, я думаю о том времени, когда мы были заключены в Бастилии, откуда нас вызволил господин де Пардальян, и я тоскую по тому времени, да, черт побери! Я тоскую по тому времени, когда мы состояли на довольствии у Бюсси-Леклерка, – он, по крайней мере, кормил нас почти по-христиански...
– Это верно, нам надо отдать должное Бюсси-Леклерку, – он с нами, в сущности, обращался не слишком строго.
– Я просто впадаю в бешенство, как подумаю, что пора дармовых пиршеств миновала и, наверное, больше не вернется!
– Если бы только нам выпала удача и мы бы встретили на дороге какого-нибудь одинокого путника, который бы согласился прийти нам на помощь... по-хорошему... или по-плохому...
В этот момент вдали послышался цокот лошадиных копыт.
Три приятеля переглянулись, не проронив ни слова. Сен-Малин взял свой плащ, живо в него завернулся, вытащил кинжал и шпагу из ножен, произнес резкое «Вперед!», направился к двери и вышел.
– Вперед! – решительно повторил Шалабр. Монсери секунду оставался в нерешительности, но потом последовал за своими товарищами.
Итак, с Сен-Малином во главе и с Монсери, замыкавшим шествие, бывшие подручные Генриха III пробирались вдоль изгороди под высокими тополями, которые росли по обочине.
Мерный цокот копыт делался все отчетливее; путник и не подозревал об опасности, которая ему угрожала; он даже пустил лошадь шагом, когда трое убийц, сочтя, что он уже достаточно близко, вышли на дорогу.
Незнакомец был всего в нескольких шагах. Троица, пряча оружие под плащами, остановилась, и Сен-Малин, признанный главарь и оратор банды в особо важных случаях, держа шляпу в руке, сказал – впрочем, очень вежливо:
– Остановитесь, пожалуйста, сударь! Путешественник послушно остановился.
Все трое пытались его рассмотреть, но лицо путешественника было скрыто низко надвинутой шляпой. Тем не менее Сен-Малин повел свою речь далее:
– По вашему облику я вижу, что вы, вне всякого сомнения, состоятельный дворянин. Мы с моими друзьями – дворяне самых блестящих родов и знаем, какие манеры приняты между людьми благородными.
После этих слов – короткая пауза. Затем изучающий взгляд в сторону путешественника, дабы оценить произведенный эффект. Невозмутимость и неподвижность самого всадника. Искусный поклон Сен-Малина и продолжение речи:
– Вы, сударь, может быть, осведомлены о том, что на дорогах сейчас неспокойно из-за вооруженных банд: участники Лиги и роялисты, испанцы и немцы, швейцарцы и англичане, католики и гугеноты избивают и грабят тех, кто не принадлежит к их лагерю, да и тех, кто принадлежит – тоже. А еще надобно упомянуть о бесчисленном множестве людей, которые принадлежат ко всем лагерям сразу и ни к какому в отдельности – вроде бродяг, грабителей с большой дороги, головорезов и других охотников до кошелька и веревки. Впрочем, нет, – сударь, вы, по-видимому, и не подозреваете обо всем этом, иначе бы вы не совершили такую неосторожность и не пустились в путь в одиночку, да еще приторочив к седлу баул ч столь внушительного и многообещающего вида.
Новая пауза, после чего – заключительная часть речи:
– Поверьте мне, сударь, самый лучший способ избежать скверной встречи – это передвигаться в самом скромном обличье... как это делаем мы. В таком виде вы не возбуждаете алчность в злонамеренных попутчиках и не подвергаете их искушению проломить вам голову, чтобы ограбить вас. А именно это и произошло бы с вами, если бы ваша счастливая звезда весьма кстати не привела нас на вашу дорогу... И вот, исключительно по доброте душевной и дабы сделать вам одолжение, мы с друзьями, если вы окажете нам честь и доверите свой кошелек, охотно согласимся скрыть его под нашими лохмотьями, так что... вы сможете закончить ваше путешествие в полной безопасности.
– И, – добавил Шалабр, вытаскивая свой пистолет с самой любезной улыбкой, – будьте уверены, сударь, – с помощью вот этого оружия мы сумеем защитить вверенный нам ваш кошелек.
– Мы, конечно, сочтем своим долгом возместить вам его содержимое... но только позднее.
– Черт побери! Черт подери! Черт возьми! – возопил Монсери, со свистом рассекая воздух шпагой. – К чему столько церемоний?!
– Сударь, – продолжал Сен-Малин, – простите великодушно нашего друга: он молод и скор на суждения, в остальном же он славный малый.
Путешественник, словно придя в ужас, выронил несколько золотых монет – три сотоварища подсчитали их взглядами, если так можно выразиться, прямо на земле, но не пошевелились, чтобы поднять.
– О, сударь, – произнес Сен-Малин, – вы меня огорчаете. Всего-то пять пистолей!.. Возможно ли, чтобы дворянин столь благородного происхождения оказался настолько неимущим?.. А может быть, вы нам не доверяете?
– Дьявольщина, – воскликнул Шалабр, со свирепым видом заряжая пистолет, – я очень щепетилен в вопросах чести, сударь!
– Клянусь чревом и потрохами! – поддержал его Монсери, вращая своей шпагой все быстрее и быстрее и высвобождая из-под плаща кинжал. – Я не позволю...
Путешественник, напутанный, по-видимому, пуще прежнего, уронил еще несколько монет – они, как и первые, остались лежать на земле.
– Ну, ну, господа, – вмешался Сен-Малин, – успокойтесь, этот дворянин не имел намерения оскорбить вас.
И повернувшись к путешественнику, он обратился к нему:
– Мои товарищи не такие уж плохие, как кажется, и сочтут себя вполне удовлетворенными, если к вашим извинениям, которые вы только что обронили, вы добавите и тот кошелек, откуда вы их извлекли... присовокупив к ним баул, неплохо, надо полагать, набитый, если судить по его внешнему виду.
На сей раз Сен-Малин подкрепил свою просьбу многозначительным похлопыванием по эфесу шпаги.
И вдруг путешественник, до тех пор безмолвный, крикнул:
– Довольно, довольно, господин де Сен-Малин! И сбросив плащ, прибавил:
– Добрый день, господин де Шалабр. Ваш покорный слуга, господин де Монсери!
– Бюсси-Леклерк! – воскликнули все трое.
– Он самый, господа! Рад вас видеть в добром здравии.
И спросил с жестокой иронией:
– Стало быть, с тех пор, как бедняга Валуа перешел в мир иной, вы заделались разбойниками с большой дороги?
– Фи, сударь, – мягко сказал Сен-Малин, – фи!.. Разве у нас не идет война?.. Вы в одном лагере, мы – в другом; мы вас захватываем, вы платите выкуп, и все идет своим чередом! Или я ошибаюсь?
– Этот Леклерк вечно говорит несообразности! – презрительно произнес Шалабр.
– А ведь у нас есть счетец к господину Бюсси-Леклерку... Мы могли бы его прямо сейчас и закрыть, – говоря это, Монсери затачивал свой кинжал о лезвие шпаги.
– Ну, ну, не сердитесь, – насмешливо произнес Бюсси.
И продолжал, уже очень жестко:
– Вы отлично знаете, что Бюсси в состоянии насадить на шпагу всех вас троих!.. Поговорим лучше о делах... Вы желаете денег? Ну что ж, вы можете получить от меня в тысячу раз больше тех нескольких сотен пистолей, которые отыскались бы в моем кошельке. Да к тому же кошелек еще надо у меня отнять, а я вас предупреждаю, что не позволю этого сделать. Зато все, что я предлагаю сам, будет дано вам очень охотно.
Трос мужчин переглянулись в явной растерянности, а затем перевели взгляды на Бюсси-Леклерка, который, не шелохнувшись и по-прежнему улыбаясь, наблюдал за ними.
Наконец Сен-Малин вложил свое оружие в ножны:
– Клянусь честью, сударь, коли дело обстоит так, давайте побеседуем.
– Мы всегда успеем вернуться к нашей нынешней беседе, если не сможем договориться, – добавил Шалабр.
Бюсси-Леклерк одобрительно кивнул:
– Господа, я добавлю сто пистолей к тому, что уже дал вам, если вы пообещаете, что окажетесь завтра в Орлеане, в трактире «Храбрый петух», верхом и экипированные, как подобает дворянам. Там я сообщу вам в чем будет заключаться ваша служба и чего от вас ждут. Но я должен сразу же предупредить, что вам придется раздавать удары направо и налево и получать удары в ответ. Могу ли я положиться на вас?
– Один вопрос, сударь, прежде чем принять эти сто пистолей: если предлагаемая служба не подойдет нам, что тогда?..
– Успокойтесь, господин де Сен-Малин, она вам подойдет.
– Ну, а если все-таки?..
– В таком случае вы сможете свободно удалиться, а все, что я дам вам сейчас, у вас и останется. Договорились?
– Договорились, клянусь честью дворянина.
– Отлично, господин де Сен-Малин. Итак, вот сто пистолей... Это только задаток... До свиданья, господа... До завтра в Орлеане, в трактире «Храбрый петух».
– Будьте спокойны, мы там будем.
– Я на вас рассчитываю, – прокричал Бюсси-Леклерк, удаляясь.
Пока Бюсси-Леклерк был еще виден, три бывших головореза Генриха III не сдвинулись с места, не пошевелились, не проронили ни слова.
Но когда всадник исчез за поворотом – и только тогда! – Сен-Малин наклонился и поднял лежавшие на земле монеты.
– Эй, – проронил он, выпрямляясь, – а этот Бюсси-Леклерк очень выигрывает при ближайшем знакомстве, особенно если оно происходит вне стен Бастилии!.. Тридцать пять пистолей, плюс сто – итого сорок пять пистолей на брата. Хвала Всевышнему! Мы снова богаты, господа!
– Вот видишь, Монсери, пора дармовых пиршеств возвращается!
– Да! Но кто бы мог подумать, что мы, – некогда враги Леклерка, бывшие его узниками, станем его товарищами по оружию!.. Ведь, если я понял правильно, мы все вместе выступаем в поход.
– Всякое случается, – наставительно сказал Сен-Малин.
На следующий день три всадника шумной компанией въехали во двор орлеанского трактира «Храбрый петух».
– Тьфу, черт возьми! Проклятье! Но в этом гнусном трактире никого нет! – воскликнул самый младший.
Тем временем из конюшни уже бежали слуги, а на пороге уже появился хозяин, крича:
– Сюда, господа, сюда!
И обращаясь к слугам, схватившим лошадей под уздцы, добавил, по-видимому, по привычке:
– Эй, Перрине, Бастьен, Гийоме! Бездельники! Бандиты! Бурдюки с вином!.. Ну-ка, живее, лошадей этих господ – в конюшню, да отсыпать им добрую меру овса. Заходите, господа, заходите!
Трое всадников спешились. Старший сказал:
– Главное, плуты, следите, чтобы с этими славными лошадками хорошо обращались и чтобы их хорошо почистили. Я сам схожу проверить, обеспечен ли им надлежащий уход.
– Не беспокойтесь, ваша светлость...
Все трое с улыбкой переглянулись и приветствовали друг друга изысканнейшими поклонами, словно они были при королевском дворе, а не на дворе постоялом.
– Черт подери, господин де Сен-Малин, в этом вишневом камзоле вы прекрасно выглядите!
– Черт побери, господин де Шалабр, какие замечательные сапоги и как они подчеркивают линию ваших ног!
– Черт возьми, господин де Монсери, в этом великолепном костюме мышиного цвета у вас вид настоящего вельможи! Клянусь честью, вы необычайно изысканный дворянин.
И три товарища, громко смеясь и толкаясь, вступили в полупустой зал; перед ними, с колпаком в руке, шел хозяин, который без конца кланялся, вытирал несуществующую пыль с дубового стола, блестевшего чистотой, придвигал к этому столу табуреты и повторял:
– Вот сюда... сюда... Вашим милостям здесь очень и очень понравится!..
– Нашим милостям хочется есть и пить... особенно пить... От сегодняшней скачки у нас в глотке настоящее пекло...
Вокруг уже суетились служанки, а хозяин кричал:
– Мадлон! Жаннетон! Марготон! Эй, плутовки, живее! Приборы для этих трех господ, умирающих с голоду... А я тем временем сам схожу в погреб за бутылочкой некоего винца из Вовре, только что привезенного, – ваши милости мне еще скажут за него спасибо...
– Слышишь, Монсери? «Ах, ваша светлость! Ох, ваша милость!»... Да, теперь уж и речи нет о том, чтобы требовать с нас плату вперед!
– Черт возьми! Когда видишь, что к тебе обращаются с должным почтением, на душе делается гораздо веселее.
– Это все потому, что теперь в наших кошельках звенят пистоли.
– Скажите-ка, красавица, как вас зовут?
– Марготон, мой господин.
– А ну-ка, хорошенькая Марготон, приготовь нам омлет получше, золотистый и пышный.
– И еще – одну вон из тех аппетитных индеек, что жарятся, как я погляжу, на вертеле.
– И еще какой-нибудь легкий паштет, хорошенько очищенный от жира, вроде паштета из дроздов, жаворонков или куликов.
– И еще немножечко сладостен, вроде сладких пирожков, крема или фруктового желе...
– Три бутылки божанси, чтобы запить все это.
– Плюс три бутылки этого вовре – оно и в самом деле, сдается мне, вполне приличное.
– Плюс три бутылки этого симпатичного сомюрского белого вина, которое пенится и искрится – так и кажется, что глотаешь золотистые жемчужины.
И вот янтарный омлет на столе.
– Ах, черт подери, я чувствую, как возрождаюсь, я дышу полной грудью! Мне кажется, что несколько прожитых нами последних месяцев были кошмарным сном и что я наконец пробуждаюсь.
– Ба! Будем жить, как живется. Забудем вчерашний день и его черный хлеб, радушно встретим подвернувшийся нам случай, не станем слишком хмуриться, когда на нас сваливаются невзгоды, и набросимся поскорее на омлет.
Атака была яростной, могу вам в том поручиться, и закончилась она бесславным поражением всей снеди, поглощенной за один миг и обильно орошенной реками вина. Процесс трапезы, кроме того, сопровождался сальными шутками и подмигиванием молоденьким и привлекательным служанкам. А когда от всей провизии остались лишь сладости, которые троица потихоньку поедала, запивая сомюрским вином, лишь для того, чтобы скоротать время, – тогда и раздался, наконец, удовлетворенный вздох:
– Появись сейчас Бюсси-Леклерк, мы бы на все согласились, на любую службу, если только она не окажется совсем уж мерзкой и недостойной.
– А вот как раз и он!
Это и в самом деле был Бюсси-Леклерк; он подошел к столу:
– Добрый день, господа! Вас отличает точность, это доброе предзнаменование... Дайте-ка я разгляжу вас получше... Великолепно!.. Замечательно!.. Слава Богу, теперь вы снова похожи на дворян. Признайтесь, что эти костюмы идут вам гораздо больше, нежели то жалкое тряпье, в котором я вас встретил. Но, черт возьми, продолжайте ваш пир... Я охотно выпью с вами стаканчик белого вина.
И как только он сел перед полным стаканом, тут же прозвучал главный вопрос:
– Теперь, господин де Бюсси-Леклерк, мы ждем, когда вы сообщите, что за служба нам предназначена?
– Слышали ли вы, господа, о принцессе Фаусте?
– Фауста! – приглушенно воскликнул Сен-Малин. – Та самая, от которой, как говорят, бросало в дрожь Гизов?
– Та самая, которая, говорят, была папессой?
– Фауста! Она задумала и создала Лигу... Ее называли государыней... Фауста – этим все сказано! Проклятие! На свете нет двух Фауст!.. Так вот, господа, я желал бы, чтобы вы поступили на службу именно к ней... Вы согласны?
– С радостью, сударь! Мы состояли на службе у государя, а теперь мы будем состоять на службе у государыни.
– Какую роль мы будем играть при Фаусте?
– Ту же самую, что и при Генрихе Валуа... Вам было поручено охранять особу короля, теперь вы будете охранять Фаусту; раньше вы убивали по приказу короля, теперь вы станете убивать по знаку Фаусты; раньше вы служили при короле, теперь вы будете служить при Фаусте.
– Мы согласны на эту роль, господин де Бюсси-Леклерк... Но у принцессы, стало быть, такие могущественные и такие страшные враги, что ей нужны три охранника вроде нас?
– Разве я вас не предупреждал?.. Будут схватки.
– Это правда, черт подери! Значит – борьба!
– Вам только остается указать нам этих врагов.
– У принцессы есть лишь один враг, – сказал Бюсси серьезно.
– Враг?! А нас берут на службу всех троих! Да вы, видно, шутите?
– Принцесса, и вы трое, и еще другие – и все равно это не слишком много, чтобы бороться с таким врагом.
– Ого!.. И эти слова произносите вы, де Бюсси-Леклерк?
– Да, господин де Шалабр. Я добавлю: несмотря на все наши объединенные усилия, я не уверен, что мы добьемся успеха! – сказал Бюсси по-прежнему серьезно.
Пораженная троица переглянулась.
– Это, верно, дьявол собственной персоной?
– Это тот, что, будучи заключен в Бастилию, запер вместо себя в камере коменданта Бастилии, а затем, овладев этой крепостью, освободил всех заключенных. И вы его знаете не хуже меня – ведь если я был комендантом Бастилии, то вы, господа, были в ней заключены.
– Пардальян!
Это имя вырвалось одновременно из трех глоток, и в тот же миг все трое вскочили, в ужасе глядя друг на друга и машинально, застегивая портупеи (до того расстегнутые), словно враг был прямо перед ними, готовый обрушиться на них.
– Я вижу, господа, что вы начинаете понимать – тут уже не до шуток.
– Пардальян!.. Значит, это с ним мы должны сражаться?.. Это его мы должны убить?..
– Это он!.. Так вы по-прежнему считаете, что нас четырех будет слишком много?
– Пардальян!.. О черт!.. Ведь мы, в конце концов, обязаны ему жизнью.
– Да, но ты забываешь, что мы уплатили наш долг...
– Это верно!
– Решайтесь же, господа. Вы становитесь на сторону Фаусты? Вы пойдете против Пардальяна?
– Проклятье!.. Да, мы становимся на сторону Фаусты! Да, мы пойдем против Пардальяна!..
– Я принимаю ваше обещание. А сейчас я пью за принцессу Фаусту и за ее охранников. Я пью за победу Фаусты и за успехи ее охранников!
– За Фаусту! За охранников Фаусты! – хором повторила троица.
– А теперь, господа, в путь!
– Куда мы направляемся, сударь?
– В Испанию!
Глава 9 СОЮЗ ПАРДАЛЬЯНА И ФАУСТЫ
Бюсси-Леклерк, Монсери, Сен-Малин и Шалабр проехали всю Францию, без помех преодолели Пиренеи и оказались в Каталонии, где они надеялись если и не встретить Фаусту, то по крайней мере отыскать ее следы. Они остановились в Лериде с намерением отдохнуть и навести справки.
В трактире, прежде чем спешиться, Бюсси сразу же задал вопрос, и трактирщик ответил – на удивление подробно и ясно:
– Сиятельная принцесса, о которой говорит ваша милость, изволила остановиться в нашем городе. Она уехала с час тому назад, направляясь в сторону Сарагосы, чтобы оттуда добраться до Мадрида – обычной резиденции нашего монарха, короля Филиппа, предпочитающего жить там, а не в Толедо, – древней столице Кастилии, ныне приходящей в упадок.
В ответ на новый вопрос Бюсси он сообщил:
– Принцесса путешествует на носилках. Вам не составит труда нагнать ее.
Получив эти ценные сведения, четверка спешилась, и Бюсси заявил:
– Мы с моими спутниками отчаянно проголодались и погибаем от жажды... У вас найдется что-нибудь поесть?.. Хоть самую малость...
– Слава Богу, провизии хватает, сеньор. Есть чем угодить самому изысканному вкусу, – кланяясь, отвечал трактирщик не без гордости.
– Черт возьми! В таком случае, подайте нам все, что у вас есть самого лучшего, да не скупитесь ни на вино, ни на снедь!
Мгновение спустя хозяин уже ставил на стол: хлеб, пузатый бурдюк, три огромные луковицы, жареную ногу барашка и большое блюдо с вареным турецким горохом. Повернувшись к путникам, он объявил:
– Кушать подано, ваши милости... Да, черт возьми, не часто мы задаем нашим гостям подобный пир!
– Проклятье! – чертыхнулся Монсери. – И такое скудное угощение он называет пиром!
– Не будем слишком требовательны, – отозвался Бюсси-Леклерк, – и постараемся привыкнуть к этой кухне: ведь нечто подобное мы будем встречать повсюду... Впрочем, если понадобится, мы наверстаем упущенное, налегая на пироги и варенье, – они тут обычно замечательные.
Через час спутники вскочили в седла, бросились вдогонку за Фаустой и вскоре с удовлетворением увидели вдали носилки – их несли, ступая медленным, но верным шагом, мулы под богато изукрашенными чепраками.
Каменистая дорога, окаймленная вереском, пожухшим под неумолимыми лучами ослепительного солнца, шла вдоль горного склона, огибала некое подобие маленького плоскогорья, откуда было видно далеко вперед, затем внезапно спускалась вниз и, петляя, вела через долину, которая простиралась, покуда хватало глаз, – порыжевшая, однообразная, без единого лужка или рощицы, – словом ничего такого, на чем мог бы остановиться взор путника.
Фауста и ее эскорт, въехав на плоскогорье, на секунду замерли, ослепленные полыхавшим солнцем.
Мчавшийся во весь опор далеко впереди всадник, казалось, спешил принцессе навстречу.
А невдалеке от себя она увидела Бюсси-Леклерка и подумала: «Бюсси-Леклерк здесь!.. Что он делает в Испании?»
Она безмолвно подала рукой знак, и Монтальте, ехавший верхом рядом с носилками, пригнулся к холке лошади, чтобы услышать:
– Кардинал, пропустите ко мне этих всадников... в том случае, разумеется, если они желают говорить со мной.
Монтальте поклонился и направился в первые ряды эскорта, на ходу отдавая приказания.
Фауста неподвижно застыла на подушках в грациозной и величественной позе, но глаза ее, словно повинуясь какой-то таинственной силе, непрерывно следил и за тем всадником на равнине, – за черной точкой, постепенно увеличивающейся.
Бюсси-Леклерк и трое из бывших Сорока Пяти остановились перед носилками и, сняв шляпы, стали ждать, когда Фауста начнет их расспрашивать. Наконец она произнесла:
– Итак, господин де Бюсси-Леклерк, вы мчались именно ко мне?
Бюсси склонился в поклоне.
Фауста оглядела его и, не выказывая ни удивления, ни волнения, спросила:
– Так что же вы хотите мне сказать?
– Я послан к вам аббатисой бенедиктинок Монмартра.
– Стало быть, Клодина де Бовилье не забыла Фаусту?
– Всякий, кто хоть раз приблизился к принцессе Фаусте, никогда не забудет ее.
Бюсси умолк, желая оценить, какое действие произведет его ответ, казавшийся ему самому весьма галантным.
Фауста невозмутимо продолжала:
– И чего же от меня хочет госпожа аббатиса?
– Сообщить вам, что Его Величество Генрих Наваррский осведомлен о малейших деталях миссии, с которой вы направляетесь к Филиппу Испанскому... Беарнец уже не первый год мечтает сесть на французский трон и подготавливает свое восшествие на престол. Сегодня он полагает, что его мечты как никогда близки к осуществлению. И именно в этот момент возникаете вы, в результате чего у него появляется грозный соперник, способный навеки разрушить все его надежды... Берегитесь, сударыня! Генрих Наваррский не отступит ни перед какой крайностью, чтобы остановить и уничтожить вас... Берегитесь! Вам объявлена война!
– Значит, с этим предупреждением вас и послала ко мне Клодина де Бовилье?
– Я уже имел честь говорить вам об этом, сударыня.
– Меня уверяли, будто король Генрих расположился лагерем в монмартрском аббатстве... Это верно?
– Совершенно точно, сударыня.
– Говорят, король легко увлекается. Клодина молода, хороша собой, и ее ранг аббатисы, по слухам, не ограждает ее от искушения.
Бюсси едва заметно улыбнулся:
– Понимаю, сударыня... И однако, аббатиса не колебалась, выбирая между королем Генрихом и вами – сами видите.
– Хорошо! – строго произнесла Фауста. – Это все, что вы имели мне сказать?
– Прошу прощения, сударыня, но госпожа де Бовилье особо порекомендовала мне нанять вам на службу несколько храбрых и преданных дворян и привезти их к вам.
– Для чего, сударь? – сказала Фауста с обескураживающим спокойствием.
– Но, сударыня... – пробормотал озадаченный Бюсси-Леклерк, – чтобы охранять вас... защищать... Разве вы не слышали: на вас готовится нападение, нападение сокрушительной силы.
– Мы находимся в Испании, где никто не осмелится выказать непочтение той, кто путешествует под покровительством короля и его великого инквизитора... Во всем же остальном кардинал Монтальте, которого вы здесь видите, будет вполне надежной защитой.
– Но, сударыня, речь идет не о короле Филиппе и не о его подданных!.. Речь идет о короле Генрихе и о его тайных агентах – а это французы, и, поверьте мне, они обращают столько же внимания на покровительство великого инквизитора, сколько Бюсси-Леклерк – на удар шпаги.
В этот момент всадник на равнине, с которого Фауста не спускала глаз почти во все время своей беседы с Леклерком, достиг горы и, продолжая свой путь по дороге, извивавшейся по склону, исчез за поворотом.
– Я полагаю, вы правы, сударь, – ответила наконец Фауста. – И посему я принимаю предложенную вами охрану и заранее одобряю условия, возможно, оговоренные вами от моего имени. Кто эти дворяне?
– Трое самых храбрых и самых бесстрашных из Сорока Пяти – те, кого называли личной гвардией короля.
И представил их одного за другим:
– Господин де Сен-Малин, господин де Шалабр, господин де Монсери.
Говорили ли что-нибудь эти имена Фаусте?.. Знала ли она о роли, которую общая молва приписывала им в трагической смерти де Гиза?.. Весьма вероятно. Но ей было известно и то, что герцог убит на честной дуэли и что смертельный удар ему был нанесен тем самым человеком, которого она обожала и ненавидела одновременно. Все остальное, по-видимому, не имело для нее значения.
И потому она с улыбкой ответила троим дворянам, склонившимся в глубоком, почтительном поклоне:
– Я постараюсь, господа, чтобы служба у принцессы Фаусты не заставила вас слишком сожалеть о службе у покойного короля Генриха III.
И обратившись к Бюсси-Леклерку, спросила:
– А вы, сударь? Вы тоже поступаете на службу к Фаусте?
Если в этом вопросе и звучала ирония, то Бюсси-Леклерк ее не уловил, настолько естественно он был произнесен.
– С вашего дозволения, сударыня, я хотел бы на некоторое время сохранить свою независимость. Тем не менее я буду иметь честь сопровождать вас ко двору короля Филиппа, где у меня самого есть дела, и до тех пор шпага Бюсси-Леклерка принадлежит вам.
В этот момент всадник появился на склоне горы. Теперь он пустил лошадь шагом и ехал не торопясь.
– Примите мою благодарность, сударь... Но, Боже мой, послушать вас, так и впрямь можно подумать, что король Генрих напустил на меня целую банду убийц.
– Сударыня, – отвечал Бюсси очень серьезно, – если бы дело обстояло именно так, я не предстал бы перед вами таким обеспокоенным, а сказал бы: «Этого дворянина (тут он указал на Монтальте) и его слуг будет вполне достаточно, чтобы защитить вас.»
– О! О! – произнесла Фауста, впрочем, очень спокойно. – Неужели король Наваррский посылает против нас целую армию?.. А ведь этот бедный монарх никак не может сыскать достаточно войска, чтобы завоевать то самое французское королевство, о котором он так мечтает.
– Будем надеяться, что и не сыщет, сударыня! Нет, на вас идет не армия!.. Это человек, один-единственный человек!.. Но тот, кто идет на вас, своим дьявольским гением превосходит целую армию. Это не человек – это молния, которая поразит вас... Это Пардальян!
– А вот и он, – холодно сказал Фауста.
– Кто?! – взревел ошарашенный Бюсси-Леклерк.
– Тот, о ком вы мне только что сообщили.
– Пардальян! – прорычал Бюсси-Леклерк.
– Пардальян! Наконец-то!.. – прогремел Монтальте.
– Шевалье де Пардальян! – повторила троица.
Их было пятеро дворян, все пятеро были храбрецами, и храбрость свою они доказали на множестве дуэлей и во множестве битв. Их окружал вооруженный отряд. Они прибыли из далекой Франции и из далекой Италии, желая встретиться с Пардальяном...
Пардальян показался, они посмотрели друг на друга и увидели, что их лица заливает смертельная бледность... Каждый смог прочесть в глазах другого то же чувство, которое пробирало его самого до мозга костей. Они посмотрели друг на друга и увидели, что им страшно!
А Пардальян тем временем – один, сидя в седле очень прямо, с насмешливой улыбкой на устах – спокойно приближался к ним.
Когда он был уже в двух шагах от Фаусты, все пятеро одинаковым движением схватились за шпаги и приготовились к нападению.
– Назад!.. Все!.. – закричала Фауста, взмахнув рукой.
Голос ее был столь резким, что они застыли как вкопанные и недоуменно переглянулись.
И повинуясь еще одному жесту – еще более повелительному, еще более властному, – они недовольно отступили, так, что до них не долетали голоса Пардальяна и Фаусты, оставшихся лицом к лицу.
Пардальян поклонился со свойственным ему горделивым изяществом; в его глазах светилось лукавство:
– Сударыня, я с радостью вижу, что вы выбрались живой и невредимой из Палаццо-Риденте, превратившегося в огромный пылающий костер.
Фауста спокойно ответила:
– Я вижу, что и вы сумели избежать гибели.
– Кстати, сударыня, известно ли вам, чья злодейская... или просто неловкая рука запалила тот исполинский пожар, в котором, как я долго полагал, вы расстались с вашей драгоценной жизнью?
– А разве вам самому это неизвестно, шевалье? – произнесла Фауста самым естественным тоном.
– Мне, сударыня? – ответил Пардальян с простодушным видом. – Ох, Господи, да откуда же, по-вашему, мне знать?
– В таком случае, откуда же я могу знать то, что неизвестно даже вам?
– Дело в том, что из моей памяти до сих пор не изгладилась некая сеть... Помните ли вы, сударыня, ту премилую вершу на дне Сены, которую вы приказали установить специально для меня и в которой мне пришлось провести целую ночь?
Ресницы Фаусты чуть дрогнули, что, по всей видимости, не ускользнуло от Пардальяна, ибо он сказал:
– Да! По вашему лицу я вижу, что вы тоже ее помните... Железо, огонь, вода, направленные вами против меня, предали вас... И теперь я хотел бы знать, – продолжал он со смехом, – какую стихию вы сможете вызвать сегодня, чтобы и ее натравить на вашего покорного слугу.
На секунду на его лице промелькнуло выражение величайшей грусти, и он в задумчивости умолк, в то время как принцесса смотрела на него с тайным восхищением. Затем он вновь заговорил, возвращаясь к своему беззаботному и иронически-веселому тону:
– Должен вам сказать, что я имею привычку выходить целым и невредимым из самых разных передряг... Но вы?.. Поверите ли вы мне, если я скажу, что меня убедили, будто вы нашли ужасную смерть в этом пожаре?.. Поверите ли, если я скажу, что при этом известии я испытал смертельную тоску?
Как ни владела собой Фауста, она не смогла сдержать волнения, ее глаза сверкнули.
А он продолжал:
– О Боже мой, да! Я говорил себе, что если бы я не так торопился выбраться из этого пекла, я бы смог, я бы должен был спасти вас, и испытывал настоящие укоры совести за мою глупейшую поспешность, ставшую причиной вашей гибели.
Фауста устремила на него черные бриллианты своих глаз, чей блеск приглушался умильной нежностью; она задыхалась под маской своей невозмутимости, ибо Пардальян произносил эти слова с отсутствующим видом, словно разговаривая сам с собой, и слова эти возродили в ее мятущейся душе безумную надежду.
Он вновь засмеялся:
– Я совсем позабыл, что такая мудрая женщина, как вы, непременно должна была принять все меры предосторожности, чтобы выйти невредимой даже из огня, с чем я вас и поздравляю!
Фауста почувствовала, как сжалось се сердце при этих словах, – они прозвучали звонко, словно пощечина. Ее глаза вновь сделались холодными, выражение лица – еще более замкнутым, и она сказала:
– Вы догнали меня здесь, в горах, чтобы говорить мне подобные вещи?
– Нет, черт побери! И я прошу прощения за то. что держу вас под этим жгучим солнцем и заставляю выслушивать с терпением, за которое я вам бесконечно признателен, всю ту ерунду, что я сейчас наговорил.
Фауста вновь спросила:
– Так благодаря чему я вдруг встречаю вас, скачущего под сияющим небом Испании?
– Я искал Фаусту, – просто ответил Пардальян. И опять принцесса невольно чуть вздрогнула, и опять ее взгляд смягчился:
– Ну что ж! Теперь, когда вы меня нашли, скажите, зачем вы меня искали?
Теперь уже лицо Пардальяна стало непроницаемым:
– Сударыня, Его Величество король Генрих IV поручил мне привезти ему некий пергамент, владелицей коего вы являетесь, и предназначенный вами для передачи королю Испании. Я искал вас, чтобы сказать: «Сударыня, благоволите передать мне этот пергамент.»
Пока он говорил, Фауста словно витала в каких-то далеких мечтах, а когда он замолчал, она, пристально глядя на него своими пылающими глазами и словно желая внушить ему свою волю, произнесла низким, проникновенным голосом:
– Не так давно, шевалье, я предложила вам выкроить на вашу долю королевство в Италии, но вы отказались, потому что вам пришлось бы сражаться со стариком... Хотя имя этого старика и было Сикст V, этот отказ, идущий от такой благородной души, как ваша, не удивил меня. Сейчас я могу вернуться к замыслам, выстроенным мною и разрушенным вашим тогдашним отказом, слегка изменив их... На сей раз речь не идет о том, чтоб ополчаться на старца... Речь идет о союзе с монархом... самым могущественным на свете...
Фауста сделала паузу.
И тогда Пардальян совершенно спокойным голосом, в котором не было ни малейшего нетерпения, произнес, словно он ничего не слышал:
– Сударыня, благоволите передать мне пергамент.
В очередной раз Фауста почувствовала, как ее охватывает сомнение и отчаяние. Но Пардальян был столь спокоен, столь внимателен, по крайней мере внешне, что она продолжила:
– Послушайте меня, шевалье... Когда этот пергамент будет вручен по назначению, вы получите взамен пост главнокомандующего в армии, которую Филипп пошлет во Францию. Это будет великолепная армия – так высоки ставки в этой игре... С таким главнокомандующим, как вы, эта армия станет непобедимой. Идя во главе войска, вы обрушиваетесь на Францию, без труда одерживаете победу над Беарнцем, захватываете его; его судят, осуждают на смерть и казнят как еретика и подстрекателя к ереси... Филиппа II провозглашают королем Франции, а вы... для вас создают особую провинцию, нечто вроде вице-королевства Франции!.. Вы удовлетворитесь этим... до тех пор, пока однажды, сократив свой титул на одно слово, по праву победителя, не возложите на свою голову королевскую корону... Вот мой план... Вам надо лишь сказать «да», и этот пергамент, который вы просите у меня для Генриха Наваррского, я сей же миг передам в ваши руки, но только для вас, шевалье де Пардальян...
Пардальян повторил ледяным голосом:
– Сударыня, благоволите отдать мне пергамент, который я обещал привезти Его Величеству Генриху, королю Франции.
Фауста взглянула на него, а затем, откинувшись на подушки, мрачно сказала:
– Я вам, лично вам, предложила этот драгоценный пергамент, но вы отказались от него... Значит, я отвезу его Филиппу.
– Извольте, сударыня, – ответил Пардальян с поклоном.
– И что же вы теперь станете делать?
– Я, сударыня? Буду ждать... А поскольку вы полны решимости ехать в Мадрид, я тоже поеду туда. И, следовательно, я говорю вам не «прощайте», а «до свидания».
– До свидания, шевалье, – ответила Фауста странным тоном.
Пардальян отвесил ей поклон и преспокойно продолжил свой путь.
Как только он исчез за поворотом, Бюсси-Леклерк, Шалабр, Монсери, Сен-Малин и Монтальте окружили носилки, приглушенно изрытая проклятия и ругательства.
Монтальте прорычал:
– Почему, сударыня, почему вы помешали нам покончить с этим бандитом?!
– Вот-вот, почему? – скрежетал зубами Бюсси.
Фауста взглянула на них с презрительной улыбкой:
– Почему?.. Да потому что вы дрожали от страха, господа.
– Клянусь Христом!.. Провалиться мне в преисподнюю!.. Смерть всем чертям!..
– Сударыня, еще не поздно!.. Одно ваше слово – и этот человек не доберется до подножия горы.
– Да?.. Ну что ж, попробуйте...
И она указала на Пардальяна, который ехал шагом по петляющей дороге.
Оскорбленные презрением Фаусты, до предела распаленные еще более унизительным презрением того, кто ехал там, внизу, казалось, даже не замечая их присутствия, они ринулись в погоню, толкаясь и выкрикивая мрачные угрозы.
Фауста же приподнялась на подушках, оперлась на локоть и заняла позу человека, намеревающегося со всеми удобствами наблюдать за любопытным зрелищем.
Мы уже говорили, что дорога вилась в горах, так что, спускаясь по ней, путник справа видел фантастические гранитные глыбы, бесконечно меняющие свои причудливые очертания под магическими лучами ярко брызжущего солнца; по левую же руку находились горные склоны – то пологие, то крутые, то совершенно отвесные; зияющая бездна была готова поглотить жертву малейшего неверного шага – изуродованную, разорванную на куски гигантскими алоэ и колючками кактусов.
Теперь о том, что столь гордо именовалось дорогой. На самом деле это было некое подобие прихотливо извивающейся тропинки, вытоптанной за долгие годы копытами лошадей и мулов, – то настолько широкой, что по ней могли проехать бок о бок несколько всадников, то настолько узкой, что места хватало едва для одного. Впрочем, кое-где виднелись результаты попыток людей улучшить тропу, проложенную животными.
Итак, пять охранников Фаусты бросились в погоню за Пардальяном. Дорога, сужаясь, вынудила их ехать гуськом; случаю было угодно, чтобы они продвигались в следующем порядке: во главе – Бюсси-Леклерк, за ним – Сен-Малин, Шалабр, Монсери; замыкал же вереницу Монтальте.
Пардальян находился в той точке дороги, где колея, протоптанная животными, была кое-как расширена людьми, так что здесь образовалось нечто вроде площадки.
Заслышав за своей спиной цокот копыт, он обернулся.
– Смотри-ка! Это славный Бюсси-Леклерк и те три королевских фаворита, которых я вытащил из Бастилии! А вон того я что-то не знаю!.. Какого дьявола Фауста помешала им напасть на меня наверху? Там хотя бы было просторно, не то что здесь...
Многозначительно покачивая головой, Пардальян изучал площадку, и на его губах играла хитрая улыбка.
Он не спеша развернул свою лошадь на сто восемьдесят градусов и зажал ее в углу, у самой гранитной стены, так что круп ее упирался в мощные обломки рухнувшей скалы. Теперь перед ним была тропа, откуда приближался Бюсси, позади – скалы, служившие ему заслоном; налево от него был горный кряж, направо – пропасть. Таким образом, напасть на шевалье можно было только спереди и только поодиночке.
Пардальян вынул шпагу из ножен и стал ждать; когда Бюсси-Леклерк оказался в нескольких шагах от него, он крикнул:
– Эй, господин Бюсси-Леклерк, куда вы так торопитесь?.. Наверное, на тот урок фехтования, который я пообещал вам дать несколько месяцев назад?
– Мерзкий хвастун! – заорал Бюсси-Леклерк и, высоко подняв шпагу, ринулся в бой. – Подожди, это я преподам тебе сейчас заслуженный урок!
– Мне только этого и надо, – отвечал Пардальян, парируя удар.
– Убей его! Убей его! – кричали четверо остальных.
– Ну, ну, господа... Если уж вы хотите меня убить, то вам не следовало выставлять вперед этого школяра.
– Разрази меня гром! Это я-то, Бюсси – школяр?!
– К тому же плохой школяр... который даже не умеет держать в руке шпагу... Вот так... Оп! Лети!
И шпага Бюсси вылетела из его рук и упала в пропасть.
– О, дьявол! – прорычал Леклерк и принялся рвать на себе волосы.
Сен-Малин за его спиной кричал:
– Место! Уступите мне место, черт побери!
Ошалевший Бюсси не двигался, по-прежнему загораживая дорогу остальным. Озираясь безумным взором, он заметил Монтальте, который, спешившись, проскользнул впереди всех и теперь протягивал ему шпагу.
Бюсси с радостным воплем схватил ее и не колеблясь, наклонив голову, вновь бросился вперед.
– Опять! – воскликнул Пардальян. – Право слово, вы неуемны, сударь!
Он не успел договорить, как шпага Бюсси (вернее, Монтальте) уже описала в воздухе кривую и отправилась вслед за первой на дно пропасти.
– Ну, – спросил Пардальян, – на сей раз вы удовлетворены? Насколько я умею считать, я выбиваю оружие у вас из рук уже в пятый раз... Решительно, вам со мной не везет.
Бюсси воздел к небу кулаки, подавил проклятие и опустился на землю, словно сраженный гневом и стыдом.
Ему бы пришел конец, если бы Пардальян – верх унижения и верх великодушия! – не схватил фрехтмейстера своей железной рукой и не уложил его, потерявшего сознание, поперек седла.
Сен-Малин как раз пытался пройти и занять место де Бюсси, когда Монтальте, встав перед ним, прошипел свистящим шепотом:
– Заклинаю вашей жизнью, сударь, не двигайтесь!
– Смерть всем чертям! Вы сошли с ума?
– Не двигайтесь, повторяю вам... Этот человек – дьявол! Если мы ему позволим, он убьет нас всех, одного за другим, или же лишит нас оружия... Увезите Бюсси, возвращайтесь к принцессе. Я приказываю вам от ее имени... Езжайте, господа!
Пардальян, покончив с Бюсси, повернулся к охранникам и спросил с самым любезным видом:
– Чья теперь очередь, господа?
Но Сен-Малин, Шалабр и Монсери, чертыхаясь, повиновались приказу кардинала. Бросая яростные взгляды, предназначенные в одинаковой мере и Монтальте, и Пардальяну, они спешились, подхватили Бюсси и попытались привести его в чувство...
Тем временем Монтальте решительно встал перед Пардальяном и бледный от сдерживаемой ярости произнес:
– Да будет вам известно, сударь, я вас ненавижу!
– Вот как?.. Но я вас не знаю. Кто вы?
– Я – кардинал Монтальте, – сказал тот, гордо выпрямляясь.
– Племянник многоуважаемого господина Перетти?.. Как здоровье вашего дядюшки? – отвечал Пардальян с любезнейшей улыбкой.
– Я ненавижу вас...
– Вы уже говорили это, сударь, – холодно сказал шевалье.
– Я убью вас!
– Ага, вот это другое дело!.. И каким же образом вы рассчитываете отправить меня в мир иной?
– Я вас предупредил, сударь, – сказал Монтальте, скрежеща от гнева зубами. – Мы с вами еще встретимся.
– Да хоть сейчас, если пожелаете... Нет? Ну, в таком случае, где вам будет угодно и когда вам будет угодно.
Тем временем слуги Фаусты удалялись, увозя с собой Бюсси-Леклерка; придя в себя, он плакал, переживая свое поражение и не слушая расточаемых ему утешений; поодаль следовал Монтальте, погруженный в задумчивость.
– До скорой встречи, господа! – крикнул им Пардальян.
И пожав плечами, он вновь пустился в путь, мурлыча охотничью песенку времен Карла IX.
Он не проехал и пятидесяти шагов, как раздался выстрел. Пуля ударилась в скалу, рядом с которой он находился, примерно в двух туазах[2] от него. Он живо поднял голову. Монтальте, стоя высоко над ним, один, склонился над пропастью с пистолетом в руке, который он только что разрядил. Видя, что его выстрел не попал в цель, кардинал вскочил в седло и, угрожающе махнув рукой, бросился вслед за своими спутниками.
Глава 10 ДОН КИХОТ
Продолжая свой путь по равнине, всадник размышлял: «Черт возьми! Если бы он рассчитал чуть получше, с господином посланником и его миссией было бы покончено.» Но вскоре Пардальян нахмурился:
– Бюсси-Леклерк и остальные напали на меня как подобает дворянам, шпага против шпаги... Но тот принадлежит церкви... и он пытается убить меня... За ним нужен глаз да глаз! Он сказал, что ненавидит меня, но почему?.. Ведь я его вовсе не знаю...
Секунду он подумал, потом по привычке пожал плечами:
– Черт подери! Стало быть, я так и не изменюсь всю свою жизнь?.. Мой бедный батюшка, будь он еще жив, мог бы обрушить на меня самые яростные упреки, и недаром... Ну, ладно. Наконец я выбрался из всех этих горных ловушек. Здесь, по крайней мере, видно далеко вперед.
И он вновь вернулся к своим размышлениям:
– Так в чем же дело? Со всеми прошлыми долгами – и благодарности, и ненависти – я разделался, совесть у меня чиста, нападения мне ждать неоткуда; я мог бы спокойно жить-поживать и смотреть на все происходящее со стороны. Да, черт возьми! В конце концов, какое мне дело до забот и короля Генриха, и короля Филиппа? До госпожи Фаусты и до папы? До церкви и до церковной реформы? И Бог весть еще до чего?..
Он обернулся и увидел вдали Фаусту и ее эскорт, только что добравшихся до подножия горы. Он покачал головой:
– Однако же я в очередной раз, словно меня укусил тарантул, вмешиваюсь в то, что меня не касается!.. В очередной раз я бросаюсь в игру, где мне нечего делать и где мое присутствие смешивает все карты... И я имею глупость поражаться тому, что не знакомые мне люди желают моей смерти? Клянусь Пилатом, удивлять должно было бы как раз обратное.
А ведь все еще только начинается, и понадобится совсем немного времени, чтобы все монахи Испании – а одному Богу известно, сколько их тут! – были науськаны на меня!
Шевалье обернулся еще раз: эскорт Фаусты уже скрылся из виду.
Он тряхнул головой и весело произнес:
– Ба! Уж коли ввязался... К тому же я не такое переживал, да и не безрукий я, слава Богу!
Размышляя подобным образом, он прибыл в Мадрид, не повстречавшись более ни разу с эскортом Фаусты и без единого приключения, достойного упоминания.
На берегу Мансанарес, на холме, где ныне стоит королевский дворец, в то время возвышался Алькасар – королевская резиденция.
Пардальян направился прямо туда. Первый же офицер, к которому он обратился, сказал ему:
– Его Величество покинул Мадрид тому уже несколько дней.
– И куда же король направился?
– Король направился в Севилью во главе кастильского отряда для усмирения еретиков – евреев, мусульман и цыган.
– Вот поход, достойный великого короля, – сказал Пардальян с иронично-простодушным видом.
Кастильский офицер, в восторге от такой лестной оценки, добавил:
– Король поклялся выкорчевать ересь во всем королевстве. Евреям и маврам придется перейти в истинную веру, а не то...
– Их зажарят всех сразу!.. Слава Господу! Это их научит, как надо жить!.. Ни за что на свете я не хотел бы пропустить такое поучительное зрелище, а посему, сударь, позвольте мне вас покинуть.
И повернув коня, Пардальян вновь пустился в путь по горам и долам.
Миновав Кордову, проехав сквозь целые леса апельсиновых и оливковых деревьев, промчавшись вдоль Гвадалквивира, на берегах которого стояли тысячи мельниц-маслобоен, он прибыл в Кармону, город-крепость в нескольких лье от Севильи, где с удивлением обнаружил, что королевские войска заняты установкой палаток.
Пардальян спросил, почему армия, подойдя так близко к цели, остановилась.
– Дело в том, – ответили ему, – что сегодня вторник.
– Вторник, – напомнил Пардальян, – это день Марса... И следовательно, благоприятный для такого военного похода, как ваш.
– Напротив, сеньор, гибельный день. Всем известно, что любое дело, начатое во вторник, обречено на верный провал.
– Вот как! А у нас, во Франции, прискорбной репутацией обладает пятница – считается, что именно она приносит несчастье!.. Значит, король расположится здесь лагерем?
– Вовсе нет, сеньор. Король – доблестный монарх, враг предрассудков. Он храбро продолжил путь и будет сегодня ночевать в Севилье.
– Тогда, – серьезно сказал Пардальян, – поскольку я – тоже враг предрассудков, – на свой манер, – я поступлю, как ваш доблестный монарх: я смело отправлюсь ночевать в Севилью.
И он вновь пустился в путь.
К вечеру шевалье наконец заметил королевский эскорт, над которым вздымались пики и хоругви; он, словно змея, медленно разворачивал свои кольца по пыльной» дороге, окаймленной оливковыми и апельсиновыми деревьями, пробковыми дубами и пальмами.
Не слишком обрадовавшись перспективе ехать по этой дороге со скоростью черепахи, Пардальян устремился под деревья и вскоре обогнал пышную кавалькаду. Однако он тут же остановился и сказал сам себе:
– Черт возьми! Пока я могу это сделать, взглянем-ка на доблестного монарха, не побоявшегося заняться уничтожением части своих подданных во вторник!
Около сотни рыцарей, закованных в латы и вооруженных копьями, верхом на лошадях с роскошными чепраками составляли головную часть процессии; за ними следовали широкие, богато убранные носилки – их несли мулы в яркой разноцветной упряжи, покрытые сетками, которые украшали ниспадающие до земли кисти; великолепная сбруя, вся в розетках, цветных шнурах и помпонах с ракушками, бляшками, кольцами и серебряными колокольчиками, весело звенела.
Король в пышном и одновременно строгом одеянии черного шелка и бархата полулежал на вышитых подушках.
Залысины на лбу, впалые щеки, короткие, с проседью волосы, седоватая бородка, холодный, на редкость неподвижный взгляд, мрачное лицо, невысокий рост – не столько величие, сколько надменная спесь... Положа руку на сердце, настоящее привидение!..
Именно такое описание внешности Его Католического Величества Филиппа II, имевшего в ту пору шестьдесят три года от роду, составил бы Пардальян, если бы его о том попросили.
За носилками – второй живой заслон из железа и стали.
– Разрази меня гром! – произнес Пардальян, удаляясь во весь опор. – Ну и мрачная же личность!.. И эдакое ничтожество госпожа Фауста мечтает навязать французскому народу, такому живому, такому веселому!.. Клянусь Пилатом! Одного вида этого ледяного деспота будет достаточно, чтобы на губах французских красоток навсегда замер смех!
Столица Андалузии – Севилья была в те времена гораздо более значительным городом, чем в наши дни. Расположенная на равнине, лишенная всякой естественной защиты, не считая Гвадалквивира, она находилась под охраной зубчатой крепостной стены; пятнадцать главных ворот стерегли вход в город.
В тот момент, когда солнце заходило в полыхании пурпура и золота, Пардальян въехал в Севилью через ворота Макарены, расположенные с северной стороны.
Если кто-то пожелает узнать, откуда взялось это странное имя, можем сказать, что это имя мавританской инфанты.
Заметив всадника, чья физиономия понравилась ему с первого взгляда, шевалье попросил указать ему приличный трактир, расположенный не слишком далеко от королевского дворца.
Всадник бросил на него проницательный взгляд и секунду рассматривал его так внимательно и упорно, что Пардальян, наверное, вскипел бы, если бы не угадал во взгляде и улыбке незнакомца явную симпатию и нечто вроде восхищения; всадник откровенно пожирал его взглядом, подобно отцу, который восхищается горячо любимым сыном.
Вот почему Пардальян, но натуре своей человек вовсе не терпеливый, видя, что ему не отвечают, повторил негромко и с улыбкой:
– Сударь, я имел честь попросить вас об одолжении – прошу вас, укажите мне гостиницу.
Незнакомец вздрогнул:
– О, извините меня, сеньор... Трактир?.. В окрестностях Алькасара? Ну, пожалуй... Постоялый двор «Башня» кажется мне вполне подходящим... Во-первых, он очень удобный, а кроме того, его владелец – мой друг... Да, но вы ведь чужеземец, француз?.. Да, да, понимаю... Если вы мне позволите, я сам провожу вас к трактиру «Башня» и попрошу хозяина позаботиться о вас.
– Я бесконечно благодарен вам, сударь. Охотно принимаю ваше любезное предложение, но, поверьте, это вы оказываете мне честь, – ответил шевалье, в свою очередь рассмотрев во всех подробностях – для этого ему хватило одного молниеносного взгляда – своего провожатого.
У этого человека, высокого и худого, лет сорока был широкий, великолепный лоб мыслителя; надо лбом вздымалась копна естественно вьющихся волос, слегка поседевших на висках и зачесанных назад; его живые пронзительные глаза то искрились лукавством, то затуманивались, словно у мечтателя; длинный крючковатый нос, выступающие скулы, впалые щеки, маленькие черные усики, загнутые вверх, и бородка клинышком довершали портрет.
Шевалье заметил, что незнакомец с трудом мог двигать левой рукой; костюм его, хотя и потертый, отличался безукоризненной чистотой. Наконец, на боку у него висела тяжелая, надежная шпага.
Они пустились в путь; кони их шли рядом, и по дороге всадник с неиссякаемой любезностью и с осведомленностью, поразившей Пардальяна, сообщал ему ясные и точные сведения об Андалузии, которые, как он полагал, должны были интересовать чужестранца.
Когда они проезжали по площади святого Франциска, Пардальян спросил:
– Что за алтарь воздвигнут на этой площади?
– Именно перед этим алтарем, сеньор, святая инквизиция пытается, сжигая тела, спасти души тех жалких людей, которые упорно отказываются признать благие деяния нашей святой веры.
Невозможно передать тон, каким были произнесены эти слова, хотя сами по себе они строго отвечали духу времени.
Пардальян пристально посмотрел на незнакомца, выдержавшего этот взгляд с самым простодушным видом.
С невыразимой грустью шевалье прошептал:
– Какой прекрасной и счастливой могла бы стать жизнь под этим сияющим небом, в этом благоухающем саду, на лоне роскошной, поистине сказочной природы!.. Как хороша была бы жизнь, если бы люди согласились жить, как люди, а не как кровожадные звери!.. Да, но люди таковы, каковы они есть... звери, скрывающие, кто лучше, кто хуже, свою сущность.
Незнакомец выслушал эти размышления, сияя от радости, и в свою очередь прошептал что-то, но что именно – Пардальян толком не уловил.
Подъезжая к реке, незнакомец указал на башню, встроенную в крепостную стену, которая окружала королевский дворец:
– Постоялый двор «Башня» назван так из-за своего соседства с этой башней.
– А она как называется?
– Золотая башня... Это сундук, куда наш монарх запирает богатства, прибывающие к нему из Африки.
– Разрази меня гром! Сундук, однако, немаленький! Коли так считать, то мне бы хватило и сундучка! – отозвался Пардальян.
– А мне бы и того меньше! Вы сами можете судить по моей одежде, – ответил незнакомец, тоже смеясь.
– Сударь, – сказал Пардальян серьезно, – не в одежде и не в пустом кошельке дело... По вашему виду мне ясно, что вы владеете тем, что ваш король не сможет приобрести в обмен на все свои сокровища, хотя бы они и умещались в сотне сундуков вроде этой башни.
– Вот как! – лукаво воскликнул незнакомец. – И что же, по-вашему, во мне такого ценного, сеньор?
– У вас есть это и это, – ответил Пардальян, коснувшись пальцем своего лба и груди.
Незнакомец не стал лицемерно изображать из себя скромника (что лишь утвердило Пардальяна в хорошем мнении, которое у него начинало складываться о его спутнике), и на сей раз шевалье его услышал:
– Замечательно! Настоящий Дон Кихот!
И остановив лошадь, он снял шляпу и сказал очень серьезно:
– Сеньор, меня зовут Мигель де Сервантес Сааведра; я кастильский дворянин и буду польщен сверх всякой меры, если вы позволите мне считать себя вашим другом.
– А я, сударь, – шевалье де Пардальян, французский дворянин; я сразу же увидел, что мы созданы для того, чтобы понимать друг друга совершенно во . всем. Вашу руку, сударь, и поверьте – если кто-то и польщен, так это я.
И два новых друга крепко обнялись. Тем временем они подъехали к трактиру, и, прежде чем спешиться, Пардальян сказал:
– Господин де Сервантес, не кажется ли вам, что мы не можем останавливаться на этом и что знакомство, столь достойно начатое, должно найти свое продолжение за столом, где мы сдвинем наши стаканы?
– Целиком с вами согласен, – сказал Сервантес, улыбаясь.
– Черт побери! Вы не можете себе представить, насколько легче становится на сердце, когда время от времени встречаешь человека, который посылает к дьяволу всяческое ломанье, откровенно выражая свои чувства, и с которым можно поговорить по душам.
– Да, – медленно произнес Сервантес, – это удовольствие, должно быть, нечасто вам выпадает.
– И вправду, очень редко.
– Видите ли, чтобы понять и оценить такую простую и прямую натуру, как ваша, надо самому обладать душой простой и прямой. Да, шевалье, в наше время, такое сложное и запутанное, прямота и простота почитаются непростительным преступлением. На несчастного, страдающего этим чудовищным пороком и имевшего неосторожность его продемонстрировать, обрушиваются все «честные» люди (которые и составляют огромное стадо, именуемое обществом), готовые с оружием в руках разорвать его; самое меньшее, что может с ним произойти – он прослывет безумцем... Мне думается, вам кое-что об этом известно...
– Клянусь Богом, это правда! До сих пор я встречал лишь волков, которые показывали мне свои клыки и пытались меня разорвать... Однако вы видите, что я тем не менее неплохо себя чувствую.
Беседуя подобным образом, они вошли в трактир, и, надо полагать, рекомендация Сервантеса стоила многого, ибо – явление поистине замечательное в стране, где леность людей может сравниться лишь с их чрезвычайной сдержанностью, – трактирщик проявил необычайное радушие и поторопился приготовить все для пира, который Пардальян вознамерился задать своему новому другу.
– Мы поговорим за столом, попивая вина моей страны, – сказал шевалье Сервантесу, – они, быть может, не столь хороши, как ваши, но умеют с приятностью развязать самые стойкие языки. Вы расскажете мне, кто вы, а я вам – кто я.
В ожидании, когда обед будет готов, они уселись во внутреннем дворике, среди других, довольно многочисленных посетителей, перед бутылкой старого хереса.
Внутренний дворик трактира «Башня» был, как и все внутренние дворики Испании, довольно обширен, вымощен плиткой и защищен от солнца тентами. Уже стемнело, и дворик освещали полдюжины масляных ламп, установленных на треножники из кованого железа.
– Видите, шевалье, – сказал Сервантес, – днем, когда солнечные лучи палят слишком нещадно, от них можно укрыться под аркадами, покоящимися на этих тонких колонках. Этот трактирный дворик ни в чем не уступает двору самого роскошного замка. Здесь даже есть свой собственный фонтанчик, окруженный апельсиновыми деревьями, пальмами и цветами. Живительные струи поддерживают приятную свежесть, а цветы наполняют воздух своим ароматом. Чего же еще можно желать?
Наконец очаровательная пятнадцатилетняя девочка подала обед; это была дочь трактирщика, которую отец послал, чтобы оказать честь своим дорогим гостям.
Они беседовали, вовсю работая челюстями и запивая съеденное немалым количеством бордосских вин вперемежку с лучшими испанскими; когда Сервантес поведал свою историю, Пардальян сказал:
– Итак, вы были солдатом, храбро сражались в славной битве при Лепанто, где получили увечье, как я могу судить по вашей левой руке – вы двигаете ею с явным трудом; теперь вы служите в губернаторстве Индии и горите желанием обессмертить свое имя, создав некий нетленный шедевр? Черт побери! Да! Вы напишите этот шедевр, и ваша слава сравнится, а может быть, и превзойдет, славу господина Ронсара, которого я знавал!
– Что вам сказать, шевалье? До сих пор я терзался ужасными сомнениями. Но теперь я и с самом деле верю, что напишу если и не шедевр, как вы предполагаете, то уж во всяком случае, книгу, которая не пройдет незамеченной.
– Ага! Я был в этом уверен!.. Но скажите – почему сами-то вы сейчас уже не сомневаетесь?
– Потому что я наконец-то нашел образец, нашел своего героя, которого так долго искал, – ответил Сервантес с загадочной улыбкой.
– Отлично, разрази меня гром!
Тем временем дворик постепенно опустел. Лишь за столом на другом его конце осталась группа шумных собутыльников, хлопочущая служанка и дочь трактирщика, которая следила за тем, чтобы тарелки и стаканы двух новоиспеченных друзей были полны.
Сервантес осмотрелся кругом и убедившись, что никто не может их услышать, понизил голос и зашептал:
– А вы, сеньор? Вы говорили о какой-то миссии... Простите меня, но я умоляю видеть в моем следующем вопросе лишь желание быть вам полезным.
– Я уверен в этом, – отозвался Пардальян. – Итак, ваш вопрос.
– Потребует ли ваша миссия общения с королем?
– Общения... и столкновения! – четко произнес Пардальян, глядя испанцу прямо в глаза.
Сервантес молча выдержал взгляд шевалье, а затем, пригнувшись к столу, сказал очень тихо:
– В таком случае говорю вам: берегитесь, шевалье, берегитесь!.. Если вы появились здесь с намерением помешать политике короля, забудьте о том прямодушии, что светится в ваших глазах... Скрывайте свое лицо, наденьте на него непроницаемую маску, ибо здесь вы увидите лишь маски, лишь капюшоны с отверстиями для глаз... Следите за своими словами, за своими жестами, мыслями, ибо в наших краях ребенок, которому вы дадите кусок хлеба, птица, которая заденет вас своим крылом, – все, все выдаст вас и донесет на вас инквизиции... Если вы явились для борьбы, не доверяйте своей силе, своему окружению, своему уму!.. Всегда будьте начеку, шевалье, и смотрите не перед собой, но направо, налево, позади себя, оглядывайтесь по сторонам, но особенно назад, так как поразить вас попытаются именно в спину!
– Проклятье! Ваши слова производят впечатление, дружище!..
Обращаясь к девушке, Пардальян спросил:
– Скажите-ка, милое дитя, как вас зовут?
– Хуана, сеньор.
– А ну-ка, красавица Хуана, принесите мне еще апельсинового желе, оно необычайно вкусное, клянусь честью!.. И поищите-ка хорошенько у вашего многоуважаемого батюшки – не найдется ли у него еще бутылочки того сомюрского, к коему я весьма неравнодушен.
– Дон Кихот! – пробормотал Сервантес.
Десять минут спустя Хуана поставила на стол желе и вино и удалилась легким шагом.
– Итак, милейший господин де Сервантес, вы говорили, что... – беззаботно начал Пардальян, тщательно намазывая желе на медовую коврижку.
Секунду Сервантес ошеломленно глядел на него, потом тихонько покачал головой.
К тому времени они оказались во дворике одни.
– Известно ли вам, что такое король Филипп? – продолжал Сервантес по-прежнему шепотом.
– Недавно я видел его, когда он проезжал на носилках, и, клянусь честью, впечатление не из лучших.
– Король, шевалье, – это человек, который приказал отрубить голову одному из своих министров лишь за то, что тот осмелился заговорить прежде, чем получил высочайшее дозволение... Это человек, который в мельчайших подробностях записывает, в каком порядке он оставил бумаги на своем рабочем столе, дабы удостовериться, что ничья нескромная рука к ним не прикоснулась... Это человек, который преследует своей неумолимой ненавистью женщину, уже не любимую им, обрекая ее на медленную смерть в темнице, куда он приказал ее бросить... Этот человек явился сюда во главе армии, чтобы покарать безобидных ученых и мирных торговцев только за то, что они поклоняются иному богу, чем он... В действительности же их преступление состоит в том, что они обладают несметными богатствами, весьма пригодными для конфискации...
Там, где прошел этот человек, загораются костры, чтобы обратить в пепел тех, кого пощадила мушкетная пуля... В довершение ко всему, этот человек из ревности приказал схватить и умертвить в ужасных пытках своего собственного сына, наследника трона, инфанта дона Карлоса! Вот что такое испанский король, которого вы, шевалье де Пардальян, имели несчастье только что повидать!..
– На своем жизненном пути, уже довольно долгом, мне довелось сразить несколько довольно устрашающих чудовищ... Признаюсь однако, что никогда не встречал я столь полного, столь замечательного в своей уродливости образчика, как тот, чей портрет вы мне сейчас набросали. Именно его мне не хватало для моей коллекции, и все сказанное вами вызывает во мне яростное желание увидеть его поближе... хотя бы это и грозило мне, маленькому человечку, быть раздавленным и стертым с лица земли.
– Именно это и сказал бы Дон Кихот! – восхищенно воскликнул Сервантес.
– Простите?..
– Ничего, шевалье, так, одна мысль. И продолжал серьезно:
– Однако если бы дело было только в короле... это было бы еще не столь страшно...
– Как, сударь, есть еще что-то похуже?.. Если это так, значит, надо набираться сил, черт побери!.. Ну, ну, давайте ваш стакан... За ваше здоровье, господин де Сервантес!
– За ваше здоровье, господин де Пардальян! – отвечал Сервантес с мрачным видом.
– Ну вот, – сказал Пардальян, ставя пустой стакан на стол. – А теперь рассказывайте. Мне хотелось бы знать, каким чудовищем, еще более страшным, вы станете пугать меня теперь.
– Инквизиция! – выдохнул Сервантес.
– Фи! – звонко расхохотался Пардальян. – Вы, дворянин, и дрожите перед монахами!
– О, шевалье, эти монахи заставляют дрожать короля и самого папу!
– Прекрасно! Но что такое ваш король?.. Нечто вроде псевдомонаха с короной на голове. Что такое папа? Бывший монах в митре! Я еще могу понять, что монахи могут пугать друг друга, но нас? Фи! Впрочем, папу и даже папессу – вы, наверное, и не знаете, что была и папесса? – так вот, папу и папессу я держал в своих руках, и, клянусь вам, весили они не слишком много... Я погнушался сжать кулак, иначе бы они были раздавлены!..
– Замечательно! – воскликнул Сервантес, захлопав в ладоши. – Сейчас вы говорили совсем как Дон Кихот!
– Я не знаком с этим господином, но если он говорит так же, как и я, значит, это умный человек, черт подери!.. Если только он не сумасшедший... Как бы то ни было, будь этот Дон Кихот здесь, разумный он или безумный, он бы сказал, как и я: «Пейте, дорогой господин де Сервантес, пейте это светлое вино из моей страны такое шипучее, такое веселое, и вы ощутите, как улетучиваются мрачные мысли, которые преследуют вас.»
– Ах, шевалье, – сказал Сервантес, помрачнев, – не шутите!
И продолжал с выражением скрытого ужаса:
– Вы-то не знаете, какое кошмарное судилище представляет собой святая инквизиция... Ведь в этом скопище палачей все свято... Вы не знаете, что эта страна, столь щедро одаренная природой, страна, где жизнь еще недавно била ключом, страна, блистающая славой своих художников и ученых, которых ныне уничтожают сотнями, – эта страна сегодня медленно агонизирует в безжалостных объятиях власти, правящей с помощью страха и ужаса... да, да, ужаса тысяч несчастных, которые, теряя разум, доносят сами на себя и сами себя предают огню аутодафе[3]!.. Не дай вам Бог узнать когда-нибудь, что такое «святые дома»!.. Это камеры всегда забитые жертвами, зловонные мешки без воздуха и света... Да знаете ли вы, наконец, что если не находится достаточно живых, чтобы утолить ненасытную жажду трибунала, алчущего человеческой крови, инквизиторы иногда выкапывают мертвецов и бросают их в костер?! И с этим-то многоголовым чудовищем вы хотите сразиться?.. Берегитесь! Вас разобьют, как я разбиваю этот кубок!
И резким движением Сервантес разбил стоящий перед ним кубок.
– Хуана! – позвал Пардальян. – Дитя мое, принесите другой кубок господину де Сервантесу.
А когда кубок был заменен и наполнен, когда Хуана удалилась, Пардальян повернулся к Сервантесу и произнес голосом, исполненным глубокого волнения:
– Дорогой друг, я очень тронут и восхищен той дружбой, какой вы изволили почтить меня – безвестного чужеземца. Познакомившись со мной получше, вы узнаете, что много раз я должен был быть разбит наголову, но в конечном счете – не знаю уж, как и почему! – всегда бывали биты как раз те, кто собирались стереть меня в порошок.
– Иными словами, несмотря на все, что я вам сказал, вы стоите на своем?
– Более чем когда-либо! – просто ответил Пардальян.
– О, блистательный Дон Кихот! – восхитился Сервантес.
– Однако, – мягко продолжал Пардальян, – ваша дружба вынуждает меня дать некоторое пояснение. Вот оно: все, что вы мне только что сказали, я уже знал и раньше. Но есть одна вещь, которую, быть может, не знаете вы, но которую знаю я: моей стране угрожают оба эти бедствия – и Филипп II, и его инквизиция... И еще я знаю совершенно точно: Франция не будет медленно удушена, подобно вашей несчастной стране.
– Почему же?
– Потому что я этого не хочу! – твердо произнес Пардальян.
– И опять вы говорите как Дон Кихот! – восторженно воскликнул Сервантес, который, слушая ответы Пардальяна, совсем потерял чувство реальности и погрузился в мир несбыточных фантазий.
– Я знаю, – продолжал не расслышавший его Пардальян, – я знаю, что рискую жизнью, но согласитесь: разве это существенно, когда речь идет о спасении миллионов человеческих жизней?!
– Мысль, достойная Дон Кихота! – восхитился Сервантес.
Секунду Пардальян смотрел на него насмешливо-умиленно; увидев, что его собеседник погружен в мечтания, он пожал плечами и сказал:
– Если дело обстоит именно так, то провалиться мне на этом месте, но ваш друг Дон-Кихот – безумец!
– Безумец?.. Да... Вы подали мне мысль... Надо будет обдумать... – пробормотал Сервантес.
Но внезапно возвратившись к действительности, он встал и отвесил Пардальяну глубокий поклон:
– Во всяком случае, это славный и храбрый человек... Я хочу сделать вам предложение, шевалье.
– В чем же оно заключается? – спросил Пардальян, начиная испытывать некоторое беспокойство.
– В том, – ответствовал Сервантес, в чьих глазах читалось веселое лукавство, – чтобы выпить вместе со мной за здоровье прославленного рыцаря Дон Кихота Ламанчского!
– Черт побери! – произнес Пардальян и поднялся, облегченно вздохнув. – Я это сделаю от всей души, хотя и не знаком с этим достойным сеньором...
– За славу Дон Кихота! – воскликнул Сервантес со странным волнением.
– За бессмертие вашего друга Дон Кихота! – пошел еще дальше Пардальян, чокаясь с Сервантесом; тот приложил руку к сердцу в знак благодарности.
Про себя же шевалье подумал: «Клянусь Пилатом! Эти поэты все немножко сумасшедшие!»
Но тотчас же на лице его мелькнула ироническая ухмылка: «В конце концов, мне ли бросать камень в других?»
Глава 11 ДОН СЕЗАР И ЖИРАЛЬДА
Опорожнив чаши единым духом, как это и полагается в подобных случаях, они вновь уселись друг против друга.
– Шевалье, – просто сказал Сервантес, – ведь мне не надо вам говорить, – не правда ли? – что я всецело вам предан.
– Я рассчитываю на это, черт побери! – ответил Пардальян так же просто.
Рукопожатие скрепило их договор о дружбе.
Тем временем дворик опять заполнился народом. Несколько кавалеров, вид которых отнюдь не внушал доверия, шумно беседовали между собой в ожидании заказанного вина.
– Клянусь Святой Троицей! – говорил один. – Знаете ли вы, сеньоры, что с некоторых пор Севилья похожа на кладбище?
– Ни развлечений, ни аутодафе, ни коррид, ничего... только смертельная скука, – говорил другой.
– Эль Тореро, дон Сезар исчез... удалился в свое имение в Сьерре, где выращивают быков для корриды... У него сейчас приступ черной меланхолии – они порой у него случаются.
– И Жиральду совсем не видно...
– Исчезли оба.
– К счастью, прибыл наш король. Теперь все наконец переменится.
– Слава Господу! Хоть повеселимся немного!
– Король организует облаву... и мы будем охотиться за евреями и маврами!.. Клянусь кровью Христовой! Будем рубить с плеча и без пощады!
– Не считая тех, кого поджарят, если по случайности они сумеют увернуться от пушек и мушкетов!
– Мы вновь увидим улыбку Жиральды!
– Эль Тореро не будет больше на нас дуться и устроит нам великолепную корриду.
– Да еще те мелочи, что перепадут нам от экспедиции!
– После короля, сеньор, после короля и придворных грандов!..
– Да полноте, как бы ни был велик аппетит нашего короля и его грандов, у проклятых еретиков столько добра, что и нам, слава Богу, достанутся кое-какие крохи.
– Вот тогда снова заживем!
Все эти реплики прорезали воздух, словно свист бича, вперемешку с громкими раскатами хохота и ударами тяжелых кулаков по столу. Эти люди ликовали и хотели, чтобы все это видели.
– Словом, – сказал Пардальян вполголоса, – судя по тому, что я слышу, этот крестовый поход, как и всякий уважающий себя крестовый поход, есть всего лишь огромная кормушка, где каждый, начиная от короля и кончая последним из этих... храбрецов, надеется получить свой кусок.
– Да, так всегда и бывает, дело привычное, – ответил Сервантес, пожимая плечами.
– А что это за Тореро, о котором они говорят? Подвижные черты лица Сервантеса приняли серьезное и печальное выражение, поразившее шевалье.
– Его зовут просто дон Сезар, и никакого другого имени у него нет. Он никогда не знал ни отца, ни матери. Его прозвали Эль Тореро; когда говорят – Эль Тореро, – это звучит так же, как когда говорят: «король»; и точно так же, как для всех испанцев существует только один король, для всех андалузцев существует лишь один тореадор: Эль Тореро, и этим все сказано. Он прославился по всей Андалузии тем, как он обходится с быком – до сего дня такой способ был неизвестен. Он появляется на арене совсем иначе, чем все другие тореадоры, закованные в латы, прикрываясь круглым щитом, с копьем в руке, верхом на богато украшенной лошади... Он выходит пеший, разодетый в шелк и атлас; вместо тяжелого щита у него плащ, обернутый вокруг левой руки; в руке – парадная шпага... Острием этой маленькой шпаги он снимает букет из лент, закрепленный между рогами быка (которого он никогда не поражает насмерть), и этот букет, добытый им с риском для жизни, слагает к ногам первой красавицы... Это храбрец, которого вы наверняка полюбите, если познакомитесь с ним.
– Итак, – сказал Пардальян, возвращаясь к своей основной мысли, – король столь нуждается в деньгах, что не брезгует стать по главе армии грабителей?
Сервантес отрицательно покачал головой:
– Денежные проблемы, подавление ереси, массовые казни... если бы дело было только в них, король отдал бы все на откуп своим министрам и генералам... Но это лишь предлог, чтобы скрыть истинную цель, никому не ведомую, кроме короля и великого инквизитора... лишь я один угадываю ее...
– Черт подери! Я тоже говорил себе, что здесь должно быть нечто более серьезное! – воскликнул Пардальян.
И с любопытством осведомился:
– Неужто Елизавета Английская грозится завоевать Испанию?.. Да, это было бы весьма на руку королю Генриху!.. Нет? Жаль! Проклятье!.. Или несколько человек, исполненных решимости сбросить наконец стальное ярмо, под которым задыхается целый народ, задумали какой-нибудь хорошо организованный мятеж?..
– Не гадайте, шевалье, все равно не отгадаете!..
Этот поразительный поход, во время которого будут принесены тысячи безвинных жертв, направлен против... одного-единственного человека!
– О дьявол! – вскричал ошеломленный Пардальян. – Наверное, это какой-нибудь великий хвастун? Или неистовый заговорщик? Или какая-нибудь могущественная личность?
– Это молодой человек лет двадцати двух, без имени и состояния – ибо если его опаснейшая профессия и приносит ему очень приличный доход, то все заработанное им принадлежит скорее людям неимущим, нежели ему самому. Этот человек, если он не выходит на арену, проводит свою жизнь в имении, где укрощает быков для собственного удовольствия. Так что сами видите – он не заговорщик и не важная особа.
– Итак, это тот самый тореадор, о котором вы мне рассказывали с такой душевной теплотой?..
– Он самый, шевалье.
– Теперь я понимаю почему вы говорили, что когда я с ним познакомлюсь, он мне понравится... Но скажите-ка – он, стало быть, происходит из знатной семьи? Этот молодой человек без имени?
Сервантес подозрительно огляделся, сел совсем рядом с Пардальяном и прошептал:
– Это сын инфанта дона Карлоса, убитого двадцать два года назад.
– Внук короля Филиппа!.. И значит, наследник испанской короны?
Сервантес молча кивнул.
– И вот дед, – всесильный монарх, организует и возглавляет поход против своего внука, – безвестного бедолаги... Тут кроется какая-то мрачная семейная тайна, – задумчиво прошептал Пардальян.
– Если бы принц – беседуя между собой, мы можем давать ему этот титул – если бы принц знал, и если бы он захотел... Андалузия, обожающая его в облике тореадора, завтра же восстала бы; завтра же у него были бы тысячи сторонников; завтра же Испания, расколотая на две партии, стала бы раздирать самое себя... Теперь вы понимаете? Поход преследует две цели: избавиться от нескольких еретиков и, накинув на принца огромную сеть святой инквизиции, избавиться и от него, да так, что никто не заподозрит правды.
– Но он?..
– Ничего!.. Он ни о чем не догадывается.
– А если бы он знал? Ведь вы вроде бы проникли в его характер – что бы он стал делать?
Сервантес пожал плечами:
– Король напрасно вбил это себе в голову. Во-первых потому, что принц ведать не ведает о своем происхождении, а во-вторых, даже если бы он и знал, корона его совершенно не волнует.
– Ага! – вскричал Пардальян, и в его глазах мелькнул огонек. – А почему?
– У принца душа художника, пылкая и великодушная; к тому же он без ума влюблен в Жиральду.
– Разрази меня гром! А он мне нравится, ваш принц!.. Но если он так страстно влюблен в эту Жиральду, почему он на ней не женится?
– Ха! Да он только об этом и мечтает!.. К несчастью, Жиральда, непонятно почему, не хочет покидать Испанию.
– Ну так пускай он женится на ней здесь... Чтобы благословить сей союз, в монахах недостатка не будет, что же до согласия семьи, то раз он не знает ни своего отца, ни своей матери...
– Вам, наверное, не известно, что Жиральда – цыганка, – пояснил Сервантес.
– Ну и что?
– То есть, как ну и что? А инквизиция?..
– Ох, милый друг, да скажите мне на милость причем тут инквизиция?
– Как! – произнес изумленный Сервантес. – Жиральда – цыганка, вы понимаете, цыганка!.. Иными словами, завтра, сегодня вечером, через минуту инквизиция может схватить ее и бросить в костер... И если это еще не произошло, то лишь потому, что севильцы ее обожают и власти опасаются, как бы из-за нее не начался бунт.
– Но принц-то не цыган, – настаивал Пардальян, никак не желающий отступать.
– Да!.. Но если он женится на еретичке, он может быть предан той же казни, то есть – сожжению!
И Сервантес продолжал тоном человека, отвечающего затверженный урок:
– Всякий, кто поддерживает отношения с еретиком, дает ему убежище и не доносит на него... всякий, будь то дворянин или погонщик мулов, кто отказывается помочь представителю инквизиции, совершает преступление такое же страшное, как и сама ересь, и должен подвергнуться той же казни: сожжению на костре. Огонь! Опять огонь, всегда огонь!.. Так гласят предписания инквизиции.
– Да, вы, я чувствую, еще и не такое можете мне порассказать!.. К черту инквизицию! Жизнь с этим учреждением становится просто несносной!.. Предупреждаю вас – у меня от ваших рассказов уже разливается желчь!.. Что до вашего юного принца, то мне отчаянно хочется чуть-чуть вмешаться в его дела... А иначе он никогда не выпутается!
– До чего отважен! Отважен! – Сервантес в восторге захлопал в ладоши. – Дон Кихот выступает в поход!
– Чтоб вашего Дон Кихота замучила болотная лихорадка! – пробурчал Пардальян. – Лучше расскажите-ка мне историю с сыном инфанта дона Карлоса; по-моему, вы знаете всю подноготную.
– Это мрачная и ужасная история, шевалье, – прошептал Сервантес, нахмурившись.
– Догадываюсь. Но смотрите – у нас еще осталось вино, да и времени предостаточно.
Сервантес огляделся, желая убедиться, что никто не может его подслушать.
– Прежде всего имейте в виду: все, кто был хоть как-то, даже в самой малой степени, связан с этой историей, умерли насильственной смертью... Все, кто просто-напросто знали ее или же неосторожно показали, что им что-то известно, исчезли таинственным образом, и никто так никогда и не узнал, что с ними стало.
– Ну а поскольку мы не хотим, чтобы нас постигли та же участь, мы сделаем так, что никто и не заподозрит, что мы ее знаем.
Они не обратили внимания, как во дворик незаметно вошла парочка.
Мужчина надвинул шляпу на глаза, часть его лица закрывал плащ. Женщина не менее старательно куталась в свою накидку; лица ее не было видно из-под опущенного капюшона.
Бесшумно, словно тени, они прошли к аркадам, где полумрак защищал их от нескромных взглядов, и сели там; по-видимому, это были влюбленные, жаждущие одиночества и тайны.
Не успели вновь прибывшие сесть, как другой персонаж, вошедший сразу вслед за ними, осторожно пробравшись по двору, спрятался за двумя пальмами, так что никто его и не заметил, в нескольких шагах от влюбленных, за которыми он, вероятно, следил.
Однако, хотя шпион проделал все очень ловко, его маневр не ускользнул от бдительного ока Пардальяна.
«Ух, – подумал шевалье, – вот мерзкий паук, забившийся в щель и готовый наброситься на свою жертву!.. Но кого, черт возьми, он подстерегает?.. А, понял!.. Его мишень – те двое влюбленных... А я-то их и не заметил!.. Это ревнивец... соперник...»
И обращаясь к Сервантесу, сказал:
– Продолжайте, друг мой, я вас слушаю.
– Вы знаете, шевалье, что одна из статей договора Като-Камбрези между Филиппом II и Генрихом II, королем Франции, оговаривала женитьбу инфанта дона Карлоса, тогда пятнадцатилетнего мальчика, на Елизавете Французской, старшей дочери короля Генриха II, четырнадцати лет от роду.
– И король Филипп сам женился на девушке, предназначенной в жены его сыну... Я знаю.
– Но чего вы не знаете (потому что люди, знавшие это, как я вам и сказал, исчезли), так это того, что инфант Карлос воспылал страстью к своей красивой невесте... Это была одна из тех диких, сокрушительных, неодолимых страстей, на какие способны только юноши и старики. Принц был красив, изящен, остроумен и безумно влюблен... Принцесса тоже полюбила его. Да и могло ли произойти иное? И разве он не должен был вот-вот стать ее супругом?.. Однако роковому случаю было угодно, чтобы король, недавно ставший вдовцом после смерти Марии Тюдор, увидел невесту своего сына...
– И влюбился в нее... это в порядке вещей.
– К сожалению, да, – продолжал Сервантес. – С того мгновения, как король почувствовал, что в нем бушует страсть, он, вопреки тем чувствам и законам, по которым живет простой народ, с поразительным бесстыдством потребовал для себя ту, кого он сам предназначал своему сыну... Принцесса любила дона Карлоса... Но она была ребенком... а ее матерью была Екатерина Медичи... Она подавила свои чувства и легко сдалась. Но принц...
– Конечно, ему было нелегко!.. И что же он сделал?
– Он умолял, рыдал, кричал, угрожал... Он говорил о своей любви в таких выражениях, которые тронули бы любого, но только не его отца – ибо это была борьба двух соперников. Тогда в качестве решающего аргумента он торжественно сообщил королю, что его любовь не осталась неразделенной... Этот шаг стал для него губительным.
В своей гордыне, простирающейся так далеко, что Филипп считает себя сотворенным из другого материала, нежели все остальные смертные, и видит в собственной персоне проявление могущества самого Творца, король даже не допускал мысли, что ему могли предпочесть его сына.
Простодушная доверчивость инфанта жестоко поразила короля и разбудила в нем всех демонов мрачной ревности, которая переросла в ярую ненависть... Между двумя соперниками происходили ужасные сцены, тайну которых верно хранят огромные деревья в садах Аранхуэса – только они и были их свидетелями... Принцесса Елизавета стала королевой Изабеллой, как мы здесь ее называем... но отец и сын навеки остались непримиримыми врагами.
Минуту Сервантес помолчал, опорожнил одним глотком только что наполненный Пардальяном стакан, и продолжил свой рассказ:
– Инфанта дона Карлоса постоянно отстраняли от дел правительства и дворца. Впрочем, так было даже лучше, потому что всякий раз, как король и инфант оказывались лицом к лицу, в налитом кровью взгляде того и другого читались одни и те же мысли об убийстве, одно и то же чувство ненависти, одно и то же буйство неистовых страстей, способных бросить их друг на друга с зажатым в руке кинжалом. Так длилось месяцы, годы, пока однажды, словно удар грома, не пришла весть о том, что инфант арестован и приговорен к смерти...
– И суд действительно был?
– Да! Нашлись три человека, которые, превратив себя в орудие низкой мести отца, осмелились осудить сына на смерть: кардинал Эспиноза, великий инквизитор; Рюи Гомес де Сильва, принц Эболи; лиценциат Бирвиеска, член Малого совета.
– И под каким же предлогом?
– Сговор с врагами государства, интриги во Фландрии – так было заявлено вслух. Но истина, еще более ужасная, заключается в следующем: за доном Карлосом неотступно следовали десятки шпионов; за королевой следили и того строже, и все-таки двое влюбленных, разлученных страстью короля, нашли способ встретиться и дать друг другу доказательства своей любви. Где?.. Как?.. Это одно из тех необъяснимых чудес, какие может совершить пылкая и преданная любовь. Одним словом, дон Карлос стал возлюбленным королевы, королева должна была стать матерью, и отцом ребенка, которого она ждала, был возлюбленный, а не супруг. Быть может, они совершили какую-то неосторожность?.. Или их предал сообщник? Это навеки осталось тайной... Так или иначе, королева предупредила своего возлюбленного, что король, охваченный подозрениями, велел тайно переправить ее в монастырь. Она увидела во внезапном и неожиданном решении своего августейшего супруга угрозу для жизни ребенка. Дон Карлос тотчас же принял меры, чтобы спасти свое дитя, и когда явились королевские эмиссары, чтобы завладеть новорожденным принцем, того не было, он исчез... На следующий день инфант был арестован.
– Бедняга! – прошептал взволнованный Пардальян. – Вот кому бы следовало вовремя услышать советы моего батюшки, который всегда говаривал: берегитесь женщин!
– Как я вам сказал, инфанта судили и приговорили к смертной казни. Но этот процесс был лишь комедией призванной скрыть драму, которая разыгралась за кулисами. И эта драма превосходила все ужасы, какие может себе представить человеческое воображение. Король в своей гордыне не мог поверить, что его позор оказался столь велик... Он сомневался и все-таки хотел знать... А чтобы узнать, он не побоялся прибегнуть к пыткам!..
– Пытать?.. Собственного сына?.. И он осмелился?!
– Да, это гнусно, это невообразимо: отец повелевает пытать свое дитя; но эта чудовищная жестокость свершилась!.. О, жуткая, кошмарная сцена!.. Представьте себе, шевалье, мрачную темницу, чьи толстые стены заглушают стоны истязаемого; зловещий свет дымящихся факелов освещает дыбу, на которой растянута жертва... Рядом с ней палач с невозмутимым спокойствием раскаляет железо, раскладывает пыточные инструменты. А напротив – король... единственный свидетель, он же одновременно судья и палач... И в то время как деревянный молот дробит руки и ноги инфанта, в то время как под раскаленными докрасна щипцами потрескивает плоть, мерзавец-отец, склонясь над трепещущей в агонии жертвой, повторяет голосом, в котором уже нет ничего человеческого:
– Говори же!.. Признавайся!.. Признавайся, негодяй!..
Бьющийся в смертных муках инфант откусил себе во время конвульсий язык; он презрительно выплюнул этот кровавый ошметок в лицо отцу, словно говоря ему:
– Я ничего не скажу!
И отец-палач, быть может побежденный этим беспримерным мужеством, раздавленный постыдным оскорблением, машинально отер запачканное лицо и взмахом руки остановил пытку... Вот что произошло в той темнице, шевалье.
– Проклятье! Жуткая история!.. Но откуда у вас есть столь точные подробности?
Сервантес продолжал, словно не слыша:
– Было объявлено, что король помиловал сына и смертная казнь заменена пожизненным заключением. А несколько дней спустя, в июле 1568 года, сообщили о смерти инфанта. К сему было добавлено, что несчастный принц вел весьма беспорядочную жизнь, что он поедал в несметном количестве фрукты и другие яства, гибельные для его здоровья, что он огромными стаканами пил натощак ледяную воду, спал под открытым небом, невзирая на росу или сильную жару, и что все эти излишества подточили его здоровье и вызвали преждевременную кончину.
– Но королеву, королеву пощадили?
– В Испании королеву не трогают... Королеву не беспокоили... Только два месяца спустя после смерти дона Карлоса она умерла своей смертью, двадцати двух лет от роду... как говорят, от последствий родов...
– Да, совпадение и впрямь достаточно красноречивое, – сказал Пардальян.
И безо всякого перехода добавил:
– Скажите, заметили ли вы, поэт, что безмолвие бывает подчас выразительнее всяких слов?
И уголком глаза он указал на кавалеров, которые еще мгновение назад вели себя столь шумно.
– Да, что-то эти храбрецы внезапно замолкли.
– Тихо! – прошептал Пардальян. – Видно, здесь затевается нечто такое, от чего на целое лье разит подлостью.
Пока Сервантес рассказывал внимательно слушавшему его Пардальяну трагическую историю дона Карлоса, личность, прятавшаяся за двумя пальмами, украдкой проскользнула к столу шумных кавалеров. Там незнакомец произнес несколько слов, показывая предмет, зажатый у него в руке.
Молодые люди тотчас же склонились с почтением, в котором явно сквозило чувство страха.
Тогда человек быстро, повелительным тоном отдал приказание, и все не колеблясь кивнули в знак повиновения... Все, кроме двоих – те, по-видимому, возражали, впрочем, весьма робко. Тогда шпион выпрямился с грозным видом и, подняв указательный палец к небу, угрожающе произнес несколько слов, после чего те двое, укрощенные, тоже согнулись в поклоне.
Уже не обращая на них внимания, человек схватил за руку пробегавшую мимо служанку и прошептал ей на ухо какой-то приказ. Служанка, как и посетители трактира, поклонилась, выказывая тот же страх и то же почтение, быстро вышла, почти тотчас же вернулась, положила на стол связку веревок и исчезла со стремительностью, которая выдавала ее неодолимый ужас.
Человек невозмутимо сел у двери и стал ждать.
Над двориком, еще недавно столь шумным и оживленным, нависла тревожная тишина – предвестница грядущей бури, готовой вот-вот разразиться.
Тем временем двое влюбленных, поглощенные своей беседой, ничего не замечали и собирались уйти так же незаметно, как и пришли.
Когда они были в двух шагах от калитки, таинственный человек встал прямо перед ними и, выбросив руку вперед, провозгласил со зловещим спокойствием:
– Во имя нашей святой матери-инквизиции я арестую тебя, девушка!
Проворным и вместе с тем мягким жестом влюбленный отстранил свою подругу; видя перед собой лишь невооруженного человека, он даже не стал вытаскивать шпагу, висевшую у него на боку, всецело положившись на силу своих мускулов.
Он стремительно подался вперед, занеся кулак, но в тот же миг почувствовал какую-то возню у своих ног; его поднятая рука, внезапно опутанная веревкой, была резко отведена назад, шпага сорвана. В одно мгновение он был связан с ног до головы, но, не в силах даже пошевелить пальцем, кипя от ярости, все же смог стряхнуть кучу нападавших, которые повисли на нем сзади.
– Трусы!.. О, подлые трусы! – прорычал он.
Опустившись до роли альгвасилов[4], кавалеры неохотно, но надо признать, с замечательной быстротой и сноровкой, исполнили то, что задумал и приказал им тайный агент инквизиции.
Мы не зря говорим, что они повиновались неохотно. Действительно, отвечая на оскорбления влюбленного, один из них проворчал:
– Клянусь Господом, такая служба нам не по вкусу!.. Да что поделаешь?.. Нам было сказано: «Приказ инквизиции!» Уж очень не хочется гнить в «святом доме», вот и приходится делать, что велят... Берите с нас пример, сеньор.
Тем временем влюбленный, связанный по всем правилам, был уже опрокинут на землю, однако же и четырем здоровым молодцам, всем своим весом навалившимся на него, с трудом удавалось его удерживать. Теперь, когда дело было уже более или менее сделано, они смогли наконец разглядеть благородные черты того, кто своей необычайной силой вызвал их восхищение; у них вырвался крик:
– Дон Сезар!.. Эль Тореро!..
А за этим последовало другое восклицание:
– Жиральда!
Дело в том, что девушка мужественно пыталась помочь своему защитнику, и в свалке кто-то сдернул с ее головы капюшон, так что теперь ее сияющая красота была открыта любопытным взорам.
Все произошло с молниеносной быстротой; агент, по-прежнему бесстрастный, неподвижный, словно каменное изваяние, мрачно созерцал все происходящее.
Когда он увидел, что дон Сезар, обессиленный своими собственными попытками вырваться, хрипит в тисках четырех пар сильных рук, он крепко схватил Жиральду за локоть и закричал в порыве бурной, неистовой радости:
– Наконец-то! Теперь ты от меня не уйдешь!
Девушка с отвращением отпрянула от этого прикосновения, вздрогнув, как от ожога; извиваясь, чтобы избежать его грубых объятий, борясь изо всех сил, она озиралась с отчаянием утопающего, который тщетно ищет, за что бы уцепиться.
Бедняжка мужественно защищалась, но что она могла сделать со своим обидчиком – ведь судя по легкости, с какой он удерживал ее одной рукой, шпион был наделен недюжинной силой.
– Ну, – пробурчал он, явно желая покончить с малоприятной сценой, – ну же, ступай за мной!
И твердым шагом направился к выходу, безжалостно волоча девушку за собой.
Однако здесь он был вынужден остановиться.
Лениво прислонившись к калитке и скрестив руки на широкой груди, на него невозмутимо смотрел Пардальян.
Инквизитор бросил быстрый взгляд на этого незнакомца, который, по-видимому, желал преградить ему путь.
Но Пардальян выдержал этот взгляд с таким простодушным спокойствием, а на губах его играла столь наивная улыбка, что, право, его никак нельзя было заподозрить в дурных намерениях.
К тому же разве можно было предположить, что найдется безумец, который осмелится выказать непочтительность представителю власти, перед коей покорно склоняются абсолютно все? Эта мысль была настолько сумасбродна, что агент инквизиции тотчас же отмел ее; сознавая, какое превосходство над всеми дает его грозная должность, он даже не изволил сказать что-либо; повелительным жестом он приказал чужаку посторониться.
Но чужак даже не шевельнулся и, по-прежнему улыбаясь, смотрел на него глазами, в которых теперь читалось некоторое изумление.
Инквизитор произнес сухо и нетерпеливо:
– Уступите мне дорогу, сударь. Вы же видите – я хочу выйти.
– Так что же вы раньше не сказали? Вы хотите выйти?.. Выходите, выходите, я ничего не имею против.
Тем не менее, произнося эти слова, Пардальян не сдвинулся с места.
Инквизитор нахмурился. Улыбчивая флегматичность этого незнакомца начинала его раздражать.
Тем не менее он сдержался и глухо сказал:
– Сударь, я выполняю приказания святой матери-инквизиции, и даже для чужеземца вроде вас смертельно опасно противиться исполнению этих приказов; проявлять непочтение к представителю святой инквизиции также смертельно опасно.
– Ну, это дело другое!.. Проклятье!.. Уж я бы поостерегся противиться приказам этой святой... как там бишь ее?.. святой матери-инквизиции, да, да... И хоть я и чужеземец, я непременно выкажу вам все почтение, какое подобает агенту... вроде вас.
Он по-прежнему не двигался, и на сей раз инквизитор смертельно побледнел: было невозможно более заблуждаться относительно оскорбительного смысла слов, слетавших с этих уст.
– Чего вы в конце концов хотите? – крикнул он дрожащим от ярости голосом.
– Сейчас я вам скажу, – мягко ответил Пардальян. – Я хочу, – и он подчеркнул это слово, – я хочу, чтобы вы оставили в покое эту девушку, с которой вы так грубо обращаетесь... я хочу, чтобы вы вернули свободу этому молодому человеку, которого вы приказали предательски схватить... После чего вы сможете выйти отсюда... Я даже буду настаивать, чтобы вы сделали это как можно быстрее.
Шпион выпрямился, бросил мрачный взгляд на этого бесноватого и пробурчал:
– Берегитесь! Вы рискуете головой, сударь. Стало быть, вы отказываетесь повиноваться приказам святой матери-инквизиции?
– А вы?.. Вы отказываетесь повиноваться моим приказам? – холодно спросил Пардальян.
Инквизитор потрясенно молчал.
– Предупреждаю вас, я не слишком терпелив. Тревожная тишина нависла над всеми зрителями этой необычайной сцены.
Неслыханный поступок Пардальяна, осмелившегося противопоставить свою волю высшей власти этой страны, мог восприниматься лишь как поступок умалишенного или же как чудо мужества и отваги. Он был способен внушить либо жалость, либо восхищение.
Посреди всеобщего смятения Пардальян один оставался неколебимо спокоен, словно он сказал и совершил нечто самое простое и самое естественное. Прервав тишину, в которой сгущалась угроза, звонкий голос вдруг зычно прокричал:
– О, блистательный Дон Кихот!
То был Сервантес, в очередной раз потерявший представление о реальности и выразивший свое восторженное восхищение этим образцом для своего будущего героя, которому благодаря его гению суждено было стать бессмертным.
Инквизитор наконец оправился от изумления, повернулся к кавалерам и, дрожа от ярости, еле слышно приказал:
– Схватить этого еретика!
И указал пальцем на Пардальяна.
Кавалеров было шестеро, и четверо из них были заняты тем, что удерживали пленника, дона Сезара. Те двое, к кому относился приказ, в нерешительности переглянулись.
Видя эту нерешительность, агент инквизиции перешел к угрозам:
– Повинуйтесь же, а не то, клянусь Господом...
Смирившись, эти двое тронулись с места. Но физиономия шевалье по-видимому не сулила им ничего хорошего, ибо они внезапно схватились за шпаги. Однако вынуть их из ножен они не успели. Стремительный, как молния, Пардальян сделал шаг вперед и выбросил вперед два кулака. Оба кавалера упали как подрубленные.
Тогда шевалье подошел к инквизитору так близко, что почти касался его одежды, и, глядя ему прямо в глаза, сказал ледяным тоном:
– Оставьте эту девочку.
– Вы применяете силу против служителя инквизиции, сударь; вы дорого заплатите за подобную дерзость! – проскрежетал тот, с ненавистью уставившись на Пардальяна.
– Ты, негодяй, кажется позволяешь себе угрожать дворянину?! Повторяю: оставь эту молодую особу в покое!
Инквизитор свирепо вскинулся:
– Только посмейте поднять на меня руку!
– Клянусь честью, я бы предпочел избавить себя от этого мерзкого прикосновения, но раз так надо...
В то же мгновение Пардальян наклонился, схватил инквизитора за пояс, приподнял его, невзирая на сопротивление, словно перышко, донес в вытянутой руке до калитки, толкнул ее ногой и безжалостно выбросил шпиона на улицу со словами:
– Коли дорожишь своими ушами, не вздумай появляться здесь до моего ухода!
Не обращая более на мерзавца никакого внимания, шевалье вернулся во дворик и резко сказал потрясенно смотревшим на него четырем кавалерам:
– Развяжите этого сеньора!
Они поспешно повиновались и, разрезая веревки, пытались объяснить:
– Извините нас, дон Сезар, ваше сопротивление инквизиции неминуемо стоило бы вам жизни... Мы бы очень горевали, потеряв Эль Тореро.
Когда Тореро был развязан, Пардальян пальцем указал им на калитку:
– Уходите!
– Мы – кавалеры! – надменно ответствовал один из них.
– Я не знаю кавалеры вы или нет, но действовали вы как полицейские ищейки... А потому уходите, если не желаете, чтобы я обращался с вами соответственно...
И он многозначительно взглянул на носок своего сапога.
Все четверо, пристыженные, согнулись и едва слышно бормоча проклятья, бешено вращая глазами, направились к выходу.
– Не так быстро, – крикнул им Пардальян, – вы позабыли избавить нас от этого.
Под «этим» подразумевались те двое, что были наполовину оглушены.
У четверых приятелей был довольно жалкий вид; они образовали нечто вроде упряжки: одни держали своих потерявших сознание сотоварищей за плечи, другие – за ноги, и так они двинулись к калитке; надо признать, что их уход оказался гораздо менее внушительным, нежели их приход.
Когда посторонние удалились, во дворе остались лишь хозяин, его дочь и служанки, внезапно возникшие из разных темных закутков; они разрывались между восхищением, которое им внушал этот необыкновенный человек, и страхом, что их обвинят в сообщничестве – к несчастью, это было весьма вероятно.
– Черт подери! Насколько легче здесь теперь дышится! – спокойно произнес Пардальян.
– Великолепный, блистательный, замечательный Дон Кихот! – возликовал Сервантес.
– Послушайте, милый друг, – обратился к нему Пардальян с тем кисло-сладким видом, что возникал у него в определенных обстоятельствах, – объясните мне наконец, кто этот Дон Кихот, о котором, не в упрек вам будь сказано, вы мне прожужжали за этот час все уши?
– Он не знает Дон Кихота! – сокрушенно воскликнул Сервантес, с комическим отчаянием воздевая к небу свои длинные руки.
Заметив малышку Хуану, он попросил ее:
– Послушай, красавица, поищи-ка хорошенько у себя в комнате, ты наверняка найдешь там осколок зеркала.
– Так далеко ходить нет надобности, сеньор, – со смехом ответила Хуана.
Порывшись за вырезом платья, прекрасная андалузка вытащила оттуда плоскую ракушку, покрытую каким-то блестящим, словно серебро, веществом.
Сервантес взял зеркало-ракушку и, отдавая ее с серьезным видом Пардальяну, отвесил ему низкий поклон.
– А ну-ка, шевалье, взгляните-ка вот сюда, и вы познакомитесь с этим замечательным Дон Кихотом, о котором я прожужжал вам все уши за последний час.
– Да, так мне и показалось, – пробормотал Пардальян, став на миг таким же серьезным, как Сервантес.
А потом заметил, пожав плечами:
– Говорил же я вам: ваш Дон Кихот – настоящий безумец.
– Почему? – изумленно спросил Сервантес.
– Да потому, – строго продолжал Пардальян, – что человек, наделенный здравым смыслом, никогда бы не совершил здесь все те безумства, которые только что натворил этот сумасшедший... Дон Кихот.
Эль Тореро и Жиральда подошли к шевалье, и дон Сезар сказал дрожащим от волнения голосом:
– Я стану благословлять тот миг, когда мне выпадет счастье умереть за храбрейшего из рыцарей, какого я когда-либо встречал.
Жиральда же не сказала ничего. Она лишь взяла руку Пардальяна и грациозно-простодушным жестом быстро поднесла ее к губам.
Как всегда в случаях открытого проявления благодарности или восхищения Пардальян на секунду неловко застыл: этот взрыв искренних чувств явно приводил его в большее замешательство, чем острые клинки нескольких шпаг сразу, направленные ему прямо в грудь.
Он бросил взгляд на эту восхитительную в своем очаровании и в своей юности пару, которая глядела на него откровенно восторженными глазами, и произнес с насупленным видом, присущим ему в минуты нежной взволнованности:
– Черт побери! Да разве дело в том, чтобы умереть!.. Напротив, надо жить, жить ради этого очаровательного ребенка... ради любви, которая, поверьте мне, всегда торжествует, если на ее стороне два таких могучих помощника, как молодость и красота. А пока присядьте-ка оба и, попивая вино моей страны, поищем вместе способ, как избегнуть грозящей вам опасности.
Глава 12 ПОСЛАННИК КОРОЛЯ ГЕНРИХА
Кабинет, расположенный рядом с Залом посланников в севильском Алькасаре. Кабинет весьма просторен, его стены и потолок обшиты панелями из редких сортов дерева, украшенных резьбой в причудливом арабском стиле. Обставлен он очень просто: широкие кресла, несколько табуретов, огромные сундуки, большой рабочий стол, заваленный бумагами.
Маленькие сводчатые оконца выходят на прославленные сады, знаменитые во всем мире.
Король Филипп II сидит перед одним из окон, и его холодный взгляд рассеянно переходит с предмета на предмет, равнодушный к великолепию роскошной природы, подправленной, приукрашенной и обузданной искусством умным, но слишком утонченным.
Рядом с ним стоит великий инквизитор.
Чуть поодаль, прислонившись к переплету другого окна, скрестив руки на груди, подобно живой кариатиде, неподвижно стоит колосс. Длинный, с горбинкой нос, темные, ничего не выражающие глаза, – вот то немногое, что виднеется из-под копны курчавых волос, падающих на лоб до самых густых, кустистых бровей, и из нептуновой бороды, закрывающей всю нижнюю часть лица до самых скул. Волосы и борода колосса – ярко-рыжие.
Этот колосс, дон Яго де Альмаран, чаще именуемый при дворе Барба Роха, иначе говоря – Красная борода, был цепным псом Филиппа II.
Где бы ни появлялся король – на празднествах, религиозных церемониях, в Совете, – всегда и везде рядом с ним находился Красная борода; его глаза были устремлены на хозяина, неподвижный и безмолвный, он видел, слышал и понимал лишь то, что было угодно Его Католическому Величеству.
Это замечательное животное являлось в каком-то смысле частью той обстановки, которая окружала Филиппа II. Но повинуясь знаку или взгляду хозяина, животное обретало необычайный ум и выполняло любой секретный приказ короля, схваченный на лету.
Боялись не только его должности, но и его геркулесовой силы.
Происходя из старинного и благородного кастильского рода, он мог бы быть на равных с первыми грандами при дворе, но нелюдимый по природе, он сторонился всех знакомств, и никто не мог похвастать, что слышал, как говорит Красная борода, если на то не было королевского приказа. Да и тогда говорил он лишь самое необходимое.
Король, облаченный в роскошный и вместе с тем строгий костюм, внимательно слушал со своим обычным и холодным видом объяснения Эспинозы.
– Принцесса Фауста, – говорил великий инквизитор, – это та самая, которая возмечтала возродить традицию папессы Иоанны. Та самая, которая заставила трепетать Сикста V и чуть было не сбросила его с папского престола. У нее редкий ум и к тому же она ясновидящая... Ее следует оберегать, ее помощь может быть чрезвычайно полезна.
– А этот шевалье де Пардальян?
– Насколько я слышал, это грозный соперник, которого надо будет любой ценой привлечь к себе на службу или раздавить без всякой жалости. Впрочем, надо бы посмотреть его в деле, чтобы судить о нем... Сколько репутаций оказываются дутыми!.. И однако уже можно установить следующее: шевалье де Пардальян есть на самом деле граф де Маржанси, но он пренебрегает этим титулом... Быть может, таково свойство его характера... Не исключено, однако, что этот титул кажется ему недостаточным. С другой стороны, в самый день его приезда в Севилью у него произошло столкновение с одним из моих агентов... Этот Пардальян выбросил его на улицу, как выбрасывают ненужную вещь... Он, безусловно, храбрец.
– Он осмелился поднять руку на агента инквизиции? – с сомнением в голосе произнес король.
Эспиноза поклонился, подтверждая сказанное.
– В таком случае, – категорическим тоном приказал король, – следует его покарать... хоть он и посланник.
– Необходимо прежде узнать чего хочет и что может господин де Пардальян.
– Хорошо, – произнес король по-прежнему ледяным тоном. – Но нельзя оставлять безнаказанным оскорбление, нанесенное государственному агенту... в назидание другим.
– Внешне все соблюдено: у агента не было письменного приказа... Он действовал по своей собственной инициативе и проявил излишнее рвение... Это серьезнейшее нарушение дисциплины, которое заслуживает строгой кары. Он понесет ее... Это и будет назидание, необходимое тем из наших агентов, кто дерзает превышать свои полномочия, в то время как им надлежит лишь исполнять, даже не стараясь понять, приказы вышестоящих... Что до господина де Пардальяна, то мы сумеем найти предлог... если в том возникнет нужда.
– Согласен! – безразлично обронил король.
Поднявшись, он медленным и величественным шагом подошел к письменному столу и с тем мрачным видом, который почти никогда не покидал его, приказал:
– Пригласите принцессу Фаусту.
Затем Филипп вновь принял свою излюбленную позу: сел, заложив правую ногу за левую, опершись локтем о подлокотник кресла, а подбородком – о сжатый кулак.
Эспиноза отвесил глубокий поклон, передал приказ короля и вернулся, скромно встав в оконном проеме, неподалеку от Красной бороды.
В тот же миг появилась Фауста.
Она шла медленно, с тем августейшим величием, которое заставляло склоняться все головы. Ее огромные лучистые глаза, подобные черным бриллиантам, заглянули в глаза Филиппа, но тот, оставаясь невозмутимым, застыв в своей нарочитой неподвижности, неотрывно смотрел на нее с поистине королевской настойчивостью.
Между этими двумя силами, между этими двумя гордынями с первой же встречи начался беспощадный поединок. Их взгляды скрестились словно шпаги: противники желали метко нанести первый удар и побыстрее сломить сопротивление своего визави.
Но если взгляд короля был холоден, повелителен и уничтожающ, как прямой смертельный удар, нацеленный в сердце врага, то взгляд Фаусты обволакивал, был невыразимо нежен и, в то же время, обладал неодолимой силой. Иными словами, принцесса прекрасно умела выбивать оружие из рук чуть зазевавшегося противника.
Эспиноза, – тайный свидетель этого безмолвного поединка, – отметил про себя – хотя ничто, разумеется, не выдало его радости, – что победа в первой схватке досталась Фаусте.
Медленно, словно нехотя, король отвел свой взор, и легкий румянец окрасил его мертвенно бледные щеки.
Тогда Фауста присела в безупречнейшем придворном реверансе.
Но в благороднейшей гармонии ее позы, в горделивой посадке головы, в сверкающих глазах сквозила такая монаршая властность, что она, казалось, всецело сокрушала того, перед кем склонялась.
Впечатление было столь поразительным, что Эспиноза невольно пришел в восхищение и прошептал: – Несравненная актриса!
А король, по-видимому, ослепленный неземной красотой этого изумительного создания, внезапно почувствовал, что его тщеславие готово отступить.
Он встал, сделал два быстрых шага, жестом, исполненным горделивого испанского изящества, снял шляпу и, взяв принцессу за руку, поднял ее, прежде чем она закончила свой реверанс, а затем подвел к креслу, говоря:
– Благоволите сесть, сударыня.
Этот неожиданный поступок высокомерного, государя, всегда строго соблюдавшего все мелочи тщательно разработанного придворного этикета, поразил Эспинозу и явился ярчайшим триумфом Фаусты.
С безмятежной улыбкой на устах она согласилась принять дань, уплаченную высшей власти ее могучего гения, хотя на самом деле, быть может, то была лишь дань уважения ее женской красоте.
Что за человек был король Филипп?
Он был искренне верующим.
С самого раннего детства епископы, кардиналы, архиепископы медленно, терпеливо и умело обработали его мозг, посеяв в нем неискоренимый ужас перед силами ада.
Он верил так, как другие дышат.
Наделенный необычайным умом, он возвел эту веру в абсолют, сделал ее своим оружием и своей защитой и мечтал о том же, о чем, должно быть, некогда мечтал Торквемада: о вселенной, подчиненной его святой вере, иными словами – ему самому.
Повествуя о нем, история говорит: мрачный фанатик, высокомерный деспот... Может быть!.. Во всяком случае, такое сказать несложно, это первое, что приходит в голову.
Мы же говорим иначе: он верил! И это объясняет все.
Он полагал, что истинная вера необходима человеку, чтобы счастливо жить и спокойно умереть. Посягать на эту веру означало для него, таким образом, посягать на счастье людей и обрекать их на смерть без утешения, ибо ничто, никакая надежда, никакая иная религия не могли умерить горечь последних минут человека на этой земле... Неверующие, еретики оказывались теми кто нес зло, и их необходимо было уничтожить.
Вот чем вызваны ужасающие кровавые бойни. Вот чем вызвана неслыханная изощренность пыток.
Жестокий зверь? Нет! Он спасал души, терзая тела...
Он верил.
А так как он хотел быть недоступным для чувства жалости, он говорил себе:
– Король выше всего. Король – это длань Господня, назначение коей – удерживать людей в вере, и удерживать безжалостно.
Вот чем объяснялась его гордыня.
– Я – король испанцев, король Португалии, император Индии, монарх Нидерландов, сын германского императора, супруг английской королевы; я самый могущественный монарх на свете, тот, кому Господь назначил установить Его веру над всей землей!
И его религиозная вера перерастала в веру политическую, и он поверил во всемирную монархию.
Вот чем вызваны его интриги во всех странах Европы.
Вот чем вызвано его прямое вмешательство в дела Франции. Совершенно логично, что эта страна должна была быть захвачена первой: она вставала у него на пути, и, завоевывая ее, он тем самым объединял все свои государства в одно великолепное целое.
Таков был человек, над которым Фауста – силой своего взгляда, сиянием своей поразительной красоты – только что одержала первую победу и по праву могла ею гордиться.
Фауста села и приняла одну из тех грациозных поз, секретом которых она обладала.
Король тоже сел и сказал даже с некоторой почтительностью:
– Говорите, сударыня.
И она заговорила – мелодично и чуть нараспев:
– Я привезла Вашему Величеству манифест короля Генриха III, где вы признаетесь преемником и единственным наследником короля Франции.
Эспиноза устремил свой огненный взор на Фаусту, размышляя: «Неужто она и в самом деле передаст ему пергамент?»
Король сказал:
– Ну что ж, посмотрим этот манифест.
Фауста бросила на него быстрый и уверенный взгляд, привыкший проникать сквозь самые плотные маски и в самые закрытые уголки души. Но сейчас ей не удалось увидеть все так ясно, как она хотела бы.
– Прежде чем передать вам этот документ, я почитаю необходимым сделать для вас некоторые пояснения и представиться вам. Вашему Величеству непременно следует знать кто такая принцесса Фауста, что она уже сделала и что может и хочет сделать еще.
Эспиноза вжался в оконную нишу и пробурчал:
– Я так и знал! Король сказал просто:
– Я слушаю вас, сударыня.
– Я та, кого двадцать три князя церкви, собравшись на тайный конклав, сочли достойной носить ключи святого Петра. Та, за кем они признали достаточно силы и воли, чтобы реформировать нашу религию. Та, кто убеждением или насилием сумеет установить истинную веру на всей земле. Я – папесса!
Филипп, в свою очередь, бросил на нее мимолетный взгляд.
Такое признание, сделанное ему, католическому королю, свидетельствовало о редкой отваге говорившего, ибо могло иметь самые губительные последствия.
Филиппу, возможно, пришлась по душе подобная смелость, однако он произнес:
– Итак, вы – та, кого глава христианства легким мановением руки низложил прежде, чем вы поднялись на ступени столь желанного папского престола. Вы – та, кого папа приговорил к смерти! – заключил он жестко.
– Я – та, кого предательство заставило споткнуться, это верно!.. Но я и та, кого ни предательство, ни папа, ни сама смерть не смогли сокрушить, потому что я – Богоизбранница, которую Господь ведет к неизбежному торжеству на благо веры!
Это было сказано с таким проникновением и так убежденно, что король, хоть он и был человеком глубоко верующим, испытал немалое волнение и стал смотреть на нее с почтением, смешанным с тихим ужасом.
Эспиноза, настроенный, конечно, более скептически, подумал: «Какая сила! И какой великолепный агент инквизиции! Ах, если бы мне только удалось...»
Фауста продолжала:
– Разве существует закон, запрещающий женщине занять трон святого Петра? Ученые теологи произвели тщательные, дотошные расследования, но – тщетно: ни в Священном писании, ни в словах Христа ничто не свидетельствует о том, что этот путь закрыт для нее. Церковь допускает ее на все ступени иерархии. Она может принять пострижение, она несет слово Христово. Есть аббатисы и есть святые. Почему же не может быть папессы? Впрочем, один прецедент уже был. Письменные источники подтверждают, что папесса Иоанна занимала этот трон. Почему же то, что уже случилось однажды, не может повториться снова? Или женский пол является препятствием для великих свершений? Вспомните папессу Иоанну, вспомните Жанну д'Арк, а в этой стране – Изабеллу Католическую, посмотрите на меня самое: вы полагаете, эта голова согнется под тяжестью тройной папской короны? Она излучала отвагу и пылкую веру. – Я признаю, – сказал Филипп сурово, – что блеск королевской короны потускнеет от ослепительной белизны этого целомудренного лба... Но тиара!.. Простите меня, сударыня, но мне кажется, что такие красивые губы не созданы для столь серьезных речей. На сей раз Фауста почувствовала себя задетой. Она пыталась перенести своего слушателя на вершины, где голова кружится от высоты, а ее грубо спустили на землю с помощью какой-то ерунды. Она считала, что явила себя в глазах короля исключительным существом, парящим над всеми человеческими слабостями, а он увидел в ней лишь женщину.
Удар был жестоким; но Фауста была не из тех, кто отказывается от своего из-за подобных пустяков. И потому она настойчиво продолжала: – Если я – Избранница Господа и избрана Им, чтобы править людскими душами и их направлять, то вы избраны Им, чтобы править народами. Мечта о всемирной монархии владела самыми могучими умами, но именно вы предназначены осуществить ее... с помощью главы христианского мира, наместника Бога на земле. Я не имею в виду папу, всецело занятого своей земной властью, – чтобы увеличить свои собственные владения, он отбирает правой рукой то, что дал левой... Я имею в виду такого папу, который станет поддерживать вас везде и во всем, потому что он будет обладать необходимой независимостью, потому что он будет нуждаться в вашей поддержке точно так же, как вы будете нуждаться в его моральной помощи. И что же необходимо, чтобы все происходило именно так? В сущности – безделица: чтобы государство этого папы оказалось достаточно большим и соответствовало папскому сану. Дайте ему Италию, и он даст вам весь христианский мир. Вы можете стать таким хозяином мира... а я могу стать этим папой...
Филипп слушал с неослабевающим вниманием, никак не выдавая своих чувств.
Когда Фауста кончила, он сказал:
– Но, сударыня, Италия мне не принадлежит. Ее еще надо будет завоевывать.
Фауста улыбнулась:
– Я низвергнута не так низко, как порой думают. У меня почти везде есть множество решительных сторонников. У меня есть деньги. Я прошу вас не о помощи для очередного завоевания. Я прошу вас о нейтралитете в моей борьбе против папы. Я прошу обещания, что Ваше Величество признает меня, если я одержу победу в этой битве. Все остальное – мое дело... включая объединение Италии.
Король погрузился в глубокие размышления; наконец он задумчиво прошептал:
– Для такого дела понадобятся миллионы. Наши сундуки пусты.
В глазах Фаусты сверкнул огонь.
– Стоит Вашему Величеству сказать одно только слово – и по моему приказу менее чем через неделю в этих сундуках окажется десять миллионов, а если понадобится, то и больше, – сказала она уверенно.
Филипп пристально посмотрел на нее, потом покачал головой:
– Я понимаю чего вы у меня просите и чего я не смог бы вам дать, ибо оно мне не принадлежит... Но я плохо понимаю, что вы могли бы дать мне взамен.
– Я даю Вашему Величеству французскую корону... По-моему, это с лихвой возместило бы отказ от Миланского герцогства.
– Э, сударыня, если я захочу получить французскую корону, то мне придется ее завоевывать. И если я ее получу, то дадут ее мне мои пушки и мои армии, а вовсе не вы!
– Ваше Величество забыли о манифесте Генриха III? – живо спросила Фауста.
– Манифест Генриха III? – произнес король, делая вид, будто вспоминает. – Признаюсь, я не совсем понимаю.
– В этом манифесте все сказано вполне определенно. Благодаря ему по меньшей мере две трети французского королевства наверняка признают Ваше Величество.
– В таком случае, это совсем другое дело... Тогда этот манифест действительно может иметь ценность, о которой вы говорите... Впрочем, на него еще надо посмотреть. Вы, кажется, должны передать его мне, сударыня? – небрежно спросил король, пристально глядя на Фаусту.
Фауста выдержала этот взгляд, не дрогнув, и спокойно ответила:
– Ваше Величество не думает, в самом деле, будто я настолько безумна, чтобы носить при себе документ, имеющий такую ценность?
– Ну конечно, сударыня, вы не из тех женщин, что совершают подобную неосторожность! – ответил Филипп; в его словах, произнесенных с обычной суровостью, нельзя было уловить ни малейшей иронии.
Однако Фауста почувствовала надвигающуюся бурю; впрочем, по обыкновению бесстрашная, она не отступила. По-прежнему спокойная и улыбающаяся, она заметила:
– Ваше Величество получит его, как только сообщит мне свое решение касательно предложения, которое я имела честь сделать.
– Я не смогу ничего решить, сударыня, пока не увижу этот пергамент.
Она посмотрела ему прямо в глаза:
– Не высказываясь со всей определенностью, вы могли бы дать мне понять, каковы ваши намерения.
– Боже мой, сударыня, все, что вы сказали мне относительно папессы, необычайно меня заинтересовало... По правде говоря, что бы там ни говорилось в Писании, но в мысли о женщине, восседающей на престоле святого Петра, есть нечто, что возмущает мою весьма простодушную веру... Однако все это было бы осуществимо, будь вы в том возрасте, который внушает уважение. Но, право, сударыня, вы – такая молодая, такая упоительно красивая? Ведь мы, бедные грешники, никогда не осмелимся поднять глаза на вас, ибо тогда мы испытали бы не глубочайшее почтение, какое должно испытывать к наместнику Бога на земле, но пылкое и ревнивое восхищение несравненной женской красотой. Ради одного вашего взгляда распростертые ниц верующие станут вскакивать с колен, готовые заколоть себя кинжалом. Ради одной вашей улыбки они продадут душу Сатане... Вместо того чтобы спасать души, вы будете обрекать их на вечное проклятие. Да разве такое возможно? Вы мечтаете о папской власти! Но со своей грацией, обаянием, красотой вы уже являетесь властительницей из властительниц, и ваше могущество столь велико, что мое могущество без колебаний склоняется перед вашим!
Если вначале король говорил со своей обычной холодностью, то постепенно, захваченный бурными чувствами, он оживился и закончил страстным тоном, куда более красноречивым, нежели сами слова.
Фауста ощутила, как под ее улыбающейся маской нарастает раздражение.
Итак, ее попытки доказать королю, что у нее мужской ум, способный возвыситься до самых дерзновенных, честолюбивых замыслов, оказались тщетными; он ничего не понял, ничего не почувствовал. Он упрямо желал видеть в ней лишь красивую женщину и, в конце концов, весьма плоско и без особых обиняков объяснился ей в любви. Это было жестокое разочарование.
Неужели ей отныне суждено всегда и повсюду сталкиваться с любовью? Неужели она никогда не сможет обратиться к мужчине, не превратив его при этом в своего обожателя? Если дело обстоит именно так, значит, ей остается только исчезнуть, ибо все ее планы будут заранее обречены на неудачу, а всякую попытку возвыситься неизбежно ожидает крах.
Везде, везде она сталкивалась с влюбленными в нее мужчинами, и единственный человек чьей любви она пламенно желала – Пардальян, – оказался также единственным кто пренебрег ею!
Размышляя об этом, Фауста в то же время поклонилась Филиппу и произнесла своим мелодичным голосом:
– Я подожду, когда Его Величество соблаговолит сообщить мне свое решение.
Филипп отвечал с равнодушным видом:
– Я это сделаю, как только увижу манифест. Фауста поняла, что сейчас она больше ничего из него не вытянет, и подумала: «Мы продолжим этот разговор позднее. И раз уж этому королю, которого я считала возвысившимся над всеми человеческими слабостями, угодно видеть во мне лишь женщину, я, если понадобится, опущусь до его уровня и воспользуюсь своим женским оружием, чтобы стать выше его и достичь цели.»
Пока она так рассуждала, Эспиноза направился в приемную, по-видимому, желая передать какой-то королевский приказ, а теперь как раз вернулся и намеревался снова скромно стать в стороне, однако государь подал ему знак:
– Ваше преосвященство, вы уже организовали какую-нибудь торжественную процессию, дабы по-христиански отпраздновать воскресный день, день Господень?
– Перед алтарем на площади святого Франциска будет водружено столько костров, сколько дней в неделе, и на них получат очищение огнем семь закоренелых еретиков, – сказал Эспиноза, сгибаясь в поклоне.
– Отлично, – холодно ответил Филипп. И обращаясь к Фаусте, бесстрастно добавил:
– Если вам будет приятно присутствовать на этой богоугодной церемонии, я буду рад вас видеть там, сударыня.
– Поскольку король изволил пригласить меня, я не могу пренебречь таким поучительным зрелищем, – серьезно сказала Фауста.
Король со столь же серьезным видом кивнул и коротко бросил Эспинозе:
– Коррида?
– Она состоится послезавтра, в понедельник, на той же самой площади святого Франциска. Все распоряжения уже сделаны.
Король пристально взглянул на Эспинозу и с какой-то странной интонацией, поразившей Фаусту, спросил:
– Эль Тореро?
– Ему сообщили королевскую волю. Эль Тореро будет участвовать в корриде, – ответил Эспиноза спокойно.
Повернувшись к Фаусте, король спросил ее с галантным видом и почему-то весьма зловеще:
– Вы не знаете Эль Тореро, сударыня? Это первейший тореадор Испании. Он действует по-новому, это в своем роде художник. Его обожает вся Андалузия. Известно ли вам что такое бой быков? В любом случае я оставлю вам место на своем балконе. Приходите, вас ожидает любопытное зрелище... Вы никогда не видели ничего подобного, – настаивал он все с той же интонацией, уже прежде поразившей Фаусту.
Его слова сопровождались прощальным жестом, любезным ровно настолько, насколько вообще могла быть любезной подобная личность.
Фауста поднялась и сказал просто:
– Я с радостью принимаю ваше приглашение, сир.
В это время отворилась дверь и лакей объявил:
– Господин шевалье де Пардальян, посланник Его Величества короля Генриха Наваррского.
И в то время как Фауста невольно застыла на месте, в то время как король впился в нее глазами с той настойчивостью, которая приводила в трепет самых бесстрашных и самых знатных людей его королевства, а великий инквизитор, по-прежнему скрывшись в оконной нише, бесстрастный и спокойный краешком глаза следил за ней с неослабным вниманием, шевалье приближался ровным шагом, высоко подняв голову, смотря не столько на короля, сколько прямо перед собой. С простодушно-наивным видом, скрывавшим его истинные чувства, он остановился в четырех шагах от короля и поклонился со свойственным ему горделивым изяществом.
Весь этот огромный торжественный зал, вся обстановка королевского дворца не произвели на Пардальяна ровно никакого впечатления. Глядя на Филиппа, шевалье думал: «Черт возьми! И вот это – государь?! Вот это – властелин полумира?! Как же я был прав давеча, утверждая, что король Испании – весьма жалкая особа.»
Беглая улыбка коснулась его насмешливых губ, а быстрый взгляд скользнул по Красной бороде, который застыл у окна, и по Эспинозе, стоявшем ближе к нему.
Увидев его спокойное, едва ли не веселое лицо, шевалье прошептал:
– Да, вот настоящий соперник, с которым мне придется бороться. Только его и следует опасаться.
Эспиноза, весьма внимательный наблюдатель, тем не менее не смог бы сказать – адресовался ли поклон этого чрезвычайного посланника королю, Фаусте, вперившей в него горящий взор, или же ему самому.
И великий инквизитор, со своей стороны, прошептал:
– Вот человек!
Его спокойные глаза, казалось, оценили поочередно Фаусту и Филиппа, затем вновь устремились на Пардальяна; на лице его промелькнула почти неуловимая гримаса, словно говорившая:
– К счастью, здесь есть я!
И он еще теснее прижался к оконному переплету, стараясь быть как можно менее заметным.
Пардальян же, склоняясь в поклоне с той прирожденной, хотя и несколько высокомерной элегантностью, которая уже сама по себе являлась кричащим нарушением строжайшего испанского этикета, мысленно говорил: «Ага, ты пытаешься заставить меня опустить глаза!.. Ага, ты снял шляпу перед госпожой Фаустой и опять надел ее, принимая посланника французского короля!.. Ага! Ты приказываешь отрубить голову смельчаку, осмелившемуся заговорить с тобой без твоего дозволения!.. Черт! Тем хуже для тебя...»
И стремительно шагнув к медленно удалявшейся Фаусте, он воскликнул с той обезоруживающе наивной улыбкой, из-за которой подчас было непонятно – говорит ли он серьезно или шутит:
– Как! Вы уходите, сударыня!.. Останьтесь же!.. Коли случаю было угодно свести нас троих всех вместе, то мы, надеюсь, сможем немедля уладить все наши дела.
Эти слова, произнесенные с сердечной простотой, произвели впечатление разорвавшейся бомбы.
Фауста застыла как вкопанная и обернулась, глядя поочередно то на Пардальяна, – причем так, словно она не была с ним знакома, – то на короля, который, как она предполагала, вот-вот должен был отдать приказ об аресте наглеца.
Король сделался смертельно бледным; в его серых глазах сверкнула молния, и он посмотрел на Эспинозу, будто спрашивал: «Что это за человек?»
И даже Красная борода весь напрягся, поднес руку к эфесу шпаги и приблизился к королю, ожидая приказания немедля пустить ее в ход.
В ответ на немой вопрос своего повелителя Эспиноза пожал плечами и чуть шевельнул рукой, что означало:
– Я вас предупреждал... Оставьте его... Настанет пора, и мы все сделаем как надо.
Король Филипп, следуя совету своего инквизитора, и безусловно (хотя и против воли), заинтересованный блистательной отвагой и дерзостью этого безумца, столь мало походившего на его придворных, вечно согнутых перед ним в поклонах, – Филипп смолчал, но про себя подумал: «Посмотрим, как далеко зайдет дерзость этого французишки!»
Его взгляд по-прежнему оставался пронзительные, но из безразличного он теперь стал зловещим.
Фауста, позабыв, что она откланялась, позабыв о самом короле, устремила на Пардальяна решительный взгляд, готовая принять его вызов, – и однако душа ее была столь возвышенна, что в то же время она восхищалась Пардальяном.
Восхищение же Эспинозы выразилось в следующем размышлении: «Нужно, чтобы этот человек во что бы то ни стало оказался на нашей стороне!»
Что до Красной бороды, то он удивлялся, почему король до сих пор не подал ему знака.
И лишь Пардальян улыбался своей простодушной улыбкой; казалось, он даже не догадывался, какую бурю вызвало его поведение, не догадывался, что рискует головой.
И все так же улыбаясь, все с той же простотой, все с той же прямотой, он, повернувшись к королю, сказал:
– Я прошу у вас прощения, сир, я, быть может, нарушил этикет, но меня извиняет то, что наш государь, король Франции (шевалье сделал ударение на последних словах), приучил нас к большой терпимости в этих вопросах – ведь в следовании всем придворным правилам есть что-то ребяческое.
Положение грозило сделаться смешным, иными словами – ужасным для короля. Совершенно необходимо было пресечь то, что Филипп счел дерзостью, или же попросту уничтожить шевалье своим презрением. Однако король решил проявить выдержку и поэтому вынужден был отвечать.
– Действуйте, сударь, так, как если бы вы стояли перед королем Франции, – сказал он, в свою очередь делая ударение на последних словах, голосом, едва слышным от переполняющей Филиппа ярости, и тоном, который заставил бы бежать без оглядки любого, кроме Пардальяна.
Но шевалье слыхивал и видывал и не такое. Он пребывал в хорошем настроении; кроме того, он с радостью убедился, что наконец-то задел гордость короля, донельзя не нравившегося ему.
А посему он не только не отступил, но даже легонько улыбнулся и склонился в изящном поклоне; в глазах его мерцало беспредельное ликование человека, который забавляется от души.
– Я благодарю Ваше Величество за позволение, дарованное мне с такой благожелательностью. Представьте себе, мне было бы крайне любопытно поближе взглянуть на пергамент, владелицей коего является принцесса Фауста. Он настолько занимает меня, что я без колебаний проехал всю Францию и всю Испанию с единственной целью удовлетворить свое любопытство, которое, я мог бы в том поклясться, разделите и вы, учитывая, что сей пергамент представляет определенный интерес и для вас.
И внезапно добавил с тем холодным спокойствием, что бывало порой ему присуще:
– Я совершенно уверен, что вы спрашивали этот пергамент у госпожи Фаусты, я совершенно уверен, что она вам ответила, будто не взяла его с собой и он спрятан у нее в надежном месте... Так вот! Это неправда... Этот пергамент – здесь...
И вытянув вперед руку, он почти коснулся груди папессы кончиком указательного пальца.
В его тоне звучала такая неодолимая уверенность, а жест оказался столь неожиданным и точным, что над актерами этой поразительной сцены на несколько секунд вновь нависло тяжелое молчание.
Эспиноза в очередной раз пришел в восхищение.
– Какой жесткий игрок!
Слова Пардальяна были правдивы и напугали Фаусту. Однако она не шелохнулась, а лишь горделиво вскинула голову. Надменная принцесса с холодным бесстрашием выдержала сверкающий взор шевалье, но внутри она так и кипела: «О! Дьявол!»
Король же заинтересовался странным посланником до такой степени, что даже позабыл смертельно оскорбившие его непринужденные манеры шевалье.
А тот продолжал:
– Ну же, сударыня, возьмите с вашей груди этот пресловутый пергамент да покажите-ка его нам, чтобы мы могли обсудить, насколько он ценен, ибо, если он интересует Его Величество короля испанского, то он интересует и Его Величество короля французского, коего я имею честь представлять здесь.
С этими словами Пардальян подбоченился и подкрутил ус. В его глазах бушевало такое пламя, в его жестах и речах сквозили такая сила и властность, что на сей раз и сам король невольно залюбовался этим человеком, который казался ему теперь представительным и величавым.
Фауста была не из тех женщин, что отступают перед подобными ультиматумами; она подумала: «Раз этот человек бьет самых искусных дипломатов своей откровенностью, почему бы и мне не воспользоваться той же самой откровенностью, словно грозным оружием, повернутым против самого шевалье?»
И она поднесла руку к груди, чтобы взять пергамент, который и в самом деле находился там, и развернуть его вызывающим жестом.
Но, надо полагать, в намерения короля не входило обсуждать этот вопрос с посланником Генриха, потому что он остановил ее, повелительно произнося:
– Я позволил принцессе Фаусте удалиться.
И Фауста отказалась от своего намерения. Она склонилась перед королем и, взглянув Пардальяну прямо в лицо, очень спокойно сказала:
– Мы еще встретимся, шевалье.
– Я в этом не сомневаюсь, – негромко отозвался Пардальян.
Фауста серьезно и одобрительно кивнула головой и медленно и величественно покинула зал, сопровождаемая Эспинозой: то ли желая оказать ей честь, то ли по какой другой причине, но он проводил принцессу до приемной. Там он оставил ее, а сам с заметной поспешностью вернулся назад, чтобы присутствовать при беседе короля и Пардальяна.
Когда великий инквизитор вновь занял свое прежнее место, король повелел:
– Извольте сообщить нам, господин посланник, цель вашей миссии.
Воспользовавшись своим особым даром – замечательной интуицией, которая всегда направляла его в тех серьезных случаях, когда предстояло принять незамедлительное решение, Пардальян, проникнув в суть характера Филиппа II, уже знал, как надо действовать.
«Ум мрачный и лукавый, искренний фанатик, безмерная гордыня, осторожный, терпеливый и упорный в своих планах, изощренный в осуществлении своих замыслов... Коронованный священник. Если я попытаюсь перехитрить его, то наш поединок может затянуться до бесконечности. Я должен ошеломить его, ошеломить правдой и смелостью».
Мы уже видели, что он тотчас же и не без успеха прибегнул к этой тактике.
Итак, Филипп II сказал, обращаясь к Пардальяну:
– Прошу вас сообщить нам цель вашей миссии. Пардальян вынес, не дрогнув, пристальный взгляд короля и ответил со спокойной непринужденностью, беседуя словно бы даже на равных:
– Его Величество король Франции желает, чтобы вы вывели те испанские войска, которые вы держите в Париже и в самом нашем королевстве. Король, преисполненный лучших чувств по отношению к Вашему Величеству, полагает, что сохранение этих гарнизонов в его стране является малодружественным актом с вашей стороны. Король полагает, что вы не должны вмешиваться во внутренние дела Франции.
В холодных глазах Филиппа мелькнул огонек, тотчас же погасший:
– И это все, чего желает Его Величество король Наварры?
– Это все... пока, – холодно сказал Пардальян. Король, казалось, на секунду задумался, потом ответил:
– Просьба, переданная вами, была бы справедливой и законной, если бы Его Величество король Наваррский был бы действительно королем Франции... Но это не так.
– Этот вопрос не подлежит здесь обсуждению, – твердо произнес Пардальян. – Речь идет не о том, сир, согласны ли вы признать короля Наваррского королем Франции. Речь идет о простом и ясном вопросе... о выводе ваших войск, которым нечего делать во Франции.
– Что мог бы предпринять король Наваррский против нас, если он не может даже взять штурмом свою столицу? – с презрительной улыбкой спросил Филипп.
– В самом деле, сир, – сказал Пардальян, нахмурившись, – это крайность, на которую король Генрих не может решиться.
И внезапно продолжил с иронически-почтительным видом:
– Что поделаешь, сир, король хочет, чтобы его подданные пришли к нему по своей воле. Мысль взять их штурмом, что само по себе не представляло бы никаких трудностей, ему отвратительна. Подобная щепетильность вряд ли будет понята чернью, она покажется ей излишней, но, конечно, будет высоко оценена таким государственным деятелем, как вы, Ваше Величество.
Филипп закусил губу. Он почувствовал, как в нем нарастает гнев, но сдержался, не желая показать, что понял, какой урок преподал ему этот заезжий французский дворянин. Он ограничился уклончивым:
– Мы рассмотрим просьбу Его Величества короля Генриха Наваррского. Там будет видно...
К несчастью, он имел дело с противником, исполненным решимости не поддаваться на увертки.
– Следует ли заключить из этого, сир, что вы отказываетесь пойти навстречу справедливой, законной и любезной просьбе короля Франции? – настаивал Пардальян.
– А если даже это и так? – произнес Филипп надменно.
Шевалье спокойно продолжал:
– Говорят, сир, вы обожаете максимы и афоризмы. Вот поговорка, весьма распространенная у нас и достойная того, чтобы над ней поразмыслить: «Всякий угольщик у себя в доме хозяин.»
– И что это значит? – пробурчал король.
– Это значит, сир, что вам придется пенять лишь на самого себя, если ваши войска постигнет та участь, какой они заслуживают, и они будут изгнаны из французского королевства, – холодно сказал Пардальян.
– Клянусь Девой Марией! Вы, сударь, кажется, берете на себя смелость угрожать королю Испании! – взорвался Филипп, смертельно бледный от ярости.
Пардальян же с невозмутимостью, поистине замечательной в данных обстоятельствах, обронил:
– Я не угрожаю королю Испании... Я предупреждаю его.
Король, до сих пор сдерживающий свой гнев лишь благодаря необычайному усилию боли, позволил теперь излиться тем чувствам, которые вызывало у него до дерзости смелое поведение этого странного посланника.
Филипп уже повернулся к Красной бороде, чтобы велеть ему нанести удар, и Пардальян, понявший намерение короля, решительно взялся за эфес шпаги, когда в разговор вмешался Эспиноза. Очень спокойным, умиротворяющим голосом он сказал:
– Король, который требует от своих слуг абсолютной преданности и рвения, ни в чем не может упрекнуть вас, ибо вы – поистине замечательный слуга, и эти качества развиты у вас в высшей степени. Напротив, он отдает должное вашему пылу и в случае надобности может засвидетельствовать это вашему хозяину.
– О каком хозяине вы говорите, сударь? – спокойно спросил Пардальян, сразу же и без всяких околичностей обращаясь к этому новому сопернику.
Невзирая на всю свою невозмутимость, великий инквизитор чуть не потерял самообладание, услышав этот неожиданный вопрос.
– Но, – запинаясь, произнес он, – я говорю о короле Наваррском.
– Вы хотите сказать – о короле Франции, сударь, – хладнокровно поправил Пардальян.
– Пусть будет так, о короле Франции, – снизошел Эспиноза. – Разве не он – ваш хозяин?
– Да это верно, я – посланник короля Франции. И все-таки король мне не хозяин.
Эспиноза и Филипп переглянулись с изумлением, которое они даже не пытались скрыть, и одна и та же мысль пришла им в голову: «Он, вероятно, сумасшедший?»
А Пардальян, прочтя эту мысль на их растерянных лицах, лукаво улыбнулся. Однако он был по-прежнему напряжен как натянутая струна и готов ко всему, ибо чувствовал, что происходящее в любой момент может обернуться трагедией.
Наконец Эспиноза пришел в себя и тихо произнес:
– Если, по-вашему, король вам не хозяин, то кто же он для вас?
Пардальян поклонился с независимым видом:
– Это друг, к которому я испытываю симпатию.
Шевалье произнес нечто чудовищное, нечто невероятное! Эти слова, сказанные таким людям, как Филипп II и его великий инквизитор, представлявшими власть в ее абсолютном виде, казались вершиной глупости.
Однако самое удивительное заключалось в том, что Эспиноза, бросив мимолетный взгляд на лицо шевалье, которое светилось умом и отвагой, и оценив этого человека, сознающего свою силу, воспринял его слова как совершенно естественные, и, в свою очередь, отвесив поклон, заявил:
– Судя по вашему виду, сударь, у вас и вправду не может быть другого хозяина, кроме вас самого, и дружба такого человека, как вы, есть дар достаточно ценный, чтобы почтить ею даже короля.
– Ваши слова трогают меня тем более, сударь, что насколько я могу судить по вашему виду, вы тоже не расточаете понапрасну знаки своего уважения, – сказал Пардальян.
Эспиноза быстро взглянул на него и одобрительно и чуть заметно кивнул головой.
– Однако вернемся к цели вашей миссии; Его Величество не отказывается удовлетворить переданную вами просьбу. Но вы должны понимать, что столь важный вопрос может быть разрешен лишь после напряженных размышлений.
Отведя на время грозу, Эспиноза вновь отошел в тень, оставив королю возможность продолжать беседу в указанном им направлении. Филипп же, понимая, что, по мнению инквизитора, время прервать переговоры еще не настало, добавил:
– У нас есть свои соображения.
– Именно эти соображения, – сказал Пардальян, – и было бы интересно обсудить. Вы мечтаете сесть на французский трон, выдвигая в качестве предлога ваш брак с Елизаветой Французской. Такое право будет внове для Франции: вы забываете, сир, что для признания этого права вам понадобился бы закон, принятый по всей форме. Но наш парламент никогда не примет подобный закон.
– Откуда вам знать?
Пардальян пожал плечами:
– Ах, сир, уже несколько лет ваши агенты, желая добиться этой цели, разбрасывают золото направо и налево. И что же, вы стали ближе к престолу Франции?.. Каждый раз вы сталкивались с сопротивлением парламента... Вам никогда не сломить этого сопротивления.
– А кто вам сказал, что у нас нет других прав?
– Пергамент госпожи Фаусты?.. Ну что ж, поговорим об этом документе! Если вам удастся завладеть им, сир, обнародуйте его, и я могу вам поручиться, что в тот же миг Париж и Франция признают Генриха Наваррского.
– То есть как? – удивленно спросил Филипп.
– Я вижу, сир, – холодно сказал Пардальян, – что ваши агенты плохо информируют вас о состоянии умов в нашей стране. Франция устала подвергаться бесстыдному и безудержному разбою и грабежу со стороны горстки честолюбивых безумцев. Франция стремится к тишине, покою, к миру, наконец. И чтобы получить этот мир, она готова принять Генриха Наваррского, даже если он останется еретиком... и тем более она примет его, если он согласится принять католичество. Король еще колеблется. Обнародуйте этот пресловутый манифест, и его колебаниям придет конец; чтобы добиться своего, он отправится к мессе, и тогда Париж откроет ему ворота, а Франция станет радостно приветствовать его.
– Таким образом, вы считаете, что у нас нет никаких шансов на успех наших планов?
– По-моему, – безмятежно сказал Пардальян, – вы и впрямь никогда не будете королем Франции.
– Почему же? – тихо спросил Филипп. Пардальян пристально посмотрел на него своими ясными глазами и отвечал с невозмутимым спокойствием:
– Франция, сир, – страна света и радости. Прямодушие, верность, отвага, щедрость – все эти рыцарские чувства так же необходимы там для жизни, как воздух, чтобы дышать. Это живая, темпераментная страна, открытая для всего благородного и прекрасного, она стремится к любви, то есть к жизни, и к свету, то есть к свободе. Чтобы править в такой стране, король должен соединять в себе множество качеств, он должен быть красив, любезен, храбр и великодушен, как никто.
– Так что же? – искренне удивился Филипп. – Разве я не могу стать таким королем?
– Вы, сир? – и Пардальян принял изумленный вид. – Но ведь там, где вы проходите, начинают пылать огромные костры, жадно пожирающие человеческую плоть. И вы ни за что не захотите расстаться с вашей инквизицией – этой мрачной властью ужаса, которая стремится управлять всем, даже мыслью. Посмотрите на себя, сир, – разве одного вашего строго-величественного вида будет недостаточно, чтобы заставить погрустнеть самых веселых и самых радостных людей на свете? Ведь во Франции известно, какое правление вы установили во Фландрии. Франции, этой стране радости и света, вы принесете лишь мрак и смерть... Даже камни сами собой поднимутся с земли, чтобы преградить вам дорогу. Нет, сир, все это, может, и годится для Испании, но Франция никогда этого не примет.
– Вы жестоки в вашей откровенности, сударь, – проскрежетал Филипп.
Пардальян принял простодушно-удивленный вид, что он делал всякий раз, когда собирался сказать нечто из ряда вон выходящее.
– Почему? Я говорил с королем Франции с той же самой откровенностью, которую вы расцениваете как жестокую, и он ничуть не оскорбился... напротив... По правде говоря, вряд ли мы с вами сможем понять друг друга, – мы говорим на разных языках. А с Францией так будет всегда: вы не будете понимать ваших подданных, они же не будут понимать вас. А потому лучше всего вам оставаться тем, что вы есть сейчас.
На мертвенно бледном лице Филиппа появилась улыбка.
– Я обдумаю ваши слова, поверьте мне. А пока я хочу оказать вам все знаки внимания, подобающие человеку ваших достоинств. Будет ли вам угодно присутствовать на завтрашнем воскресном аутодафе?
– Тысяча благодарностей, сир, но подобные зрелища внушают отвращение моей слишком нервной натуре.
– Мне очень жаль, сударь, – сказал Филипп с искренней любезностью. – Но, в конце концов, я желаю развлечь вас, а не навязывать зрелища, которые подходят нам, испанским дикарям, но наверняка могут оскорбить вашу изысканную французскую чувствительность. Испытываете ли вы подобное же отвращение к корриде?
– Вот к ней – нет! – ответил, не моргнув глазом, Пардальян. – Признаюсь даже, я был бы не прочь посмотреть на этот самый бой быков. Мне уже довелось слышать о знаменитейшем тореадоре Андалузии, – добавил он, пристально глядя на короля.
– Эль Тореро? – спокойно спросил Филипп. – Вы посмотрите на него... Я приглашаю вас на корриду послезавтра, в понедельник. Вы увидите необычайное зрелище, которое, я уверен, удивит вас, – продолжал Филипп, и его странная интонация насторожила Пардальяна так же, как незадолго перед тем она поразила Фаусту.
Тем не менее шевалье ответил:
– Благодарю Ваше Величество за оказанную мне честь и не премину посетить столь любопытное зрелище.
– Ну что ж, господин посланник, я сообщу вам свой ответ на просьбу Его Величества Генриха Наваррского... И не забудьте о корриде в понедельник. Вы увидите нечто любопытное... очень любопытное...
«Ого, – подумал Пардальян, склоняясь в изящном поклоне, – уж не кроется ли тут какая-нибудь ловушка, предназначенная для меня?.. Проклятье! Но кто сказал, что этот мрачный деспот заставит меня отступить?!»
Он выпрямился; глаза его блестели.
– Я ни в коем случае не забуду, сир!
А про себя подумал: «Но и ты не забудешь те несколько истин, которые я тебе преподал.»
И решительным шагом Пардальян направился к двери.
За ним, повинуясь властному жесту Филиппа II, последовал Красная борода.
Проходя мимо своего хозяина, Красная борода на миг остановился.
– Накажи его, высмей перед всеми... но не убивай, – прошептал король.
Гигант вышел вслед за шевалье, бормоча:
– Черт бы побрал королевские капризы! Ведь так легко было схватить его за шею и придушить, как куренка!.. Или вот еще хороший способ чисто сделать работу: один славный удар кинжала, а то и шпаги... Наказать его! Ну, это еще куда ни шло, я, слава Богу, знаю, как за такое взяться... Но высмеять?.. Разрази меня гром, что бы такое придумать?
Когда Красная борода вышел, король тотчас же поднялся, встал за тяжелой парчовой портьерой, легонько толкнул дверь и принялся через щель внимательно наблюдать за происходящим.
Шевалье, казалось, и не подозревал, что за ним по пятам следует зловещая тень. Приемная, где он оказался, была огромным залом с длинными скамьями, которые тянулись вдоль стен. Зал этот был заполнен дворянами, состоящими на королевской службе, дежурными офицерами, лакеями в сверкающих ливреях (торопливые и озабоченные, они сновали взад-вперед) и неподвижными слугами, стоявшими у дверей и сжимавшими в руках эбеновые палочки. Некоторые придворные сидели на скамьях, другие прохаживались мелкими шажками, третьи, собравшись в оконных нишах, оживленно беседовали.
Время от времени сквозь толпу ловко проскальзывал какой-нибудь паж, на которого никто не обращал внимания. Иногда зал медленно, чинно пересекал священник. Но перед ним, будь то простой монах или епископ, все расступались и сгибались в поклонах, ибо король требовал от всех – и от грандов, и от мелкой сошки – глубочайшего уважения к любому служителю церкви. А поскольку король первым подавал пример, каждый, желая быть на хорошем счету, старался превзойти в этом Его Величество.
В одной из оконных ниш Пардальян увидел знакомые лица и прошептал:
– Смотрите-ка! Три бывших охранника Генриха Валуа! Они, по-видимому, дожидаются свою хозяйку, достойную Фаусту. Но я не вижу ни славного Бюсси, ни замечательного во многих отношениях племянника господина Перетти.
В этой передней, где толпилось множество людей, слышался лишь неясный шепот и приглушенный звук шагов. Возникало ощущение, что вы находитесь в церкви. Ни у кого здесь не хватило бы смелости заговорить громко.
Имея вид человека совершенно нелюбопытного, шевалье, однако, был крайне любопытен и потому несколько раз обошел весь зал. Внезапно он заметил, что над толпой, еще секунду назад сдержанно-шумной, теперь повисла гробовая тишина. И – вещь еще более странная – прекратилось всякое движение в зале. Казалось, все присутствовавшие окаменели, так что Пардальян шел словно среди статуй.
Объяснение сего феномена было, однако, очень простым.
Красная борода все раздумывал, что бы такое сделать, дабы хорошенько высмеять Пардальяна перед всеми, кто находился в приемной. А поскольку он никак ничего не мог надумать, то пока просто-напросто шел за шевалье след в след. Правда, его уловку быстро заметили. И тогда по всему залу от одного человека к другому, прошелестел шепот: сейчас что-то случится. Что именно? Никто не знал, но каждый хотел видеть и слышать. Все умолкли и застыли в предчувствии задуманного спектакля – то ли комедии, то ли трагедии.
Посреди всеобщего молчания и неподвижности Пардальян оказался той точкой, где скрестились все взгляды.
Впрочем, его, по-видимому, это ничуть не смутило; неторопливым шагом он двинулся к выходу.
Перед дверьми застыл навытяжку, словно на параде, офицер, вооруженный шпагой. Красная борода за спиной Пардальяна повелительно махнул рукой. Офицер, вместо того, чтобы посторониться, перегородил шпагой дверь и сказал, впрочем, весьма вежливо:
– Здесь проход запрещен, сударь!
– А! – отозвался Пардальян. – В таком случае, окажите мне любезность – объясните, где я смогу выйти.
Офицер сделал неопределенный жест, указывавший на все выходы сразу и ни на один в отдельности.
Пардальяна, казалось, это вполне удовлетворило – он ничего не сказал и, по-прежнему притягивая к себе все взоры, решительно направился к другой двери. Там он наткнулся на лакея; как и офицер, тот преградил ему дорогу своей эбеновой палочкой и очень вежливо, с нижайшим поклоном, сказал, что здесь пройти нельзя.
Пардальян легонько нахмурился и бросил через плечо взгляд, который навел бы Красную бороду на самые невеселые размышления, если бы тот сумел на лету перехватить его.
Но Красная борода ничего не заметил. Желая высмеять шевалье, он все искал, что бы такое придумать, и ничего не мог найти.
Пардальян огляделся и тихонько выругался:
– Клянусь Пилатом, по-моему, эти титулованные лакеи смеются надо мной!
И продолжал, ехидно улыбаясь:
– Смейтесь, надутые спесивцы, смейтесь!.. Сейчас ваши улыбки превратятся в гримасы, зато уж я-то насмеюсь вдоволь.
Все с той же невозмутимостью он возобновил свое шествие по залу и вскоре оказался – случайно или намеренно – неподалеку от охранников Фаусты.
Монсери, Шалабр и Сен-Малин без колебаний приблизились к нему, изысканно приветствуя шевалье, который ответил им не менее галантно; любезно улыбаясь, но едва слышными голосами, они быстро обменялись несколькими фразами:
– Господин де Пардальян, – сказал Сен-Малин, – вы, конечно же, догадываетесь – мы имеем поручение убить вас... что мы и сделаем, как только нам представится такая возможность.
– Впрочем, весьма о том сожалея, – добавил Монсери вполне искренне.
– Ибо мы прониклись к вам величайшим уважением, – добавил Шалабр, отвесив безупречный поклон.
Пардальян, улыбаясь, ответил тем же.
– Но, – продолжал Сен-Малин, – нам кажется, что вас хотят здесь выставить... на посмешище. Я прошу прощения за это слово, сударь, я не желаю обидеть вас, я всего лишь называю вещи своими именами.
– Так скажите же, в чем дело, господа, – любезно отозвался Пардальян.
– Дело вот в чем, сударь, – сказал Монсери, всегда бывший самым горячим из всей троицы, – мысль о том, что на наших глазах станут потешаться над нашим соотечественником, а мы безропотно снесем все эти насмешки, невыносима для нас.
– Особенно если соотечественник – такой благородный человек, как вы, сударь, – подчеркнул Сен-Малин.
– И?.. И что же вы решили, господа? – Пардальян напрягся, как и всегда в минуты большого волнения.
– Черт подери! – сказал Шалабр, многозначительно похлопывая ладонью по эфесу шпаги. – Мы решили преподать этим пропахшим луком наглецам урок, которого они заслуживают.
– Мы сочтем за честь, сударь, сражаться со шпагой в руке рядом с вами, – галантно пояснил Сен-Малин с глубоким поклоном.
– Это вы оказываете мне честь, господа, – произнес Пардальян, отвечая на поклон.
– Естественно, мы сохраняем за собой свободу в наших последующих действиях, как только эти действия станут возможными, – добавил Монсери.
– Само собой разумеется, – мягко согласился с ним Сен-Малин.
Пардальян одобрительно кивнул и секунду смотрел на них с выражением глубокой печали. Наконец он сказал очень серьезно:
– Господа, вы истинные дворяне. Примите мою искреннюю благодарность. Я чрезвычайно взволнован вашим поступком; он будет засчитан вам на страшном суде. Что касается меня, то, как бы ни повернулись события, я никогда его не забуду. Но, – и тут к нему вернулось его всегдашнее насмешливое выражение лица и ехидная улыбка, – но не обременяйте себя никакими заботами на мой счет. Вы можете оставаться здесь, не опасаясь, что в вашем присутствии выставят на посмешище вашего соотечественника. Если сейчас и раздастся смех, то, клянусь, господа, это вовсе не будет смех над вашим покорным слугой, который еще отблагодарит вас.
– Как вам будет угодно, сударь, – сказал Сен-Малин, ни на чем более не настаивая.
– Тем не менее, сударь, мы в вашем распоряжении, – еще раз подтвердил Шалабр.
– И по первому же вашему знаку мы бросаемся в бой, – добавил Монсери.
После чего вновь произошел обмен самыми любезными поклонами, и Пардальян возобновил свою прогулку по залу.
Внезапно он почувствовал, что ему наступили на пятку. Среди придворных раздался взрыв приглушенных смешков.
Пардальян живо обернулся и обнаружил Красную бороду, который в растерянности вращал глазами. Гигант вовсе не желал касаться шевалье – это получилось случайно. Но в результате сего банального происшествия его посетило озарение – он хлопнул себя по лбу и пробормотал:
– Придумал! Наконец-то!.. Ну, теперь мы немножко повеселимся.
Какое-то мгновение Пардальян глядел на него, улыбаясь своей холодной и насмешливой улыбкой. Красная борода выдержал этот взгляд; он тоже улыбался, ничего не подозревая.
– Простите меня, сударь, – ласково произнес Пардальян, – надеюсь, я не сделал вам больно.
И он мирно продолжил свой путь посреди всеобщего веселья. В этот момент он как раз проходил мимо двери в королевский кабинет. На секунду в его глазах сверкнул огонек, тотчас же погасший.
В тот же миг Красная борода наступил ему на обе пятки.
Пардальян обернулся и сказал все с той же неизменной улыбкой:
– Решительно, сударь, эдак вы подумаете, что я до крайности неловок.
Он намеревался идти дальше, но Красная борода положил ему руку на плечо.
Под мощным нажимом длани исполина Пардальян внезапно присел.
Если бы Красная борода был мало-мальски знаком с шевалье, он, наверное, подивился бы столь легкой своей победе. К несчастью для себя, Красная борода вовсе не знал нашего героя и, памятуя о своей геркулесовой мощи, искренне решил, что одержал над ним верх. Он презрительно поставил на ноги своего слабосильного соперника и вдруг отпустил его, да так неожиданно, что тот пошатнулся.
Всеобщий хохот, сопровождаемый восторженными криками, приятно щекотал тщеславие Красной бороды и вместе с тем поощрял цепного пса Филиппа II продолжать начатую игру.
Придворные знали, что Красная борода всегда действует только по приказу короля, а посему шумные аплодисменты были для них таким же выражением дворцовой лести, как и любое другое. Они не преминули проявить свое усердие, и почтительная тишина уступила место шумному оживлению.
Пардальян тихонько потер плечо, по-видимому, испытывая боль, и с жалобным и вместе с тем ошеломленно-восхищенным видом, отчего смех в зале только усилился, произнес:
– Поздравляю вас, сударь, до чего же у вас крепкая хватка!
Красная борода махнул рукой, подзывая лакея, стоящего при дверях. Он взял у него эбеновую палочку, не торопясь поднял ее горизонтально приблизительно на один фут над мраморным полом и велел:
– Держите палку в таком положении.
Лакей, выполняя приказание, присел на корточки, а Красная борода, повернувшись к Пардальяну, который, как и все, внимательно следил за этими приготовлениями, спесиво заявил:
– Я держал пари, сударь, что вы перепрыгнете через эту тросточку.
– Через эту тросточку? Проклятье! – произнес шевалье, в замешательстве теребя свой ус.
– Надеюсь, вы не хотите, чтобы я проиграл пари из-за такой малости?
– В самом деле, такая малость, – пробормотал Пардальян, по-прежнему в замешательстве.
Красная борода шагнул к нему и, указав на палочку (у лакея, который держал ее, на лице было написано кровожадное ликование), угрожающе приказал:
– Прыгайте, сударь!
Вид у шевалье был жалкий; со всех сторон посыпались восклицания.
– Он прыгнет! – предположил один сеньор.
– Не прыгнет!
– Сто двойных дукатов против одного мараведи, что прыгнет!
– Согласен!..
– Не прыгнет!.. Даже если он и захочет прыгнуть, у него на это не хватит сил!
– Прыгайте, сударь! – повторил Красная борода.
– А если я откажусь? – спросил Пардальян почти робко.
– Тогда я подтолкну вас вот этим, – холодно сказал Красная борода, взяв в руку шпагу.
«Наконец-то!» – подумал Пардальян с чувством огромной радости; он улыбался.
В тот же миг он обнажил шпагу.
Дуэль в королевской приемной... Это было нечто неслыханное, беспримерное. Красная борода был единственным человеком, кто мог себе такое позволить.
Помимо того, что исполин обладал недюжинной физической силой, он стыл одним из лучших фехтовальщиков Испании, и если только иностранец прилично владел шпагой, зрелище обещало быть необычайно захватывающим, особенно учитывая обстоятельства, в которых оно происходило. Вот почему в зале мгновенно наступила тишина. Все встали полукругом, освобождая как можно больше места для двух соперников, находившихся неподалеку от двери в королевский кабинет; она была чуть приотворена, так что Филипп II, оставаясь невидимым, наблюдал за всей сценой, причем глаза его сверкали жестокой радостью. Пардальян замечательно сыграл роль труса, и у монарха, равно как и у большинства присутствующих, не осталось ни малейшего сомнения: сейчас королевский фаворит сурово покарает дерзкого француза.
Лакей хотел посторониться, но Красная борода был так уверен в себе, что приказал:
– Не двигайтесь. Он сейчас прыгнет.
Привратник с улыбкой повиновался. Соперники, окруженные внимательно следящими за ними людьми, приготовились к бою.
Все произошло быстро, почти мгновенно. Шпаги скрестились всего только несколько раз, несколько раз сверкнула сталь – и оружие Красной бороды, неодолимой силой вырванное у него из рук, со звоном ударилось о плиты пола; зрители замерли от изумления.
– Поднимите, сударь, – сказал Пардальян ледяным тоном.
Исполин устремился к своей шпаге. Убежденный, что происшедшее с ним более не повторится, ибо оно было следствием несчастной случайности или же невероятной оплошки, он вновь атаковал Пардальяна.
Шпага, резко выбитая из его руки, вторично покатилась по мраморным плитам и на этот раз переломилась пополам.
– Дьявол! – взревел Красная борода и бросился вперед, зажав в руке кинжал.
Стремительным, словно молния, движением Пардальян переложил свою шпагу в левую руку, а правой крепко обхватил и высоко поднял руку исполина и без всякого видимого усилия, с грозной улыбкой на устах, намертво сжал запястье королевского слуги.
Красная борода неимоверным усилием напряг все свои мускулы, так что они, казалось, чуть не разорвались, однако ему не удалось освободиться от этой немыслимой хватки, и в нависшей над залом гробовой тишине послышался приглушенный хрип. На лице великана появилось выражение изумления и нечеловеческой боли, его занемевшие пальцы непроизвольно разжались, кинжал выскользнул из них и, с силой ударившись острием о мраморный пол, с глухим звоном переломился.
Тогда Пардальян внезапным движением завел руку Красной бороды ему за спину и аккуратно вложил свою ненужную теперь шпагу обратно в ножны. Красная борода, чувствуя, что его кости трещат, словно обхваченные железным обручем, был вынужден пригнуться.
В этой позе, согнутого в три погибели, Пардальян подтолкнул его к привратнику – от удивления или ужаса тот осел на плиты пола и чисто машинальным жестом продолжал обеими руками удерживать свою палочку.
– Прыгай! – повелительно приказал Пардальян, указывая пальцем на эбеновую тросточку.
Красная борода предпринял последнюю, отчаянную попытку вырваться.
– Прыгай! – повторил Пардальян. – Или я сломаю тебе руку!
Зловещий хруст, за которым последовал жалобный стон, доказал ошеломленным придворным, что то была не пустая угроза.
И едва ли не приподнятый над полом, чувствуя, как связки его руки разрываются под сокрушительным нажимом, с искаженным лицом, смертельно бледный от стыда, рыча от ярости и боли, Красная борода прыгнул.
Пардальян беспощадно заставил его повернуться и прыгнуть обратно.
Теперь они оказались у самого кабинета короля.
Казалось, Красная борода вот-вот потеряет сознание; он хрипло дышал, по лицу его катился пот, глаза вылезали из орбит.
Пардальян отпустил его руку.
Но тут же он схватил исполина за пышную бороду и молча, не оглядываясь, словно скотину, которую волокут на бойню, подтащил верного королевского слугу, уже почти не сопротивлявшегося, к кабинету Филиппа И.
Король, заметив приближение шевалье, едва успел отшатнуться, чтобы уклониться от створки двери, которую Пардальян бесцеремонно пнул ногой.
Оставив дверь широко распахнутой и сильным толчком швырнув потерявшего сознание Красную бороду к ногам Филиппа, Пардальян зычно провозгласил:
– Сир, я привел вам этого негодяя обратно... В следующий раз не отпускайте его без гувернантки, ибо если он еще хотя бы раз вздумает сыграть со мной какую-нибудь из своих неуместных шуток, мне придется выдрать по одному все волосы из его бороды... что для него будет очень печально, ведь тогда он станет уродом.
И шевалье неспешно покинул королевскую приемную, напоследок окинув всех сверкающим взором.
Тогда чей-то голос прошептал на ухо оцепеневшему Филиппу:
– Я же говорил вам, сир, что вы беретесь за это дело не так!.. Позволите ли вы теперь действовать мне?
– Вы были правы, господин инквизитор... Ступайте и действуйте по своему усмотрению, – ответил король дрожащим от ярости голосом.
Однако тут же с восторгом, смешанным с ошеломлением и смутным ужасом, добавил:
– Но каков, каков!.. Он же почти прикончил этого беднягу!
Когда дворяне и офицеры, придя наконец в себя от изумления, решились преследовать дерзкого француза, было уже поздно – Пардальян исчез.
Глава 13 ДОКУМЕНТ
Проводив Фаусту до дверей, Эспиноза сказал ей: – Угодно ли вам будет, сударыня, одну минуту подождать меня в моем кабинете? Мы с вами продолжим разговор с того самого момента, на котором он закончился у короля; быть может, нам удастся договориться.
Фауста пристально взглянула на него:
– Будет ли дозволено моим людям сопровождать меня?
Эспиноза ответил, не колеблясь:
– Присутствия господина кардинала Монтальте, которого я здесь вижу, будет достаточно, я думаю, чтобы успокоить вас. Что до охранников, сопровождающих вас, то вряд ли им будет возможно присутствовать при столь важном разговоре.
Фауста размышляла не более секунды. С тем строгим спокойствием, которое как раз и делало ее величественной, она сказала:
– Вы правы, господин великий инквизитор, присутствия кардинала Монтальте будет достаточно.
– В таком случае – до скорой встречи, сударыня, – коротко ответил Эспиноза; он подал знак некоему доминиканцу, поклонился и вернулся к королю.
Монтальте живо приблизился к принцессе. Трое охранников последовали его примеру, также намереваясь сопровождать свою хозяйку.
Подойдя к Фаусте, доминиканец с глубоким поклоном сообщил:
– Если сиятельная принцесса и его высокопреосвященство соблаговолят следовать за мной, я буду иметь честь проводить их до кабинета монсеньора.
– Господа, – сказала Фауста своим охранникам, – извольте подождать меня минутку. Кардинал, вы пойдете со мной. Идите, преподобный отец, мы последуем за вами.
Сен-Малин, Шалабр и Монсери, сокрушенно вздохнув, вновь уныло вернулись в одну из оконных ниш; их окружала толпа незнакомых людей, и им было тоскливо и грустно. Разве что история с Пардальяном немного развеяла их скуку.
Идя впереди Фаусты и Монтальте, доминиканец прокладывал себе путь сквозь толпу, которая и сама, впрочем, торопливо и почтительно расступалась перед ним.
В конце зала монах открыл дверь, выходившую в широкий коридор, и посторонился, чтобы пропустить Фаусту.
В то мгновение, когда Монтальте собирался последовать за ней, чья-то рука с силой опустилась ему на плечо. Он обернулся и глухо воскликнул:
– Эркуле Сфондрато!
– Он самый, Монтальте. Не ждал? Доминиканец секунду смотрел на них каким-то странным взглядом, а затем, не закрывая дверь, решительно нагнал Фаусту.
– Чего ты хочешь? – спросил Монтальте, теребя рукоятку своего кинжала.
– Оставь эту детскую игрушку, – сказал герцог Понте-Маджоре с холодной улыбкой. – Как видишь, удары, что ты мне наносишь, отскакивают от меня, не принося вреда.
– Чего ты хочешь? – повторил разъяренный Монтальте.
– Поговорить с тобой... Мне кажется, мы можем сказать друг другу немало интересного. Разве ты со мною не согласен?
– Да, – отвечал Монтальте с глазами, налитыми кровью, – но... позже... Сейчас у меня другое дело.
И он уже хотел бежать за Фаустой – тайное предчувствие говорило ему, что она в опасности.
Рука Понте-Маджоре вторично с силой опустилась на его плечо, и глухим от ярости голосом герцог угрожающе прошипел прямо в лицо Монтальте:
– Ты сейчас же последуешь за мной, Монтальте, или же, клянусь Господом Богом, я дам тебе пощечину на глазах у всего двора!
И герцог резким движением занес руку.
– Хорошо, – прошептал смертельно бледный Монтальте, – я иду за тобой... Но горе тебе!..
И он, нехотя и бормоча глухие угрозы, последовал за Понте-Маджоре, покинув Фаусту в тот самый момент, когда она, быть может, нуждалась в его защите.
Тем временем Фауста, ничего не заметив, продолжала свой путь; пройдя шагов пятьдесят, доминиканец открыл вторую дверь и посторонился, как он уже делал это ранее.
Фауста вошла в комнату и только тогда заметила, что Монтальте больше не сопровождает ее.
Она едва заметно нахмурилась и, посмотрев доминиканцу в глаза, спросила без волнения и без удивления:
– Где кардинал Монтальте?
– В тот момент, когда его преосвященство оказался в коридоре, его остановил какой-то сеньор, имевший, по-видимому, для него некое срочное сообщение, – ответил доминиканец совершенно спокойно.
– А! – только и сказала Фауста.
И ее проницательный взор с напряженным вниманием впился в бесстрастное лицо монаха, а затем внимательно-изучающе пробежал по всей комнате.
Это был кабинет средних размеров, с несколькими табуретами и письменным столом, стоявшим перед единственным в комнате окном. Одну стену комнаты занимал огромный книжный шкаф, где на полках в образцовом порядке выстроились внушительных габаритов манускрипты. Другую стену украшало исполинское полотно, заключенное в массивную эбеновую раму без всякой резьбы и изображающее снятие с креста работы Куелло.
Почти напротив входной двери виднелась другая дверь, маленькая.
Фауста неторопливо подошла к ней и открыла; она увидела нечто вроде тесной молельни, освещенной стрельчатым окном с разноцветными витражами; никакого выхода из молельни она не заметила.
Принцесса закрыла дверку и подошла к окну кабинета. Оно выходило в маленький внутренний дворик.
Доминиканец, который бесстрастно наблюдал за этим подробнейшим, невзирая на всю его стремительность, осмотром, предложил:
– Если сиятельная принцесса пожелает, я могу отправиться на поиски его преосвященства кардинала Монтальте и привести его к вам.
– Пожалуйста, святой отец, – ответила Фауста и поблагодарила его улыбкой.
Доминиканец тотчас же вышел и, чтобы успокоить ее, оставил дверь распахнутой настежь.
Фауста встала в дверном проеме и обнаружила, что доминиканец спокойно направляется обратно тем же путем, каким они только что пришли. Она ступила в коридор и увидела, что дверь, через которую они вошли, была еще открыта, а перед ней сновали взад-вперед какие-то люди.
По-видимому, успокоенная, она вернулась в кабинет, села в кресло и стала ждать, внешне совершенно невозмутимая, но внутренне напряженная и готовая ко всему.
Несколько минут спустя доминиканец появился вновь. Абсолютно естественным движением он затворил за собой дверь и, не делая больше ни шагу вперед, объявил с величайшей почтительностью:
– Сударыня, найти кардинала Монтальте оказалось невозможным. Кажется, его высокопреосвященство покинул дворец в сопровождении сеньора, подошедшего к нему ранее.
– Коли так, – сказала Фауста, вставая, – я удаляюсь.
– Что я скажу монсеньору великому инквизитору?
– Вы скажете ему, что, оказавшись здесь в одиночестве, я не почувствовала себя в достаточной безопасности и предпочла отложить на более позднее время беседу, которую я должна была иметь с ним.
И она приказала с поистине монаршей властностью:
– Проводите меня обратно, святой отец. Доминиканец не двинулся с места и остался стоять перед дверью. Он только низко поклонился и спросил с прежней почтительностью:
– Осмелюсь ли я, сударыня, просить вас о милости?
– Вы? – удивилась Фауста. – О чем вы можете просить меня?
– Сущий пустяк, сударыня... Взглянуть на некий пергамент, что вы прячете у себя на груди, – сказал доминиканец, выпрямляясь.
«Я в ловушке! – подумала Фауста. – И этим новым ударом я обязана Пардальяну – ведь именно он открыл им, что я храню пергамент при себе.»
А вслух произнесла со спокойствием, исполненным презрения:
– А что вы сделаете, если я откажусь?
– В таком случае, – спокойно отвечал доминиканец, – я буду вынужден, сударыня, поднять на вас руку.
– Ну что ж, возьмите его, – предложила Фауста, кладя ладонь себе на грудь.
Монах, по-прежнему бесстрастный, поклонился, словно приняв к сведению данное ему разрешение, и сделал шаг вперед.
Фауста вскинула руку, и в ней внезапно блеснул маленький кинжал, всегда висевший на цепочке у нее на груди; она спокойно сказала:
– Еще один шаг – и я пущу его в ход. Предупреждаю вас, святой отец, лезвие этого кинжала отравлено и малейшей царапины достаточно, чтобы вызвать мгновенную смерть.
Доминиканец застыл, как вкопанный, и нечто похожее на загадочную улыбку мелькнуло у него на губах.
Фауста скорее угадала эту улыбку, нежели увидела ее. Стремительно осмотревшись, она убедилась, что находится наедине с монахом и что маленькая дверка за ее спиной, закрытая ею собственноручно, по-прежнему остается закрытой.
Она шагнула вперед и высоко воздела руку с кинжалом.
– Дорогу! – повелительно воскликнула она. – Или, клянусь Небом, ты умрешь!
– Святая Дева! – возопил доминиканец. – Неужто вы осмелитесь поразить беззащитного служителя Господа?
– Тогда открой дверь, – холодно сказала Фауста.
– Повинуюсь, сударыня, повинуюсь, – произнес доминиканец дрожащим голосом, одновременно безуспешно пытаясь с нарочитой неловкостью открыть дверь.
– Изменник! – прогремела Фауста. – На что ты надеешься?
В тот же миг две могучие руки обхватили ее поднятую кисть, а две другие, подобно живым клещам, зажали ее левую руку.
Не оказывая сопротивления – принцесса понимала, что оно бесполезно, – она повернула голову и увидела, что ее держат двое монахов атлетического телосложения.
Она обвела кабинет взглядом. Казалось, все оставалось на своих местах. Маленькая дверь была по-прежнему закрыта. Так как же они вошли сюда? Очевидно, в кабинет вел один, а то и несколько потайных ходов. Впрочем, все это уже не имело значения; для нее было теперь важно лишь то, что она оказалась в их власти и должна как можно быстрее вновь обрести свободу и вырваться отсюда.
Она непроизвольно выронила так и не сыгравший свою роль кинжал. Оружие мгновенно исчезло в складках чьей-то рясы. Как только принцесса лишилась его, оба монаха со слаженностью механизмов отпустили ее, отступили на два шага, спрятали свои узловатые руки в широкие рукава и застыли в созерцательных позах.
Доминиканец склонился перед ней с почтением, в котором, как ей показалось, она различила долю иронии и угрозы, и произнес своим спокойным и ровным голосом:
– Сиятельная принцесса благоволит извинить меня за насилие, кое я был вынужден учинить над ней. Надеюсь, ее блистательный ум поймет, что я тут ни при чем... Я всего только ничтожное и смиренное существо! Я лишь орудие в руках тех, кто стоит надо мною... Они приказывают – я повинуюсь, не споря и не обсуждая.
Не проявляя ни гнева, ни досады, с презрением, которое она и не пыталась скрыть, Фауста согласно кивнула.
«Этот человек произнес точное слово, – подумала она. – Он и его приспешники – всего лишь орудие в чужих руках. Они не существуют для меня. А раз так, к чему спорить или сетовать? Искать того, кто движет всем этим, следует выше. Это не Филипп II – король просто-напросто приказал бы арестовать меня. Стало быть, удар нанесен великим инквизитором. И считаться придется именно с ним.»
Обращаясь к доминиканцу, Фауста спокойно сказала:
– Чего вы хотите от меня?
– Я уже имел честь говорить вам, сударыня: пергамент, хранимый вами здесь...
И доминиканец указал пальцем на грудь Фаусты.
– Вы имеете приказ взять его силой, не так ли?
– Надеюсь, сиятельная принцесса избавит меня от этой жестокой необходимости, – сказал доминиканец с поклоном.
Фауста вынула пресловутый пергамент, не отдавая его, однако, монаху:
– Прежде чем уступить, я желаю получить ответ на свой вопрос: что сделают со мной потом?
– Вы будете свободны, сударыня, полностью свободны, – поспешно ответил доминиканец.
– Поклянетесь ли вы мне на этом распятии? – спросила Фауста, пытаясь проникнуть в тайники его души.
– Нет надобности давать клятву, – произнес за ее спиной спокойный и сильный голос. – Моего слова вам должно быть достаточно, и оно у вас есть.
Фауста живо обернулась и оказалась лицом к лицу с Эспинозой – он бесшумно вошел через одну из потайных дверей.
Взгляд Фаусты сверкнул гневом, и она произнесла оскорбительным тоном:
– Как могу я верить вашим словам, кардинал, если вы действуете, словно лакей?
– На что вы жалуетесь, сударыня? – в спокойствии Эспинозы таилось нечто зловещее. – Я лишь действую против вас теми самыми методами, какие вы применяли против нас. Вы и Монтальте должны были передать документ нам. Однако, злоупотребив нашим доверием, вы попытались продать то, что принадлежит нам по праву, а когда вам это не удалось, вы решили сохранить его у себя, по-видимому, в надежде продать его кому-то другому. Как вы сами расцениваете ваши методы, сударыня?
– Я же сказала: у вас душа лакея, – ответила Фауста с убийственным презрением. – Сначала вы применили против женщины насилие, теперь вы оскорбляете ее.
– Слова, сударыня, одни слова! – Эспиноза пренебрежительно пожал плечами.
И, помолчав, жестко добавил:
– Горе тому, кто попытается противиться замыслам святой инквизиции! Всякий, мужчина то или женщина, будет безжалостно раздавлен. Итак, сударыня, отдайте мне этот документ, принадлежащий нам, и возблагодарите небо, что из уважения к королю, который взял вас под свое покровительство, я не заставил вас дорого заплатить за вашу дерзкую и бесчестную попытку.
– Я уступаю, – сказала Фауста, – но, клянусь вам, вы дорого заплатите за ваши оскорбления и за учиненное вами насилие.
– Вы напрасно грозите, сударыня, – произнес Эспиноза, завладевая документом. – Я действую на благо государства, король лишь одобрит мои действия. Что до этого пергамента, я должен буду поблагодарить господина де Пардальяна, объяснившего, где нам следует его искать. Я не премину выразить ему свою признательность, как только встречу его.
– В таком случае поблагодарите его прямо сейчас, – произнес насмешливый голос.
Фауста и Эспиноза одновременно обернулись и увидели Пардальяна: прислонившись к косяку двери, тот с лукавой улыбкой наблюдал за ними.
Ни Фауста, ни Эспиноза ничем не выдали своего удивления. Разве что в глазах Фаусты промелькнул огонек, а Эспиноза чуть заметно нахмурился.
Доминиканец и оба монаха исподтишка переглянулись, но они были настолько вымуштрованы, что не имели другой воли и другого разума, нежели воля и разум тех, кто стоит выше их, и потому остались недвижимы. Правда, оба монаха-атлета были теперь наготове.
Наконец Эспиноза проговорил вполне естественным тоном:
– Господин де Пардальян!.. Как вы сюда проникли?
– Через дверь, милостивый государь, – отвечал Пардальян с самой простодушной улыбкой. – Вы забыли запереть ее на ключ... это избавило меня от труда взломать ее.
– Взломать дверь! Боже всемогущий! Да зачем?
– Сейчас я вам это скажу, а заодно и объясню, благодаря какой случайности я принужден был вмешаться в вашу беседу. Ведь именно это, кажется, вы изволили спросить у меня, сударь? – преспокойно произнес Пардальян.
– Я с интересом выслушаю вас, – сказал Эспиноза.
Тут оба монаха – то ли от усталости, то ли по знаку великого инквизитора – сделали крохотный шажок вперед, и Пардальян все так же хладнокровно обратился к Эспинозе:
– Сударь, прикажите этим достойным святым отцам стоять спокойно... Я терпеть не могу всяческих перемещений вокруг себя.
Эспиноза повелительно махнул рукой, и монахи вновь застыли в неподвижности.
– Прекрасно, – одобрил Пардальян. – И более не трогайтесь с места, не то я тоже буду вынужден сделать несколько движений... быть может, нанеся урон вашим почтенным хребтам.
И повернувшись к Фаусте и Эспинозе, – они терпеливо ожидали его рассказа, все так же стоя перед ним, – шевалье поведал:
– Случившееся со мной, сударь, весьма незатейливо: после того, как я привел обратно к королю этого рыжебородого великана, над которым двор захотел потешиться и которого мне пришлось защищать, я, как вы сами могли видеть, вышел из королевского кабинета. Но ваши треклятые двери все так похожи одна на другую, что я ошибся. Вскоре я обнаружил, что заплутался в каком-то бесконечном коридоре, а кругом – ни души, чтобы спросить дорогу! Проклиная свою неловкость, я бродил из коридора в коридор, когда вдруг, проходя мимо очередной двери, узнал голос госпожи Фаусты... У меня есть недостаток – я любопытен. А потому я остановился и услышал конец вашей занимательной беседы.
Отвесив изящный поклон Фаусте, он обратился к ней с очень серьезным видом:
– Сударыня, если бы мне только могло прийти в голову, что моими словами воспользуются для того, чтобы подстроить вам ловушку и вырвать у вас пергамент, столь ценный для вас, я бы скорее отрезал себе язык, чем заговорил бы. Но никто не посмеет утверждать, что шевалье де Пардальян стал доносчиком, хотя бы и невольным. Я почитаю своим долгом исправить зло, случайно причиненное мною, вот почему я и вмешался... И вот почему, сударь, я, не колеблясь, взломал бы дверь, как я уже имел честь сказать вам.
В то время как Пардальян, приняв несколько театральную позу, которая, впрочем, шла ему как нельзя лучше – в правой руке шляпа, левая покоится на эфесе шпаги, кроткий взор, лицо лучится великодушием, – с истинно мужским чистосердечием вел свою речь, Эспиноза размышлял: «Этот человек – словно природная стихия. Если он согласится быть на нашей стороне, мы станем непобедимы. Но наши обычные методы запугивания или обольщения, столь действенные для кого угодно, не дадут никакого результата, когда речь идет о такой исключительной натуре. Этот человек – воплощенные сила, отвага, честность и великодушие. Чтобы привлечь его на свою сторону, нужно проявить больше рыцарственности, чем проявляет он сам, нужно подавить его большей силой, отвагой, честностью и великодушием... Если же придуманный мною способ окажется бесполезным, то придется отказаться от этого плана... и избавиться от шевалье как можно скорее.»
С той величавой безмятежностью, которая всегда, как мы знаем, была ей присуща, Фауста произнесла своим мелодичным голосом и с бесконечной нежностью во взоре:
– То, что вы говорите, и то, что вы делаете, шевалье, мне кажется, совершенно естественно для вас.
– Подобная щепетильность, – сказал Эспиноза, – делает честь тому, кто ее проявляет и чье сердце столь благородно.
– Ах, сударь, – живо воскликнул шевалье, – вы не можете себе представить, какой радостью наполняет меня ваше лестное одобрение. Это позволяет мне надеяться, что вы благосклонно встретите те две просьбы, с коими я намерен обратиться к вашему великодушию.
– Говорите, господин де Пардальян, и если то, о чем вы хотите просить, не является совершенно невыполнимым, можете заранее рассчитывать на мое согласие.
– Тысяча благодарностей, сударь, – ответил Пардальян с поклоном. – Итак, я желаю, чтобы вы вернули госпоже Фаусте документ, отобранный вами у нее. Поступив подобным образом, вы избавите меня от упреков совести за то, что своими необдуманными словами я выдал ее, и приобретете право на мою искреннюю благодарность.
Фауста едва заметно улыбнулась. У нее не было ни малейшего сомнения: Эспиноза откажется. Она посмотрела на Пардальяна, словно желая убедиться, – действительно ли он надеется, что его просьба будет встречена благосклонно. Но Пардальян был невозмутим.
Эспиноза, однако, по-прежнему оставался бесстрастен. Он лишь спросил:
– Какова же вторая просьба?
– Вторая просьба, – произнес Пардальян со своим хитро-простодушным видом, – покажется вам, наверное, совершенно пустячной. Я хочу, чтобы вы дали госпоже Фаусте гарантии того, что она сможет покинуть дворец без всяких затруднений.
– Это все, сударь?
– О Господи, да.
Эспиноза, не колеблясь, мягко произнес:
– Мне было бы тяжело продлевать ваши муки совести, господин де Пардальян, и чтобы доказать вам, сколь глубокое уважение я к вам питаю, – вот документ, о котором вы просите. Я передаю его вам, именно вам – самому храброму и самому достойному дворянину, какого я когда-либо знавал.
Это решение было столь неожиданным, что Фауста вздрогнула, а Пардальян, принимая документ из рук Эспинозы, подумал: «Что это значит?.. Я ожидал, что мне придется оспаривать добычу у тигра, а нашел покорного и незлобивого барашка. Я ожидал жаркой и бурной схватки, но вместо обмена смертельными ударами мне предложен обмен любезностями и галантностями... Проклятие! Тут что-то нечисто!»
Вслух же он сказал:
– Я выражаю вам свою самую искреннюю признательность, сударь.
А затем, уже обращаясь к Фаусте и протягивая ей отвоеванный пергамент, даже не глядя на нее, произнес:
– Вот, сударыня, документ, который вы едва не потеряли из-за моей неосторожности.
– Как, сударь, – спросила Фауста с поразительным спокойствием, – вы не оставляете его у себя?.. Для вас этот документ имеет такую же ценность, как и для нас. Вы проехали всю Францию и всю Испанию, чтобы завладеть им. Его только что вручили именно вам лично, господин де Пардальян, так что вам выпал уникальный случай и вы можете оставить документ у себя, не преступив тех строжайших законов рыцарства, которые вы сами для себя устанавливаете.
– Сударыня, – сказал Пардальян, нахмурившись, – я просил этот документ для вас. Следовательно, я должен передать его в ваши руки, что я и делаю. Считать меня способным на подобный низкий умысел, о котором вы только что объявили, значит нанести мне незаслуженное оскорбление.
– Избави меня Боже от мысли оскорбить одного из последних рыцарей, еще оставшихся на земле! – воскликнула Фауста. – Я лишь хотела заметить, что такая возможность никогда больше вам не представится. Так как же вы поступите, чтобы сдержать слово, данное королю Генриху Наваррскому?
– Сударыня, – ответил Пардальян просто, – я уже имел честь сказать вам: я подожду, когда вы захотите по доброй воле передать мне этот клочок пергамента.
Фауста, ничего не отвечая, взяла документ и задумалась.
– Сударыня, – произнес в этот момент Эспиноза, – я даю вам слово: вы и ваш эскорт сможете свободно покинуть Алькасар.
– Господин великий инквизитор, – серьезно сказал Пардальян, – вы приобрели права на мою признательность, а для меня это не просто банальная формула вежливости.
– Я знаю, сударь, – сказал Эспиноза не менее серьезно. – И я тем более счастлив, что тоже хочу вас кое о чем попросить.
«Ага! – подумал Пардальян, – недаром я себя спрашивал – откуда такое великодушие! Ну что ж, черт возьми, так-то будет лучше! Мне претила сама мысль о том, что я буду чем-то обязан этой мрачной и загадочной личности, – черт меня подери, если я знаю, почему!»
Вслух же он произнес:
– Если это зависит только от меня, то ваши просьбы будут исполнены с тем же душевным расположением, какое вы сами только что проявили, откликнувшись на мои просьбы... пожалуй, – теперь я охотно это признаю, – несколько странные.
Эспиноза одобрительно кивнул:
– Прежде всего, господин шевалье, позвольте мне доказать вам, что если я и выполнил ваши просьбы, то единственно из уважения к вашей особе, а не из страха, как вы могли бы предположить.
– Сударь, – сказал Пардальян с тем оттенком уважения, который в его устах имел высокую цену, – мне никогда бы не пришла в голову мысль, что такой человек, как вы, может уступить перед какой-то угрозой.
Эспиноза еще раз одобрительно кивнул, а затем настойчиво продолжал:
– И все-таки, сударь, я непременно желаю убедить вас.
– Поступайте, как вам заблагорассудится, – вежливо сказал Пардальян.
Не двигаясь с места, Эспиноза ногой привел в действие невидимую пружину, и в тот же миг книжный шкаф отъехал в сторону и за ним открылся довольно большой зал, где безмолвно и неподвижно стояли вооруженные пистолетами и аркебузами люди, готовые выстрелить, как только последует приказ.
– Двадцать человек и офицер, – лаконично сказал Эспиноза.
«Ого! – сказал себе Пардальян, – неплохо я влип!.. И подумать только, я имел наивность поверить, будто ради меня тигр обратился в ягненка!»
И в его улыбке сквозила жалость к той самой наивности, в которой он себя упрекал.
– Этого мало, – сказал Эспиноза понимающе, – я знаю; но найдется кое-что другое, получше.
По его знаку люди отошли на левую и правую сторону зала, оставив в центре обширное свободное пространство. Офицер, пройдя по этому людскому коридору, настежь распахнул в глубине зала дверь, выходившую в широкий коридор, занятый военными.
– Сто человек! – провозгласил Эспиноза, по-прежнему обращаясь к Пардальяну.
«Бедный я, бедный!» – подумал шевалье, сохраняя, однако, невозмутимость.
– Эскорт принцессы Фаусты! – приказал Эспиноза отрывистым голосом.
Фауста смотрела и слушала с неизменным спокойствием...
Пардальян небрежно прислонился к двери, через которую он вошел, и горделивая улыбка озирала его тонкое лицо при виде неслыханных мер предосторожности, принятых против одного-единственного человека – против него самого! Однако в глубине души он вполне искренне и нещадно ругал себя.
«Чума меня забери! – думал он. – И надо мне было выступать в роли верного слуги этой противной Фаусты! Какое мне было дело до ее разногласий с этим главой инквизиции – а он кажется мне грозным бойцом, несмотря на все его елейно-медовые ужимки, и уж во всяком случае он не умалишенный вроде меня: взять хотя бы этих великанов-монахов или солдат, которых он сюда нагнал!.. Разрази меня гром!.. Неужто я так и останусь до конца моих дней все тем же взбалмошным и неосмотрительным юнцом, который не способен ни на какое мало-мальски разумное и трезвое суждение?! Чтоб мне несколько лет клацать зубами от болотной лихорадки! Это же подумать только, в какое осиное гнездо завела меня моя дурацкая страсть вмешиваться в чужие дела. Да если бы мой бедный батюшка видел, какую жестокую шутку сыграла надо мной моя собственная глупость, он бы долго и справедливо бранил своего непутевого сынка!.. Да, пожалуй, и мой новый друг Сервантес угостил бы меня своей вечной присказкой: «Дон Кихот!», посмотрев, как меня обложили в норе, словно несмышленого лисенка!»
Но очень скоро в настроении шевалье произошла обычная для него перемена: теперь, когда он должным образом отчитал себя, в нем вновь заговорила его беззаботность:
– Ба, в конце концов, я еще не умер!.. И не такое видывали!
И он улыбнулся своей лукавой улыбкой. А Эспиноза, по-видимому, неверно истолковав эту улыбку, продолжал с неизменно серьезным видом:
– Будет ли вам угодно настежь открыть дверь, к которой вы прислонились, господин де Пардальян?
Не говоря ни слова, Пардальян молча сделал то, о чем его просили.
За дверью обнаружилась железная решетка. Отступление с этой стороны было, таким образом, отрезано.
– Тысяча чертей! – пробормотал Пардальян.
И он невольно покосился на окно.
В тот же миг в тишине, нависшей над этой фантастической сценой, раздался легкий щелчок, и в комнате воцарился полумрак.
Эспиноза подал знак, и один из монахов открыл окно; как и дверь, оно теперь было забрано снаружи железным занавесом.
«Проклятие! – мысленно яростно прорычал Пардальян. – До чего же мне хочется задушить его!»
В этот момент в коридоре показались Шалабр, Монсери и Сен-Малин.
– Сударыня, – объявил Эспиноза, – вот ваш эскорт. Вы свободны.
– До свидания, шевалье, – сказала Фауста, никак не проявляя своего волнения.
– До свидания, сударыня, – ответил Пардальян, глядя ей прямо в лицо.
Эспиноза проводил ее; когда они проходили через потайную комнату между выстроившимися в две шеренги стражниками, Фауста произнесла чуть слышно, холодным тоном:
– Надеюсь, что он не выйдет отсюда живым. Несмотря на всю свою выдержку, великий инквизитор невольно содрогнулся.
– И однако же, сударыня, он поставил себя в подобное положение ради вас! – с необычной для себя резкостью воскликнул он.
– Что за важность! – откликнулась Фауста. И добавила презрительно:
– Неужто вы так слабы духом, что позволяете себе останавливаться перед чем-то, поддавшись одним только чувствам?
– Мне казалось, вы его любите? – спросил Эспиноза, пристально глядя на нее.
Теперь настал черед Фаусты вздрогнуть. Вся напрягшись, задыхаясь, она прошептала:
– Вот потому-то я и желаю так страстно его смерти!
Эспиноза, не отвечая, взглянул на нее, а затем, церемонно поклонившись, приказал:
– Проводите принцессу Фаусту со всеми подобающими ей почестями.
И в то время как медленной и величественной поступью Фауста проходила перед салютовавшими ей солдатами, Эспиноза возвратился к спокойно дожидавшемуся его Пардальяну и продолжил как ни в чем не бывало только что прерванную беседу:
– Кабинет, где мы находимся, – это чудо машинерии, творение арабских мастеров, не знающих себе равных в искусстве механики. С того самого мгновения, как вы сюда вошли, вы были в мой власти. Я смог, ничем не привлекая вашего внимания, отдать приказы, которые исполнялись бесшумно и мгновенно. Я сумел бы одним движением, значение которого вы бы даже и не поняли, заставить вас исчезнуть в долю секунды – в полу, на котором вы стоите, как и повсюду здесь, скрыт механизм... Согласитесь – все было замечательно придумано, чтобы свести на нет всякую попытку сопротивления.
– Согласен, – произнес Пардальян почти не разжимая губ, – вы в совершенстве владеете искусством устраивать западни.
На лице Эспинозы промелькнула тонкая улыбка, и, никак не обращая внимания на слова шевалье, он продолжал:
– Вы видите, господин де Пардальян, если я пошел навстречу вашим просьбам, то исключительно из уважения к вашей особе. А что до количества воинов, выставленных мною в противовес вам, то оно красноречиво говорит о том восхищении, какое я испытываю перед вашей необыкновенной силой и отвагой. А теперь, когда вы увидели, что я согласился на ваши условия, лишь желая оказать вам любезность, я спрашиваю вас: не согласитесь ли вы побеседовать со мной?
– Как, сударь! – воскликнул Пардальян. – Вы с таким пылом доказываете мне то, что и так ясно, как Божий день? Я всецело в вашей власти, я, можно сказать, связан по рукам и ногам, и вы еще спрашиваете меня, соглашусь ли я с вами побеседовать?.. Клянусь честью, вот занятный вопрос!.. Если я откажусь, ваши агенты, которых вы тут повсюду расставили, набросятся на меня и изрубят на мелкие кусочки, словно рябчика на паштет... Если только прежде вы сами движением, значение коего я даже и не пойму, аккуратно не отошлете меня к праотцам, приказав обрушить пол, в который искусные арабские мастера встроили разные механизмы... Если же, напротив, я соглашусь, то не станете же вы думать, будто меня вынудил к этому страх?
– Это справедливо! – коротко ответил Эспиноза. Он повернулся к своим людям:
– Пусть все удалятся. Вы мне больше не нужны. Бесшумно, соблюдая образцовый порядок, воины тотчас же удалились, оставив все двери распахнутыми настежь.
Эспиноза повелительно кивнул, и доминиканец и оба монаха тоже исчезли.
В тот же миг железные решетки, закрывавшие дверь и окно, словно по волшебству взмыли вверх, и только широкий проем, ведший в потайную комнату, где еще секунду назад находились люди Эспинозы, по-прежнему отмечал то место, где первоначально стоял книжный шкаф.
«Черт побери! – вздохнул Пардальян. – Я начинаю думать, что мне, пожалуй, опять удастся выпутаться.»
– Господин де Пардальян, – внушительно продолжал Эспиноза, – я вовсе не пытался запугать вас. Это все низкопробные приемы, которые ни малейшим образом не подействуют на человека, получившего такую крепкую закалку, как вы. Я лишь хотел доказать вам, что способен помериться с вами силой, не опасаясь поражения. Будет ли вам теперь угодно удостоить меня беседой, о коей я просил?
– Почему бы и нет? – спокойно ответил Пардальян.
– Я не враг вам, сударь. Быть может, мы даже станем вскоре друзьями, если, как я надеюсь, сможем договориться. Это будет зависеть от результатов той беседы, что ждет нас... В любом случае, что бы ни произошло, что бы вы ни решили, я торжественно клянусь вам, что вы выйдете из дворца так же свободно, как вошли в него. Заметьте, сударь, – мое слово не распространяется на все дальнейшее... Ваше будущее зависит от того, что именно вы решите. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моем слове?
– Упаси меня Бог, сударь, – любезно сказал Пардальян. – Я считаю вас дворянином, неспособным нарушить данное им обещание. И если я, решив, что мне угрожают, наговорил вам немало резких слов, то сейчас весьма сожалею о них. Итак, теперь я к вашим услугам.
Про себя же он подумал: «Осторожно! Будем начеку! Тут предстоит борьба пострашнее схватки с рыжебородым великаном! Дуэли, где оружием служит язык, никогда не были мне по вкусу».
– Я попрошу вашего дозволения вернуть все вещи на свои места, – сказал Эспиноза. – Не следует, чтобы чьи-нибудь нескромные уши услышали то, о чем мы станем здесь говорить.
В ту же секунду дверь позади Пардальяна закрылась, книжный шкаф встал на свое место, и все в кабинете обрело свой прежний вид.
– Садитесь, сударь, – сказал тогда Эспиноза, – и поговорим если и не как два друга, то, по крайней мере, как два соперника, которые уважают друг друга и не желают стать врагами.
– Я слушаю вас, сударь, – отвечал Пардальян, поудобнее устраиваясь в кресле.
Глава 14 ДВА ДИПЛОМАТА
Как могло случиться, что человек ваших достоинств имеет лишь титул шевалье? – внезапно спросил Эспиноза. – Мне был пожалован титул графа де Маржанси, – сказал Пардальян, пожав плечами.
– Как могло случиться, что вы остались бедным дворянином, не имеющим ни кола ни двора?
– Мне были дарованы земли и доходы графа де Маржанси... Я отказался. Ангел, да-да, истинный ангел доброты, преданности, искренней и вечной любви, – в голосе Пардальяна звучало сдерживаемое волнение, – завещал мне свое состояние – и немалое, сударь: оно достигало двухсот двадцати тысяч ливров. Я все отдал бедным, не истратив ни ливра.
– Как могло случиться, что такой воин, как вы, остался простым искателем приключений?
– Король Генрих III пожелал сделать меня маршалом над своими войсками... Я отказался.
– Как, наконец, могло случиться, что такой дипломат, как вы, довольствуется случайным поручением, не слишком важным?
– Король Генрих Наваррский хотел сделать меня своим первым министром... Я отказался.
Эспиноза какое-то время размышлял. Он думал: «Каждый ответ этого человека словно разящий удар кинжала. Ну что ж, станем действовать, как он... Натиск, натиск и еще раз натиск!»
И обращаясь к Пардальяну, который ждал, ничего не подозревая, великий инквизитор сказал с глубоким убеждением:
– Вы были правы, отказываясь. Все, что вам предлагалось, было недостойно ваших талантов, не соответствовало им.
Пардальян с изумлением взглянул на него и мягко ответил:
– По-моему, вы заблуждаетесь, сударь. Напротив, все, что мне предлагалось, явно превосходило то, о чем мог мечтать бедный искатель приключений вроде меня.
Пардальян отнюдь не ломал комедию, изображая из себя скромника, а говорил вполне искренне. Такова была одна из самых ярких черт этой исключительной натуры – он и вправду считал, что совершенные им подвиги оценивались чрезмерно высоко.
Эспиноза даже не мог себе представить, что такой необыкновенный храбрец, человек, сознающий свое превосходство над другими (а шевалье, без сомнения, относился именно к таким людям), был на удивление застенчив и скромен в своих притязаниях.
Он решил, что имеет дело с гордецом и что, набавляя цену, сумеет привязать шевалье к себе. Поэтому он продолжал с рассчитанной медлительностью:
– Я предлагаю вам титул герцога и гранда и десять тысяч дукатов пожизненной ренты, источником коей станут сокровища Индии; кроме того – крупнейшее губернаторство вместе с саном вице-короля, все военные и гражданские полномочия и ежегодно выплачиваемые двадцать тысяч дукатов на содержание вашего дома; вас сделают командиром восьми полков и вы получите цепь Золотого руна... Считаете ли вы эти условия приемлемыми?
– Это зависит от того, что мне предстоит сделать в обмен на все предложенное вами, – флегматично сказал Пардальян.
– Вы должны будете, говоря кратко, предоставить вашу шпагу на службу святому делу, – пояснил Эспиноза.
– Сударь, – сказал шевалье просто, не рисуясь, – нет такого дворянина, достойного благородного звания, который бы отказался предоставить свою шпагу для поддержки, как вы говорите, святого и справедливого дела. Для этого требуется лишь воззвать к чувству чести или, вернее, человеколюбия... А посему оставьте при себе титулы, ренты, почести и посты... Шпага шевалье де Пардальяна дается, но не продается.
– Как! – вскричал пораженный Эспиноза. – Вы отказываетесь от моих предложений?
– Отказываюсь, – холодно ответил шевалье. – Но соглашаюсь посвятить себя делу, о котором вы говорите.
– Однако же справедливость требует, чтобы вы были вознаграждены.
– Пусть вас это не заботит... Лучше поговорим о сути вашего благородного и справедливого дела, – сказал Пардальян со своим обычным насмешливым видом.
– Сударь, – произнес Эспиноза, кинув восхищенный взгляд на шевалье, по-прежнему спокойно сидящего в кресле, – вы один из тех людей, говоря с которыми должно владеть высшим искусством – откровенностью... Посему я буду говорить прямо.
Секунду Эспиноза, очевидно, собирался с мыслями.
«Проклятье! – сказал себе Пардальян. – Эта его откровенность, судя по всему, никак не хочет появляться на свет!»
– Я внимательно слушал вас, когда вы разговаривали с королем, – продолжал Эспиноза, пристально глядя на Пардальяна, – и мне показалось, будто некий род неприязни, которую вы питаете к нему, вызван главным образом тем рвением, с каким он искореняет ересь. Он несимпатичен вам, и более всего вы ставите ему в вину те массовые убийства, которые противны, как вы сами выразились, вашей чувствительности... Это так?
– Да... и еще кое-что другое, – загадочно произнес шевалье.
– Это потому, что вы видите лишь внешние проявления, а не то, что составляет существо дела. Вас поражает кажущееся варварство деяний, и оно мешает вам различить глубоко человечную, великодушную, возвышенную цель... Слишком великодушную и возвышенную, ибо она остается неуловимой даже для такого великолепного ума, как ваш. Но если я объясню вам...
– Объясните, сударь, я всей душой хочу, чтобы меня убедили... Хотя, по правде говоря, вам будет трудно уверить меня, будто вы приказываете сжигать этих бедолаг исключительно из великодушия и человечности; а ведь они просят лишь о том, чтобы им дозволили мирно жить-поживать, никому не мешая.
– И однако же я берусь убедить вас, – твердо сказал Эспиноза.
– Черт подери! Мне будет любопытно, как вам удастся оправдать религиозный фанатизм и преследования, им порождаемые, – с ехидной улыбкой сказал Пардальян.
– Религиозный фанатизм! Преследования! – вскричал Эспиноза. – Некоторые полагают, что этими двумя словами все сказано и объяснено. Хорошо, начнем именно с этого. Ведь вы, господин де Пардальян – человек без религии, не так ли? Я понял это с первого взгляда.
– Если вы подразумеваете под этим религиозную доктрину, обряды, – да, я человек без религии.
– Именно это я и имею в виду, – подтвердил Эспиноза. – Так вот, сударь, точно так же, как вы, и в том же самом смысле я – тоже человек без религии. Это мое признание могло бы, дойди оно до чужих ушей, привести меня на костер, хотя я и являюсь великим инквизитором! Надеюсь, это достаточное доказательство моего доверия вашему прямодушию? Оно должно показать вам, сколь далеко я намерен зайти в своей откровенности.
– Позвольте вас заверить, сударь, – сказал шевалье, – что, выйдя отсюда, я забуду все, что вы соблаговолите сообщить мне.
– Я знаю это, потому-то и говорю с вами без колебаний и без прикрас, – просто ответил Эспиноза и продолжал: – Там, где нет религии, не может быть и фанатизма. Есть лишь строжайшее применение тщательно продуманной системы.
– Фанатизм или система – называйте как хотите, но результат всегда один и тот же: истребление множества людей.
– Да неужто столь пустячные соображения могут останавливать вас? Что значат несколько жизней, когда речь идет о спасении и возрождении целой нации? То, что в глазах черни предстает как преследование, на самом деле – лишь обширная и совершенно необходимая хирургическая операция... Мы отсекаем пораженные гангреной руку или ногу, чтобы спасти тело, мы прижигаем огнем раны, чтобы они зарубцевались... Палачи! – говорят нам. Вздор. Раненый, который чувствует, как нож хирурга безжалостно терзает его трепещущую плоть, воет от боли и оскорбляет своего спасителя, тоже называя его палачом. Но врач не поддается своим чувствам, слыша вопли и бред больного... Он хладнокровно делает свою работу, он выполняет свой долг, заключающийся в том, чтобы завершить благодетельную операцию со всем возможным тщанием, и он спасает больного, зачастую вопреки воле самого страдальца.
Однако став снова здоровым, крепким и сильным, бывший больной испытывает благодарность к тому, кого он недавно обзывал палачом и в ком по прошествии времени он видит, как то и есть на самом деле, своего спасителя. Вот мы и есть, сударь, эти бесстрастные хирурги, внешне безжалостные, но в сущности человеколюбивые и великодушные. Мы не поддаемся чувствам, слыша жалобы, вопли и брань, и мы не выкажем волнения, услышав изъявления благодарности в тот день, когда благополучно завершим нашу операцию, то есть в тот день, когда мы спасем человечество. Подобно этим хирургам, мы методично продолжим наш труд, мы терпеливо выполним наш долг, и ничто не сможет отвратить нас от этого, а единственным нашим вознаграждением станет чувство радости и удовлетворения!
Шевалье внимательно выслушал объяснения Эспинозы – тот говорил с пылом, составлявшим странный контраст тому неколебимому спокойствию, что было ему обычно присуще.
Когда Эспиноза закончил, Пардальян на мгновение задумался, а затем поднял голову:
– Я, милостивый государь, разумеется, не сомневаюсь в вашей искренности. Но вы объявили об отсутствии у вас религиозной веры. А ведь только что вы говорили о враче, искренне убежденном в необходимости операции, производимой над телом больного. Врач может ошибиться, но все же он достоин уважения, потому что искренен... Вы же, сударь, набрасываетесь на здоровое тело и под предлогом его спасения и возрождения к жизни – желал бы я знать, от чего вы хотите его спасать, коли оно ни от чего не страдает?! – собираетесь навязать ему средство, в кое сами не верите... И вот тут, признаюсь, я уже ничего не понимаю...
– Как и вам, сударь, – продолжал Эспиноза со страстной убежденностью, – мне чужда религия, суть которой заключается в том, чтобы слепо поклоняться какому-нибудь божеству. Как и вы, я исповедую ту религию, что идет от моих собственных сердца и разума. Как и вы, я чувствую, что мною движет огромная, глубокая, бескорыстная любовь к ближнему – именно она заставляет меня мечтать о счастье себе подобных. Вот почему я без колебаний посвятил всю силу своего духа, всю свою энергию тому, чтобы отыскать, где скрывается это счастье, и подарить его людям. Но вы прекрасно понимаете, сударь, сколь немногие способны оценить то, о чем я веду речь... Ничтожная горстка одаренных от природы умов да несколько прямых и возвышенных душ... Остальные же – огромное, необозримое море людей – находятся в положении раненого, о котором я вам говорил: врач предписывает ему спасительную операцию, а тот упорно проклинает целителя, ибо ничего не понимает, и только позже, когда жизнь вновь начнет вливаться в него, он станет благословлять своего избавителя.
– Вы уверены, сударь, что действуя подобным образом, вы способствуете счастью человечества?
– Да, – отрывисто произнес Эспиноза. – Я долго размышлял над этими вопросами и измерил суть вещей до самого дна. Я пришел к заключению, что опаснейший и единственный враг, которого должно преследовать с неумолимым упорством, – это наука, потому что наука – это отрицание всего и вся, и в конце ее – смерть, иными словами – небытие, иными словами – ужас, отчаяние, отвращение. Все, кто изучают науки, неизбежно приходят туда же, где очутился я: к сомнению. Итак, счастье кроется в самом полном, самом совершенном невежестве: ведь невежество оберегает веру, а только вера может сделать тихим и спокойным тот неотвратимый миг, когда вот-вот наступит конец. Только в вере человек черпает убежденность в том, что не все еще потеряно, и миг сильнейшего ужаса становится мигом перехода в лучшую жизнь. Вот почему я жесточайше преследую всякого, кто проявляет хоть какую-то независимость, всякого, кто предается окаянной науке. Вот почему я хочу привести целое человечество к той вере, которую потерял сам, убежденный, что умру в страхе и в отчаянии, я в своей любви к ближнему хочу, чтобы хотя бы он избег этой ужасной участи!
– Таким образом вы принуждаете людей к жизни, полной всяческих лишений и запретов, страданий и горя, чтобы подарить им... что? Мгновение, исполненное несбыточных надежд и более краткое, чем вздох!
– Что за важность! Поверьте, это мгновение настолько страшно, что за избавление от страха можно заплатить и целой жизнью, хотя бы даже эта жизнь и оказалась, как вы говорите, убогой!
Секунду шевалье изумленно-негодующе смотрел на великого инквизитора, а затем произнес голосом, дрожащим от негодования:
– И вы имеете смелость говорить о человечности, вы, мечтающий заставить людей платить целой жизнью, полной лишений, за сомнительное облегчение одного скоротечного мига? А мне-то всегда казалось, что лучше прожить счастливую жизнь и когда-нибудь заплатить за нее одним мгновением ужаса и тоски! Будьте уверены, сударь, – несчастные, которым вы хотите навязать изощренную пытку, вследствие какого-то чудовищного недоразумения именуемую вами счастьем, сказали бы вам то же, что говорю и я, если бы вы взяли на себя труд посоветоваться с ними касательно предмета, согласитесь, весьма их интересующего.
– Это дети! – бросил Эспиноза презрительно. – Кто же советуется с детьми... Их наказывают, вот и все.
– Дети! И вы можете говорить такое! Эти «дети» вправе сказать вам, – и весьма резонно, – что как раз вы и вам подобные являетесь – нет, к несчастью, не безобидными детьми, а настоящими взрослыми буйно помешанными, которых ради всеобщего блага следовало бы уничтожать без жалости. Черт подери, сударь, зачем вы во все вмешиваетесь? Дайте людям жить в свое удовольствие и не пытайтесь навязать им счастье, воспринимаемое ими – справедливо это или нет – как ужасное несчастье.
– Стало быть, – спросил Эспиноза, вновь обретший свой спокойный и невозмутимый вид, – вы полагаете, будто счастье заключается в том, чтобы жить в свое удовольствие?
– Сударь, – холодно ответил Пардальян, – мне думается, что, прикрываясь маской человеколюбия и бескорыстия, вы ищете прежде всего собственного счастья. Так вот – вы ни за что не найдете его в том ужасном господстве, о котором мечтаете. В путешествиях, в которых я провел большую часть своей жизни, я усвоил некоторые идеи, – хотя они и покажутся вам странными, они весьма в чести у многих и многих. Таких, как я, немало – побольше, чем вы думаете, и мы хотим иметь свою долю солнца и счастья. Мы полагаем, что жизнь была бы прекрасна, если бы мы прожили ее, как люди, а не как хищные волки, и мы не хотим жертвовать своей долей счастья, как того требует аппетит горстки честолюбцев, носящих титулы королей, принцев или герцогов. Вот почему я говорю вам: не заботьтесь вы так рьяно о других, принимайте жизнь такой, какая она есть, берите от нее все, что можно взять на этом коротком пути. Любите солнце и звезды, летнюю жару и зимние снега, но главное – любите любовь, в ней – весь человек. И оставьте каждому ту долю, что ему причитается. Так-то вы и найдете счастье... Во всяком случае, коли уж вы испанец, оставайтесь испанцем, а уж мы, с вашего позволения, у себя дома и сами как-нибудь справимся. Не пытайтесь, явившись во Францию, навязывать нам ваши зловещие идеалы... Так будет лучше для нас... и для вас.
– Итак, – заключил Эспиноза, никак не выражая своей досады, – мне не удалось убедить вас. Но если я потерпел неудачу, излагая общие соображения, быть может, я буду более счастлив, предложив вашему вниманию некий частный случай.
– Говорите, говорите, – сказал Пардальян, по-прежнему внимательный и сосредоточенный.
– Вы, сударь, – начал Эспиноза без малейшей иронии, – вы – настоящий рыцарь, всегда готовый вытащить из ножен шпагу в защиту слабого против сильного, неужто вы откажетесь поддержать своей шпагой правое дело?
– Ну это как посмотреть, – невозмутимо ответил шевалье. – То, что кажется вам благородным и справедливым, мне может показаться низким и гнусным.
– Сударь, – спросил Эспиноза, глядя ему прямо в лицо, – позволите ли вы, чтобы на ваших глазах совершилось хладнокровное убийство, даже не попытавшись вмешаться, дабы защитить жертву?
– Конечно же, не позволю!
– Так вот, сударь, – раздельно произнес Эспиноза, – требуется помешать убийству.
– Кого же хотят убить?
– Короля Филиппа, – сказал великий инквизитор с видом искренне взволнованного человека.
– Черт подери, сударь, – ответил Пардальян, и на лице его вновь появилась насмешливая улыбка, – мне, однако, казалось, что Его Величество в состоянии сам себя защитить!
– Да – в обычных обстоятельствах. Но в данном конкретном случае – нет. Его Величество оказывается совершенно беззащитным перед лицом нависшей над ним угрозы.
– Объяснитесь же, сударь, – попросил заинтригованный шевалье.
– Некто, человек честолюбивый, поклялся убить короля. Он подготовил свое злодеяние исподволь, загодя. В эту минуту он уже готов нанести удар, и мы бессильны что-либо предпринять против этого негодяя – ему удалось с поистине дьявольской ловкостью влюбить в себя всю Андалузию; поднять на него руку, попытаться хотя бы арестовать его означает вызвать волнения, грандиозные волнения. Ибо для того, чтобы поразить его и спасти короля, понадобится пронзить тысячи тел, которые встанут живой стеной между этим человеком и нами. Король вовсе не то кровожадное существо, каким вы себе его представляете, он предпочтет предать себя в руки Господа Бога и храбро встретить смерть, лишь бы не обрекать на гибель множество невиновных, сбитых с пути истинного происками этого честолюбца. Но мы, чей священный долг – хранить дни Его Величества, ищем способ остановить преступную руку, прежде чем она совершит свое злодеяние, и не дать разбушеваться народному гневу. Вот почему я спрашиваю вас – согласны ли вы помешать этому чудовищному преступлению?
– Существо дела заключается в том, – сказал Пардальян, старавшийся прочитать истину в голосе и в выражении лица великого инквизитора, – что, хотя я и не питаю симпатии к королю, речь идет о преступлении, и я не могу хладнокровно позволить ему свершиться, если от меня зависит ему помешать.
– Раз так, – живо откликнулся Эспиноза, – король спасен, а вам обеспечено большое состояние.
– Мое состояние и так достаточно велико, не заботьтесь о нем, – засмеялся шевалье, лихорадочно размышляя. – Объясните-ка лучше, как я смогу выполнить в одиночку то, чего не может сделать святая инквизиция, несмотря на свое необъятное могущество.
– Все очень просто. Предположим, случается нечто такое, что останавливает этого человека еще до того, как он совершит свое преступление, причем так, что нас никак не удастся обвинить в соучастии. Король спасен, и нам не приходится бояться никаких волнений, а это самое существенное.
– Не думаете же вы, однако, что я стану убивать его!
– Конечно, нет, – поспешно ответил Эспиноза. – Однако вы можете затеять с ним ссору и вызвать его на честную дуэль. Этот человек храбр. Но ваша шпага непобедима. Исход встречи предрешен, для вашего соперника это верная гибель. Что до всего остального, то толпа, как я предполагаю, не станет поднимать бунт из-за того, что какой-то чужестранец затеет ссору с Эль Тореро и злополучный удар шпаги убьет этого совершенно неугомонного наглеца... Это и есть тот самый частный случай, о котором я вам говорил.
«Да, я правильно угадал, – подумал Пардальян. – Несчастного принца ожидает вероломный удар, и этот служитель Бога почему-то считает, что я соглашусь исполнить его замысел».
Он поморщился, отчего усы его взъерошились:
– Так вы говорите – Эль Тореро?
– Да, – ответил Эспиноза, начиная беспокоиться. – Или у вас есть личные причины пощадить его?
– Сударь, – не отвечая на вопрос, с каменным лицом сказал Пардальян, – я мог бы вам доказать, что эта история с заговором выдумана от начала до конца... но я ограничусь тем, что замечу: вы мне предлагаете самое обычное убийство, и я не стану в нем участвовать.
– Почему? – тихо спросил Эспиноза.
– Ну, – процедил Пардальян сквозь зубы, – прежде всего потому, что убийство – это низкий, подлый поступок, и уже одно то, что мне осмелились его предложить, что меня сочли способным пойти на подобное, является для меня смертельным оскорблением, и мне следовало бы заставить вас извиниться передо мной, но я помню, что совсем недавно вы сохранили мне жизнь, не пожелав подать знака убийцам, которых вы сами везде и понаставили ради моей скромной персоны. Однако берегитесь! Терпение никогда не относилось к числу моих добродетелей, и ваши оскорбительные предложения, которые я выслушиваю вот уже битый час, освобождают меня от всяких обязательств по отношению к вам. Впрочем, вы можете не понять эти причины, так что мне, как ни странно, придется их вам объяснить. Коротко говоря, я предупреждаю вас, что дон Сезар принадлежит к числу моих друзей. Я хочу дать вам и вашему хозяину совет: не предпринимайте ничего дурного против этого молодого человека.
– Почему? – повторил свой вопрос Эспиноза так же тихо.
– Потому что я питаю к нему симпатию и не желаю, чтобы его трогали, – холодно ответил шевалье и поднялся с места.
На губах Эспинозы появилась еле заметная улыбка; он тоже поднялся.
– Я с сожалением вижу, что мы не созданы для того, чтобы понять друг друга, – сказал он.
– Я это увидел с первого же взгляда... – отозвался Пардальян по-прежнему холодно. – Я даже сказал об этом вашему хозяину.
– Сударь, – бесстрастно произнес великий инквизитор, – я дал вам слово, что вы покинете дворец живым и невредимым. И если я держу свое слово, то только потому, что уверен: мы еще встретимся с вами, и тогда я раздавлю вас без всякой жалости, ибо вы стали препятствием для моих долго и терпеливо вынашиваемых планов... Ступайте же, сударь, и берегитесь.
Пардальян посмотрел ему прямо в лицо своими сверкающими глазами и без бахвальства, с ошеломляющей убежденностью, сказал:
– Нет, это вам следует беречься, сударь, ибо я тоже дал себе слово разрушить ваши долго и терпеливо вынашиваемые планы, а когда я что-то обещаю, я никогда не отступаюсь.
И он вышел твердой уверенной поступью; Эспиноза следил за ним со странной улыбкой на губах.
Глава 15 ПЛАН ФАУСТЫ
Понте-Маджоре увлек Монтальте за собой, за пределы Алькасара. Не говоря ни слова, он привел его на почти пустынные берега Гвадалквивира, неподалеку от Золотой башни, стоявшей, словно часовой, у въезда в город. В нескольких шагах позади них, не теряя их из виду, шел монах, казалось, погруженный в глубокие размышления.
Оказавшись на берегу реки, Понте-Маджоре огляделся: не видя никого, он наконец остановился и, встав с вызывающим видом перед Монтальте, сказал, задыхаясь от ярости:
– Послушай, Монтальте, здесь, как тогда в Риме, я спрашиваю тебя в последний раз: ты откажешься от Фаусты?
– Никогда! – отвечал Монтальте с мрачной решимостью.
Лицо Понте-Маджоре исказилось, его рука – сжала рукоятку кинжала. Однако нечеловеческим усилием воли он овладел собой и продолжал уже почти умоляющим тоном:
– Ты можешь не отказываться от нее, но хотя бы расстанься с ней... на время. Послушай, Монтальте... Мы были когда-то друзьями... Мы могли бы стать ими вновь... Если хочешь, мы могли бы оба уехать, вернуться в Италию. Тебе известно, что папа болен? Твой дядя очень стар, очень слаб... Приходится опасаться худшего, а ведь мы оба чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы оказаться в Риме в тот момент, когда наступит неизбежная развязка, – ты, Монтальте, ради тебя самого, ведь ты был назначен преемником Сикста, а я ради своего дяди, кардинала Кремонского.
При известии о болезни Сикста V Монтальте невольно содрогнулся. Тиара всегда была целью его честолюбивых устремлений. И вот теперь, раздираемый двумя противоречивыми чувствами – любовью и честолюбием, он должен был немедленно выбрать: скакать ли в Рим, чтобы попытаться возложить на себя упавшую папскую корону, и, следовательно, удалиться от Фаусты, не видеть ее более, или отказаться от своих честолюбивых замыслов. Но он колебался всего секунду; решительно тряхнув головой, он сказал со злостью:
– Ты лжешь, Сфондрато! Тебя, как и меня, вовсе не заботит смерть папы и вопрос о его наследниках... Ты хочешь удалить меня от нее!
– Да, это правда! – прорычал герцог Понте-Маджоре. – Мысль о том, что я живу вдали от нее, а ты можешь ее видеть, разговаривать с ней, служить ей, любить ее... быть может, ты даже заставишь ее полюбить себя!... эта мысль для меня невыносима, и меня захлестывает ярость и охватывает неистовое желание убивать!.. Ты должен уехать, ты должен отправиться вместе со мной!.. Я никогда не увижу ее, но и ты тоже ее не увидишь... Я буду избавлен, по крайней мере, от этой чудовищной пытки, которая способна свести меня с ума.
Монтальте пожал плечами и глухо произнес:
– Безумец! Ее присутствие столь же необходимо мне, как воздух, которым я дышу... Покинуть ее!.. Иначе говоря, ты просишь у меня мою жизнь!..
– Тогда умри немедленно! – вскричал Понте-Маджоре; он занес шпагу и бросился на Монтальте.
Монтальте избежал удара – отпрыгнув назад, он молниеносно выхватил свою шпагу из ножен и встретил удар, не дрогнув; стальные клинки, скрестившись, громко зазвенели.
В течение нескольких секунд под ослепительным солнцем кипела яростная схватка: на молниеносные выпады следовали стремительные парирующие удары, за тигриными прыжками – внезапные приседания; сцена сопровождалась проклятиями, воплями и ругательствами; перевеса не было ни на той, ни на другой стороне.
Наконец Понте-Маджоре, после нескольких мастерски выполненных ложных выпадов, вдруг резко подался вперед – и его шпага вонзилась в плечо противника.
Но в тот момент, когда он с радостным воплем распрямился, Монтальте, собрав все свои силы, нанес ему сильнейший удар, так что острие шпаги вышло у герцога из спины. Мгновение оба стояли, недоуменно глядя друг на друга, а затем рухнули как подкошенные.
Тогда из-за тенистого кустарника возник спрятавшийся там монах; подойдя к обоим раненым, он без малейших признаков волнения принялся разглядывать их, а потом направился к Золотой башне, куда и вошел через потайную дверь, которая бесшумно раскрылась перед ним в ответ на его условный стук.
Несколько минут спустя он появился вновь, ведя за собой других монахов с носилками; оба соперника, лишившиеся чувств, были погружены на эти носилки и со всеми предосторожностями перенесены в башню.
Монтальте, раненный не так тяжело, первым пришел в себя. Он увидел, что находится в незнакомой комнате, на мягких пуховиках, в кровати с тщательно задернутым пологом. У изголовья стоял маленький столик, заставленный микстурами и мазями и заваленный тряпицами для перевязок. По другую сторону столика он обнаружил вторую кровать, тоже плотно занавешенную.
В проходе между двумя этими ложами скорби бродил мелкими шажками какой-то монах; он растирал в беломраморной плошке таинственные снадобья, подливал туда тщательно отмеренные густые неизвестные жидкости – то есть изготавливал с кропотливой старательностью некую целебную мазь: судя по его довольному лицу, он ожидал от нее настоящих чудес.
Когда монах заметил, что раненый пробудился, он подошел к кровати, отдернул занавески и тихим голосом, в котором сквозила почтительность, спросил:
– Как чувствует себя ваше преосвященство?
– Хорошо! – ответил Монтальте едва слышно. Монах довольно улыбнулся – так улыбается врач, констатирующий, что, как он и предполагал, все идет нормально.
– Через несколько дней ваше преосвященство будет уже на ногах, если только не совершит какую-нибудь серьезную неосторожность.
Монтальте сгорал от желания задать один вопрос.
Он надеялся, что убил Понте-Маджоре, но никак не решался спросить об этом.
Внезапно послышался слабый стон. Монах бросился ко второй кровати и торопливо отдернул полог.
«Эркуле Сфондрато! – подумал Монтальте. – Значит, я его все-таки не заколол!»
Лицо его исказила судорога, и на нем появилось выражение гнева и ненависти.
Понте-Маджоре, со своей стороны, тоже прежде всего увидел смертельно бледное лицо Монтальте, и точно такое же выражение гнева и вызова сверкнуло в его глазах.
Тем временем монах-медик продолжал свои хлопоты. С удивительной сноровкой и мастерством он наложил на рану герцога тонкую тряпицу, покрытую толстым слоем только что изготовленной мази, а потом, с бесконечными предосторожностями приподняв голову больного, влил ему в рот несколько капель какого-то эликсира. По лицу Понте-Маджоре тотчас же разлилось выражение довольства; монах, опуская его голову на подушку, прошептал:
– Успокойтесь, герцог! Главное, сударь, не двигайтесь. Малейшее движение может оказаться для вас роковым.
«Герцог! – подумал Монтальте. – Значит, этому интригану удалось-таки вырвать у моего дяди этот титул, которого он так давно и так страстно добивался.» Искусно сделанные монахом повязки и несущие бодрость укрепляющие средства оказали свое благотворное действие, и оба раненых полностью пришли в сознание; теперь они метали друг в друга угрожающие взгляды, исполненные ненависти. Монах, наблюдая за ними, подумал: «Святая Дева! Если я хоть на минуту оставлю их наедине, они набросятся друг на друга и в одно мгновение уничтожат все результаты моих упорных трудов.»
Он поспешно направился в соседнюю комнату. Там, погрузившись в молитвы и размышления (так, по крайней мере, казалось со стороны), терпеливо ждал другой монах. Лекарь чуть слышным голосом сказал ему несколько слов и, стремительно вернувшись обратно, встал между двумя кроватями, готовый пресечь любые попытки раненых приблизиться друг к другу.
Несколько минут спустя в комнате появился какой-то человек; он подошел к врачу-монаху, который почтительно склонился перед ним; между тем Монтальте и Понте-Маджоре, узнав посетителя, прошептали со скрытым ужасом:
– Великий инквизитор!
Эспиноза вопросительно взглянул на врача, и тот успокоительно кивнул, добавив шепотом:
– Они спасены, монсеньор!.. Но посмотрите на них... Я боюсь, что они вот-вот захотят возобновить поединок!
Эспиноза поочередно окинул раненых испытующе-пристальным взглядом и повелительно махнул рукой. Монах вновь согнулся в глубоком поклоне и удалился неслышными шагами.
Эспиноза взял стул и сел между кроватями, не сводя с двух соперников властного взора.
– Итак, – сказал он очень спокойно, – мужчины вы или дети?.. Разумные люди или сумасшедшие?.. Как! Вы, кардинал Монтальте, и вы, герцог Понте-Маджоре, вы, славящиеся своей рассудительностью и предусмотрительностью, – и вдруг не умеете управлять своими страстями? Что за ребячество? Вы просто-напросто поддались ревности, слепой и глупой!..
Оба раненых издали глухое протестующее рычание, и потому Эспиноза продолжал с еще большей энергией:
– Я сказал «глупой»... и настаиваю на этом!.. Вы что же – ничего не видите? Да ведь если вы уничтожите друг друга, то праздновать победу будет Пардальян!.. Ведь Пардальян-то любим! Вы станете кусать и рвать друг друга в клочья, пойдя на поводу у своего безрассудства, а Пардальян тем временем отберет у вас Фаусту и посмеется над вами...
– Достаточно! Достаточно, монсеньор, – прохрипел Понте-Маджоре, в то время как Монтальте, чьи глаза налились кровью, в ярости сжимал кулаки.
Великий инквизитор заговорил вновь – еще более резким, еще более повелительным тоном:
– Вместо того, чтобы бросаться друг на друга, подобно двум разъяренным тиграм, объедините во Христе ваши силы и вашу ненависть! Они будут нелишними в смертельной схватке с вашим общим врагом. Преследуйте его без отдыха и передышки, пока он не окажется в вашей власти! Пока он не падет, хрипя и задыхаясь, под вашими совместными ударами... И лишь тогда, когда вы его убьете – лишь тогда, не раньше! – для вас настанет пора убивать друг друга... если, конечно, вы не сумеете договориться.
Монтальте и Понте-Маджоре, пораженные, нерешительно переглянулись. Ни тому, ни другому не приходило в голову это неожиданное, однако вполне логичное решение.
– Вы говорите сущую правду, монсеньор, – прошептал Монтальте.
– Вы верите, что Пардальян – единственный человек, которого вам следует опасаться?
– Да, – прохрипели оба раненых.
– Вы действительно хотите сокрушить его, увидеть, как он умирает медленной и мучительной смертью?
– О, ради этой минуты мы отдали бы всю свою кровь.
– В таком случае, будьте товарищами и союзниками. Поклянитесь, что станете помогать друг другу. Поклянитесь, что будете сражаться бок о бок до тех пор, пока Пардальян не умрет. Поклянитесь именем Христа! – добавил Эспиноза, протягивая им свой кардинальский крест.
И оба врага, примиренные обшей ненавистью к счастливому сопернику, возложили руки на крест, и голоса их слились воедино, когда они прорычали:
– Клянусь!..
– Хорошо, – сказал Эспиноза сурово, – я запомню вашу клятву. Когда вы избавитесь от своего врага, вы снова станете действовать независимо и снова сможете без опаски кидаться друг на друга, если уж вам непременно этого хочется. Но до тех пор вы заключаете оборонительный и наступательный союз! Так вперед же, на Пардальяна!
– На Пардальяна! Клянемся, монсеньор!
– Кардинал Монтальте, – сказал великий инквизитор, поднимаясь, – вы ранены не так серьезно, как герцог Понте-Маджоре, и я оставляю его на ваше попечение. Нельзя терять ни секунды, господа; вы должны быть на ногах как можно скорее. Подумайте о том, что вы имеете дело с закаленным бойцом; пока вы по собственной вине не можете двинуться с места, он не теряет времени даром. До свидания, господа.
И Эспиноза вышел медленной и мерной поступью.
Как и обещал великий инквизитор, Фауста, сопровождаемая Сен-Малином, Монсери и Шалабром, покинула Алькасар со всеми полагающимися ей почестями.
Куда бы ни направлялась Фауста, она любила окружать себя неслыханной роскошью. Вот почему она разбрасывала золото пригоршнями, не считая его. Для этой необычной женщины расточительство не было заурядным приемом кокетки, стремящейся создать сверкающую, но вовсе не обязательную оправу для своей сказочной красоты. Баснословная роскошь, которой она себя окружала, являлась звеном тщательно продуманной системы. Это было нечто вроде ослепительного спектакля, предназначенного поразить воображение всех тех, кто к ней приближался, от мала до велика, а заодно и подчеркнуть ее красоту.
В Севилье Фауста немедленно приказала отделать себе великолепные покои, украшенные мебелью из ценных пород дерева, переливающимися драпировками, редкими безделушками, полотнами самых известных мастеров того времени; не было забыто ничего, что могло бы произвести впечатление на ослепленного посетителя.
В это-то жилище и прибыла сейчас на носилках Фауста.
Как только она вернулась к себе, служанки сняли с нее пышный придворный костюм, надетый ею для визита к Филиппу II, и облачили ее в просторное платье из тонкого льна ослепительной белизны, после чего она удалилась в свою спальню, куда, кроме нее, никто не смел входить; своим аскетизмом эта комната резко контрастировала с тем блеском, что царил вокруг.
Уверенная, что ничьи нескромные глаза не будут здесь за ней подглядывать, Фауста взяла манифест Генриха III, который хранила у себя на груди и который чуть не отобрал у нее Эспиноза. Задумавшись, она долго смотрела на него, а потом спрятала в маленький футлярчик с секретным замком; футлярчик, в свою очередь, она положила в выдвижной ящик, скрытый в дне сундука из массивного дуба и защищенный двойным рядом сложных запоров.
– Чтобы обнаружить футляр, понадобится разнести этот сундук в мельчайшие щепки, – прошептала она.
Приняв эти меры предосторожности, Фауста села и стала размышлять; при этом лицо ее оставалось по-прежнему величественно-спокойным, как у мраморной статуи.
– Итак, у Филиппа я встретила Пардальяна, и этой встречи оказалось достаточно, чтобы я опять споткнулась! Великий инквизитор едва не схватил и не ограбил меня.
Неопределенная улыбка появилась на ее губах:
– Правда, Пардальян собственной персоной явился меня освобождать!.. Почему?.. Неужели, сам того не подозревая, он любит меня? Господи, как же плохо я, Фауста, знаю этого человека!
Внезапно ее взгляд помрачнел:
– Впрочем, если Эспиноза тот человек, каким я его себе представляла, то рыцарский жест Пардальяна может стоить шевалье жизни... Осмелится ли Эспиноза воспользоваться ловушкой, которую он так замечательно подстроил?.. Я в этом отнюдь не уверена! Сей служитель церкви всегда идет к своей цели долгим и извилистым путем. Только я решаюсь без колебаний уничтожать все препятствия – я и Пардальян. И почему он не на моей стороне?! Сколько мы могли бы совершить, будь мы заодно!.. Ах, почему я сама не мужчина?! Я хотела бы, чтобы весь мир распростерся, словно раб, у моих ног! Но я всего лишь женщина, и раз я не смогла вырвать из своего сердца эту любовь, грозящую погубить меня, то я нанесу новый удар по предмету этой любви; на сей раз я буду предельно осторожна, и он не ускользнет от меня. На карту поставлена моя собственная жизнь; чтобы осталась в живых я, нужно, чтобы Пардальян был мертв!
Она вспомнила о Филиппе II, и мысли ее потекли в другом направлении:
– По-моему, я произвела на короля глубокое впечатление... А может быть, оно оказалось весьма скромным? Я надеялась ошеломить его своими возвышенными замыслами, а на деле, по-видимому, этого надменного старика поразила лишь моя красота. Что ж, пусть так... Любовь – такое же оружие, как и всякое другое, и с ее помощью можно управлять мужчиной... особенно, если этот мужчина достиг уже преклонного возраста... Я бы предпочла, конечно, что-нибудь другое, но выхода у меня нет.
Она вновь вернулась к тому, что составляло суть ее размышлений:
– Все мои встречи с Пардальяном становятся для меня роковыми... Если Пардальян увидит короля еще раз, то любовь Филиппа ко мне угаснет так же быстро, как зажглась. Почему?.. Не знаю! Но так будет, это обязательно, это неотвратимо... Значит, Пардальян должен умереть!..
Мысли ее опять приняли новый оборот:
– Мирти!.. Где она может сейчас быть? А мой сын?.. Его сын!.. Наверное, она теперь во Франции. Как отыскать их?.. Кого послать на поиски ребенка?.. Моего ребенка! Я никому не доверяю, любой кажется мне недостаточно надежным, недостаточно преданным.
И с непередаваемой мукой в голосе она воскликнула:
– Сын Пардальяна!.. Если твой отец не знает тебя, если твоя мать покинет тебя, то что станется с тобой?.. Какова будет твоя судьба?..
Долго еще она размышляла, перебирая в уме разнообразные варианты. Наконец решение, очевидно, было принято. Из спальни Фауста перешла в гостиную, обставленную с изысканным вкусом.
Она вызвала управляющего, дала ему подробнейшие указания и спросила:
– Господин кардинал Монтальте здесь?
– Его высокопреосвященство не вернулся, сударыня. Фауста нахмурилась.
«Странное исчезновение, – думала она. – Неужто Монтальте предаст меня? Вряд ли. Гораздо более вероятно, что ему подстроили какую-нибудь западню... Должно быть, тут замешана инквизиция... Надо будет над этим поразмыслить...»
А вслух произнесла:
– А де Сен-Малин, де Шалабр и де Монсери?
– Они беседуют с господином де Бюсси-Леклерком, который просит вас принять его.
– Пригласите сюда господина де Бюсси-Леклерка и моих дворян.
Управляющий вышел, а Фауста села в великолепное кресло, похожее на трон, приняла одну из тех очаровательных и грациозных поз, секретом которых она владела, и стала ждать.
Через несколько секунд три охранника склонились перед ней в почтительном поклоне, а Бюсси с галантностью заядлого фехтовальщика, которую он считал неотразимой, произнес свое приветствие:
– Сударыня, я имею честь сложить к ногам вашей сияющей красоты нижайшие знаки почтения самого пылкого из ваших почитателей.
Проговорив сию речь, он горделиво выпрямился, закрутил свой ус и стал ждать, какое действие произведет его галантность. Однако это восхитительное самодовольство по обыкновению поблекло самым жалким образом, столкнувшись с надменным нравом Фаусты; с мимолетной презрительной улыбкой принцесса ответила:
– Добро пожаловать, сударь.
И уже больше не обращая на него никакого внимания, произнесла с той завораживающей улыбкой и тем грудным, ласкающим голосом, которые очаровывали самых стойких и непокорных:
– Садитесь, господа. Нам надо поговорить. Господин де Бюсси-Леклерк, вы тоже не окажетесь лишним.
Все четверо еще раз молча поклонились и сели в кресла, расставленные вокруг маленького столика, отделявшего их от принцессы.
– Господа, – продолжала Фауста, обращаясь прежде всего к охранникам, – вы соблаговолили примчаться сюда из самого сердца Франции, чтобы уверить меня в своей преданности и предложить мне помощь ваших доблестных шпаг. Мне кажется, настало время воззвать к этой преданности. Могу ли я рассчитывать на вас?
– Сударыня, – сказал Сен-Малин, – мы всецело принадлежим вам.
– До самой смерти! – добавил Монсери. Фауста поблагодарила кивком головы и продолжала:
– Прежде всего я желаю четко оговорить условия вашей службы.
– Условия, предложенные вами, заранее кажутся нам вполне разумными.
– Сколько вам приносила ваша служба у Генриха Валуа? – спросила Фауста с улыбкой.
– Его Величество платил нам две тысячи ливров в год.
– Не считая еды, крова, экипировки.
– Не считая наградных и мелких выплат.
– Это мало, – коротко сказала Фауста.
– Господин де Бюсси-Леклерк предложил нам от вашего имени вдвое больше.
– Господин де Бюсси-Леклерк ошибся, – холодно сказала Фауста и позвонила в колокольчик.
На этот зов появился управляющий с тремя туго набитыми мешочками. Не говоря ни слова, он торжественно поклонился, положил мешочки на столик, снова поклонился и исчез. Три наемника на глаз прикинули вес мешочков и в восторге переглянулись.
– Господа, – сказала Фауста, – в каждом из этих кошелей три тысячи ливров... Это первая четверть жалованья, которое я намерена вам выплачивать... не считая пищи, крова и экипировки.... не считая наградных и мелких выплат.
Все трое были ошеломлены, и Сен-Малин даже воскликнул с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах:
– Это слишком, сударыня!.. Право, слишком! Двое других одобрительно кивнули, в то же время лаская взором симпатичные мешочки.
– Господа, – продолжала Фауста, по-прежнему улыбаясь, – вы состояли на службе у короля. Теперь вы состоите на службе у принцессы, которая, быть может, в один прекрасный день вновь станет повелительницей... но которая сейчас ею не является. Для вас это своего рода понижение... я обязана выплатить вам компенсацию.
И указав на кошельки, пригласила:
– Возьмите же без всяких сомнений то, что дано вам от всей души.
– Сударыня, – с пылом воскликнул Монсери, самый молодой из всех, – если надо будет сделать выбор между службой самому великому королю в мире и службой принцессе Фаусте, поверьте, мы не будем колебаться ни секунды!
– Даже без компенсации! – добавил Сен-Малин, пряча один из трех мешочков.
– И без мелких выплат! – провозгласил, в свою очередь, Шалабр, молниеносным жестом схватив второй мешочек.
Видя такое, Монсери, не желая отставать от товарищей, завладел третьим мешочком, говоря:
– Жду ваших приказаний, сударыня. Сей фокус был исполнен так быстро, а вид у троих охранников был такой простодушно-безучастный, что Бюсси-Леклерк, молчаливый и невозмутимый свидетель этой сцены, не мог сдержать улыбки.
Что до Фаусты, то она не улыбнулась, но сказала:
– Вы отправляетесь в поход, господа. Троица насторожилась.
– Та же сумма будет вам отсчитана по окончании похода...
Все трое тотчас же вскочили:
– Слава Фаусте!.. Черт подери!.. В бой!.. Разрази меня гром!.. – кричали они восторженно.
Тогда Фауста решила приоткрыть завесу:
– Речь идет о Пардальяне, господа. «Ага! – подумал Бюсси, – а я-то все ломаю голову: за какую же смертельную опасность назначена такая, воистину по-королевски щедрая, цена?»
Энтузиазм троих наемных убийц тотчас иссяк. Недавно еще сиявшие лица выражали теперь испуг, улыбка застыла на закушенных губах, а глаза всматривались в темные углы, словно ожидая, не появится ли тот, одного имени которого оказалось достаточно, чтобы привести их в ужас.
– Вы и сейчас полагаете, что плата за вашу службу слишком велика? – спросила Фауста без тени насмешки.
Трое мужчин отрицательно замотали головой.
– Раз речь идет о Пардальяне – нет, черт возьми! Это не слишком много.
– Уж не колеблетесь ли вы? – спросила опять принцесса, но уже ледяным тоном.
– Нет, тысяча чертей!.. Но Пардальян... Проклятье! Тут есть от чего впасть в нерешительность, сударыня!
– Известно ли вам, что мы рискуем так никогда и не потратить пистоли, которые столь весело позвякивают в наших карманах?
Фауста все тем же ледяным тоном бросила:
– Решайтесь, господа.
Непроизвольно понизив голос, словно тот, чье убийство они замышляли, мог их услышать, Сен-Малин произнес:
– Значит, надо...
И красноречиво-зловещим жестом докончил свою мысль.
По-прежнему отважная и решительная, Фауста холодно, твердо, с чуть заметным презрением сформулировала вслух то, чего не осмелился сказать головорез:
– Надо убить Пардальяна!
Сомнение еще не покинуло их окончательно; они переглянулись исподлобья, но затем, вновь обретя свою привычную беззаботность, пожали плечами, словно стряхивая с себя всякие ненужные угрызения совести и страхи.
– Ба, в конце концов или мы его, или он – нас, – отрубил Сен-Малин.
– Все мы смертны! – наставительно сказал Шалабр, осторожно проводя кончиком пальца по лезвию кинжала.
– А то мы уже совсем разленились! – подытожил Монсери, хрустя суставами.
И словно сговорившись, они взялись за эфесы шпаг и закричали:
– Вперед, на Пардальяна!
И страшно, по-звериному ощерились. Фауста улыбнулась. Уверенная теперь в этой троице, она повернулась к Бюсси-Леклерку.
– Считает ли господин де Бюсси-Леклерк себя слишком важным вельможей, чтобы поступить на службу к принцессе Фаусте? – спросила она.
– Поверьте, сударыня, – поспешно сказал Леклерк, – я почту за честь поступить к вам на службу.
– В борьбе против Пардальяна помощь такой шпаги, как ваша, была бы неоценима. Назначьте ваши условия сами. Каковы бы они ни были, я их принимаю.
Бюсси-Леклерк внезапно вскочил на ноги. Яростным движением он выхватил свой кинжал из ножен и зарычал в порыве исступленной ярости:
– Ради счастья вонзить эту сталь в сердце Пардальяна я не колеблясь отдал бы, сударыня, не только все мое состояние до последнего денье, но и всю свою кровь до последней капли!.. Моя помощь вам обеспечена, будьте уверены... Но, как вы сами понимаете, между нами и речи быть не может ни о найме, ни о деньгах, во-первых, потому, что радость утоленного мщения станет мне достаточной наградой, а во-вторых, я исполнен решимости считать своим врагом всякого, кто попытается встать между Пардальяном и мной, и поступать с ним соответственно... Если после того, как вы приговорили Пардальяна к смерти, вам взбредет фантазия спасти его, я, будучи у вас на службе, не смогу ослушаться вас, не совершив при этом предательства.
Фауста задумчиво кивнула, соглашаясь.
– Позднее, сударыня, я приму те великодушные предложения, которые вы изволите мне сделать. Пока же я предпочту сохранить свою независимость.
– Когда вы сочтете, что этот момент настал, вы увидите, что мои намерения на ваш счет никак не изменились.
Бюсси поклонился и решительно заявил:
– А тем временем, сударыня, позвольте мне стать во главе этого предприятия... Не обижайтесь, господа, я не сомневаюсь ни в вашем рвении, ни в вашей преданности, но вы действуете в интересах принцессы, я же – в своих собственных. Видите ли, когда речь идет о ненависти и о мщении, Бюсси-Леклерк доверяет лишь самому себе!
– Эти трое будут поступать в соответствии с вашими указаниями, – решила Фауста.
Троица безмолвно поклонилась.
– Вы уже наметили какой-нибудь план, господин де Бюсси? – спросила Фауста.
– Весьма приблизительный, сударыня.
– Однако Пардальян должен умереть... как можно скорее, – настойчиво повторила Фауста, поднимаясь.
– Он умрет! – уверенно сказал Бюсси, скрежеща зубами.
Фауста вопросительно взглянула на троих охранников; они взревели:
– Он умрет!
После минутного размышления принцесса сказала:
– Господа, я предоставляю вам свободу действия. Но если до понедельника вы не сможете нанести Пардальяну решающий удар, вы все вчетвером отправитесь со мной на королевскую корриду. Там я укажу вам, что делать, и на этот раз, я думаю, Пардальян не избегнет смерти.
– Хорошо, сударыня, – согласился Бюсси, – мы все явимся туда... если, конечно, не справимся с делом прежде понедельника.
– Ступайте, господа, – сказала Фауста, выпроваживая их монаршим жестом.
Как только охранники очутились у себя: в большой комнате, служившей им дортуаром, первой их заботой было, не помня себя от радости, вскрыть мешки, пересчитать экю и пистоли и сложить монеты столбиками.
– Три тысячи ливров! – ликовал Монсери, глядя на золотые и потирая ладони. – Никогда еще у меня не было такого богатства!
Шалабр бросился к своему сундучку и, тщательно запрятывая туда свою долю, пробурчал:
– Служба у Фаусты не так уж и плоха!
– Когда все это будет надлежащим образом промотано – съедено, пропито и проиграно, мы получим еще, – заметил Сен-Малин.
– Верно, черт меня раздери! Ведь Фауста обещала нам платить в срок и помногу, – радостно воскликнул Монсери.
– Но только после того, как мы прикончим Пардальяна, – сказал Сен-Малин страдальческим голосом.
Одного этого имени опять-таки оказалось достаточно, чтобы свести на нет всю их радость; на какое-то время они задумались.
– Кажется мне, вознаграждение нам пока не светит, – прошептал, качая головой, Шалабр.
А Монсери выразил вслух то, о чем каждый думал про себя:
– Жаль, дьявол раздери! Этот чертов шевалье мне так нравился!
– А как славно он оттаскал за бороду того рыжего!
– А с каким независимым видом он говорил с самим королем!
– А как здорово он осадил этих наглых и спесивых кастильских сеньоров! Черт возьми! Какой человек!
– Я гордился тем, что я, как и он, француз!.. В конце концов, мы тут во вражеской стране!
– А ведь именно этого человека мы должны... подстеречь... если не хотим отказаться от блестящего положения и вновь превратиться в нищих искателей счастья, – сказал Сен-Малин (как самый старший, он был самым серьезным и самым практичным).
– Но мне его жаль, черт побери!
– Что поделаешь, Монсери, не всегда делаешь то, что хочется.
– Такова жизнь!
– И коли уж смерть Пардальяна должна обеспечить нам благополучие и процветание, то, клянусь честью, тем хуже для Пардальяна! – решил Сен-Малин.
– К черту Пардальяна! – пробурчал Шалабр.
– Каждый за себя и Бог за всех! – поддакнул Сен-Малин.
– Аминь! – заключили два других охранника и расхохотались.
Глава 16 СКЛЕП ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ
Когда Пардальян, расставшись с Эспинозой, вновь оказался в коридоре, он встряхнулся и облегченно вздохнул. – Ух, наконец-то я вырвался из этого кабинета! Конечно, он оснащен очень хитрыми механизмами, но почему-то в нем не чувствуешь себя в безопасности – уж больно противны все эти капканы, потайные ходы, раздвижные перегородки, люки в полу... Здесь я по крайней мере знаю, куда ставлю ногу. И он тотчас же огляделся опытным взглядом, изучая то место, где находился:
– Хм! Кажется, я поторопился с выводом! А вдруг этот коридор нашпигован такими же штучками, как и кабинет, откуда я только что вышел? В какую же сторону мне идти?
Где тут выход? Направо или налево?.. Милейший господин Эспиноза мог бы мне подсказать... А что если вернуться и спросить у него дорогу?
Пардальян уже протянул руку, чтобы открыть дверь кабинета, но передумал:
– Ну нет! Я, кажется, добровольно лезу обратно прямо в пасть волку?.. Этот глава инквизиторов дал мне слово, что я смогу выйти так же свободно, как вошел. Он его сдержит... надеюсь... Но черт меня подери, почему он так странно улыбался, когда я уходил?.. Очень мне не нравится эта его улыбка!.. Наверное, было бы осторожней не слишком-то полагаться на чистосердечие этого священнослужителя... Постараемся потихоньку отыскать дорогу самостоятельно... Так... Я пришел справа, значит, теперь пойдем налево... Какого черта! Куда-нибудь да приду!
Приняв такое решение, шевалье энергично двинулся вперед, напряженно вглядываясь и вслушиваясь, положив руку на эфес шпаги, наполовину вынутой из ножен, и готовый к бою при малейшей тревоге.
Коридор, где он очутился, был очень широким – нечто вроде центральной артерии дворца, куда стекалось множество поперечных коридорчиков, более узких, а иногда и невероятно тесных. Сквозь редкие окна сюда пробивался свет, но его большей частью поглощали разноцветные витражи, так что в этих коридорах царили где полумрак, а где и полная темнота.
Шагов через пятьдесят центральный коридор резко поворачивал налево. Пардальян без помех преодолел большую часть пути, но, подходя к повороту, услышал шаги многочисленного отряда. Шум быстро приближался.
Удача, казалось, отвернулась от него: как раз в этом месте находилось окно, так что пройти незамеченным было невозможно.
Пардальян замер.
В то же мгновение послышалась отрывистая команда:
– Стой!
После чего на несколько секунд установилась тишина, а затем раздались лязг оружия, опускаемого на пол, гул громких голосов, ходьба взад-вперед и прочий шум, свойственный отряду, пришедшему на место.
«Проклятье! – подумал Пардальян. – Они собираются здесь расположиться».
Секунду он размышлял, спрашивая себя, следует ли ему вернуться обратно или же лучше идти вперед. Как часто с ним бывало в критических обстоятельствах, на губах его появилась холодная улыбка, и он решительно прошептал:
– Вот тут-то мы и посмотрим чего стоит слово господина инквизитора всея Испании... Вперед!
И он, не торопясь, двинулся по коридору.
Едва он сделал несколько шагов, как впереди показалась группа вооруженных людей. Казалось, они не заметили присутствия шевалье. Шутя и смеясь, они подошли к окну, сели в кружок на мраморный пол и принялись играть в кости.
Пардальян как раз собирался повернуть налево, когда наткнулся на вторую группку, которая присоединилась к первой – то ли для того, чтобы принять участие в игре, то ли для того, чтобы присутствовать здесь в качестве зрителей. Пардальян прошел мимо солдат, и они посторонились, молча пропуская его и почти не глядя в его сторону.
«Стало быть, – подумал шевалье, – они охотятся не за мной!»
Однако, поскольку коридор, куда он углубился, был занят более чем дюжиной мужчин, которые, судя по всему, расположились здесь на длительное дежурство, он, продолжая свой путь с совершенно спокойным видом, был тем не менее готов ко всему.
Он уже миновал почти всех вооруженных людей, и никто не обратил на него никакого внимания. Перед ним оставался лишь один солдат – присев на корточки, тот, казалось, был всецело поглощен починкой своего башмака.
Пардальян почувствовал, как к нему возвращается уверенность.
«Решительно, – подумал он, – я возвел напраслину на этого достойного инквизитора. С какой стати ему расставлять мне новую ловушку, если он мог отдать приказ уничтожить меня без всяких хлопот, пока я был всецело в его власти в кабинете с такими замечательными механизмами?»
И он пожал плечами, спрашивая себя: «Уж не выживаю ли я из ума, коли мне повсюду чудятся мнимые опасности?»
Предаваясь подобным размышлениям, он уже совсем подошел к солдату, присевшему на корточки и сосредоточенно ковырявшему подошву башмака. И тут он услышал голос, шептавший ему:
– Будьте начеку, сеньор... Избегайте дозоров... дворец охраняют военные... вас хотят схватить... Главное – не возвращайтесь назад, отступление вам отрезано...
Пардальян, который успел оставить солдата позади, живо обернулся, чтобы ответить ему, но тот уже бегом устремился к своим товарищам.
«Ого, – подумал шевалье, сразу внутренне подобравшись, – кажется, я поторопился бить себя кулаком в грудь... Но кто этот человек, и почему он меня предупреждает?.. Правду ли он сказал?.. Да, разрази меня гром! Вот какие-то люди выстраиваются в ряд и собираются перегородить коридор... Раз, два, три, четыре, пять рядов в глубину, и все вооружены мушкетами... Проклятье! Господин Эспиноза все делает на славу, и если я отсюда выберусь, то, право слово, не по его вине. Госпожа Фауста – а она великая мастерица устраивать ловушки – всего лишь жалкая ученица рядом с ним... Черт побери, унесу-ка я лучше поскорее отсюда ноги, а то если этим славным людям взбредет в голову разрядить в меня свои мушкеты, то господину посланнику французского короля придет конец.»
И Пардальян прибавил шагу, бормоча:
– Избегать дозоров!.. Это легче сказать, чем сделать... Если бы я только знал, куда ведут эти коридоры!.. Конечно, мне и в голову не придет возвращаться назад... мне ясно сказали, что меня там ждет... Да, черт побери, если я выберусь из этого осиного гнезда, то впредь вряд ли стану относиться с особым доверием к слову господина Эспинозы!
Вокруг опять стало темно, но этот полумрак весьма благоприятствовал шевалье, так что он шел упругими, быстрыми шагами, стараясь, чтобы каблуки не слишком-то стучали по мраморным плитам; в общем, он не слишком тревожился, хотя положение было более чем опасным.
Внезапно шум впереди предупредил его о приближении нового отряда.
– Наверняка один из тех дозоров, которых мне надо избегать, – прошептал он, инстинктивно оглядываясь вокруг.
В то же мгновение дозор вышел из поперечного коридора и направился прямо к нашему герою.
«Вот я и попал между двух огней», – подумал Пардальян.
Приглядевшись повнимательнее, он заметил налево от себя углубление в стене и, поскольку дозор приближался, одним прыжком оказался в этом совсем темном закоулке, прислонившись к находившейся там двери.
Желая понять, где он очутился, Пардальян принялся ощупывать рукой дверь и вдруг почувствовал, что она подалась. Он чуть нажал на нее и быстро взглянул в щелку: в помещении никого не было. Он быстро юркнул в проем, живо затворил дверь и встал за ней, прислушиваясь и стараясь не дышать. Дозор прошел мимо.
Пардальян облегченно вздохнул. Шум шагов затих вдали, и, решив выйти, шевалье потянул дверь на себя. Она не открывалась. Он попробовал раз, другой, но дверь, которая чуть ранее легко подчинилась его усилиям, теперь – очевидно, под действием какой-то скрытой пружины – закрылась сама собой, так что не было никакой возможности ее открыть.
– Черт, – прошептал он, – положение осложняется.
Не упорствуя более, он оставил дверь в покое и внимательно осмотрел временно приютившую его комнатку.
Она представляла собой нечто вроде чулана. Здесь было очень темно, но так как шевалье с той самой минуты как покинул кабинет почти постоянно находился в полумраке, он теперь видел достаточно, чтобы ориентироваться в пространстве. Напротив двери он различил маленькую винтовую лестницу.
«Ага! – подумал он. – Вот там я и пройду... Да и выбора у меня нет.»
Он стал решительно подниматься по узенькой лестнице, ступая медленно и осторожно.
Лестница, вовсе не огражденная перилами, выныривала наверх совершенно внезапно. Она выводила в некое подобие прихожей, где располагались три двери: одна была прямо против лестницы, другая справа от нее, а третья – слева.
Пардальян огляделся, отметив про себя это расположение дверей, а затем криво улыбнулся и пробормотал:
– Если все эти три двери закрыты, значит, я попался, словно крыса в мышеловку.
Его по-прежнему окружал полумрак, который в сочетании с замогильной тишиной начинал тяжело давить на него. Его одолевали странные ощущения, и подчас какое-то холодное дуновение шевелило волосы на затылке. Он инстинктивно чувствовал, что попал в некую сеть, из которой нельзя выбраться. Он почти пожалел, что послушался человека, посоветовавшего ему избегать дозоров.
– Мне следовало пытаться прорваться, – говорил он себе в ярости. – Конечно, там были мушкеты, да что за дело – они бы промахнулись!
Он встряхнулся, желая освободиться от того ощущения ужаса, что тяжелым грузом легло ему на плечи, и уже собрался направиться наудачу к одной из трех дверей, когда слева от него ему послышался приглушенный шепот. Он на ходу изменил направление, подошел к левой двери и явственно различил голос, который говорил:
– Итак, что же он сейчас делает?
«Эспиноза! – подумал Пардальян, узнав голос великого инквизитора. – Посмотрим, что он там еще затевает.»
И прильнув ухом к дверной филенке, он обратился в слух.
Другой голос, незнакомый, отвечал:
– Он заблудился в лабиринте коридоров и теперь бродит там.
– Клянусь рогами дьявола, – проворчал Пардальян, – это, без всякого сомнения, обо мне!
И добавил с грозной улыбкой:
– Ну, господин Эспиноза, если я отсюда когда-нибудь выберусь, вы дорого заплатите за ваше предательство!
По ту сторону двери Эспиноза продолжал тем отрывистым и повелительным тоном, который всегда был присущ великому инквизитору:
– Что солдаты?
– Пятьсот человек, все вооружены мушкетами, занимают эту часть дворца. Посты, в пятьдесят человек каждый, стерегут все выходы. Дозоры, от двадцати до пятидесяти человек, прочесывают коридоры во всех направлениях, обыскивают все комнаты. Если этот человек наткнется на какой-нибудь дозор или пост, мушкетный залп разнесет его на куски... Его гибель неотвратима – вы словно держите его на своей ладони, монсеньор! Сожмите пальцы – и человек раздавлен!
– Клянусь головой и брюхом, – прорычал разгневанный Пардальян, – это мы еще посмотрим!
В его мозгу словно блеснула молния, осветившая ясный, четкий, изумительно простой план: распахнуть дверь, ворваться внутрь, схватить Эспинозу, приставить кончик шпаги ему к горлу и сказать:
– Вы немедленно выведете меня из этой ловушки, а иначе, клянусь честью Пардальяна, я выпущу из вас кишки гораздо раньше, чем вы успеете меня раздавить!
Для него все это оказалось бы детской игрой, но чтобы выполнить задуманное, дверь не должна была быть заперта на ключ.
А так как претворение плана в жизнь у него следовало тотчас же за замыслом, он немедленно постарался бесшумно открыть ее.
– Клянусь потрохами дьявола, – бушевал Пардальян (к счастью про себя), – дверь заперта!.. Взломать ее?.. Можно, конечно! Но тогда дело не обойдется без шума, и вряд ли высокоблагородный испанец будет спокойно сидеть и дожидаться!
Тем временем Эспиноза отдавал приказания:
– Надо загнать его в камеру пыток, надо вынудить его зайти туда.
– Пытки! – содрогнулся Пардальян.
– Это легко сделать, монсеньор, – произнес незнакомый голос, – ведь этот человек вынужден идти теми путями, которые мы оставляем ему свободными. Сам того не подозревая, он придет туда, как если бы его вели за руку, и доверчиво сунет голову в петлю.
– Пытки! – повторил Пардальян, пылая негодованием. – Да, мысль достойная такого слащавого и вероломного служителя Господа, как Эспиноза. Но, клянусь Пилатом, он еще не поймал меня!
С этими словами он оперся плечом о дверь, напрягся что было мочи и уже собрался было подналечь изо всех сил – и ему едва удалось сдержать вопль радости и торжества.
Дверь, которая только что была заперта, вдруг отворилась. Распахнув ее настежь, шевалье ворвался в комнату.
Она была абсолютно пуста!
Пардальян с изумлением огляделся. Двери и окна тут отсутствовали, за исключением, разумеется, той дверцы, которой он сам сейчас воспользовался. Мебели не видно, стены голые – короче говоря, пустая, холодная и темная комната. И эта пустота, этот холод, мрак и внезапная тишина таили в себе нечто зловещее и грозное.
Тут Пардальян вспомнил, с какой легкостью дверь внизу так загадочно и так некстати закрылась за ним.
«Если и эта сейчас закроется сама собой, я погиб!» – подумал он и в тот же миг одним прыжком покинул комнату – гораздо быстрее, чем туда вошел.
Едва он опять очутился в вестибюле, как дверь, приведенная в движение невидимым механизмом, неслышно затворилась.
– Да, вовремя это я! – прошептал Пардальян, стирая со лба холодный пот.
Он слегка нажал на дверь, чтобы удостовериться, что не ошибся. Дверь и впрямь оказалась запертой; выглядела она достаточно прочной и могла выдержать любой приступ.
Он машинально огляделся и замер, ошеломленный: все вокруг стало неузнаваемым.
Винтовая лестница исчезла. Проем в полу, через который он сюда проник, более не существовал. Несколько секунд назад он видел три двери, сейчас их осталось лишь две: та, возле которой он все еще стоял, и та, которая находилась напротив теперь пропавшей неведомо куда лестницы.
Пардальян, всегда обладавший здравым умом, почувствовал, что близок к сумасшествию. Тщетно шевалье пытался взять себя в руки, он ощущал, как постепенно его охватывает ужас.
Добавьте к этому, что он был голоден и бродил по зданию дворца уже не один час, преследуемый и затравленный, переходя из коридора в коридор.
Конечно, Пардальян понимал, что над ним нависла смертельная опасность, но этого еще было недостаточно, чтобы повергнуть его в смятение. Самое страшное заключалось в том, что он не знал, откуда исходит угроза. Он обнаружил, что все вокруг напичкано скрытыми механизмами, и теперь барахтался среди них, как муха в паутине, сотканной невидимым пауком, который забился в какую-нибудь мрачную щель и исподтишка следит за жертвой, готовый накинуться на нее, как только та окончательно ослабеет.
Его окружала неизвестность. Он не знал, не вырастет ли посреди казавшегося бесконечным коридора стена, не провалится ли плита, на которую он ставил ногу, не обрушится ли на него потолок, похоронив его под обломками. Когда будет нанесен удар? Откуда? Каким образом? Он не знал. От неопределенности у него кружилась голова.
– Неужто им было известно, что я там стою и подслушиваю? – яростно бормотал шевалье. – Так чего же от меня в конце концов хотят? Вынудить меня войти в камеру пыток? Негодяй, услышанный мною только что, верно заметил: «Этот человек будет вынужден идти теми путями, которые мы оставим ему свободными!»
И с той холодной насмешливостью, которая никогда, даже в самые опасные моменты, не покидала его, Пардальян воскликнул:
– «Человек» – это я! Пусть все дьяволы преисподней разорвут на части этого мерзавца со всеми его потрохами! «Этот человек!»... Ему мало убивать людей, ему еще надо их унижать!..
Он задумался на секунду и прошептал:
– Камера пыток!.. Ну что ж, черт подери! Пойдем посмотрим, что нас ожидает в этом зале!
И он твердым решительным шагом направился ко второй двери, уверенный, что она будет открыта.
– Черт возьми, – усмехнулся шевалье, видя, что она и впрямь поддается, – раз уж мне придется пройти через это...
Он переступил порог и в очередной раз оказался в коридоре. Все тот же полумрак, все та же тишина, все то же ощущение давящей тоски, которая, казалось, стекает по голым стенам, все тот же тяжелый воздух, словно насыщенный тайной и ужасом.
Пардальян привык владеть собой, к тому же он не раз попадал в крайне опасные ситуации. Держа шпагу наголо, он шел спокойной и твердой поступью – сохранить хладнокровный вид означало для него сохранить чувство собственного достоинства. Но для этого ему пришлось прилагать такие усилия, что он чувствовал, как по его лбу катятся крупные капли пота. Сердце его неистово колотилось, когда он говорил себе: «Настало мое последнее приключение! На сей раз, кажется, и сам дьявол не сможет вытащить меня отсюда!»
Он проделал уже довольно долгий путь, без конца сворачивая то направо, то налево и шагая – о чем он и не подозревал – по одним и тем же коридорам, что прихотливо перекрещивались и переходили один в другой; он шел, всматриваясь в углы, где густел мрак, нащупывая ногой пол, прежде чем ступить, все пытаясь найти выход из того фантастического лабиринта, где он бродил, словно потерянный, и так и не находил его.
Внезапно перед ним неведомо откуда возник новый отряд; шевалье скорее угадал появление вооруженных людей, чем увидел их; отряд молча двигался ему навстречу.
Он остановился и внимательно прислушался.
«Их по меньшей мере человек тридцать, – подумал он, – и по-моему, я вижу, как блестят знаменитые мушкеты, залп которых должен разнести меня на куски.»
Стремительным движением он поправил перевязь, удостоверился, что свободно достает рукой до кинжала, и, сдвинув брови, весь подобрался, готовый к прыжку; в тот же миг к нему вернулось его хладнокровие – ведь теперь перед ним были лишь существа из плоти и крови, вроде него самого.
– С этим надо покончить, – пробурчал он, – я иду в атаку!.. Какого черта! Так или иначе, я найду способ пройти!
Он уже намеревался броситься вперед, но внезапно замер на месте: сзади к нему крадучись приближалась другая группа солдат. В очередной раз он попал между двух огней.
«Ну нет, – подумал Пардальян, – это было бы чистейшим безумием! Гром и молния! Неужели я позволю дать себя убить? Необходимо во что бы то ни стало выйти отсюда живым!.. Клянусь папской утробой! Мне еще надо предъявить кое-какой счет высокочтимому господину Эспинозе.»
Он огляделся и вновь увидел слева от себя неглубокую нишу.
– Черт подери, – пробурчал он, – раз уж мне суждено войти в камеру пыток, то я, пожалуй, воспользуюсь предложенным мне путем. Спасибо за заботу, господа!
С насмешливой улыбкой от толкнул невысокую дверцу, как он и предполагал, она легко отворилась. Пардальян решил, что вооруженные люди пройдут мимо, не останавливаясь, как и в прошлый раз. Он в ярости захлопнул за собой дверь, проворчав:
– Ну что, и эту тоже я больше не смогу открыть? И хотя он толкнул дверь изо всех сил, она хлопнула, но осталась незапертой.
– Смотри-ка, – удивился Пардальян, – не закрывается! Что бы это значило?
И словно отвечая на его вопрос, чей-то голос вдруг крикнул:
– Мы его поймали! Он зашел сюда!
И тотчас же он услышал беспорядочный бег.
«Ага, – сказал себе Пардальян. – На сей раз эти храбрецы собираются напасть на меня. Схватка? Извольте... По мне лучше уж драться, чем постоянно ощущать, как тебя подталкивают к какой-то гибельной цели.»
Беседуя таким образом сам с собой, Пардальян не терял времени даром и внимательно осматривался вокруг.
– Опять тупик! – воскликнул он. – На самом деле это, наверное, один и тот же, только каждый раз он выглядит иначе, а меня проводили сюда так, что я этого даже не заметил.
В этом новом (или старом?) помещении он не увидел ничего, кроме огромного сундука, стоящего у стены.
Не теряя ни секунды, Пардальян сдвинул его с места и подтащил к самой двери. Он успел вовремя: тот самый, уже слышанный им голос, говорил:
– Он здесь! Я видел, как он забежал сюда.
– Ломайте дверь, – властно приказал другой голос, – мы его поймали.
– Пока еще не совсем! – расхохотался Пардальян, встав в боевую позицию.
Дверь уже сотрясалась от ударов, до него доносились грубые шутки и угрозы.
Шевалье прекрасно понимал, что в темном тупике ему не удастся дать отпор пятидесяти или шестидесяти нападавшим. Самое большее, на что он мог надеяться, когда сундук рассыплется в щепки, – а ждать уже оставалось недолго! – это задать хорошую трепку нескольким мерзавцам. Но силы были слишком уж неравными. Поэтому он продолжал инстинктивно искать путь к отступлению.
Он в очередной раз обводил помещение изучающим взглядом, когда его взгляд упал на то место, где ранее стоял сундук. Одним прыжком Пардальян подскочил поближе и увидел отверстие, которое, по-видимому, сундук должен был скрывать и которое шевалье сразу не заметил. Пардальян наклонился над узенькой лесенкой, круто уходившей под пол.
Шевалье размышлял всего несколько секунд:
– Раз они хотят, чтобы я прошел здесь, я пройду!
И он вступил на узкую винтовую лестницу. Он спускался на ощупь, насчитал шестьдесят ступенек и наконец оказался в тесном подземелье, погруженном в полную тьму и таком низком, что он был вынужден пригнуться.
Продвигаясь по-прежнему на ощупь, он сделал шагов двадцать, удивляясь тому, что его не преследуют. В это мгновение он услышал за своей спиной шум, весьма напоминающий скрежет захлопнувшихся со всего маху ворот. Он обернулся, и его вытянутые руки наткнулись на решетку, только что опустившуюся за ним.
– Решетка, – прошептал Пардальян. – Меня не хотят преследовать... но и не хотят, чтобы я возвращался обратно.
И он добавил с тревогой, которую тщетно пытался в себе подавить:
– Право, чем дальше я иду, тем более странным становится мое положение.
И это была правда. Положение шевалье, которого преследовали в коридорах наверху, было блестящим по сравнению с тем, в каком он очутился сейчас.
Там, наверху, он мог идти вперед, не сгибаясь, и коридоры были по большей части просторными; там, наверху, света хватало, чтобы он мог определить направление, и там, наверху, он вдыхал воздух, хотя и несколько затхлый, но все-таки вполне пригодный для дыхания.
Здесь все совершенно переменилось. Здесь уже не было чистых и сверкающих мраморных плит. Грязный, липкий пол, лужи, куда по самую щиколотку погружались его ноги. Здесь, в глубокой тьме, он был вынужден продвигаться вслепую, согнувшись в три погибели. То и дело он ощущал прикосновение омерзительных животных – сначала с его приближением они убегали, потом, по-видимому, разъяренные тем, что их посмели потревожить в их зловещих владениях, они возвращались, прикасались к нему и обнюхивали, словно хотели узнать кто же тот храбрец, который решился обеспокоить их.
Воздух в подземелье был тошнотворный, стены сочились влагой, с низких сводов дождем падали зловонные капли. Ледяной холод пронизывал шевалье до мозга костей.
В довершение ко всем несчастьям, в животе у него урчало от голода, а ноги ныли от бесконечных путешествий по бесчисленным коридорам и крутым лестницам; и все-таки ему не хотелось останавливаться.
Он предпочитал любое испытание той дрожи, которая охватывала его, как. только он застывал на месте. Однако тревога сменилась у него теперь глухой злобой.
Он злился на Эспинозу, который самым гнусным образом изменил своему слову и подверг его чудовищному истязанию, заставив в этой мерзкой охоте играть роль затравленного оленя. Шевалье догадывался, что в камере пыток его ожидает нечто невероятное в своей мучительной изощренности, нечто утонченно-чудовищное: великий инквизитор был мастером своего дела и знал толк не только в разнообразных ловушках и западнях, но и в самих пытках как таковых; шевалье, во всяком случае, в этом нисколько не сомневался.
Он злился на Фаусту – первопричину всего того, что с ним стряслось.
Наконец, шевалье безжалостно бранил самого себя, упрекая в нерешительности; он был до такой степени взбешен, что еще немного, и он, пожалуй, обвинил бы себя в трусости, желая – вполне искренне! – поверить в то, что он должен был броситься на вооруженных людей инквизитора и что любой исход, даже смерть, лучше нынешнего его положения: ведь в этой темноте его на каждом шагу подстерегали неведомые опасности, а впереди ожидала отвратительная пыточная камера.
Продолжая двигаться, хотя и на ощупь, но максимально быстро, он бурчал:
– Будь я проклят! В кои-то веки захотел вести себя как разумный человек и действовать осмотрительно, и надо признать, потерпел полное поражение. Чума бы меня сожрала! И зачем только мне понадобились все эти хитрости и увертки. Разве я не знал, что удача сопутствует мне в самых бредовых моих предприятиях? Ан нет, я пожелал быть осторожным и уберечь мое растреклятое бренное тело от нескольких мушкетных пуль... И в результате меня загнали в это отвратительное место и вот-вот начнут пытать, а я ничего не могу поделать, ибо так решил Эспиноза.
Мысли Пардальяна были в хаотическом беспорядке, в нем одновременно бушевали смятение и ярость, но вдруг он вспомнил нечто очень важное, и для него забрезжил луч надежды и утешения:
– По счастью, господин Эспиноза, который ничего не упускает и так замечательно устраивает западни, совсем забыл о том, что меня надо обезоружить. Черт подери! Мой кинжал и моя шпага все еще при мне, а раз так, то сомневаюсь, что этому господину удастся передать меня живым в руки палачей!
В этот момент шевалье обо что-то споткнулся. Он пошарил в темноте носком сапога: это была первая ступенька лестницы. Он стал размышлять:
– Надо ли по ней подниматься? Не лучше ли сесть прямо тут и дожидаться смерти? Да, но какой унизительной – от голода!..
По телу его в который уже раз пробежала дрожь.
– Нет, тысяча чертей! Пока во мне теплится хоть самая малая искорка жизни, пока у меня достаточно сил, чтобы держать в руках оружие, я должен защищаться!
Камера пыток! Эти слова стали для него настоящим кошмаром. Они преследовали его, словно наваждение. Даже когда он не произносил их вслух, они были начертаны огненными буквами в его усталом мозгу. Камера пыток представляла для него таинственную, неведомую опасность; невзирая на все свои усилия, он ощущал, что боится ее, и это приводило его в неистовую ярость.
Он стал подниматься по ступеням.
Лестница привела его в сводчатый зал; через отдушину, расположенную на потолке, сюда проникал слабый свет. Этот тусклый полумрак, сменивший собой непроницаемую темноту, в которой он так долго находился, показался ему радостным и даже несущим надежду, как солнечное небо. Он только что вышел из могилы, где вдыхал зловонный ледяной воздух, поэтому неудивительно, что он обрадовался теплому и более-менее светлому, хотя и затхлому залу.
Он испытал некоторое облегчение. И вместе с облегчением он обрел мужество и веру в свои силы.
Шевалье стряхнул на блестящие плиты грязь, облепившую в подземелье его подошвы, и, довольно улыбаясь, крикнул во весь голос, радуясь громким звукам и эху:
– В добрый час, черт побери! Здесь можно дышать, здесь хорошо видно, здесь не нужно сражаться с отвратительными животными, которые одолевали меня внизу. Клянусь головой и брюхом – жизнь прекрасна!
И подумать только, всего пять минут назад я мог упрекать себя в том, что у меня хватило здравого смысла не напрашиваться на мушкетный залп этих бешеных псов, преградивших мне дорогу. Да, так уж мы устроены, что и малой толики воздуха и света нам бывает достаточно, чтобы смотреть на вещи более здраво.
Пофилософствовав таким образом, шевалье с обычной своей быстротой и тщательностью осмотрел помещение, где находился. Кончилось это тем, что он побледнел и прошептал:
– Вот оно как! Значит, меня таки загнали в эту знаменитую камеру пыток, где я должен найти свой конец! Клянусь папским пупком! Господин Эспиноза решил, что я обязан здесь оказаться, и вот я и впрямь здесь!
Его лицо приняло то непроницаемо-холодное выражение, какое оно обычно имело в минуты решительных действий; на губах появилась еле приметная, чуть окрашенная иронией, улыбка, а пристальный взгляд стал более тщательно изучать это мало привлекательное место.
В комнате оказалось относительно чисто. Стены были облицованы беломраморными плитками, такими же плитками был вымощен пол, а многочисленные желобки, избороздившие его вдоль и поперек, служили, по всей видимости, для стока крови тех несчастных, на кого опустилась тяжелая длань инквизиции.
Тут была представлена самая полная коллекция всех существующих орудий пыток – а описываемая нами эпоха достигла в страшной науке истязания человеческой плоти поистине изумительных высот! – Эти орудия висели на крючках и лежали на полу и на полках.
Клещи, щипцы, железные ломики, ножи, топоры всех размеров и всех форм, жаровни, связки веревок, диковинные и неведомые инструменты – да, здесь, кажется, можно было увидеть – причем разложенной по полочкам и тщательно вычищенной! – всю ту зловещую утварь, которую только способно было породить и воплотить в дереве и металле болезненное воображение и искусные руки палачей, алчущих страданий медленных, долгих и невыносимых.
Бросив взгляд на эти разнообразные инструменты и спросив себя какой же из них предназначается ему, Пардальян двинулся в путь вдоль стен зала.
Лестница, по которой он поднялся, вела прямо в зал, так что в полу зияла страшная черная яма, казавшаяся бездонной.
Почти напротив этой ямы находились три ступеньки и обитая железом дверь, украшенная огромными гвоздями; дверь запиралась на замок и две задвижки исполинских размеров.
Если бы эта дверь встретилась ему чуть раньше, он бы непременно направился прямо к ней, будучи уверен, что найдет ее незапертой.
Но Пардальян мыслил логически. Он знал, что должен был прийти именно сюда и что именно эта комната ужасов была конечным пунктом его маршрута, местом его жуткой и таинственной гибели. Как он умрет? Когда? Этого он не знал. Однако же он давно уверил себя, что здесь его ждет конец. Посему Пардальян был уверен, что эта дверь надежно заперта и что пытаться ее взламывать – дело безнадежное. Из-за нее вот-вот появится палач с помощниками, а может быть – кто знает? – и сам Эспиноза, пожелавший присутствовать при его агонии.
Пардальян пожал плечами и даже не стал приближаться к двери и тщательно ее осматривать. К чему напрасно тратить силы? Надо полагать, вскоре они ему понадобятся для сопротивления убийцам.
Наученный горьким опытом, он ступал очень аккуратно, проверяя ногой пол, опасаясь какого-нибудь подвоха, ибо постоянно помнил о фантастических механизмах, жертвой которых он стал.
В куче инструментов он выбрал железную дубинку, снабженную острыми шипами, и, кроме того, взял нож с широким и коротким лезвием – на тот случай, если кинжал и шпага притупятся или сломаются во время неизбежной, как он догадывался, схватки.
Шевалье оттащил в угол массивный дубовый табурет, на котором, по всей видимости, обычно восседал палач, и уселся на него; шпагу и кинжал он держал в руках, нож засунул за пояс, а дубинку положил на пол неподалеку от себя. Затем он принялся ждать, рассуждая следующим образом:
«Итак, меня смогут атаковать только в лоб!.. Разве только стены раздвинутся, чтобы удобнее было напасть на меня сзади. Следовательно, я могу по крайней мере хотя бы немного отдохнуть... если мне позволят это сделать.»
Сколько времени он провел так? Наверное, не один час. Пока он метался в поисках выхода, азарт борьбы, движение, тоска и тревога не давали ему думать о еде, но теперь, когда он был неподвижен и относительно спокоен, голод настойчиво напомнил о себе. Кроме того, у шевалье явно начиналась лихорадка – его сжигала неумолимая жажда, принося ему жестокие мучения.
Пардальян не осмеливался сдвинуться с места, не осмеливался ничего предпринимать: он боялся, что на него накинутся в тот момент, когда он меньше всего этого ожидает. Отяжелевшие веки опускались помимо его воли, и ему приходилось предпринимать неимоверные усилия, чтобы бороться с наваливающимся на него сном.
Тогда-то ему впервые и пришла в голову ужасная мысль, что Эспиноза, быть может, уже начал осуществлять свой поистине дьявольский замысел – уморить его тут, лишив еды и питья. От этой мысли он вздрогнул, стремительно вскочил на ноги и воскликнул, взмахнув рукой с зажатым в ней кинжалом:
– Клянусь Пилатом! Не будет такого, чтобы я, как дурак, ждал смерти и ничего не предпринял для избавления от нее...
Дверь, которая своим устрашающим видом поначалу отпугнула его, теперь неумолимо притягивала к себе его взор, и он сформулировал свою мысль вслух:
– Кто сказал, что она заперта?.. Почему бы мне самому не убедиться в этом?
С этими словами Пардальян взошел по трем ступенькам и оказался у двери. Тяжелые задвижки, тщательно смазанные, легко и бесшумно скользнули в сторону.
Сердце гулко билось в его груди; он внимательно осмотрел запор. Тот был закрыт и выглядел весьма прочно.
Мощным рывком Пардальян потянул дверь на себя, она не поддалась. Она даже не шелохнулась.
Тогда он оставил сам замок в покое и принялся изучать дверную раму и замочную коробку. И едва подавил радостный крик.
Эта коробка держалась на двух винтах с большими круглыми головками. Отвинтить ее не составляло ни малейшего труда; для осуществления подобной операции в комнате было множество подходящих инструментов.
Он немедленно отыскал нечто железное и заостренное, которое и послужило ему отверткой; работая, он говорил себе: «Трижды глупец! Если бы я подошел к этой двери сразу, меня давно бы здесь не было!.. Но кто же мог подумать...»
И добавил с беззвучным смехом: «Проклятье! Я. кажется, догадался!.. Люди, которых сюда обычно приводят, всегда закованы в цепи, их сопровождают стражники... Иначе здесь не допустили бы такой промашки и закрепили бы замок получше... Эспиноза забыл одну мелочь... Он забыл, что у меня свободные руки... а раз так, я этим воспользуюсь.»
Времени, чтобы вывинтить оба винта, понадобилось меньше, чем для написания этих строк. Прежде чем попытаться открыть дверь, Пардальян секунду колебался. Капли холодного пота выступили у него на лбу, он прошептал:
– А что если она закрыта на задвижки и с той стороны?..
Но он тут же встряхнул головой, схватил обеими руками огромный запор и потянул его к себе: замочная коробка с грохотом упала на ступени, дверь отворилась.
Пардальян с исступленно-радостным воплем ринулся вперед. Он вдохнул воздух полной грудью. Он не сомневался – теперь он спасен.
Ну, конечно: ведь он сам слышал, что Эспиноза хотел заставить его войти в камеру пыток; здесь он должен был найти свой конец. Однако по неведомой ему причине никто в этой жуткой комнате не появился, а может быть, Эспиноза и впрямь намеревался попросту уморить его тут голодом и жаждой.
Но если он вышел живым из этой камеры ужасов, которая должна была стать его могилой, то, стало быть, ему больше нечего бояться, потому что козни инквизитора должны были остаться за ее порогом. Эта мысль казалась Пардальяну такой ясной, логичной и очевидной, что он ощутил прилив новых сил и огромную радость.
Конечно, он пока не обрел свободу, и до этого было еще далеко. Но теперь – он был в этом уверен – его уже не преследовали невидимые враги, теперь – он дал бы руку на отсечение! – он ступал по твердой, надежной почве. Он уже не шел, как ранее, заданным путем, подталкиваемый с дьявольской ловкостью во всяческие засады, и его не подводили всякий раз к определенной цели, чтобы в конце концов обеспечить заранее задуманную развязку. Да, теперь он был спасен. Остальное – то есть свобода – легко обретется, если не терять хладнокровия (а он уже полностью пришел в себя), ловкости и терпения.
Пардальян прошептал с радостным вздохом:
– Уф, я начинаю верить, что выберусь отсюда!
На всякий случай он настежь распахнул дверь, оставшуюся у него за спиной, и огляделся вокруг. Он находился в некоем подобии маленькой прихожей; прямо перед собой он увидел приоткрытую дверцу. Он потянул ее на себя и шагнул за порог. Теперь он очутился в узком проходе, который был хорошо освещен благодаря окошку, расположенному справа под самым потолком.
– Ого! – восторженно воскликнул шевалье. – Вот наконец-то и небо! Гром и молния! А я уж думал, что больше никогда его не увижу.
И впрямь – это уже был не тот приглушенный свет, который с трудом пробивался во внутренние помещения дворца. Нет, сюда лился настоящий, яркий, дневной свет! Главное сейчас было – добраться до окошка. Пардальян огляделся по сторонам (прежде он, задохнувшийся от счастья при виде голубого неба, сделать этого не успел).
– О черт! – выдохнул он, попятившись. – Однако здесь не слишком-то весело!
Да уж, веселого было мало: он находился в склепе, и его окружали многочисленные гробы. Пардальян прошептал:
– Место временного погребения!..
Преодолев отвращение, он стал внимательно осматривать свою новую тюрьму.
Налево он обнаружил три ниши; все три были заняты свинцовыми гробами.
Направо тоже виднелись три ниши, но лишь одна из них – нижняя – была занята. Две других зияли пустотой в ожидании траурной ноши, принимаемой ими на временное хранение.
Странность заключалась в том, что ниши эти были вовсе не каменной кладки, как то обычно бывает, а из тяжелого, массивного дуба.
Впрочем, Пардальяна занимало сейчас иное. Он беззвучно засмеялся и, указав на пустые ниши, воскликнул:
– Черт побери! Вот готовая лестница, чтобы добраться до окошка.
Без малейших колебаний он поставил ногу на нижний гроб и взобрался на верхнюю нишу, где ему пришлось лечь на спину и вытянуться плашмя.
«Малоприятное местечко, но другого выхода отсюда я не вижу, да и вообще сейчас не время привередничать», – подумал он.
Круглое незастекленное оконце пересекалось двумя перекладинами в форме креста. Пардальян просунул между ними голову и выглянул наружу. Окошко выходило в сад. Шевалье взглядом измерил расстояние до земли и улыбнулся:
– Пустяковый прыжок.
Направо виднелась стена, слева находились два стрельчатые окна, украшенные разноцветными витражами на религиозные сюжеты.
«Дворцовая часовня! – подумал Пардальян. – А теперь – в атаку на раму!»
Он подался назад и с неимоверными усилиями вытянул руку и ощупал перекладины.
Да они деревянные!
Он расхохотался от души. На сей раз он был окончательно спасен. Сломать эту хрупкую преграду, выскользнуть отсюда, перелезть через стену, которую он видит из окошка – все это было для него сущим пустяком.
– Черт возьми! – вздохнул он. – Как посмотришь поближе на смерть, так жизнь покажется просто замечательной!
Его переполняли радость, вера в свои силы и отвага. Освобождение казалось ему делом несомненным и скорым, он уже представлял себе, как будет рассказывать об этом фантастическом приключении своему другу Сервантесу, а тот уж непременно помянет своего неизменного Дон Кихота. Он видел тонкое лицо столь симпатичного ему дона Сезара, который будет с тревогой следить за всеми поворотами его повествования. Он уже воображал, как очаровательная и такая красивая Жиральда смотрит на него своими огромными сочувствующими глазами, в ужасе прижимаясь к своему возлюбленному.
И рисуя себе все эти картины, он улыбался.
Однако надо еще было сломать преграду, которая, впрочем, не могла долго сопротивляться его мощным кулакам.
Он уже взялся за обе перекладины и изо всех сил тряхнул их, когда вдруг почувствовал, что на его горло давит что-то жесткое.
Он прохрипел:
– Ох!.. Что это?.. Я задыхаюсь! – и поспешно втянул голову назад.
В тот же миг это «что-то» внезапно прошло совсем рядом с его лицом. Он услышал сухой стук, подобный стуку закрывающейся крышки, и все вокруг погрузилось в полную темноту.
Шевалье поспешно подался влево, желая спуститься вниз.
О ужас!
Его нога с силой ударилась о какую-то перегородку! Он хотел отпрянуть, приподняться, но повсюду натыкался только на твердое, словно железо, дерево... Он чувствовал, что его со всех сторон сдавливают прочные доски; он уже с трудом дышал. Пардальян был заживо заперт в гробу. Он судорожно вздохнул и закрыл глаза, поняв: «Так вот каков оказался сюрприз, подготовленный мне Эспинозой! Так вот она – последняя ловушка, расставленная им, куда я с такой готовностью и легкомыслием устремился!»
В это время гроб повернулся вокруг своей оси, потом неподвижно замер, и перед изумленным взором шевалье засверкали какие-то маленькие огоньки.
Подавив усилием воли ужас, который перехватывал ему горло, Пардальян попытался понять, что происходит.
Он увидел, что внутри его гроба, на уровне лица, был расположен специальный глазок.
– Ага, значит господин Эспиноза желает, чтобы я мог видеть и слышать... Извольте, послушаем и посмотрим.
И Пардальян стал смотреть. Вот что он увидел:
Безлюдное пространство часовни. Ярко освещенные хоры. Посреди центрального прохода – катафалк, вокруг него ярко горят восемь свечей.
Пардальян тотчас же догадался, что катафалк предназначен ему и что именно туда сейчас поставят его гроб.
Тут из тьмы возникли четыре монаха атлетического телосложения и подошли к гробу шевалье. Пардальян услышал:
– Значит, сейчас будет заупокойная служба?
– Да, брат мой.
– По ком?
– По тому, кто лежит в этом гробу.
– Человек, который прошел через камеру пыток?
– Вам же известно, брат мой, что камера пыток – всего лишь пугало, предназначенное для того, чтобы завлечь приговоренного в склеп живых мертвецов.
В тот же миг раздался похоронный звон. Двери королевской часовни настежь распахнулись, и медленным, торжественным шагом туда вошла длинная вереница монахов; монахи были облачены в белые капюшоны с прорезями для глаз, а в руках держали огромные свечи; в безмолвии они встали у алтаря.
За монахами в белых капюшонах выстроились монахи в черных, а за ними – в желтых капюшонах.
Перед катафалком встал палач, с ног до головы облаченный в красное.
И опять появились монахи в капюшонах всех цветов, они выстраивались вокруг катафалка, пока маленькая часовня не заполнилась до отказа. Священнослужитель торжественно поднялся к алтарю; рядом с ним шли его помощники и служки.
Разрывающие душу звуки органа бушевали под сводами, распространялись волнами по королевской часовне, наполняя ее то жалобной, то грозной музыкой.
И вот уже собравшиеся здесь монахи мощным хором запели De Profundis.
Заупокойная служба началась.
Пардальян, почти обезумевший от ужаса и дрожавший от гнева и бессилия, живой Пардальян должен был присутствовать на заупокойной службе по самому себе!
Он весь напрягся, взвыл и принялся колотить руками и ногами в стенки своего ужасного узилища.
Однако его отчаянные призывы были заглушены звуками органа. Когда же он удваивал усилия, то монахи тоже возвышали голоса:
– Miserere nobis... Dies irae! Dies ilia!
Когда служба наконец завершилась, иноки удалились так же, как они пришли, – медленной и торжественной поступью. Помощники священника потушили свечи в алтаре. Все вновь погрузилось в тишину и темноту. Вскоре вокруг катафалка, слабо освещенного несколькими серебряными лампами, свисающими с потолка, остались лишь четыре монаха-носильщика...
Конец еще не настал...
Пардальян почувствовал, как волосы встали у него на голове дыбом и дрожь сотрясла все его тело от затылка до пяток, когда он услышал, как один из монахов спрашивает с безмятежным равнодушием:
– А могилу этому несчастному успели вырыть?
– Да уже час как готова.
– Тогда предадим его поскорее земле – нам ведь пора ужинать.
И гроб с заключенным внутри живым шевалье подняли и куда-то понесли.
Тогда, собрав весь остаток сил, прильнув губами к отверстию в крышке, он закричал:
– Но я не умер!.. Вы же не похороните меня заживо, мерзавцы!..
Четверо зловещих носильщиков, словно глухие, невозмутимо продолжали свой путь, нещадно тряся гроб на всех ступенях и поворотах; занятые прежде всего мыслью о том как бы побыстрее добраться до трапезной, они ничуть не старались выполнить порученную им работу поаккуратнее.
Если бы шевалье мог вытащить кинжал, он бы, разумеется, тут же закололся, лишь бы избежать страшной пытки быть погребенным заживо. Но он находился не в обычном гробу, а в чем-то вроде узкого футляра, так что его извивающаяся рука никак не могла дотянуться до оружия, которое принесло бы ему столь желанное избавление.
Вскоре он почувствовал, что его лицо овевает ветерок (шевалье все время упрямо приникал к глазку), и понял, что место, принятое им за сад, было на самом деле кладбищем!
Если заупокойная служба показалась ему удивительно медленной, то переход к последнему пристанищу совершился, как мнилось шевалье, с необычайной поспешностью. Он все еще надеялся на чудо, понимая, что когда он окажется в яме, когда земля ляжет на него тяжелым холодным грузом, всякая надежда на избавление будет навсегда потеряна.
А носильщики уже остановились.
Он почувствовал, что его гроб довольно-таки грубо поставили на траву.
Он ясно различил скольжение веревок под гробом, который сначала приподняли, потом принялись тихонько спускать вниз и наконец мягко опустили на дно могилы.
Чей-то бас громогласно пророкотал:
– Requiescat in расе![5]
Другие ответили хором:
– Amen!
С глухим стуком упали тяжелые комья земли. Этот стук отозвался болью в самой глубине его существа.
И Пардальян отказался от борьбы. С покорностью судьбе, но и, вопреки всему, с толикой насмешки, он прошептал:
– На сей раз я и впрямь умер и лежу в могиле! К счастью, этот приступ отчаяния длился недолго.
Почти тотчас же он овладел собой и вновь принялся кричать что было сил, неистово барабанить в крышку и пытаться разбить стенки гроба, ударяясь в них локтями и плечами.
Сколько времени прошло в этой борьбе?
Минуты или часы?
Он не имел об этом ни малейшего понятия.
И вот когда он – уже, наверное, в сотый раз – попытался выбить крышку, в тот самый миг, когда он уже хрипел, а его силы и мужество были на исходе, крышка, повинуясь толчку его плеча, открылась словно сама собой.
– Смерть всем чертям! Клянусь потрохами всех святых! Клянусь копытом Сатаны! Чревом моей матери! – облегчал себе душу Пардальян, нанизывая ругательства одно на другое.
Он был смертельно бледен, глаза его блуждали, он дрожал от гнева и ужаса. Он полной грудью вдыхал воздух, словно никак не мог насытить им свои легкие; машинально он провел рукой по лбу – по нему стекали крупные капли пота. Он стоял на коленях посреди своего гроба; он огляделся вокруг безумными глазами, ничего не видя, думая лишь об одном: бежать!
Он не заметил, что находится все-таки в саду, а не на кладбище, как он полагал. Он даже не заметил, что могила его была на удивление мелкой и что вся земля, которую бросали на гроб целыми лопатами, благодаря какой-то специальной уловке оказалась раскиданной по дну ямы.
Он понимал только, что жив и свободен! Вокруг много воздуха и простора, вокруг деревья и трава, а над головой – чистое небо! Шевалье горел неистовой жаждой мести, он был исполнен решимости свернуть шею этому мерзавцу Эспинозе; ведь именно он придумал эту чудовищную пытку, которой даже нет названия, и подверг ей его, Пардальяна! Теперь, когда его славная рапира опять у него в руках, он, презирая мушкетную перестрелку, чувствовал в себе достаточно сил, чтобы сразиться со всеми приспешниками великого инквизитора, даже если имя им – легион.
Наконец свежий вечерний воздух – уже начинало темнеть – охладил его пылающую голову, и к нему (хотя бы частично) вернулось хладнокровие; он быстро выбрался из могилы и широким решительным шагом, с той ошеломляющей стремительностью, которая была ему присуща, когда он начинал действовать, прямиком направился к замаскированной калитке, обнаруженной им как раз рядом.
Он вытащил шпагу, с грозным видом несколько раз со свистом рассек ею воздух и внезапно распахнул калитку.
Перед ним открылся двор, занятый группой вооруженных людей.
Пардальян сделал два шага вперед и сразу же наткнулся на дежурного офицера, командовавшего этими людьми; увидев шевалье, он удивленно воскликнул:
– Господин де Пардальян! Откуда вы тут взялись?
Расслышал ли Пардальян его слова? Во всяком случае, он понял только одно: офицер не собирался преграждать ему путь.
Он холодно ответил на вопрос:
– Где здесь выход?
По крайней мере, он считал, что отвечает холодно. На самом же деле он прорычал свой вопрос с грозным, устрашающим видом, так, как если бы прокричал:
– Дорогу, или я убью вас!
И не дожидаясь ответа, он повернул направо, наобум, сам не зная куда идет, и удалился, широко шагая.
Офицер, в свою очередь, прокричал:
– Эй! Господин де Пардальян!.. Не сюда!
И поскольку шевалье, не оборачиваясь, неуклонно продолжал свой путь, офицер догнал его, схватил за руку и очень вежливо сказал:
– Вы ошибаетесь, господин де Пардальян, выход не здесь... он там.
И указал пальцем в противоположную сторону.
– Что вы говорите, сударь?
Поглупевший от изумления Пардальян стал даже заикаться, не зная, наяву все это с ним происходит или во сне.
Офицер спокойно ответил:
– Вы изволили спросить меня, где здесь выход. Разрешите мне заметить вам, что вы ошибаетесь... Выход налево, а не направо.
– Ах так, сударь! – прорычал Пардальян, который чувствовал, что сходит с ума. – Стало быть, вы здесь не для того, чтобы меня арестовать? Вы не получили приказа убить меня?
– Что за шутки, сударь? – сказал офицер, улыбаясь. – Я – и это правда – получил приказ арестовать всякого, кто предстанет передо мной, но это никоим образом не касается господина де Пардальяна; напротив, нам велено оказывать представителю Его Величества короля Наваррского все подобающие знаки уважения.
Шевалье взглянул офицеру прямо в глаза и увидел, что тот был совершенно чистосердечен. Он тотчас же вложил шпагу в ножны и, поклонившись, в свою очередь, человеку, который говорил с ним, сняв шляпу, тихо сказал:
– Простите меня, сударь... Я, очевидно, подхватил лихорадку... там, в этих коридорах.
– Это вполне вероятно, – ответил офицер, по-прежнему любезно улыбаясь.
И добавил с готовностью, идущей от сердца:
– Вы не желаете, чтобы я приказал послать за врачом Его Величества?
– Тысяча благодарностей, сударь, – отозвался Пардальян с той изысканной учтивостью, которая приобретала в его устах особую ценность. – Я уже чувствую себя лучше... Пустяки.
И прошептал в сторону – не громко, но и не тихо:
– Пусть собаки сожрут мои потроха, если я хоть что-нибудь понимаю в том, что со мной случилось! В этот момент спокойный голос, который шевалье сразу же узнал, сказал:
– Разве я не дал вам слово, что вы сможете выйти отсюда так же, как вы сюда вошли?
– Эспиноза! – закричал Пардальян. – Но откуда же он тут взялся?
И впрямь казалось, что великий инквизитор возник из-под земли.
Пардальян вплотную подошел к Эспинозе и с пылающим взором, но сохраняя ледяное спокойствие (что было у него верным признаком исступленной ярости, сдерживаемой силой воли), бросил инквизитору в лицо:
– Вы появились весьма кстати, сударь. По-моему, у нас с вами еще остались некоторые счеты!
Эспиноза не шелохнулся. Молнии, которые метал взор Пардальяна, не заставили его опустить глаза. С присущей ему невозмутимостью он бесстрастно продолжал:
– Если бы вы не нанесли мне оскорбление, усомнившись в моем слове, если бы вы доверчиво прошли сквозь отряды вооруженных людей, как вы это сделали только что, правда, с некоторым опозданием, вам не пришлось бы пережить несколько часов смертельных мук. Это урок, который я хотел вам преподать, сударь. Но одновременно это и предупреждение. Помните: что бы вы ни делали, как бы вы ни скрывались, в этом огромном городе вы всегда будете в моей власти и в моих руках, как то произошло в королевском дворце.
И тоном, в котором сквозил невольный интерес, он добавил:
– Поверьте, господин де Пардальян: вы – человек, созданный для героических битв при ярком солнечном свете, лицом к лицу, глаза в глаза. Но вы ничего не смыслите в битвах тайных, непонятных, которые свершаются в тени и во мраке. Возвращайтесь к себе домой, во Францию, господин де Пардальян; здесь вы будете раздавлены, и мне, право, будет вас жаль, ибо вы храбрый человек.
Пардальян собрался было резко возразить, но Эспиноза уже исчез – неведомо куда, неведомо как, а шевалье так и остался стоять, потрясенный этим внезапным исчезновением, равно как и всем, что с ним приключилось.
Глава 17 БЮССИ-ЛЕКЛЕРК ПРОЛИВАЕТ СЛЕЗЫ
Пардальян вошел во дворец в девять часов утра. Когда он оттуда вышел, уже смеркалось. Дело было летом, и дни были еще очень длинными, а потому он мысленно подсчитал, что, по-видимому, шесть или семь часов пробродил по коридорам и подземельям да два-три часа провел в гробу.
– Хотел бы я посмотреть на выражение лица господина Эспинозы, если бы он прошел через такую пытку, – ворчал шевалье, удаляясь от дворца широкими шагами. – Железная верша, куда в прошлом году меня заперла нежная Фауста, – это райское местечко по сравнению с тем, где я побывал сейчас. Проклятье! Вот дьявольское изобретение! И как только я не сошел с ума? Возможно ли, чтобы человеческим существам могла прийти в голову мысль подвергнуть таким мукам своих ближних?.. Решительно, тысячу раз был прав мой батюшка, когда говорил мне: «Люди, сын мой, – это огромная стая волков. Горе честному человеку, который отважится войти в эту стаю! Его разорвут на части, на мельчайшие кусочки и тотчас же проглотят!..»
Поистине замечательно, что шевалье смог сохранить такую трезвость мыслей после приключения, которое вряд ли бы выдержали самые ясные умы.
Однако подобные встряски не проходят бесследно и существенно сказываются на телесных силах. И если Пардальян, благодаря своей воле и своему характеру, которые превращали его в личность поистине исключительную, смог вернуть себе достаточно душевного спокойствия и хладнокровия, чтобы пофилософствовать, да еще и иронически, то вновь обрести свои растраченные физические силы он не смог.
Шевалье был смертельно бледен, на дне его глаз гнездилась растерянность, он шел, шатаясь, словно пьяный.
Шагая по пустынным и темным улицам (на Севилью уже опустилась ночь), он ворчал:
– Из-за голода я совсем ослабел, у меня даже голова кружится. Я думаю, мэтр Мануэль, – краса и гордость испанских трактирщиков, вряд ли найдет в подвалах своей «Башни» достаточно снеди, чтобы утихомирить этого пожирающего меня зверя!
И мысленно он составлял длинное меню, перед которым снял бы шляпу и сам Гаргантюа.
Будь Пардальян менее голоден, менее измучен, он бы, конечно, заметил, что с того самого момента, как он вышел из дворца, за ним неотступно следовали четыре тени, с терпеливой неутомимостью сопровождая его на почтительном расстоянии.
Однако Пардальян, как мы уже сказали, мечтал сейчас лишь о еде и о выпивке. Истина обязывает нас сказать, что в этом он действительно крайне нуждался. А потому чем длиннее и тяжелее ему казался путь, тем длиннее становилось меню, которое он сочинял в уме.
Но если шевалье ничего не заметил, то мы, располагая соответствующими сведениями, считаем своим долгом рассказать обо всем читателю и потому просим его вернуться на несколько часов назад, к тому моменту, когда Бюсси-Леклерк вышел от Фаусты, где он добился для себя права командовать остальными тремя охранниками; он вышел, исполненный решимости убить Пардальяна.
Бюсси-Леклерк был признанным мастером поединков, и его репутация прочно покоилась на двух десятках дуэлей, где он всегда ранил или убивал своих соперников... не считая бесчисленных схваток с известнейшими мастерами фехтования, наемными убийцами и бретерами, – схваток, из коих он всегда выходил победителем.
Эта репутация непобедимого фехтмейстера была гордостью, славой, честью Бюсси-Леклерка. Ею он дорожил больше всего на свете. Чтобы сберечь эту репутацию в неприкосновенности, он без колебаний пожертвовал бы своим состоянием, своим общественным положением, своею жизнью и даже честью.
Однако эта репутация рухнула самым плачевным образом в тот день, когда Пардальян, словно играючи, при свидетелях, выбил оружие у него из рук.
Обезоружили! Его! Непобедимого Бюсси-Леклерка! Он плакал от бессильной ярости и стыда.
Самое ужасное заключалось в том, что, подвергнувшись столь позорному унижению, он долго и со знанием дела тренировался, изучая выпады в тишине фехтовального зала. После того, уверенный, что сможет достойным образом парировать удар, подробнейше изученный и победно опробованный на всяком, кто имел хоть какое-нибудь имя в искусстве владения шпагой, Бюсси-Леклерк неоднократно мерился силами со своим победителем – однажды даже при неких странных и фантастических обстоятельствах, во всем игравших на руку ему, Бюсси-Леклерку, – и во всех этих схватках его постыднейшим образом лишали оружия.
Последнее злоключение этого рода с ним случилось совсем недавно, уже в Испании: в тот день, когда он нагнал Фаусту, он нежданно-негаданно столкнулся с Пардальяном и храбро атаковал его. Ибо Бюсси был храбр, очень храбр.
Он переживал сие происшествие еще более болезненно, чем предыдущие, потому что именно после этой встречи – четвертой по счету, – ради которой Бюсси и проделал столь далекий путь, он вынужден был признаться себе, что ему не удастся поразить своей шпагой шевалье де Пардальяна, который, в довершение всего, находил злое удовольствие в том, чтобы каждый раз щадить его.
И вот теперь Бюсси-Леклерк, который понял, что не в силах справиться с этим дьяволом, сгорал от желания увидеть себя лежащим в луже крови и умирающим от ран, ибо он, Бюсси, предпочитал смерть тому, что он считал для себя бесчестием.
Живым олицетворением его, Бюсси, бесчестия, стал для него как раз Пардальян.
– Нет, но почему я должен погибать, разрази меня гром на этом самом месте, – неистовствовал Бюсси-Леклерк, шагая взад-вперед по своей комнате. – Раз Пардальян не хочет меня убивать, значит мне самому придется убить его!
Да, но как же поразить его? Всякий раз, когда я скрещиваю с ним свою шпагу, она, подлая тварь, словно желая доказать свою легкость и грациозность, сама вылетает у меня из рук, устремляясь в поднебесье! Можно подумать, что дьявол одалживает ей свои крылья... и в самом деле... если поразмыслить хорошенько... я ничуть не удивлюсь, если тут обнаружится какое-нибудь колдовство.
И храбрый Бюсси, трепеща при мысли о вмешательстве адских сил, в то же время радовался, что нашел наконец первопричину своих многочисленных поражений (он совершенно искренне считал такое объяснение правдоподобным). Однако он стал замечать, что в размышлениях своих он все чаще приходил к выводу о необходимости убить Пардальяна, стереть его с лица земли любой ценой. Это приводило его в ярость. Он повторял:
– Клянусь головой и брюхом! Смерть всем чертям! И надо же, чтобы я, Бюсси, дошел до такого!
Бюсси-Леклерк был бретером, человеком без чести и совести... но он не был убийцей!
Именно мысль об убийстве разумел Бюсси под словами «дошел до такого», и она (эта мысль) унижала его, заставляла бледнеть от стыда и вызывала у него приступы неописуемого гнева.
– И все-таки, – размышлял он, мощными ударами кулака сокрушая мебель, – и все-таки я не вижу другого выхода!
Мало-помалу мысль об убийстве, против которой он поначалу так восставал, укреплялась в его сознании. Тщетно он гнал ее от себя, она упрямо возвращалась, так что в конце концов Леклерк вскричал:
– Ну что ж, ничего не поделаешь! Опустимся и до этого, раз так надо!.. Ведь я не смогу и дальше жить в таких мучениях: пока этот человек не умер, мысль о моем бесчестии будет неумолимо преследовать меня, и я наверняка умру от обиды и ярости! Итак, вперед!..
Осыпая сам себя всяческой бранью, призывая на свою голову все мыслимые проклятия, которые привели ' бы в содрогание завсегдатаев какого-нибудь притона, он пристегнул шпагу и кинжал, завернулся в плащ и, бормоча крепкие выражения, отправился за тремя охранниками Фаусты, чтобы тотчас же увести их с собой. Было семь часов вечера, когда они прибыли в Алькасар. Бюсси навел справки.
– Не думаю, чтобы господин посланник Его Величества короля Наваррского уже вышел, – ответил ему офицер, которому он задал свой вопрос.
Бюсси вздрогнул от радости и подумал: «Неужели удача улыбнулась мне, и дело уладилось само собой? Если бы только проклятого Пардальяна обнаружили убитым в каком-нибудь из дворцовых закоулков!.. Тогда я, Бюсси, был бы избавлен от необходимости убийства!»
Загоревшись этой надеждой, он увлек за собой своих спутников. Все четверо спрятались за угол какого-то дома близ площади, именуемой сегодня Триумфальной. Их ожидание оказалось недолгим. Около восьми Бюсси-Леклерк с огорчением увидел, как вполне живой Пардальян идет, пошатываясь, через площадь; это исторгло из груди Бюсси громкое проклятие; он проскрежетал:
– Клянусь потрохами мессира Сатаны! Мало того, что этот лицемер Эспиноза выпустил его, он, наверное, еще устроил ему великолепный пир – сдается мне, что негодяй Пардальян нынче неплохо выпил!
Они дали шевалье возможность отойти на некоторое расстояние, а затем осторожно двинулись вслед за ним, крадясь вдоль домов, проскальзывая под аркадами, прячась по темным углам.
Уже не раз они могли бы напасть на Пардальяна, застав его врасплох, и удача явно улыбнулась бы им. Однако Бюсси-Леклерку не хватало решимости. Что бы он ни говорил, как бы ни увещевал себя и какими бы изощренными ругательствами ни осыпал, он все же не мог заставить себя напасть на противника сзади, а когда он в конце концов собрался действовать, то обнаружил (не без тайного удовлетворения), что момент уже упущен.
А тем временем шевалье, не подозревая о слежке, объектом коей он стал, достиг набережной – места весьма подходящего для исполнения любого злодейского замысла. Казалось он всячески старался облегчить убийцам их задачу. Но на самом-то деле все объяснялось очень прозаически: приехав в город совсем недавно, Пардальян знал только одну дорогу в свою гостиницу – ту, что указал ему Сервантес, и, по обыкновению презирая опасность, не счел нужным тратить силы на поиски более безопасного пути.
К тому же он сходил с ума от голода и жажды и мечтал лишь о том, чтобы как можно скорее сесть за уставленный роскошными яствами стол. А раз так, то к чему терять время, разыскивая незнакомые дороги?
И вот, когда он уже более твердым и уверенным шагом ступал по загроможденной кучами отбросов и безлюдной набережной, перед ним возникла некая тень, выскочившая из какого-то темного закоулка, и жалобный голос прогнусавил:
– Подайте милостыньку ради распятого Христа!
Всякий другой в такое время и в таком месте шарахнулся бы в сторону. Но Пардальян не привык относиться к кому-либо с подозрением, а сейчас, когда он только что чудом избежал страшной смерти, он бы вообще посчитал для себя позором не попытаться облегчить чьей-то беды, хотя бы даже обстоятельства, при которых ему об этой беде рассказали, и казались странными.
Посему он принялся шарить по карманам, изучая одновременно – по привычке, ставшей, по пословице, его второй натурой, – пристальным взором физиономию ночного нищего.
Этот нищий, хотя и смиренно согбенный, выглядел, однако, как атлет. Он был одет в отвратительные лохмотья. На лоб ему падали спутанные лохмы, а нижнюю часть лица скрывала густая черная нерасчесанная борода.
Пардальяну на мгновение почудилось, что он уже где-то видел эти бегающие глазки. Но то было смутное, мимолетное ощущение. Сия отталкивающая личность показалась шевалье совершенно незнакомой, и он протянул нищему золотую монету; тот склонился чуть не до земли, рассыпаясь в благодарностях.
Выполнив свой долг, Пардальян сочувственно махнул оборванцу рукой и пошел дальше.
Как только шевалье повернулся к нищему спиной, тот внезапно выпрямился.
Его лицо, униженно-молящее еще секунду назад, теперь казалось грозным, глаза сверкали дикой радостью, а губы искривила мерзкая злая ухмылка; он казался хищником, подстерегающим добычу. Его рука поднялась в молниеносном движении, и короткое, широкое, острое лезвие сверкнуло при свете луны мертвенным блеском.
Четверо убийц, крадущиеся по следу Пардальяна, увидели это внезапное смертоносное движение нищего. Они застыли в неподвижности, спрятались в тень, решив стать немыми свидетелями убийства, которое вот-вот должно было свершиться на их глазах. Бюсси-Леклерк, охваченный неистовой радостью, прошептал, задыхаясь:
– Сто тысяч чертей! Если этот нищий избавит нас от Пардальяна, его будущее обеспечено!
А шевалье мучительно вспоминал тем временем:
– Где, дьявол меня раздери, я видел эти глаза?.. И этот голос... По-моему, я его уже слышал!..
И он машинально обернулся. Рука нищего не успела нанести удар. Негодяй лишь склонился еще ниже и громко загнусавил:
– Тысяча благодарностей, сеньор!.. Премного обязан вам, сеньор!..
Пардальян ничего не заметил. Он продолжал свой путы пожимая плечами и бормоча про себя:
– Ба! Все нищие здесь похожи друг на друга!
Что до Бюсси-Леклерка, то он в ярости выругался и пробурчал:
– Скотина!.. Упустил его!
И он возобновил свое преследование (трое охранников, как и прежде, молча сопровождали его), исполненный решимости отплатить за только что испытанное им горчайшее разочарование: Бюсси-Леклерк намеревался хорошенько отколотить на редкость неуклюжего нищего.
Но тщетно он вглядывался в темноту, тщетно смотрел по сторонам – нищий как сквозь землю провалился.
Тем временем Пардальян уже прошел мимо Золотой башни и зашагал по узкой и темной улочке, где находился трактир «Башня»; впереди уже виднелось крыльцо, слабо освещенное льющимся изнутри светом.
– Надо с ним кончать! – прорычал Бюсси-Леклерк в пароксизме ярости.
Пардальян беззаботно шел вперед. За ним той бесшумной и мягкой поступью, что присуща крупным хищникам, шел Бюсси с зажатым в кулаке кинжалом. От человека, которого он ненавидел, его отделяло лишь несколько шагов; он весь подобрался и, высоко занеся кинжал, одним прыжком преодолел это расстояние, взревев:
– Наконец-то! Я поймал его!
Но тут чей-то молодой и звонкий голос крикнул в ночной тишине:
– Осторожнее, господин де Пардальян! Берегитесь! В тот же миг Бюсси-Леклерк получил увесистый тумак, отчего споткнулся при разбеге, а Пардальян молниеносно отпрянул в сторону, так что кинжал не вонзился ему между лопаток, а лишь слегка оцарапал плечо.
Тотчас же рядом с шевалье встал какой-то юноша и прикрыл его своей шпагой. Пардальян сразу же узнал своего бесстрашного защитника. Он полуумиленно-полунасмешливо улыбнулся и прошептал, неторопливо вынимая шпагу из ножен:
– Дон Сезар!
Эль Тореро? – а именно он подоспел так кстати, чтобы отвести удар кинжала, – спросил с тревогой, глубоко тронувшей шевалье:
– Вы не ранены, сударь?
– Нет, дитя мое, не волнуйтесь, – тихо ответил тот.
– Клянусь Святой Троицей, я испугался за вас! – признался дон Сезар. И он от души расхохотался.
За время этого короткого диалога прибежали, изготовив оружие к бою, Монсери, Шалабр и Сен-Малин, которые слегка отстали от Бюсси. Да и сам Бюсси-Леклерк, с разгона упавший и покатившийся по камням мостовой, уже поднялся, чертыхаясь, как безбожник, и тоже ринулся в атаку.
Как только Пардальян оказался перед лицом опасности со шпагой в руке, он тотчас же вновь обрел всю свою мощь и, разумеется, то спокойствие и хладнокровие, что делали его столь грозным в бою.
С первого же взгляда он узнал тех, с кем имел дело, и видя, что все четверо переходят в нападение, спокойно сказал дону Сезару:
– Встанем спиной к этому дому... Тогда этих храбрецов не посетит коварная мысль напасть на нас сзади.
Сей маневр был выполнен решительно и споро, и когда все четверо устремились вперед, они обнаружили перед собой два длинных и острых лезвия, готовых дать им отпор.
Положение изменилось, и притом не в пользу трех охранников и кипящего от ярости Бюсси. Внезапное и непредвиденное вмешательство дона Сезара привело их замысел к постыдному краху. Теперь уже и речи быть не могло о том, чтобы обрушиться на Пардальяна, и хотя их было четверо против двоих, они чувствовали себя в меньшинстве.
В самом деле: наемники Фаусты отлично знали, что Пардальян и в одиночку мог победить сразу всех четверых. Они знали, что смогут сокрушить его, лишь прибегнув к вероломству.
Теперь же Пардальян, который минуту назад находился почти что в их руках, не только был начеку и противостоял им как всегда уверенно и спокойно, но еще и обрел друга и помощника в лице какого-то незнакомца, который с готовностью принялся сражаться плечом к плечу с шевалье.
Однако хуже всего было то, что проклятый незнакомец, судя по всему, владел шпагой с замечательным мастерством. Это уж действительно было полным невезением.
Пардальян, понимали они, останется в живых, а вот им придется спасать свою шкуру, ибо было совершенно очевидно, что шевалье не собирается щадить их. Они считали, что загонят его в ловушку, но оказались в ней сами.
Эти грустные размышления вихрем пронеслись в головах четырех соратников. И однако, поскольку они были, бесспорно, людьми храбрыми да к тому же чувствовали себя оскорбленными (ведь Пардальян понял, что его намеревались убить в спину, и им было не по себе оттого, что в их замыслы проникли), они немедленно ринулись в атаку, решив с честью выйти из этого испытания или же найти возле трактира «Башня» свой конец.
А Пардальян между тем произнес своим насмешливым голосом:
– Добрый вечер, господа!.. Вы, стало быть, хотите меня убить?
– Сударь, – откликнулся Сен-Малин, нанося ему прямой удар, впрочем тут же парированный с замечательной легкостью, – сударь, не далее как сегодня утром мы вас об этом предупредили.
– Это справедливо, – продолжал шевалье на сей раз без малейшей насмешки, – я помню... И помню так хорошо, что, как видите, никак не могу решиться задеть шпагой дворян, которые сегодня утром повели себя по отношению ко мне на удивление галантно.
Действительно – вещь неслыханная, изумившая дона Сезара и заставившая красного от стыда Бюсси задыхаться и рычать от ярости – Пардальян вовсе не отвечал на удары! Он был начеку, окружающим казалось, что его шпага наделена разумом, – она оказывалась в нужное время в нужном месте, но лишь для того, чтобы играючи парировать удары, а не наносить их. Мало того, осознав, что дон Сезар – секундант, достойный его самого, шевалье сказал ему язвительно:
– Делайте как я, дорогой друг, щадите этих господ, они храбрые дворяне.
И тореадор тоже забавлялся и поступал, как Пардальян, довольствуясь тем, что лишь парировал удары; к тому же его прикрывала сверкающая волшебная шпага шевалье, который умудрялся отражать даже удары предназначенные его секунданту; если бы не он, Эль Тореро был бы уже дважды ранен.
При этом Пардальян ни разу не обратился к Бюсси. Казалось, он его даже не видел.
Они находились рядом с внутренним двориком трактира. На шум дверь отворилась, и в проеме появился Сервантес. Он тотчас же схватил шпагу и уже хотел было встать рядом с двумя своими друзьями, но шевалье остановил его, сказав спокойно:
– Не двигайтесь, дорогой друг... Эти господа скоро устанут.
Сервантес, который уже хорошо знал Пардальяна, остался на месте. Но он не выпускал оружие из рук, готовый вмешаться при малейшей необходимости.
И при свете луны, под усеянным звездами небом, Мануэль и посетители его трактира, прибежавшие вслед за Сервантесом, стали восхищенными зрителями фантастического спектакля, где двое, или вернее даже сказать один, настолько шпага Пардальяна была вездесуща, противостоял в схватке четырем бесноватым, которые рыча, ругаясь, богохульствуя, подпрыгивая, раздавали направо и налево, острием и плашмя яростные удары, между тем как этот храбрец невозмутимо отражал их, но ни разу не уколол сам.
По-прежнему обращаясь только к Шалабру, Сен-Малину и Монсери, Пардальян сказал своим спокойным голосом:
– Господа, когда вы утомитесь, мы остановимся. Заметьте, однако, что я мог бы покончить со всем сейчас же, обезоружив вас одного за другим. Но это – позор, а я не хочу обижать вас, ибо вы мне симпатичны.
Справедливости ради надо добавить, что трое охранников, продолжая эту странную схватку, рассчитывали, что Пардальян в конце концов войдет в раж и начнет отвечать ударом на удар. Как только они увидели, что ошиблись и что их противники упрямо гнут свою линию и ничто не может заставить их изменить решение, пыл нападавших поугас, и вскоре Монсери – будучи самым молодым, он был и самым непосредственным в своих порывах – опустил свою шпагу со словами:
– Проклятье! Я больше не могу. Это бессмысленно! И он вложил шпагу в ножны, не дожидаясь ответ своих соратников.
Шалабр и Сен-Малин, словно они только и ждали этого сигнала, галантно поклонились.
– Нам было бы стыдно упорствовать далее, – произнес Сен-Малин.
– Тем более, что это может продолжаться до бесконечности, – добавил Шалабр.
Пардальян, по-видимому, ожидал этого жеста и ответил очень просто:
– Хорошо, господа.
И тогда – только тогда! – он «заметил» Бюсси, который упорно не складывал оружия. Мягко отстранив дона Сезара, шевалье двинулся прямо на бывшего коменданта Бастилии. Он шел вперед, спокойно парируя наносимые ему удары, а Бюсси шаг за шагом отступал. И отступая, фехтмейстер пристально, выпучив глаза от ужаса, смотрел в глаза Пардальяна и читал в них свою судьбу... Его рассудок не мог этого выдержать, он выкрикнул:
– Ага!.. Ты опять хочешь обезоружить меня!.. Как всегда!..
Это казалось ему неизбежным. Он совершенно ясно понял – ничто в мире не спасет его от этого последнего унижения, и почувствовал, как теряет разум. Кинув вокруг себя тоскливый взгляд затравленного зверя, он внезапно опустил шпагу и то ли прохрипел, то ли прорыдал:
– Не это! Только не это... Все что угодно, только не это!..
Шалабр, Монсери и Сен-Малин, которые не любили Бюсси, но все-таки отдавали должное его неукротимой отваге, были потрясены до глубины души, увидев, как этот смельчак сам с силой отбросил свою шпагу и кинулся вперед, прямо на клинок Пардальяна, в отчаянии вопя:
– Убей меня!.. Да убей же меня!
Если бы Пардальян вмиг не отвел в сторону свое оружие, Бюсси-Леклерку пришел бы конец.
Видя, что Пардальян опять оскорбляет его, отказываясь убивать, Бюсси-Леклерк, словно безумец, стал рвать на себе волосы и раздирать лицо ногтями, крича:
– О, демон! Он не убьет меня!.. Пардальян вплотную подошел к нему и произнес голосом, в котором звучало больше печали, чем гнева:
– Нет, я не убью вас, Жан Леклерк! Бюсси до крови прокусил себе кулак, ибо назвав его просто Леклерком, Пардальян нанес ему еще одно тягчайшее оскорбление. Дело в том, что известный фехтмейстер прежде носил фамилию Леклерк, но однажды он решил удлинить ее и добавить к ней Бюсси – в память о славном Бюсси д'Амбуазе. При этом Жан Леклерк, ставший Бюсси-Леклерком, придавал чрезвычайно большое значение тому, чтобы его называли именно этим именем, – он кичился тем, что прославил его, пусть и на свой манер. И если он еще соглашался, чтобы его называли Бюсси, то совершенно не переносил, когда к нему обращались как к Леклерку.
Пардальян же бесстрастно продолжал: – Я не убью вас, Леклерк, хотя и имел бы на это право... В каждую из наших встреч вы хотели уничтожить меня. Я же не испытывал к вам никакой ненависти... Я довольствовался тем, что парировал ваши удары и выбивал у вас из рук оружие, чего вы не можете мне простить. Я знавал вас тюремщиком и был вашим узником. Я знавал вас наемником, и вы пытались арестовать меня, помня, что за мою голову обещана награда. Сегодня вы опустились еще на одну ступеньку в вашей низости, задумав убить меня трусливо, в спину. Да, конечно, я имею право убить вас, Жан Леклерк!
– Так убей же меня! – повторил обезумевший Бюсси.
Пардальян покачал головой и холодно ответил:
– Я понимаю ваше желание, но, право, это было бы слишком просто... А кроме того, я-то не убийца! Но коли уж вы проявили по отношению ко мне такую жестокость в сочетании с таким коварством... а я ведь не сделал вам ничего плохого... разве что заставил вас хорошенько попрыгать... Так вот, я имею право на нечто большее, чем тот удар кинжала, о котором вы меня молите. И вот в чем заключается моя месть: я помилую вас, Леклерк! Однако запомните: если бы у вас хватило мужества биться со мной честно, отважно, как и подобает дворянину, то на сей раз я не обезоружил бы вас и даже, быть может, сделал бы вам одолжение, ранив вас... Но вы сами выбили у себя оружие из рук. Вы сами уронили себя столь низко, Леклерк... Так оставайтесь же тем, чем вы пожелали быть.
У Бюсси вырвался приглушенный хрип; он закрыл себе уши ладонями, чтобы не слышать неумолимый голос, который продолжал:
– Итак, Леклерк, я сохраняю вам жизнь с единственной целью: чтобы вы на протяжении всего своего существования могли повторять: сначала – тюремщик, потом – пособник палача, наконец – низкий и жалкий убийца. Превратившись в убийцу, Леклерк счел себя недостойным скрестить шпагу с дворянином и сам бросил свое оружие. Ступайте!
Пардальян мог бы долго еще продолжать в том же духе, но Бюсси-Леклерк уже выслушал более, нежели мог выдержать. Бюсси-Леклерк, который храбро бросился на шпагу Пардальяна, не смог более выносить пытку этими оскорблениями, высказываемыми неторопливо, почти сочувственно. Он обхватил голову руками и, колотя себя в лоб кулаками, убежал, воя, словно собака, почуявшая покойника.
Когда он исчез, Пардальян повернулся к трем охранникам Фаусты, бледным и застывшим от сдерживаемого волнения, и, отвесив им самый изысканный поклон, произнес:
– Господа, сегодня утром вы, сочтя, что я попал в неприятное положение, великодушно решили предложить мне свои услуги; памятуя об этом, я не захотел сейчас обращаться с вами как с врагами и убивать вас, хотя и мог бы это сделать. Но, – добавил он, нахмурившись, уже более жестким тоном, – но не забывайте – теперь я считаю себя свободным от обязательетв по отношению к вам... Избегайте, господа, столкновений со мной... Не имея более причин щадить вас, я буду вынужден вас убить, хотя, поверьте, сделаю это с сожалением.
Свидетели сей сцены с глубочайшим изумлением слушали этого необыкновенного человека; внезапно атакованный тремя головорезами, вовсе не производящими впечатления слабаков, он без всякой бравады осмелился сказать им прямо в лицо, как нечто совершенно естественное, что не пожелал убить их. Но изумление зрителей возросло еще более, когда они увидели, что трое приятелей восприняли слова Пардальяна, не протестуя, просто как выражение суровой правды, и отвечали ему с изящными поклонами:
– Мы охотно признаем, что вы поступили с нами весьма обходительно, – сказал Сен-Малин.
– Даже слишком обходительно, – добавил Шалабр, – ибо вы ничем не обязаны нам, сударь, хотя вам и было угодно высказать такую мысль.
– Что касается дальнейших столкновений с вами, сударь, я очень опасаюсь, что мы не сможем вам обещать, что избежим их, – сказал Монсери, сверкая белозубой улыбкой.
– Вернее, Монсери, скажи, что мы наверняка еще встретимся, – ведь мы же и приехали в Испанию с этой единственной целью.
Пардальян слушал очень внимательно, одобрительно кивая, и Сен-Малин, видя это, добавил:
– Поверьте, сударь, мы приложим все усилия, чтобы избавить вас от тяжелой необходимости убивать нас.
– К этому добавь, Сен-Малин, что если, по словам господина де Пардальяна, он станет отнимать у нас жизни с некоторым сожалением, то нам-то уж тем более будет крайне прискорбно потерять их, – заключил Монсери.
И они покатились со смеху.
– До свидания, господин де Пардальян!
– Оставляем поле боя за вами.
– До встречи, господа, – с прежней серьезностью ответил Пардальян.
Шалабр, Сен-Малин и Монсери обнялись и удалились, оглушительно хохоча и отпуская громкие шуточки, как то почиталось хорошим тоном у королевских фаворитов.
Пардальян, который стоял неподвижно, услышал жестокую шутку одного из охранников, судя по голосу – Монсери:
– Черт возьми! А жалкий, однако, был вид у храбрейшего из храбрых!
Больше шевалье уже ничего не слышал. Он издал печальный вздох, пожал плечами и взял дона Сезара под руку, увлекая его к трактиру:
– Пойдем поужинаем. По-моему, вы проголодались.
Глава 18 ДОН ХРИСТОФОР ЦЕНТУРИОН
Как легко себе представить, в трактире Пардальян застал страшную сумятицу. Сам трактирщик Мануэль, Хуана – его дочь, его служанки, короче – все-все сбежались на шум битвы и присутствовали при вышеописанной сцене. Окна соседних домов тоже как бы сами собой осторожно приоткрылись, дабы позволить их обитателям все видеть. Впрочем, надо отдать должное этим зевакам: никто из них и мысли не допустил о том, чтобы вмешаться – ни для того, чтобы прийти на выручку тем двоим, что держали на почтительном расстоянии четверых, ни для того, чтобы попытаться разнять их.
У Пардальяна и всегда-то был такой вид, что его бросались обслуживать, выказывая всяческое почтение, но в тот день он даже невольно улыбнулся, видя, с какой быстротой служанки трактира «Башня» во главе с самим хозяином кинулись предупреждать его малейшее желание.
– Дорогой хозяин, – сказал шевалье, – перед вами человек, который погибает от голода и жажды. Подавайте нам что вам будет угодно, но ради Бога, делайте это поскорее.
В одно мгновение стол в самом уютном уголке внутреннего дворика был накрыт скатертью и тотчас же уставлен разнообразными блюдами, долженствующими раздразнить аппетит: там были зеленые оливки, красный перец, различные маринады, колбасы и ломти холодной свинины – то бишь всяческие закуски, предназначенные для того, чтобы заморить червячка; закуски перемежались множеством бутылок самых разных форм, выстроенных как на парад; все это радовало глаз... особенно глаз человека, которому недавно случилось быть похороненным заживо и которому посему неоднократно приходила в голову мысль, что никогда более ему не будет суждено насладиться столь замечательным зрелищем.
Само собой разумеется, что хозяин тем временем, устремившись к своим печам, хлопотал возле них, не жалея сил, и вскоре из кухни прибыли: золотистый омлет, тушеные голуби, ребрышки ягненка, поджаренные на сухой виноградной лозе, а также некоторые мелочи, как то: разнообразные паштеты, ломти кабанины, жареная форель с лимонным соком. Но все это было лишь прелюдией к редчайшему блюду, к истинной изюминке пиршества, к гастрономической новинке, завезенной из Америки отцами-иезуитами, – к изумительному фаршированному индюку, жаренному на вертеле над сильным огнем.
Надо ли добавлять, что на столе появились еще и всевозможные компоты, желе, варенья, фруктовые пастилы, пирожки, а также множество разнообразных кремов, тортов, пирожных, вафельных трубочек и свежих и сушеных фруктов.
В то время как служанки хлопотали вокруг Пардальяна, он, не говоря ни слова, наполнил три кубка, жестом пригласил Сервантеса и дона Сезара подойти к нему, опорожнил единым духом свой кубок, вновь наполнил его, вторично опорожнил и, поставив его на стол, воскликнул:
– Ах, черт возьми, как хорошо!.. Это испанское вино греет душу, а я, клянусь честью, весьма в этом нуждался!
– В самом деле, – сказал Сервантес, который следил за ним с неослабным вниманием, – вы бледны, словно мертвец, и кажетесь взволнованным. Я не думаю, однако, что вас до такой степени поразил только что выдержанный вами бой... Тут, конечно, кроется что-то другое.
Пардальян вздрогнул и, пожав плечами, взглянул Сервантесу прямо в глаза.
– Садитесь, – сказал он, усаживаясь сам, – а вы вот сюда, дон Сезар.
Не заставляя себя просить дважды, Сервантес и дон Сезар заняли места, указанные им Пардальяном. Обращаясь к дону Сезару и намекая на его недавнее вмешательство, которое уберегло шевалье от кинжала Бюсси, Жан сказал:
– Примите мои комплименты. Вы, как я погляжу, не любите, когда за вами числится долг.
Молодой человек покраснел от удовольствия – и не только из-за самих слов, но и из-за ласкового тона, каким они были произнесены. С той искренностью и чистосердечием, которые, судя по всему, составляли суть его характера, он живо ответил:
– Моя счастливая звезда привела меня как раз вовремя, чтобы помочь вам избежать неприятности, сударь, но я еще не расплатился с вами; напротив, я опять ваш должник.
– Как так?
– Ах, сударь, разве вы не отбили вместо меня несколько ударов, которые наверняка попали бы в цель... если бы вы не позаботились обо мне?
– А! – коротко сказал Пардальян. – Так вы это заметили?
– Ну конечно, сударь.
– Сей факт доказывает, что вы умеете сохранять хладнокровие в битве, с чем я вас горячо поздравляю... Это ценное качество, и оно еще сослужит вам службу.
Внезапно он сменил тему:
– А теперь милости просим – прошу отведать всей этой снеди; судя по тому, как она выглядит, она должна быть очень сочной и, клянусь честью, чрезвычайно вкусной. Мы поговорим за ужином.
И трое друзей храбро принялись за уничтожение гор провизии, возвышавшихся перед ними.
Оставим же Пардальяна восстанавливать силы, подточенные длительным голоданием, усталостью и треволнениями насыщенного событиями дня, а сами вернемся на какое-то время к некоему персонажу, чьи поступки настоятельно требуют нашего внимания.
Мы имеем в виду того странного нищего, который вместо благодарности за поистине королевскую милостыню, поданную ему шевалье де Пардальяном, предпочел размахивать за его спиной кинжалом, а затем внезапно исчез, так что поиски Бюсси, который твердо вознамерился задать неудачливому убийце хорошую трепку, ничем не увенчались.
Нищий, который даже не подозревал о нависшей над ним опасности, просто-напросто юркнул в щель между какими-то тюками, сваленными на набережной, добрался до одной из многочисленных улочек, что выходили к Гвадалквивиру, и стремглав бросился бежать по направлению к Алькасару.
Увидев перед собой одну из дверей дворца, нищий сказал пароль и показал какую-то вещицу, похожую на медальон. Часовой, не выказывая никакого удивления, немедленно пропустил его, почтительно посторонившись.
Нищий направился размеренным шагом но лабиринту внутренних дворов и коридоров (очевидно, он отлично в нем ориентировался) и скоро оказался у входа в некие покои. Стоило ему постучать условленным образом, как на пороге вырос верзила-лакей; в ответ на несколько слов, которые нищий прошептал ему на ухо, он вежливо поклонился и отступил в сторону.
Нищий вошел в спальню. Это была спальня верного слуги Филиппа II дона Яго де Альмарана, обычно именуемого Красной бородой; он яростно бегал взад и вперед по комнате, баюкая тщательно перевязанную руку и изрыгая ужасные угрозы по адресу этого французишки, этого чертова Пардальяна, едва не искалечившего его.
На шум шагов Красная борода обернулся. Увидев перед собой какого-то отвратительного нищего, он грозно нахмурился и уже открыл рот, чтобы позвать слуг и велеть им выставить вон этого бесстыдного попрошайку, но тот вдруг легко сорвал свою густую черную бороду, которая скрывала нижнюю часть его лица, и лохматую шевелюру, падавшую ему на глаза.
– Христофор! – воскликнул Красная борода. – Ну наконец-то!
Если бы Пардальян оказался здесь, то в этом самом Христофоре он тотчас узнал бы агента инквизиции, коего некоторое время назад он бесцеремонно вышвырнул из внутреннего дворика трактира «Башня».
Кто же такой был дон Христофор? Мы полагаем, что настал момент познакомиться с ним поближе.
Дон Христофор Центурион был неудачником-бакалавром, каких в ту пору в Испании было немало. Молодой, сильный, умный, образованный, он решил проложить себе дорогу в жизни и занять высокое положение. Однако решить всегда легче, чем сделать. Особенно если у тебя нет ни отца, ни матери, а воспитал тебя и обучил на свои деньги милосердный и славный старик-дядюшка – бедный сельский священник.
Для начала Христофор избавился (это является необходимым условием для всякого честолюбца, твердо решившего преуспеть) от угрызений совести, всегда терзающих дураков. Операция прошла с тем большей легкостью, что вышеозначенная совесть, как легко догадаться, не слишком-то обременяла юного Христофора Центуриона. Но хоть начинающий карьерист и сбросил с себя этот груз, он все же остался тем, чем и был ранее – бедняком, которому бы мог посочувствовать незабвенный библейский Иов. Однако же похвальные усилия, предпринятые им для борьбы со своей совестью, заслуживали, в конечном счете, вознаграждения, и дьявол надоумил его обокрасть доброго дядюшку, забрать у него те несколько дублонов, которые старик кое-как накопил ценой долгих лет лишений и тщательно закопал в надежном месте – не таком уж, впрочем, надежном, ибо молодой негодяй после длительных и упорных поисков все-таки обнаружил его.
Как и всякий добрый кастилец, Христофор уверял, что он происходит из благородной семьи, – да, возможно, так оно и было; почему бы и нет? Однако ему было бы весьма затруднительно предъявить соответствующие документы в том случае, если бы кому-нибудь вздумалось попросить их у него.
Владея небольшой толикой денег, хитроумно позаимствованных у дядюшкиной бережливости, бакалавр Христофор, став доном Христофором Центурионом, поспешил выбраться на жизненные просторы, где сразу принялся искать какого-нибудь могучего покровителя. Это вполне соответствовало нравам эпохи. Жил в те времена некий дон Центурион, которого Филипп II незадолго до описываемых событий сделал маркизом де Эстера. Дон Христофор Центурион незамедлительно открыл в своей биографии родство, и притом бесспорное (по крайней мере, он так считал), с эти богатым сеньором. Христофор прямиком направился к нему и потребовал от него поддержки, ибо любой сеньор, пользующийся расположением двора, должен оказывать помощь бедным и безвестным родственникам. Однако маркиз де Эстера был одним из тех эгоистов, каких, к несчастью, на свете немало. Договориться с ним не удалось. Этот бесчестный родственник не только не пожелал ничего слушать, но еще без всяких обиняков заявил своему невезучему однофамильцу, что если тому и впредь вздумается претендовать на родство, которое он, маркиз де Эстера, вопреки всякой очевидности упрямо отрицал, то он без всякого стеснения прикажет своим людям побить Христофора палками, дабы доказать ему бесспорное: никому не ведомый и без гроша в кармане Центурион никогда – конечно, если рассуждать здраво – не сможет оказаться родственником Центуриона богатого и к тому же маркиза; если же палочных ударов будет недостаточно, чтобы его в том убедить, у маркиза, слава Богу, хватит власти, чтобы бросить своего докучливого псевдородственника в темницу.
Угроза палочных ударов произвела на дона Христофора Центуриона гнетущее впечатление. Угроза же заточения, которое могло продлиться столько же, сколько продлится его жизнь, открыла ему глаза на истину, и тогда он обнаружил, что и впрямь ошибся, и что сеньор маркиз действительно ему не родственник. Посему он отказался от требований о поддержке и признал, что ему отказали в ней совершенно справедливо, ибо, по совести говоря, он не имел на нее права.
В течение нескольких лет он продолжал жить (или, вернее сказать, беспрерывно умирать с голоду) неопределенными плодами неопределенных трудов.
Затем он завербовался в солдаты и научился достойно владеть шпагой. Потом стал грабителем с большой дороги и научился не менее достойно владеть кинжалом. Приобретя также серьезные познания насчет того, как надлежащим образом пользоваться почти всеми видами оружия, бывшими в ходу в ту эпоху, он великодушно предоставил свои таланты в распоряжение тех, кто вовсе оными не обладал, или же, обладая, испытывал недостаток в отваге, необходимой для их использования; за приличное вознаграждение он избавлял любого желающего от настойчивого врага и мстил за смертельное оскорбление или за поруганную честь.
Одновременно – ради собственно удовольствия – он продолжал учиться, а поскольку от природы он был весьма одарен, то вскоре и стал настоящим знатоком в области философии, теологии и судопроизводства. Желая разнообразить свои занятия и вместе с тем несколько пополнить свои скудные доходы, он – в промежутках между ударом кинжала и аркебузным выстрелом – давал уроки одному, писал диссертацию за другого, готовил проповедь для третьего – например, для епископа, у которого иссякло красноречие; он мог также составить заключение по делу для судьи или же защитительную речь для адвоката.
Одним словом, даже для той эпохи, богатой на всяческие диковинные фигуры, это был довольно-таки редкий экземпляр: наполовину наемный убийца, наполовину служитель церкви.
И вот однажды, вернувшись мысленно к дням своего детства (он это называл – рыться в фамильных бумагах), Христофор вспомнил, как дядюшка рассказывал ему, что одна из прабабушек его двоюродной сестры некогда вышла замуж за прадедушку троюродного брата дона Яго де Альмарана – высокопоставленной особы, коей доверена честь оберегать жизнь Его Католического Величества и потихоньку устранять всех тех, на кого ему указывала королевская десница – ибо даже король не всегда может открыто, при свете дня, расправляться со своими врагами.
Дон Центурион сказал себе, что на сей раз его родство ясно, очевидно, осязаемо и что прославленный сеньор Красная борода (который, между прочим, делал на благо короля то, что он, Центурион, делал на благо всех) непременно встретит его радушно и с пониманием.
Красная борода и впрямь сразу прекрасно понял выгоду, которую он сможет извлечь из знакомства с образованным негодяем, готовым на все и способным не только противостоять самому изощренному казуисту или натянуть нос самому продувному законнику, но еще и ловко организовать и исполнить любое темное дельце, где необходимо применить силу.
Ему вдруг открылось, что для выполнения некоторых таинственных операций, предпринимаемых им время от времени то ради короля, то ради собственной корысти, этот человек, которого словно послало само Небо, станет ему идеальным помощником – а на такое он никогда и надеяться не смел. Не говоря уже о том, что этот подручный может быть еще и рассудительным советником, способным уверенной рукой направлять его в дебрях – для него совершенно непролазных – дел государственных, общественных, военных и церковных (церковных в особенности), где он ежесекундно рисковал споткнуться и сломать себе шею.
Итак, дону Христофору Центуриону улыбнулось счастье: его встретили радушно. Его родство было признано сразу, без всяких споров, и новоиспеченный кузен безотлагательно добыл ему место в Верховной инквизиции; хотя жалованье было чрезвычайно скромным, наемному убийце оно тем не менее показалось совершенно фантастическим: ведь он с давних пор привык по многу дней жить на несколько реалов – и один лишь Бог знает, как тяжко они доставались дону Христофору!
В тот момент, когда мы представляем читателю дона Центуриона, он уже добился любви и уважения начальства, весьма высоко оценившего его разнообразные достоинства, и теперь потихоньку прокладывал себе дорогу наверх. Христофор пробовал себя на разных поприщах, прикидывая, стать ли ему лицом светским и решительно пойти по военной части или же принять монашество, что могло открыть ему доступ к любой должности, в том числе и к должности великого инквизитора – эта возможность неясно просматривалась в его мечтах, хотя он и не осмеливался еще себе в том признаться.
В сущности, он склонялся скорее ко второму варианту, ибо, хотя он и стал человеком действия, но благодаря своему первоначальному воспитанию, все же отдавал явное предпочтение ученым изысканиям. Этот наемный убийца, с непревзойденным мастерством владевший кинжалом, сохранил лицемерные и медоточивые манеры служителя церкви, всегда скрывающего свои мысли, умеющего со смиренным видом склониться перед более сильным и тотчас же надменно выпрямиться во весь рост перед более слабым, – в общем, он был человеком злопамятным и злобным, но способным годами подавлять свою ненависть.
Учитывая все вышеизложенное, мы не можем сказать, что дон Центурион был всецело предан Красной бороде, ибо это значило бы впасть в сильное преувеличение.
Он давно уже раз и навсегда запретил себе любые человеческие чувства, – а, следовательно, и чувство признательности. Итак, он не испытывал никакой благодарности к своему благодетелю, но был слишком умен, чтобы не понимать: пока он не оперится настолько, чтобы летать самостоятельно, ему придется опираться на кого-то сильного. Поэтому его преданность (назовем это так) была достаточно глубокой, ибо, работая на своего покровителя, он работал на самого себя.
Конечно, если бы вдруг явился кто-нибудь более могущественный и предложил взять его к себе на службу, дон Центурион, не колеблясь, бросил бы, а в случае надобности, и с готовностью предал бы доверчивого слугу Филиппа II. Но пока никому не приходило в голову привязать его к себе, так что он оставался всей душой привязан к своему кузену. Впрочем, выказывая слепую преданность этому животному, он, разумеется, работал на собственное будущее.
Таков был человек, только что вошедший к Красной бороде; побежденный исполин метался как хищник в клетке, пылая мрачной злобой, кляня свое недавнее поражение и изрыгая страшные угрозы по адресу того, кто подверг его этому двойному унижению – во-первых, избил его, Красную бороду, сильнейшего из сильных, и, во-вторых, избил на глазах короля и придворных!
– Ну как? – тревожно спросил он Центуриона. Тот презрительно пожал плечами, пытаясь говорить спокойно, но в его голосе невольно прорывались раздражение и неистовая ожесточенность:
– Все, как и ожидалось! Его преосвященство господин великий инквизитор по неизвестным мне причинам счел нужным позволить ему уйти.
– Клянусь кровью Христовой! Пусть гнилая лихорадка погубит проклятого святошу, вздумавшего играть в великодушие!.. Будь я проклят!.. Если этот человек выживет, я останусь обесчещенным и потеряю доверие короля; у меня не будет другого выхода, кроме как удалиться в какой-нибудь монастырь и сдохнуть там от стыда и умерщвления плоти!.. Я должен отплатить, ты слышишь. Христофор! Да так, чтобы все это запомнили... А иначе король прогонит меня, как пса, который потерял свои клыки...
Эти слова повергли преданного Центуриона в глубочайшее уныние. Опала пса Филиппа II влекла бы за собой его собственный провал. Она означала неизбежный крах обширных замыслов, выстроенных его честолюбием. Ему нужно было употребить все свои силы на то, чтобы отвести эту катастрофу от своего кузена, поскольку Центуриону пришлось бы самому стать ее первой жертвой. Вот почему он ответил совершенно искренне и очень печально:
– Я отлично понимаю вас, кузен. Но на мой взгляд, вы несколько преувеличиваете. Вряд ли Его Величество поставит вам в вину эту неприятность. Если хорошенько прикинуть, то, я полагаю, в том, что вас... одолели, есть и хорошая сторона.
– Как это?
– Уверяю вас. Могло случиться так, что вы столкнулись бы с испанцем, желающим занять ваше место подле короля, и тогда бы вы наверняка погибли. Но вам повезло, ибо вы столкнулись с французом и. что еще удачнее, с врагом Его Величества. Так что вы можете быть спокойны – уж он-то не станет претендовать на ваше место... В глазах короля, да и в глазах всех придворных вы все равно остаетесь самым сильным человеком в Испании. А раз так, то с чего бы король стал лишать себя ваших услуг? И где взять вам замену? Доброго коня на плохого не меняют. Вы потерпели поражение? Ну что ж. Даже самым прославленным полководцам случалось быть побежденными...
– Может быть, ты и в самом деле прав, – сказал Красная борода, внимательно его выслушав. – Только мне все равно нужно отомстить.
– Ну, на сей счет, – ив глазах Центуриона вспыхнул дикий огонек, – я с вами согласен. И если у вас на этого наглого и дерзкого француза есть зуб, то не сомневайтесь, он есть и у меня, причем предлинный.
– Так что же все-таки произошло? Ты его видел? Где он? Что он делает?
– Он, наверное, уже вернулся в свою гостиницу и там, как я предполагаю, подкрепляется. Я видел его, разговаривал с ним, и он даже дал мне щедрую милостыню... Судя по всему, этот мерзавец весьма богат – клянусь честью, мне перепал от него целый пистоль!
– Ты видел его, – взревел Красная борода, – ты говорил с ним, но!..
– Понимаю вас, кузен, – сказал Центурион с холодной улыбкой. – И если он ускользнул от меня, то, поверьте, не по моей вине. Можно подумать, что его оберегает само провидение, – я уже собрался всадить вот этот самый кинжал ему между лопаток, как вдруг в самый неподходящий момент он обернулся, а ведь, черт побери, мы с вами оба знаем грозную силу этого господина. Я не стал повторять попытку, припустился что есть мочи, и вот я здесь.
И в порыве дикой ярости Христофор вскричал:
– Он в наших руках, кузен! Я окружу трактир и возьму его живым или мертвым, хотя бы мне пришлось для этого разнести эту лачугу по камешку или же сжечь ее всю, от подвала до чердака!
– Отлично! – радостно воскликнул Красная борода. – Вот-вот, поджарь его как поросенка!.. Возьми столько людей, сколько понадобится, и беги; мне бы хотелось поскорее увидеть его кишки, разбросанные по земле. Какая жалость, что этот мерзавец почти сломал мне руку!.. Уж я бы постарался сам довести дело до конца, никому бы не доверил! Моя месть была бы более сладкой, если бы я мог осуществить ее сам, но надо не гневить судьбу и уметь довольствоваться тем, что имеешь.
– Что до того, чтобы довести это дело до конца, – сказал Центурион с каким-то лихорадочным восторгом, – вы можете всецело положиться на меня!
Он громко скрипнул зубами и продолжал:
– Ненависть, которую вы питаете к господину де Пардальяну, – сущий пустяк по сравнению с теми чувствами, что питаю к нему я, и если вы хотите видеть его кишки, разбросанные по земле, то я хотел бы съесть его сердце!
– Да, тебя он тоже отделал на славу! Центурион тряхнул головой и пояснил со зловеще-спокойной решимостью:
– С Божьей помощью я надеюсь с лихвой отплатить ему за то, что он мне сделал. Но суть не в этом... Если бы вопрос заключался лишь в том, чтобы действовать, я бы уж, конечно, не терял времени даром. Вопрос как раз в том – надо ли вообще что-либо предпринимать.
– Без всяких сомнений! – исступленно крикнул Красная борода.
– Давайте договоримся, кузен, – сказал Центурион с ехидной усмешкой. – Вы приказали мне отыскать и привести к вам крошку Жиральду, к которой вы воспылали любовью. Я, как и подобает, повиновался, и, разумеется, не моя вина, что мне не удалось этого сделать. Кто мог предвидеть, что найдется человек настолько храбрый, что окажет сопротивление приказам святой матери-инквизиции? Итак, благодаря вмешательству этого Пардальяна, для которого нет ничего святого – да поразит его гром небесный! – я потерпел неудачу, и мое начальство выразило мне свое недовольство... мало того, меня наказали за то, что я действовал без приказа... Приказ исходил от вас, кузен, но вы не сочли нужным заявить об этом вслух и защитить меня, а я, считая, что у вас есть веские причины для такого поведения, прислушивался лишь к голосу моей преданности и промолчал, приняв кару без возражений.
– В самом деле, – сказал Красная борода, порядком смущенный, – у меня были особые причины, чтобы не вмешиваться в эту историю. Но я не забуду твоей преданности, и для начала, чтобы исправить допущенную несправедливость – ведь ты был наказан за мою вину, – возьми вот это.
«Вот это» оказалось туго набитым кошельком, призванным вознаградить преданность Центуриона; на лице дона Христофора появилось выражение ликования, и, засовывая драгоценный кошелек под свои нищенские лохмотья, он ответил:
– Все, что я сказал, кузен, говорилось, как принято выражаться, для сведения, а вовсе не для того, чтобы подвигнуть вас на подобную щедрость.
– Знаю, – величественно ответствовал Красная борода. – Но к чему ты клонишь?
– А вот к чему: кто мне поручится, что со мной, когда я займусь этим Пардальяном, не приключится того же, что приключилось, когда я занимался Жиральдой? Независимо от того будет ли мне, как я надеюсь, сопутствовать удача или же это будет провал, – кто мне поручится, что монсеньор Эспиноза не изволит гневаться? Если мои действия будут противоречить его замыслам, мне придет конец. На сей раз дело для меня пахнет тюрьмой, а ведь, черт побери, кузен, вы отлично знаете, что войти в камеру очень легко, а вот выйти из нее – затруднительно.
– Да объясни же в конце концов все толком, – нетерпеливо бросил ему Красная борода. – Чего ты хочешь?
– Я хочу, – холодно сказал Центурион, – получить приказ, написанный вами собственноручно, который послужил бы мне защитой на случай, если то, что я собираюсь предпринять, придется не по вкусу монсеньору великому инквизитору.
– Только-то и всего? Что же ты раньше не сказал! – воскликнул Красная борода, направляясь к черного дерева секретеру, украшавшему его комнату.
Однако, открыв его, он внезапно замер и с жалобным видом посмотрел на свои перевязки.
– Да как же, по-твоему, я смогу писать с моей больной рукой?
– Клянусь бычьими потрохами! – разочарованно пробормотал Центурион. – Верно, я было совсем позабыл про это. И все-таки, – продолжал он с той же холодностью, которая свидетельствовала о твердо принятом решении, – и все-таки без вашего письменного приказа я не стану ничего предпринимать.
– Проклятье! – растерялся Красная борода. – Что же тогда делать?
Секунду Центурион, казалось, размышлял.
– Не могли бы вы сделать так, – предложил он, – чтобы этот приказ был подписан самим королем?
Красная борода пожал своими широкими плечами.
– И как ты себе это представляешь? – осведомился он сквозь зубы. – Я прихожу к королю и говорю ему: «Сир, не будет ли вам угодно подписать документ, повелевающий убить господина де Пардальяна?» Клянусь честью, меня ждет теплый прием! Да мне сразу же предложат убраться подобру-поздорову, если только... если только со мной не случится чего похуже!
– Это правда! Истинная правда! – согласился Центурион, машинально теребя мочку уха (его излюбленное занятие в те минуты, когда он погружался в глубокие размышления).
И вдруг, бросив исподлобья взгляд на Красную бороду, он произнес:
– Есть один выход...
– Какой? – тотчас отозвался исполин (он был, как вы уже заметили, довольно-таки простодушен).
– Чистый лист, но зато подписанный!.. – сказал Центурион с совершенно безразличным видом; однако краешком глаза он по-прежнему наблюдал за Красной бородой; тот колебался.
– Ух! – выдохнул он. – Многого хочешь! А ты знаешь, что на тех листах, которые хранятся у меня здесь, вот в этом ящике, стоит подпись короля?
– Знаю... И это очень кстати.
– А ты знаешь, что они скреплены и подписью великого инквизитора?
– Это даже лучше.
– А ты знаешь, что благодаря одному из таких пергаментов, должным образом заполненному, можно избежать любой кары и можно потребовать любой помощи от всех властей – светских и церковных?
Во взоре Центуриона сверкнул и тут же погас радостный огонек.
– Кузен, – ровным голосом сказал он, – заметьте: время идет, и дальше медлить рискованно, потому что птичка может улететь из гнезда.
У Красной бороды вырвалось сдавленное проклятье, и он прошептал, по-прежнему колеблясь:
– Черт возьми! Незаполненный лист...
Говоря это, он вглядывался в Христофора, пытаясь проникнуть ему в самую душу.
Видя его нерешительность, Центурион проговорил с самым равнодушным видом:
– В сущности, вы, может быть, и правы, В конечном счете, мне-то торопиться некуда. Я подожду, пока вы будете в состоянии подписать этот приказ... Правда, подобный случай, возможно, представится не слишком скоро, и господин де Пардальян, разумеется, очень скоро уберется из Севильи, а то и вообще из Испании; но мне-то что: ведь час мести все равно пробьет, и я буду терпелив. А что до вас, то вы, конечно же, не станете расстраиваться из-за таких пустяков и сумеете, я уверен, вновь завоевать расположение короля... В конце концов, наш государь не так кровожаден, как вы его изображаете...
Внезапно Красная борода решился.
– Поклянись мне, что ты не злоупотребишь этим пергаментом! – приказал он.
– Ох, да какую же такую выгоду бедняга вроде меня может, по-вашему, извлечь из этого жалкого клочка пергамента? Если бы это был билет королевского казначейства, то я бы еще понял... Но пустой лист!..
Красная борода открыл потайной ящичек в секретере, вынул оттуда чистый лист с двумя подписями (у него всегда был запас таких пергаментов для выполнения секретных королевских поручений) и протянул его Центуриону:
– Бери! Вернешь мне, когда все будет закончено.
Центурион взял лист с абсолютно безразличным видом, однако если бы Красная борода смог различить торжествующий блеск в глазах своего приближенного, он, без сомнения, в тот же миг вырвал бы у него из рук грозный документ.
Но Красная борода ничего не заметил. Он знал лишь одно: скоро он отомстит Пардальяну и, следовательно, восстановит свой пошатнувшийся – как он считал – авторитет.
Центурион запрятал драгоценный пергамент под нищенские лохмотья и сказал, направляясь к двери:
– До скорой встречи, кузен. Я не могу терять ни минуты, а мне еще нужно пойти переодеться.
Центурион уже открыл дверь, когда Красная борода прошептал с робостью, странной у такого исполина:
– Христофор!..
Центурион выжидательно обернулся. Однако видя, что Красная борода, чрезвычайно смущенный, никак не решится заговорить, он внезапно обратился к нему с той фамильярностью, которую позволял себе только наедине:
– Время дорого, этот человек может от нас удрать. Ну-ка, выкладывайте, что там у вас, но только поскорее...
– Эта девушка... – пробормотал исполин, покраснев.
– Жиральда?.. Так вот где у вас свербит, – лукаво усмехнулся Центурион.
Не поддержав шутку, Красная борода продолжал:
– Не мог бы ты... если представится случай... одним ударом покончить с двумя делами сразу?..
– Попытаюсь, – ответил Центурион с циничной улыбкой, – но только если девушка еще в трактире... а иначе – сами понимаете: кто за двумя зайцами погонится, рискует не поймать ни одного.
– А если она все-таки там? – настаивал Красная борода.
– Если она там, я сделаю все, что в моих силах, и, может быть, мне посчастливится больше, чем в прошлый раз.
_ Ты – добрый родственник, Христофор, – сказал Красная борода, и лицо его засияло.
После чего он проговорил с выражением дикой, неистовой страсти:
– Если тебе это удастся, если ты доставишь мне эту девушку, проси у меня все, что захочешь!..
– Уж я не забуду это обещание, будь спокоен, – еле слышно буркнул Центурион. А вслух сказал:
– Я стану действовать так, чтобы удовлетворить одновременно и вашу ненависть, и вашу любовь.
С этими словами он скрылся.
Глава 19 УЖИН
Центурион поспешил выйти из дворца. Доблестный дон Христофор ликовал. Ласково поглаживая скрытый под лохмотьями незаполненный лист, только что вырванный им у простодушного великана, он то и дело повторял, словно желая убедить себя самого в том, что еще совсем недавно казалось ему немыслимым:
– Богач! Я богач!.. Наконец-то! Теперь я смогу расправить крылья и показать, на что я способен!
Когда он переходил Дворцовую площадь, предаваясь своим волшебным мечтам (что, однако, не мешало ему настороженно оглядываться), перед ним, внезапно выскользнув из-за колонны, возникла тень. Центурион остановился и спросил чуть слышно:
– Ну? Что он?
– На него напали четверо дворян почти у дверей трактира. Он обратил всех их в бегство.
– В одиночку? – спросил Центурион с недоверчивым видом.
– К нему подоспела помощь.
– Кто?
– Эль Тореро.
– А сейчас?
– Он только что сел за стол вместе с Эль Тореро и каким-то верзилой, которого он называет Сервантес.
– Отлично! Я его знаю.
– Они будут там обжираться не меньше часа.
– Все идет прекрасно. Возвращайся на свой пост, и если появится что-то новое, предупреди меня – я буду в доме у кипарисов.
Тень немедленно исчезла.
Центурион, потирая руки в безумном ликовании, продолжал свой путь в ночи и вскоре вышел на берег реки.
В нескольких десятках туазов от Гвадалквивира, в пустынном месте скрывался одиноко стоящий дом довольно красивого вида, окруженный небольшой рощицей из пальмовых, апельсиновых и лимонных деревьев и благоухающим цветником. Эта первая линия цветов и зелени была опоясана двумя рядами гигантских кипарисов; они вздымали ввысь свои мрачные, непроницаемые кроны словно плотную завесу, предназначенную стать преградой для нескромного любопытства редких прохожих, забредших в этот укромный уголок. Кипарисы же были окружены довольно высокой стеной, ограждавшей таинственное жилище и оберегавшей его от всякого непрошеного вторжения.
Центурион направился прямо к калитке, видневшейся в стене с противоположной от реки стороны. На его условный стук калитка немедленно отворилась. Он прошел по саду как человек, который знает дорогу, обогнул дом, и, взойдя по ступенькам монументального крыльца, оказался в просторном и роскошном вестибюле. Четверо лакеев, одетых в неяркие ливреи со строгой отделкой, казалось стояли здесь на часах, ожидая бакалавра-головореза, ибо, не проронив ни слова, один из них приподнял тяжелую бархатную портьеру и провел Христофора в кабинет, меблированный с неслыханной роскошью и великолепием.
По-видимому, Центурион попадал в этот кабинет не впервые – едва бросив рассеянный, привычный взор на окружающее его богатство, он остался стоять посреди комнаты, погруженный, судя по улыбке, которая мелькала на его тонких губах, в весьма приятные мысли.
Внезапно из-за прекрасной парчовой портьеры, приподнятой невидимой рукой, возникло белое видение; медленной, величественной поступью оно направилось к нему.
Это была Фауста.
Центурион согнулся в поклоне, чрезвычайно похожем на коленопреклонение, а затем, наполовину выпрямившись, стал почтительно дожидаться разрешения заговорить.
– Говорите, мэтр Центурион, – произнесла Фауста своим мелодичным голосом, словно не замечая странного костюма дона Христофора.
– Сударыня, – сказал Центурион, по-прежнему согбенный, – я получил подписанный лист.
– Давайте его сюда, – проговорила Фауста, не выказывая ни малейшего волнения.
Центурион протянул ей пергамент, доверенный ему Красной бородой.
Фауста взяла его, внимательно осмотрела и долго сидела, задумавшись. Наконец она сложила пергамент, спрятала его у себя на груди и все с той же невозмутимостью медленной поступью подошла к столу; сев, она написала на другом пергаменте несколько строчек своим тонким почерком, а потом протянула его дону Христофору со словами:
– Когда вы пожелаете, то придете в мой городской дом и, предъявив эту записку, получите у моего управляющего обещанные двадцать тысяч ливров.
Центурион схватил пергамент дрожащей рукой и тут же пробежал его взглядом.
– Сударыня, – сказал он вибрирующим от волнения голосом, – тут, по-видимому, ошибка...
– То есть как? Разве я не обещала вам двадцать тысяч ливров? – спросила Фауста очень спокойно.
– Вот именно, сударыня... а вы вручили мне чек на тридцать тысяч ливров!
– Лишние десять тысяч полагаются вам в качестве вознаграждения за быстроту, с какой вы выполнили мои приказания.
Центурион согнулся еще ниже.
– Сударыня, – совершенно искренне произнес он, – вы щедры, как истинная монархиня.
Мимолетная презрительная улыбка скривила губы Фаусты.
– Ступайте, мэтр, – сказала она коротко беспрекословно-властным тоном.
Центурион не шелохнулся.
– В чем дело? – произнесла Фауста, никак не выдавая своего нетерпения. – Говорите, мэтр Центурион.
– Сударыня, – ответил Центурион с явной радостью, – я имею удовольствие сообщить вам, что господин де Пардальян – в моих руках.
Все это время Фауста сидела за столом. Услышав эти слова, она медленно поднялась; ее горящий взор был устремлен на наемного убийцу, почти павшего ниц; она повторила, словно не в силах поверить своим ушам:
– Вы сказали, что Пардальян в ваших руках!.. Вы?..
Невозможно передать то недоверие и то августейшее величие, что слышались в тоне, каким были произнесены эти слова.
Однако Центурион подтвердил со скромной уверенностью в себе:
– Я уже имел честь сообщить это, сударыня. Фауста сделала два шага по направлению к дону Христофору, пристально глядя на него:
– Объяснитесь.
– Вот в чем дело, сударыня: в настоящее время господин де Пардальян сидит за столом в некоем трактире, где все двери охраняются моими людьми. Выходя отсюда, я возьму с собой десять славных весельчаков, на которых я могу положиться, как на самого себя, мы окружим вышеозначенный трактир и схватим этого молодца...
– Этого молодца?.. Кто это – «молодец»? – прервала его Фауста.
Как артистка чрезвычайно утонченная, она была разгневана и крайне шокирована этим ошеломляющим, из ряда вон выходящим фактом: Пардальян находится в руках у этой помеси шпиона с наемным убийцей!
Центурион, ошеломленный исступленным тоном ее восклицания, пролепетал:
– Но... Пардальян...
– Говорите: господин шевалье де Пардальян, – приказала Фауста.
– А-а-а! – протянул вконец ошарашенный Центурион. – Извольте... Мы арестуем господина шевалье де Пардальяна и приведем его к вам... если только вы не предпочитаете, чтобы мы отправили его непосредственно к праотцам... что, может быть, и целесообразнее, – добавил он, и в голосе его послышалась ненависть.
Фауста между тем размышляла.
«Я всегда была твердо уверена, что никакой гнусный наемник, никакой низкопробный убийца не сумеет схватить такого человека, как Пардальян, ибо это было бы противно естественному порядку вещей». Вслух же она сказала – без всякой насмешки:
– И это вы называете «схватить Пардальяна»?.. Да вас просто убьют – и вас самого, и десять ваших головорезов.
– Ого! – недоверчиво произнес Центурион. – Вы так полагаете, сударыня?
– Я в этом уверена, – холодно сказала Фауста.
– Ну, если дело только за этим... Я возьму с собой двадцать человек, тридцать, если нужно.
– И вы потерпите поражение... Вы не знаете шевалье де Пардальяна.
Центурион собирался протестовать, но она властным жестом повелела ему молчать, вернулась обратно к столу и опять нацарапала несколько строчек. Закончив, она обратилась к дону Христофору:
– Вот еще один чек на двадцать тысяч ливров... Он станет вашим, если только вы того захотите.
– Моим! – воскликнул ослепленный Центурион. – А что надо сделать?
– Сейчас скажу, – ответила Фауста.
Спокойным и размеренным голосом она дала инструкции внимательно слушающему убийце. Договорив, она сложила чек, спрятала его на груди вместе с подписанным чистым листом и сказала:
– Если вы добьетесь удачи, этот чек ваш.
– Будем считать, что он уже мой, – усмехнулся Центурион со зловещей улыбкой.
– В таком случае ступайте. Нельзя более терять ни минуты.
– Сударыня!.. – начал нерешительно Центурион в явном замешательстве.
– Ну что еще?
– Вы обещали мне, что молоденькую цыганочку не отдадут дону Альмарану.
– И что же?
– Я желал бы знать, по-прежнему ли это обещание остается в силе. Простите меня, сударыня, – продолжал Центурион со странным волнением, – я всего лишь бедный бакалавр, и всю мою жизнь у меня в кошельке гулял ветер... Иными словами, те пятьдесят тысяч ливров, которыми одарила меня ваша щедрость, являются для меня невероятным состоянием... И тем не менее, я с готовностью отдам его в обмен на уверенность, что Жиральда никогда не достанется этому зверю – Красной бороде.
– Значит, ты ее по-настоящему любишь? – спросила Фауста сдержанно.
Вместо ответа Центурион в немом восторге молитвенно сложил ладони.
– Успокойся, – медленно проговорила Фауста, – никогда не случится так, что эта девушка будет по моей воле отдана твоему родственнику. А теперь ступай.
Центурион поклонился едва не до земли и бросился вон, обезумев от радости.
Фауста долго сидела, задумавшись, мысленно перебирая последние детали плана, разработанного ею для беспощадного уничтожения шевалье де Пардальяна – этого живого препятствия, вечно возникающего у нее на пути.
Продумав все до мельчайших подробностей, она поднялась и, выйдя из кабинета, пошла по коридору; остановившись перед одной из дверей, она через невидимый глазок заглянула внутрь.
Молодая девушка, свернувшись клубочком в широком кресле, казалось тихонько дремала, склонив голову на плечо, в позе, исполненной грации и очарования.
Эта молодая девушка была Жиральда.
– Она спит, – прошептала Фауста. – Вскоре я с ней увижусь.
Она неслышно прикрыла глазок и продолжала свой путь. Дойдя до конца коридора, она открыла последнюю дверь по правую руку от себя и вошла.
Комната, где она очутилась, была расположена в бельэтаже и представляла собой нечто вроде будуара – очень скромного, освещенного одним окном, которое закрывалось старыми, довольно ветхими ставнями.
Фауста позвонила в колокольчик; тотчас же явился лакей, и она отдала ему приказания.
Он вынес находившиеся в комнате стулья и отодвинул к стене против окна всю остальную мебель; таким образом, когда он завершил свои труды, из мебели в комнате оставались лишь маленький столик, сундук и секретер, задвинутый в угол. Сесть можно было лишь на широкий диван (нечто вроде софы для отдыха), по которому были разбросаны шелковые и бархатные подушки. Диван теперь стоял прямо напротив окна, так что после этой странной перестановки половина комнаты была обставлена мебелью, другая же половина, та самая, где было расположено окно, оказалась совершенно пустой.
Теперь, когда все было устроено так, как Фауста задумала, она вышла из комнаты; перед ней шагал лакей, неся подсвечник с зажженными свечами.
Лакей, освещая путь Фаусте, добрался до некоей двери, открыл ее и оказался перед каменной лестницей, ведущей в подвал. Слуга, а за ним Фауста спустились вниз и после бесконечных поворотов остановились перед железной дверью. Лакей отворил ее и, поставив канделябр на пороге, отступил в сторону, в то время как Фауста вошла в длинное и очень узкое помещение с низким потолком, где не было видно никакого другого проема, кроме двери; помещение это своей формой весьма напоминало ванну необычных размеров, его стены и пол покрывали большие мраморные плиты.
В неверном свете свечей Фауста огляделась и признала, что здесь вовсе не мрачно. Она вынула свечу из канделябра, подняла ее высоко над головой и тщательно осмотрела также потолок. Затем, по-видимому удовлетворенная результатами этого осмотра, она вернула свечу на место, вышла на середину подземелья и, нащупав у себя на груди крохотную коробочку, вынула ее и взяла оттуда маленькую пастилку.
Теперь, держа пастилку в руке, она размышляла: «Это мне продал Магни. Магни – человек Эспинозы. Он уже однажды обманул меня, дав вместо яда то, что было простым сонным зельем. Так можно ли доверять этой пастилке?.. Что за важность, в конце концов, на сей раз я приняла все возможные меры... Я хотела бы избавить его от слишком медленной агонии, но у меня нет больше времени ставить опыты. Начнем...»
Она зажгла пастилку, легонько подула на нее, чтобы огонек разгорелся, и положила медленно таявшее снадобье на пол посреди подвала. От него стали подниматься к потолку тонкие завитки голубоватого душистого дыма.
Когда Фауста вышла, к двери приблизился лакей и запер ее на два поворота ключа.
– Вы сейчас же отправитесь к реке и бросите в нее этот ключ, – приказала Фауста. – А завтра утром, едва рассветет, сходите за каменщиками, чтобы они накрепко замуровали дверь.
Лакей склонился в знак повиновения.
Поднимаясь обратно по лестнице, Фауста думала: «Пусть только он придет... ничто не сможет его спасти. Даже я... если бы вдруг у меня появилось такое желание».
В то время как лакей послушно устремился к близкому берегу Гвадалквивира, чтобы выбросить ключ в воду, Фауста направилась к комнате, где спала Жиральда.
– А теперь подготовим эту цыганочку, – прошептала она.
Пока Фауста отлаживает весь механизм задуманной ею ловушки, пока Центурион приступает к осуществлению ее замысла, Пардальян предается мирной беседе с друзьями.
Первые минуты ужина прошли в безмолвии. Шевалье весьма нуждался в том, чтобы восстановить свои силы, и, честное слово, занимался этим со всем возможным старанием. Когда голод был отчасти утолен, он, обратившись к дону Сезару, спросил между двумя глотками вина:
– А как случилось, что вы так кстати оказались на этой улице?
– Все очень просто. Мы с господином Сервантесом испытывали некоторые опасения по поводу беседы, которая должна была состояться у вас с королем. Не сговариваясь, около полудня оба мы оказались здесь – каждый полагал, что он встретится тут с вами. Однако вы все не возвращались из Алькасара, и потому мы пошли туда, надеясь если и не увидеть вас, то по крайней мере узнать там что-то такое, что нас успокоило бы.
– Вот как! – воскликнул Пардальян. – Вы беспокоились обо мне?.. И что же вы предприняли бы, если бы я не вернулся?
– Не знаю, сударь, – простодушно сказал дон Сезар. – Но уж наверняка мы бы не сидели сложа руки... Мы бы постарались проникнуть во дворец.
– Мы бы вошли туда, – заверил Сервантес.
– И что тогда? – спросил Пардальян, чьи глаза искрились радостным лукавством.
– Тогда бы им пришлось сказать нам, что с вами сталось... а если бы вы были арестованы, мы бы попытались освободить вас... Мы бы, в случае чего, и дворец подожгли, правда же, господин Сервантес?
Сервантес серьезно кивнул.
Пардальян одним духом опорожнил стакан (отличный способ скрывать свои чувства!) и с тем наивным и насмешливым видом, какой он принимал в минуты хорошего настроения... или волнения, сказал:
– Но, дорогой друг, ведь тогда в нем сгорел бы и я.
– О! – потрясенно отозвался дон Сезар. – Верно!.. Об этом я как-то не подумал!
– И потом, что за странная мысль!.. Прийти за мной во дворец – это величайшее безумство из всех, какие вы могли бы совершить.
– Что же, значит, мы должны были вас бросить? – возмутился Эль Тореро.
– Да нет... Но, черт возьми, проникнуть во дворец, чтобы вытащить меня оттуда!.. – пробурчал Пардальян.
И обращаясь к Сервантесу, продолжал:
– Скажите, дружище, как по-вашему: я живой или мертвый?
Сервантес и дон Сезар украдкой переглянулись.
– Что за вопрос, – сказал Сервантес.
– Нет, вы ответьте, – настаивал Пардальян, улыбаясь.
– Что за черт! На мой взгляд, вы вполне живы!.. И доказательство тому – жирная индюшка, которую вы с таким пылом поглощаете.
– Ну так вот, пусть это не вводит вас в заблуждение, – мрачно ответил Пардальян. – Я умер... вернее сказать, я живой мертвец... Вы можете мне не верить, но нынче днем я был надлежащим образом, по всем правилам заколочен в гроб, затем присутствовал на собственной заупокойной службе, а потом, как и полагается, был опущен в могильную яму... Что с вами, Хуана, душенька?
Вопрос был вызван тем, что бутылка, полная великолепного вина, выскользнула из рук Хуаны на плитки внутреннего дворика как раз в тот момент, когда шевалье объяснял, как и почему он оказался живым покойником.
– Ах! – воскликнула Хуана, покраснев и, очевидно, смущенная своей неловкостью. – Вы это правду говорите, господин шевалье?
– Ты о чем, дитя мое?
– Что вас сегодня заживо похоронили?
– Это такая же правда, мое милое дитя, как и то, что вам придется заменить бутылку, только что разбитую вами... к величайшему нашему сожалению, ибо эта восхитительная влага создана, чтобы утолять нашу жажду и придавать нам силы, а не для того, чтобы мыть ею плиты в этом дворе.
– Какой ужас! – вскричала Хуана; под проницательным взглядом шевалье она краснела все больше и больше.
Сервантес и дон Сезар невольно содрогнулись, и Сервантес прошептал:
– Чудовищно, невероятно!
Дон Сезар встревоженно спросил:
– И вы выбрались оттуда?
– Конечно... раз я здесь.
– Так вот почему вы показались мне таким бледным! – произнес Сервантес.
– Еще бы! Что вы хотите, дорогой друг, когда становишься покойником...
– Божья матерь! – пробормотала Хуана, перекрестившись.
– Не надо так дрожать, моя маленькая Хуана. Я, конечно, умер, но все-таки я жив... так сказать, живой покойник...
Получив это устрашающее объяснение, данное с самым спокойным видом, Хуана сочла за благо поспешно убежать и, не мешкая, скрылась на кухне; Сервантес же, чрезвычайно взволнованный и в то же время чрезвычайно заинтригованный, попросил:
– Объяснитесь, шевалье, по вашему виду я понимаю, что вы сегодня чудом избежали гибели.
– Проклятье! Что мне еще вам рассказать?.. Заманив меня в подземелье живых покойников, где меня заключили в гроб – как вы легко можете себе представить, вопреки моему собственному желанию, – они зарыли вашего покорного слугу в землю, вот и все!.. Как, вы не знаете, что такое подземелье живых мертвецов?.. Это изобретение господина Эспинозы, да сохранит Господь его жизнь до того дня, когда я скажу ему несколько вежливых слов, которые приберег для него... Но это уже будет другая история... Налейте-ка мне лучше, дон Сезар, и расскажите, как это вы так вовремя подоспели, чтобы отвести в сторону кинжал Бюсси-Леклерка.
– Чертов шевалье! – пробормотал Сервантес. – Нам никак не удается вырвать из него всю правду о его приключениях!
Дон Сезар, в свою очередь, послушно ответил:
– Да я уже говорил вам, сударь: я тревожился и не мог усидеть на месте. Пока господин Сервантес придумывал хитрость, которая позволила бы нам вызволить вас из лап инквизиции, я встал в дверях, ведущих на улицу. Оттуда-то я и увидел, как этот человек бросился на вас; не имея уже времени остановить его, я крикнул вам, предупреждая об опасности.
На минуту Пардальян, казалось, всецело погрузился в дегустацию восхитительного желе. Внезапно он поднял голову:
– Но я не вижу вашей невесты, красавицы Жиральды.
– Жиральда исчезла со вчерашнего дня, сударь.
Пардальян резко поставил на стол стакан, который как раз подносил ко рту, и сказал, вглядываясь в улыбающееся лицо молодого человека:
– Как!.. И вы говорите это с таким спокойным видом! Для влюбленного вы выглядите слишком уж безмятежным!
– Это вовсе не то, что вы думаете, сударь, – ответил Эль Тореро, по-прежнему улыбаясь. – Вы ведь знаете, господин шевалье, что Жиральда упрямится и не хочет покидать Испанию.
– Да, я слышал об этом от нашего друга Сервантеса и, признаться, не понимаю малышку, – ответил Пардальян. – По-моему, вы должны убедить ее бежать как можно скорее. Поверьте мне, воздух этой страны вреден и для вас, и для нее.
– Это как раз то, что я не устаю ей повторять, – грустно поддержал Сервантес, – но что поделаешь – молодежь вечно поступает, как ей заблагорассудится.
– Дело в том, – серьезно сказал дон Сезар, – что речь идет не о простом капризе молоденькой женщины, как вы, по-видимому, думаете. Жиральда, как и я, никогда не знала ни отца, ни матери. Однако некоторое время тому назад ей стало известно, что ее родители живы, теперь же она считает, что напала на их след.
И дон Сезар добавил крайне взволнованно:
– Тепло семейного очага, сладость материнских ласк кажутся высшим счастьем тому, кто, подобно нам, никогда их не знал. Быть может, ребенка бросили совершенно сознательно, быть может, родители, к которым он так пылко тянется, – люди недостойные и с ненавистью оттолкнут его... Неважно, ребенок все равно ищет их, даже если потом, в результате этих поисков сердце его разорвется... Жиральда ищет... у меня недостанет жестокости помешать ей – ведь я и сам искал бы, как и она... если бы не знал – увы! – что тех, чье имя, даже имя! мне неизвестно, уже нет на свете.
– Проклятье! – с жаром воскликнул Пардальян. – Как проникновенно вы об этом говорите! Но почему же вы не помогаете вашей невесте в ее поисках?
– Жиральда немного диковата, она, как вам известно, цыганка, или, по крайней мере, была воспитана цыганами. Она необычно думает, необычно поступает и говорит только то, что хочет сказать... даже мне... Она, мне кажется, глубоко убеждена, что ее нынешнее занятие окажется успешным лишь в том случае, если ей никто не станет помогать. Что же касается ее исчезновения, то оно не особенно беспокоит меня – она уже не раз исчезала подобным образом. Я знаю, что она проверяет какой-нибудь след... Зачем же делаться ей помехой? Возможно, уже завтра она вернется, и я узнаю, что ее постигло еще одно разочарование... тогда я постараюсь ее утешить.
Пардальян вспомнил, что Эспиноза предложил ему убить Эль Тореро, и спросил себя – а не кроется ли в исчезновении цыганки какой-нибудь ловушки для сына дона Карлоса.
– Вполне ли вы уверены, – сказал он, – что Жиральда отлучилась по собственной воле и именно с той целью, которую вы назвали? Вы уверены, что с ней не случилось ничего неприятного?
– Жиральда сама меня предупредила. Ее отсутствие должно продлиться день или два. Но, – добавил Сезар, начиная беспокоиться, – что вы имеете в виду?
– Ничего, – ответил Пардальян, – раз ваша невеста сама предупредила вас... Однако если вдруг вы не встретитесь с ней завтра утром, послушайте моего совета: позовите меня, не теряя ни минуты, и мы вместе отправимся на ее поиски.
– Вы пугаете меня!
– Не волнуйтесь раньше времени, – произнес Пардальян со своим обычным хладнокровием, – подождем до завтра.
Внезапно он переменил тему:
– Правда ли, что вы примете участие в корриде?
– Да, сударь, – подтвердил дон Сезар, и в его глазах сверкнула темная молния.
– Не могли бы вы отказаться от нее?
– Это невозможно, – резко ответил Эль Тореро. И словно извиняясь, добавил голосом, который странно дрожал:
– Король оказал мне величайшую честь, приказав появиться на ней... Его Величество проявил даже чрезвычайную настойчивость и неоднократно присылал ко мне с напоминаниями, что непременно рассчитывает увидеть меня на арене... Так что, сами понимаете, уклониться мне никак не удастся.
– Ага! – протянул Пардальян (у него было свое на уме). – А разве приняты подобные напоминания?
– Нисколько не приняты, сударь... Тем более я ценю честь, оказанную мне Его Величеством, – сказал дон Сезар колко.
Пардальян коротко взглянул ему прямо в глаза, а затем посмотрел на Сервантеса – тот задумчиво покачал головой. Тогда шевалье через стол наклонился к Эль Тореро и едва слышно прошептал:
– Послушайте, вот уже несколько раз я замечаю в вас странное волнение, когда вы говорите о короле... Можете ли вы поклясться, что в вас нет дурного чувства против Его Величества Филиппа?
– Нет, – четко произнес дон Сезар, – я не могу дать такой клятвы... Я ненавижу этого человека! Я дал себе слово, что он умрет от моей руки... а вы видели, что я умею держать обещания.
Все это было произнесено чрезвычайно пылко, с жестокой решимостью и тоном, который не оставлял места для сомнений.
– Рок! – прошептал Сервантес, вздымая руки к небу. – Дед и внук желают смерти друг другу.
«Черт, – подумал Пардальян, – час от часу не легче!»
А вслух сказал:
– И вы говорите это мне, человеку, которого вы знаете всего-то несколько дней?.. Я восхищаюсь вашей доверчивостью, если она распространяется на всех... Однако если это так, я не дам и мараведи за вашу жизнь.
– Не думайте, что я способен рассказывать о своих делах первому встречному, – живо откликнулся Эль Тореро. – Я взрослел в атмосфере тайн и предательств. В том возрасте, когда дети растут беззаботными и счастливыми, я знал лишь несчастья и беды; мне пришлось жить в ганадериях, где выращивают быков, и в лесах, скрываясь, будто я преступник; моим спутником и учителем был человек, который отбирал быков для корриды; я считал его своим отцом; это был самый молчаливый и самый недоверчивый человек, какого я знал. Вот почему я научился молчать и никому не доверять. Никому, даже господину Сервантесу, моему испытанному другу, я не говорил то, что сейчас рассказал вам, хотя я и знаю вас всего несколько дней.
Пардальян напустил на себя изумленно-простодушный вид:
– Почему же именно мне?
– Откуда я знаю! – ответил дон Сезар с юношеской беспечностью. – Может, дело в честности, которая светится в вашем взоре? Или в доброте, которую я прочел на вашем лице, казалось бы, таком насмешливом? А может, дело в вашем великодушии или в вашей поразительной храбрости? У меня такое ощущение, будто я знаю вас всю свою жизнь. Моя душа тянется к вам, и я испытываю смешанное чувство доверия, уважения и привязанности – я никогда ни к кому не чувствовал ничего подобного. Наверное, это чувство сродни тому, что должно испытывать по отношению к своему старшему брату... Извините меня, сударь, я вам, наверное, наскучил, но я впервые настолько доверяю человеку, что могу говорить с ним по душам.
– Бедный маленький принц! – прошептал растроганный Пардальян, а Сервантес проникновенно сказал:
– Такие добрые, чистые и прямодушные существа, как вы, дон Сезар, – это чрезвычайно редкие, диковинные особи, затерявшиеся в огромном стаде двуногих зверей, именуемых людьми; стадо это, считая их чудовищами, беспощадно и беспрерывно травит и преследует их, стремясь во что бы то ни стало повергнуть на землю и разорвать на куски. К счастью, эти возможные жертвы человеческой кровожадности, направляемые таинственным, безошибочным инстинктом, с первого же взгляда распознают друг друга, так что зачастую самые слабые могут опереться на самых сильных. Вот почему вы почувствовали себя так легко рядом с господином де Пардальяном, вот почему прониклись к нему таким доверием, хотя едва знакомы с ним: вы признали в нем такого же чудака, как и вы сами, а поскольку господин де Пардальян является сильным человеком, способным бороться со спущенной с цепи сворой, то совершенно естественно, что вы, сами того не сознавая, движимые тем самым инстинктом, захотели опереться на его крепкое плечо.
– Сказанное вами, о поэт, – задумчиво произнес Пардальян, – кажется мне весьма справедливым. Вам следовало бы только добавить, что сами-то вы тоже принадлежите к этому весьма и весьма почтенному обществу чудаков... или чудовищ, предназначенных на съедение стаду диких зверей. Проклятье! Сие общество не столь многочисленно, чтобы вы могли позволить себе уменьшить его хоть на одного человека, имеющего куда больше достоинств, чем кажется ему самому. Что до вас, дон Сезар, то должен сказать вам: я тоже научился не доверять людям и на собственном горьком опыте познал, как мучительно жить, решительно все скрывая в тайниках своей души. Вот почему я прошу вас: говорите, дитя мое, раскройте перед нами свое сердце, и вам станет легче... не считая того, что мы, быть может, сможем прийти вам на помощь. Прежде всего: что вам известно о вашей семье?
– Ничего, сударь... вернее, очень мало. Я знаю только, что мой отец и мать умерли, и все склоняет меня к мысли, что они принадлежали к знатным семействам.
– Если это так, а это вполне возможно, – сказал Сервантес, – то не жалейте слишком о богатстве и знатности. Видите ли, несчастья закаляют характер вроде вашего или вроде характера шевалье. Если бы вы росли в какой-нибудь богатой, могущественной, знатной семье, вы бы, возможно, стали частью того стада диких зверей, о котором мы говорим. И тогда – кто знает? – вы могли бы сделаться заклятым врагом вашей родной семьи из-за титула, владений или драгоценностей и сражаться с ней из-за подобных пустяков. То, что кажется вам несчастьем, в сущности, является, наверное, большим счастьем.
– Возможно, сударь; признаюсь, я и сам не раз говорил себе то, что вы сейчас столь четко изложили. Но это не смягчает ни моих сожалений, ни моей боли.
– Как вы узнали о смерти ваших родителей? – спросил шевалье. – Как они умерли? Вы уверены, что вас не обманули – намеренно или невольно?
Эль Тореро печально покачал головой:
– Эти подробности мне известны от человека, который меня воспитал, и я уверен, что он не солгал мне. Да и зачем бы он стал лгать? Он знал историю моей семьи во всех подробностях, и если он так и не согласился открыть мне что-то, например, имя моих родителей, то дело тут в том, что он часто повторял: «В тот день, когда станет известно о вашем существовании, вы погибнете, но если вы ничего не будете знать о свое семье, вам, быть может, сохранят жизнь. Однако запомните: если возникнет подозрение, что вам известно ваше имя, вы – погибший человек!»
– Как же этот человек, уверявший, что разглашение тайны вашего рождения грозит вам смертельной опасностью, согласился все-таки сообщить вам некоторые подробности, хотя было бы более гуманным вообще оставить вас в неведении?
– Это объясняется тем, – ответил Эль Тореро, – что он полагал первейшим долгом сына отомстить за смерть своих родителей. Вот почему он часто повторял, что вскоре после моего рождения мои отец и мать умерли насильственной смертью, убитые Филиппом, королем Испании... Теперь вы понимаете, почему я сказал вам и подтверждаю это сейчас: король умрет только от моей руки.
– Да, понимаю, – ответил Пардальян, раздумывая, какие доводы он может привести или что сделать, дабы отвлечь молодого человека от убийства, которое казалось ему чудовищным. – Но осторожней! Кто вам подтвердил, что король и вправду виноват? Кто может поручиться, что, уверенный, будто вы мстите за своих близких, вы не совершите преступления, быть может, более чудовищного, чем убийство, приписываемое вами королю?
Минуту дон Сезар смотрел Пардальяну прямо в глаза, словно желая проникнуть в его мысли. Но лицо шевалье было совершенно непроницаемым и никак не отражало его истинные чувства. Не в силах разгадать их, Эль Тореро гневно взмахнул рукой и глухим голосом, дрожащим от сдерживаемого волнения, произнес:
– Мысль о том, что такой человек, как вы, может считать меня способным на столь чудовищный поступок – убийство безвинного – мне невыносима. Поэтому я расскажу вам все, что знаю, и вы сами решите, имею ли я право отомстить за своих близких.
Секунду молодой человек собирался с мыслями, а затем выложил единым духом:
– Мой отец был арестован по приказу короля, брошен в темницу, подвергнут пытке и в конце концов умерщвлен без всякого суда, единственно ради королевского удовольствия, как говаривают у вас во Франции. Моя мать была похищена и заперта в монастыре, где и умерла от яда спустя несколько месяцев... Моим отцу и матери было приблизительно столько же лет, сколько мне сейчас. Сам я еще в колыбели был обязан своею жизнью состраданию некоего слуги, который унес меня и спрятал так надежно, что ему удалось укрыть меня от неумолимой ненависти августейшего палача нашей семьи. У моих родителей было значительное состояние. Из убийцы король сделался вором и похитил богатства, которые должны были перейти ко мне.
Сын дона Карлоса на секунду умолк и провел рукой по влажному лбу. Пардальян и Сервантес удрученно переглянулись, а он продолжал, и голос его делался все более беспощадным и резким:
– Так какое же преступление совершил мой отец? Был ли он явным противником королевской политики? Или зачинщиком беспорядков и мятежей? Или, наконец, каким-нибудь грозным преступником, посягавшим на жизнь короля?.. Ничего подобного... Все случилось из-за женщины, которую обожал мой отец и которая тоже обожала его – из-за моей матери. Король воспылал неистовой страстью к жене своего подданного... Привыкнув видеть, как придворные потворствуют ему в самых низменных его желаниях, король решил, что так будет и на сей раз. Он имел бесстыдство объявить свою волю, полагая, что муж сочтет за честь отдать ему свою жену... Но получилось так, что он столкнулся с сопротивлением, которое не смогли сломить ни просьбы, ни угрозы. И тогда ревность толкнула его на преступление, и сиятельный головорез, коронованный разбойник, приказал арестовать того, кого он считал своим счастливым соперником, приказал, из чувства мести, пытать его и в конце концов умертвить; он думал, что после кончины мужа жена уступит ему... Однако верность жены памяти своего подло убитого мужа опрокинула этот гнусный расчет... Любовь короля превратилась в ярую ненависть. Не в силах преодолеть сопротивление моей матери, он приказал отравить ее. Его чудовищная месть распространилась и на ребенка несчастных жертв, и я тоже был бы убит, если бы, как я вам уже говорил, не был похищен и спрятан преданным слугой.
Дон Сезар замолчал и надолго задумался.
Пардальян, с жалостью глядя на него, размышлял: «Бедняга!.. Но какую же выгоду мог извлечь этот так называемый преданный слуга из сей неправдоподобной истории, которая некоторыми своими деталями так опасно напоминает ужасающую правду?»
Дон Сезар поднял голову; его тонкое, умное лицо было мрачным:
– Вы по-прежнему считаете, что отомстить за смерть моих родителей было бы чудовищным преступлением?
Глава 20 ДОМ У КИПАРИСОВ
Пардальян как раз раздумывал, как бы избежать ответа на столь рискованный вопрос, когда его вывело из затруднительного положения внезапное появление довольно-таки занятного незнакомца. Это был коротышка, на вид лет двенадцати, не более, черный как крот, сухой как виноградная лоза, разбитной, с глазами живыми, но, пожалуй, слишком уж бегающими. Ростом не выше стола, на который он положил свои маленькие кулачки, он, тем не менее, решительно встал перед доном Сезаром в позе, исполненной гордости.
– Ну, Эль Чико (малыш), в чем дело? – тихо спросил Тореро.
– Я насчет Жиральды, – лаконично и несколько двусмысленно ответил человечек.
– С ней что-то случилось? – с тревогой спросил Тореро.
– Похищена!..
– Похищена! – хором повторили трое мужчин.
В то же мгновение они вскочили на ноги; дон Сезар, сраженный этой новостью, столь внезапно обрушившейся на него, удрученно молчал, Пардальян же, отодвинув стол, решительно сказал:
– Не будем терять голову, надо действовать!
Он обратился к Эль Чико, который по-прежнему ожидал в своей исполненной достоинства позе:
– Ты говоришь, малыш, что Жиральду похитили?
– Да, сеньор.
– Когда?
– Часа два назад.
– Где?
– За Пуэрта де лас Атаразанас.
– А ты откуда знаешь?
– Да я сам видел, вот оно как!
– Тогда расскажи, что ты видел.
– Значит так, сеньор: я несколько задержался за городской стеной и торопился, чтобы поспеть домой до закрытия ворот; и вдруг я заметил неподалеку от меня женщину, которая тоже спешила к городу; это была Жиральда.
– Ты в этом уверен?
Эль Чико понимающе улыбнулся:
– Еще бы! Я на глаза не жалуюсь, вот оно как!.. Да если бы даже я не признал ее, кто бы еще, кроме Жиральды, стал звать на помощь Эль Тореро?
– Так она звала меня?
– Когда эти люди набросились на нее, она закричала: «Сезар! Сезар! Ко мне!», а потом они накинули ей на голосу плащ и унесли ее.
– Что это за люди? Ты их знаешь, малыш?
Эль Чико опять понимающе улыбнулся и ответил все с тем же лаконизмом, который сводил с ума отчаявшегося влюбленного:
– Дон Центурион.
– Центурион.
– Центурион! – вскричал дон Сезар. – Проклятый распутник умрет от моей руки!
– Что это за Центурион? – спросил шевалье, ни на секунду не сводивший глаз с маленького человечка; впрочем, того, казалось, это нисколько не беспокоило.
– Субъект, которого вы на днях вышвырнули отсюда, – пояснил Сервантес.
– Надо же, совсем малый обнаглел!
– Мы слишком хорошо знаем для чьей пользы старается этот негодяй, – прошептал Сервантес.
– И для чьей же?
– Дона Альмарана, именуемого Красной бородой.
– Красная борода?.. Этот исполин, никогда ни на шаг не отходящий от короля?
– Он самый!.. Вы его знаете, шевалье?
– Немножко, – ответил Пардальян с легкой улыбкой.
А про себя подумал: «Черт меня подери, если тут не замешан Эспиноза!.. Однако я здесь, и разрази меня гром, если я не позабочусь о юном принце – я чувствую, что успел очень привязаться к нему».
Пока шевалье размышлял, дон Сезар продолжал расспрашивать маленького человечка:
– А что сделал ты, Чико, увидев, как эти люди похищают Жиральду?
– Я последовал за ними... на далеком расстоянии... Мы же любим Тореро, вот оно как!
– Ты знаешь, куда они ее отвели?
– Еще бы! Иначе зачем бы я пришел за вами? – пожал плечами Эль Чико.
– Молодец, Чико! Проводи меня.
И не медля больше, дон Сезар направился к двери.
– Секунду! – произнес Пардальян, вставая у него на пути. – Какого черта, мы еще успеем!
Видя, что Тореро кипит от нетерпения, но не смеет ему противоречить, он ласково добавил:
– Доверьтесь мне, дитя мое, вы не пожалеете об этом.
– Я всецело доверяю вам, шевалье, но... вы видите, в каком я состоянии!
– Чуточку терпения!.. Если все, что рассказал этот коротышка, – правда, то я ручаюсь за дальнейшее... но, гром и молния, все-таки вряд ли нам следует бросаться очертя голову в какую-нибудь западню.
– Неужели вы предлагаете оставить Жиральду в руках бандитов?!
– До чего глупы все влюбленные, – сказал Пардальян Сервантесу, пожимая плечами.
– Итак, малыш, – продолжал шевалье, обращаясь к Эль Чико, – ты увидел, что Жиральду похитили, ты последовал за похитителями, ты знаешь, куда ее отвели, и вот ты прибежал к дону Сезару, чтобы сообщить ему обо всем.
– Да, сеньор!
– Хорошо. А скажи-ка мне: откуда ты знал, что дон Сезар находится здесь?
Мгновение Эль Чико колебался, и хотя замешательство это было совершенно незаметно, оно не ускользнуло от проницательного взора шевалье.
– Ну... – произнес Эль Чико, – я пошел к Тореро домой, вот оно как. Мне сказали: он должен быть в трактире «Башня». Ну, я и пришел сюда!
Словно угадывая мысли шевалье, он добавил:
– Если ваша милость так привязаны к дону Сезару, то пойдите вместе с ним.
И повернувшись к Сервантесу, который стоял молча, продолжал:
– Вы тоже, сеньор... и все ваши друзья... сколько их тут... вон оно как... Ведь теперь, когда дон Центурион забрал Жиральду, он не отдаст ее просто так... он покажет клыки... хорошая собака не отдает свою кость, она ее защищает! Будет схватка, будут выстрелы... а выстрелы – это уже не по моей части. Я могу вас отвести к тому дому, а уж потом слуга покорный, на меня не рассчитывайте. Да и что я, бедный, могу сделать?.. Уж слишком я маленький, вот оно как!
Чико выглядел вполне искренним, он, наверное, и в самом деле был чистосердечен. Именно так говорил себе Пардальян.
«Если бы это была ловушка – думал он, – эти люди не совершили бы такую оплошность, посоветовав дон Сезару прихватить с собой друзей. Напротив, они постарались бы завлечь туда его одного. Разве только...»
Он опять обратился к Эль Чико:
– Так ты думаешь, что их там вокруг Жиральды много?
– Откуда мне знать... Во-первых, те четверо, что похитили ее... Потом дон Центурион... Насчет этих я уверен... Я видел, как они вошли в дом и больше уж не выходили... Да и в доме, думается мне, еще немало народу спрятано... Но этого я уже не утверждаю и ничего точнее сказать не могу... Сами понимаете, я к волку в пасть не совался!
– Пойдем! – внезапно решил Пардальян. Эль Чико тотчас же направился к двери. Повинуясь знаку Пардальяна, Сервантес шел слева от Тореро, в то время как сам шевалье шел справа от него. Пардальян был совершенно убежден, что западня – если таковая имелась – была приготовлена для дона Сезара. Ни на мгновение его не коснулась мысль, что объектом охоты мог быть и он сам.
Эта мысль не пришла в голову и Сервантесу. При таких обстоятельствам их единственной заботой было вдвоем охранять сына дона Карлоса, ибо опасность грозила ему одному.
Что касается дона Сезара, то он в такие тонкости не вдавался. Жиральде угрожала опасность, он мчался выручать ее. Все остальное для него не существовало.
Небо, еще такое ясное два часа назад, нахмурилось, и теперь огромные тучи полностью закрывали луну. Едва ступив за порог внутреннего дворика, они оказались в кромешной тьме.
– Куда ты нас ведешь, Эль Чико? – спросил дон Сезар.
– В дом у кипарисов.
– А, знаю!.. Ступай вперед, мы пойдем за тобой. Не проронив ни слова, Эль Чико встал во главе маленького отряда и быстро зашагал вперед.
Пардальян шел рядом с Тореро, дружески держа его под руку, и настороженно всматривался и вслушивался в темноту. Шевалье спросил дона Сезара:
– А вы уверены в этом ребенке?
– Каком ребенке, сударь?.. Эль Чико?
– Ну да, черт подери!
– Но Эль Чико не ребенок. Ему лет двадцать, возможно и больше. Несмотря на его очень малый рост, это самый настоящий мужчина, пропорционально сложенный, как вы могли заметить, без малейшего уродства. Это карлик, красивый карлик, но он мужчина, так что, черт побери, ни в коем случае не называйте его ребенком, он очень обидчив на сей счет и не терпит шуток.
– А! Так это мужчина!.. Тем хуже, разрази меня гром! Я бы предпочел, чтобы это был ребенок...
– Почему?
– Да так, пустяки... есть одна мысль... Но, в конце концов, будь этот карлик хоть ребенком, хоть мужчиной, что он из себя представляет? Откуда вы его знаете? Вы уверены в нем?
– Признаюсь, я не смогу вам толком объяснить кто этот карлик, ибо мне почти ничего не известно... как, впрочем, и ему самому или кому-нибудь другому... Его зовут Эль Чико из-за его роста... Откуда я его знаю? Он слишком слаб, чтобы заниматься каким-нибудь ремеслом (хотя, кстати, никто и не позаботился о том, чтобы научить его чему-то), он шатается по улицам нашего города и живет как придется, на собранную им милостыню. Когда он мне встречается, я даю ему несколько реалов и он счастлив, потому что чувствует себя богатым, как король. Однажды я разогнал банду жестоко издевавшихся над ним негодяев. С тех пор он всегда относился ко мне с симпатией. Предан ли он мне? Думаю, что да... хотя и не могу в том поклясться...
– Так или иначе, – пробормотал Пардальян, – идти все равно надо, а там видно будет.
Остаток пути они проделали в молчании. Все это время Пардальян держался настороже и весьма удивлялся тому, что никакого нападения не последовало. Наконец Эль Чико остановился перед калиткой дома у кипарисов и прошептал:
– Это здесь!
«В конце концов, – подумал Пардальян, – я мог и ошибиться!.. Клянусь честью, я становлюсь слишком недоверчивым!»
Рядом с калиткой высилась тумба, чтобы привязывать лошадей. Чико указал на нее троим мужчинам и прошептал, кивнув в сторону стены:
– Смотрите-ка, до чего удобно!
Пардальян мысленно прикинул высоту и улыбнулся. Перелезть стену при наличии этой тумбы казалось ему пустяком.
Эль Чико продолжал:
– Не ходите по аллеям, а то будет слышен скрип песка... идите по газону. Умело действуя, вы сможете избежать схватки; этак было бы лучше, ведь вас всего трое, вот оно как... Конечно, они там спят... А Жи-ральда-то спать не должна... Я подожду здесь, и если появится опасность, предупрежу вас – вот так...
И маленький человечек издал чуть слышное ухание совы – Эль Чико прекрасно подражал этой ночной птице.
– Почему ты не идешь с нами? – спросил Пардальян (возможно, у него еще оставались какие-то подозрения).
Эль Чико в ужасе замахал руками.
– Ну нет, – живо воскликнул он, – я туда не пойду! Да что я, по-вашему, буду делать, если вы там начнете драться? Я вас привел, а уж остальное – дело ваше.
Дон Сезар, который торопился оказаться по ту сторону стены, протянул ему свой кошелек, говоря:
– Возьми вот это, Эль Чико. Однако не думай, будто такой малости достаточно, чтобы отблагодарить тебя. Как бы ни повернулось дело, отныне я стану заботиться о тебе.
Секунду Чико колебался, потом взял кошелек со словами:
– Мне уже заплачено, сеньор... Ну да жить-то надо!
– Почему ты говоришь, что тебе уже заплачено? – спросил Пардальян – в ответе маленького человечка ему почудилась какая-то странная интонация.
Тот ответил совершенно естественным тоном:
– Я сказал, что мне уже заплачено, потому что очень рад оказать услугу дону Сезару – это и есть моя плата!
Оставив своего маленького провожатого, трое искателей приключений, воспользовавшись тумбой, в один миг влезли на стену и неслышно спрыгнули в сад дома у кипарисов.
Дон Сезар хотел немедленно устремиться к дому, но Пардальян удержал его, сказав:
– Пожалуйста, тише. Не будем подвергать себя опасности из-за излишней поспешности. Сейчас время действовать осторожно и, главное, бесшумно. Я пойду первым, вы, дон Сезар, за мной, а вы, господин Сервантес, станете замыкающим. Не будем терять друг друга из виду; а теперь – ни слова больше.
Установив этот порядок следования, Пардальян осторожно двинулся вперед, избегая, как ему хитроумно посоветовал Эль Чико, песчаных аллей; он направился прямо к той стороне дома, что была к ним ближе всех.
Двери и окна были закрыты; ниоткуда не пробивалось ни единой полоски света. В доме под кипарисами все, казалось, спало.
Пардальян обогнул здание и осмотрел вторую его сторону, такую же темную и безмолвную. Он прошел дальше и оказался у третьей стены.
Из углового окна на первом этаже сквозь неплотно прилегающие ставни пробивалась узкая полоска света.
Пардальян остановился.
До сих пор все шло как нельзя лучше. Теперь надо было добраться до освещенного окна и увидеть, что происходит внутри.
Пардальян указал на окно двум своим спутникам и, не говоря ни слова, двинулся вперед – еще более настороженный, чем ранее.
Казалось, обстоятельства им благоприятствовали. Они ступали по густому газону, полностью заглушавшему их шаги, вдоль многочисленных цветников, за которыми легко могли бы спрятаться в случае тревоги.
Пардальян обогнул цветник, находившийся в нескольких шагах от окна. Дон Сезар и Сервантес следовали за ним по пятам и не заметили ничего необычного, им осталось лишь пересечь маленькую лужайку, расстилавшуюся почти под самым окном.
Однако за спиной Сервантеса, из глубины цветника, вовсе не показавшегося нашим друзьям подозрительным, внезапно возникли тени – какие-то люди молча ползли по-пластунски, но вдруг выпрямились и с идеальной слаженностью выполнили следующий маневр: две руки схватили Сервантеса сзади за шею и зажали ему рот, не дав вырваться испуганному крику. На лицо ему была проворно наброшена накидка и обернута вокруг головы так плотно, что он почти задыхался. Стальные пальцы вцепились ему в руки и ноги, подняли его как перышко и прежде, чем он смог понять, что с ним происходит, отнесли в кустарник.
Пленение произошло с молниеносной быстротой, без стычки, без шума, даже без шороха, так что ни Тореро, ни Пардальян, находившиеся чуть впереди, ничего не заметили.
В кустарнике один из нападавших ловко сдернул с Сервантеса его плащ, тщательно завернулся в него и, стараясь подражать походке будущего автора «Дон Кихота», решительно направился к шевалье и дону Сезару.
Резкий голос произнес:
– Отнесите его за ворота, не причиняя ему боли.
И наполовину задушенный Сервантес очутился снаружи, причем потратил на это гораздо меньше времени, чем понадобилось ему, чтобы пробраться внутрь.
В то время как Сервантес был так ловко похищен, Пардальян и дон Сезар подошли к освещенному окну.
Мы уже сказали, что оно было расположено в бельэтаже. Этаж этот был настолько высок, что человек даже немалого роста не мог дотянуться до подоконника и кинуть нескромный взгляд в комнату.
Но направо и налево от окна в двух больших ящиках росли какие-то кусты. И Пардальян, который провел целый день, пытаясь вырваться из сетей Эспинозы, Пардальян, который на собственной шкуре смог убедиться, какими мельчайшими предосторожностями обставлял все свои действия великий инквизитор, – Пардальян поневоле нашел странным, что эти два ящика оказались именно здесь, под этим окном, единственным, где горел свет в этом таинственном жилище.
– Готов поклясться, что их тут поставили, чтобы облегчить нам задачу, – пробурчал он.
Он быстро осмотрел ставни и подумал: «Странно! Эти ставни выглядят удивительно ветхими, сквозь множество щелочек и дыр пробивается свет... Проклятье! Почему это окно на первом этаже так плохо охраняется, в то время как весь дом, кажется, стерегут отменно?.. Это не сулит ничего хорошего!..»
Однако пока Пардальян наблюдал и размышлял, Эль Тореро, нетерпеливый, как и все влюбленные, действовал. Иными словами, не задавая себе, в отличие от шевалье, лишних вопросов, он подтащил поближе один из двух ящиков, вскочил на него, ничуть не заботясь о кустах, на которые он наступал, и, прильнув к щелке, показавшейся Пардальяну столь подозрительной, заглянул внутрь; забыв осторожность, он громко воскликнул: – Она здесь!..
Услышав это восклицание, Пардальян быстро огляделся. В этот момент человек, завернувшийся в плащ Сервантеса, осторожно подошел к шевалье – совсем так, как это сделал бы романист. В темноте Пардальян принял его за Сервантеса и, не заметив ничего подозрительного, одним прыжком оказался рядом с доном Сезаром и принялся тоже смотреть сквозь щелочку, сразу же позабыв о всех своих опасениях.
На диване, стоящем прямо напротив окна, лежала Жиральда; казалось, она крепко спит. Да, не было не малейшего сомнения – это была она, влюбленный, разумеется, не мог ошибиться.
Дон Сезар и Пардальян переглянулись и поняли друг друга без слов.
Упершись ногами в ящики, каждый из приятелей схватил свою створку ставня и сильно дернул ее вбок. Ставни открылись легко и бесшумно; последнее обстоятельство было в данном случае самым важным.
Избавившись от этого препятствия, они как можно удобнее устроились на краю окна, чтобы бесшумно растворить его, как они только что растворили ставни. В это время в комнате раскрылась дверь и в нее вошел мужчина. Он приблизился к Жиральде и секунду смотрел на нее с выражением такой страсти на лице, что дон Сезар побледнел. Затем, нагнувшись, мужчина взял девушку на руки; она не сопротивлялась, руки ее бессильно повисли, словно Жиральда была без сознания. Крепко сжимая драгоценную ношу, мужчина выпрямился и направился к двери, через которую он недавно сюда вошел.
– Скорее! – прорычал дон Сезар, ударяя плечом в окно. – Он уносит ее!
Пардальян обнажил шпагу, поднажал со своей стороны на окно, которое открылось с шумом и грохотом, и со шпагой в руке впрыгнул внутрь комнаты. В тот же момент он услышал ужасный крик...
Когда дон Сезар почувствовал, что под их натиском окно поддается, он подался вперед, чтобы прыгнуть, но тотчас же ощутил, что кто-то схватил его за ноги и тянет вниз. Тогда он закричал – этот крик и слышал Пардальян.
Дона Сезара грубо швырнули на землю, мгновенно зажали ему рот и ловко – как прежде Сервантеса – вынесли за ограду дома у кипарисов.
...Итак, Пардальян прыгнул в комнату.
Как только его ноги коснулись пола, он почувствовал, как этот пол заходил ходуном и провалился под ним; Пардальян упал в кромешную тьму.
Он инстинктивно вытянул руки, чтобы ухватиться за что-нибудь, и его шпага, зацепившись за что-то невидимое, выскользнула у него из пальцев. Он тяжело, всем телом рухнул вниз. К счастью, он падал не с большой высоты, так что не причинил себе никакого вреда.
– Ух, – произнес шевалье, – к такому падению я не был готов!
И добавил тем насмешливым тоном, какой появлялся у него в минуты особой опасности:
– Это, кажется, копия тех апартаментов, что так ловко оборудовал сеньор Эспиноза. Проклятье! Это уже не игра, да и вообще – не слишком ли много для одного дня? Если я то и дело буду попадать во всякие капканы, то жизнь моя станет довольно-таки сложной!.. Но, клянусь честью, шутка неплохо разыграна! Однако не вызывает сомнений, что я всего-навсего глупец, и раз все это могло со мной случиться, то и поделом мне! В следующий раз буду умнее... если только не останусь навсегда в этой западне, так грубо замаскированной, что любой лисенок-молокосос почуял бы ее за несколько лье и бросился бы наутек... А я попался, хотя и по опыту, и по возрасту вполне могу сойти за старого мудрого лиса...
Отчитав и разбранив себя на славу, что он имел обыкновение делать всякий раз, когда переживал какое-нибудь досадное злоключение, укорив себя – довольно несправедливо, по нашему мнению – за то, что не смог избежать ловушки, Пардальян встал на ноги, отряхнулся и ощупал себя.
– Отлично, – пробурчал он, – ничего не сломано. Правда, в голове недостает мозгов, зато все остальное на месте... Моя шпага, должно быть, потерялась еще там, в верхней комнате. К счастью, у меня остался кинжал. Этого мало, но на худой конец сгодится и он.
Решив так, он поднес руку к поясу, желая убедиться, что кинжал на месте.
Выяснилось, что если ножны действительно по-прежнему висели, где им и было положено, то сам кинжал исчез.
– Час от часу не легче! – пришел в ярость шевалье. – Если бы мой бедный батюшка стал свидетелем сегодняшних событий, он бы не преминул похвалить меня. «Поздравляю, Жан, – сказал бы он мне, – ты уже позволяешь, чтобы у тебя украдкой воровали оружие, а сам только хлопаешь глазами!..» Смерть всем чертям! В хороший же переплет я попал!
Не переставая ворчать, он обошел на ощупь свою камеру, что заняло у него не слишком-то много времени.
– Проклятье, – воскликнул он, выразительно прищелкнув языком, – тут не очень-то просторно! И ни единой табуретки, даже ни клочка соломы... Как же я буду ночевать на этих голых плитах?.. По счастью, я устал как собака и засну, где угодно... А каков потолок – ведь я же до него рукой дотягиваюсь! Это напоминает мне тот славный гробик, в который меня сегодня запер его высокопреосвященство кардинал Эспиноза, только этот будет побольше и каменный. Ого, а это что такое?
Шагая по плитам, он почувствовал, что наступил на нечто хрустящее. Отдернув ногу, Пардальян присел на корточки и принялся шарить по полу.
– Вот как!.. Пергамент!.. Но, черт возьми, здесь темно, как в преисподней... Интересно, предназначено ли это для меня? И положено ли здесь сознательно?.. Разумеется нет, иначе мне дали бы свечу, чтобы я мог его прочесть... Значит, это какой-то потерянный документ? Возможно. Подождем – ничего другого мне все равно не остается...
Он положил пергамент себе за пазуху и вновь пустился в рассуждения.
– Но кто же все-таки заманил меня сюда? Эспиноза?.. Фауста?.. Ба! Да какая разница? Я попался – и это главное! И я отлично знаю, что уж коли я тут очутился – а местечко это никак не назовешь уютным, – то вряд ли меня сытно накормят и с почетом доставят обратно в гостиницу... Что же теперь со мной сделают?.. Я нахожусь, конечно, не в обычной камере... Тогда что же это?
Он прервал свою речь и энергично принюхался.
– Какого дьявола, что это за аромат?.. Ведь здесь же не будуар хорошенькой женщины!.. Ах, черт подери, понял!.. Фауста!.. Какая другая женщина, кроме Фаусты, согласится по собственной воле спуститься в такую могильную яму? Тем более, что меня охватывают странные ощущения. Я с трудом дышу... Голова делается тяжелой... я весь цепенею... меня одолевает сон...
И с лукавой улыбкой, поистине поразительной в подобных обстоятельствах, шевалье спросил самого себя:
– Хотел бы я знать, что еще могла придумать Фауста, испробовав в своих попытках убить меня столько всяческих способов?
В этот момент, словно отвечая на его вопрос, наверху, в потолке, открылось отверстие величиной с ладонь, через которое пробился едва заметный луч света, и одновременно с этим, голос, тотчас же узнанный Пардальяном, произнес следующие слова:
– Ты умрешь, Пардальян.
– Черт возьми, – отозвался шевалье, – раз уж милейшая Фауста обращается ко мне с речью, стало быть, дело может идти только о смерти. Посмотрим, что она приберегла для меня на сей раз.
– Пардальян, – продолжала принцесса, – я хотела убить тебя железом – ты победил железо, я хотела убить тебя, утопив, – ты победил воду, я хотела убить тебя огнем – ты победил огонь. Ты спросил меня: «К какой стихии вы прибегнете теперь?» И я отвечаю тебе: «К воздуху». Ты Пардальян, дышишь воздухом, напоенным ядом. Через два часа ты погибнешь.
– Вот оно – объяснение, которое я искал. Представьте себе, сударыня, что я был заинтригован этим ароматом; как только я его почувствовал – вы, быть может, мне не поверите, но, честное слово, это так, – я тут же подумал о вас.
– Я верю тебе, Пардальян, – голос Фаусты звучал сурово. – И что же ты подумал?
– Я подумал, – холодно сказал Пардальян, – что на свете существует только одна женщина, способная добровольно спуститься в яму вроде этой – вы, сударыня. Я подумал, что уж коли Фауста спустилась в эту яму, то исключительно ради того, чтобы принести сюда смерть и превратить яму в могилу. Вот что я подумал, сударыня.
– Ты верно все понял, Пардальян, и ты умрешь, убитый тем воздухом, который ты вдыхаешь и который я отравила.
Было нечто фантастическое в этом разговоре двух человек, которые не видели друг друга и которые беседовали друг с другом, разделенные толщей потолка и говоря спокойным и словно бы даже равнодушным тоном совершенно чудовищные вещи, причем один из собеседников был, если можно так выразиться, уже в могиле.
Тем временем Пардальян отвечал:
– «Ты умрешь, Пардальян! Ты умрешь, Пардальян!» Ну, это вы поторопились, сударыня. У меня, видите ли, крепкие легкие, и будь я проклят, если мне не сдается, что я из тех людей, кто устоит перед любым ядом, чем бы вы там ни пропитали воздух! Мне очень горько за вас, сударыня, ведь это у вас прямо-таки помешательство – во что бы то ни стало и любым способом убить меня... вот только, черт побери, хотел бы я знать – почему?
– Потому что я люблю тебя, Пардальян, – мрачно произнес голос Фаусты.
– Но, разрази меня гром, это уж скорее причина для того, чтобы, напротив, оставить меня в живых! По крайней мере, по моим наблюдениям, люди, искренне любящие друг друга, всегда дорожат жизнью любимого существа более, чем своей собственной. Как бы там ни было, сударыня, я полагаю, что избегну вашего яда точно так же, как избежал железа, воды и огня.
– Возможно, Пардальян, но даже если ты избегнешь яда, ты все равно обречен.
– Ну-ка, объясните мне, сударыня, в чем тут дело... надеюсь, я не покажусь вам излишне любопытным.
– Ты умрешь от голода и жажды.
– Дьявол! Это весьма непривлекательно, сударыня, и представьте себе мою наивность: еще минуту назад я бы счел для себя позором мысль о том, что вы способны на такую гнусность... Как же плохо я разбираюсь в людях!..
– Я знаю, Пардальян – это медленная и ужасная смерть, потому-то я и хотела избавить тебя от нее, потому-то и прибегла к яду. Моли Бога, чтобы этот яд подействовал на тебя – это единственная оставшаяся у тебя возможность избегнуть пытки голодом.
– Ну что ж, – усмехнулся шевалье, – узнаю вашу обычную осмотрительность. Вы безумно боитесь, что я ускользну от вас, и потому убедили себя в том, что две предосторожности всегда лучше, чем одна.
– Верно, Пардальян. Вот почему я приняла не две, а все возможные предосторожности. Ты видишь эту дверь, которая закрывает вход в твою могилу?
– Не вижу, сударыня, черт меня побери! Я не сова, чтобы видеть в темноте. Но если я и не вижу ее, то рукой все-таки ощущаю.
– Ключ от этой двери я бросила в реку, а сама дверь через несколько часов окажется замурованной... Механизм, раскрывающий потолок, разрушат, а двери и окна комнаты, где я нахожусь, также будут замурованы. И тогда ты окажешься заживо погребен, никто и не заподозрит, что ты там, никто не сможет тебя услышать, если ты позовешь на помощь, никто не сможет проникнуть к тебе, даже я... Теперь ты понимаешь, Пардальян, что ты обречен, и ничто на свете не спасет тебя?
– Ба! Пожалуйста, нагромождайте всяческие преграды, я все равно ускользну от яда, не умру от голода и выйду отсюда живым... Единственное преимущество, которое вы извлечете из этого еще одного доказательства вашей любви, которое вам угодно было мне дать... – ведь вы хотите непременно вычеркнуть меня из числа живых, чтобы засвидетельствовать мне свою любовь, не так ли?..
– Да, Пардальян, ты должен умереть именно потому, что я люблю тебя, – прозвучал голос Фаусты.
– М-да, сударыня, – засмеялся Пардальян, – забери меня чума, если я хоть что-нибудь понимаю в этой манере любить людей... Итак, я говорил: единственное преимущество, которое вы извлечете из очередного доказательства любви, что вам угодно было мне дать, состоит в следующем: когда-нибудь нам с вами предстоит уладить наш счет... и теперь он станет немного длиннее...
Эти последние слова были произнесены тоном, не оставлявшим ни малейшего сомнения в намерениях шевалье, намерениях, как легко можно догадаться, не вполне дружелюбных.
Фауста, являвшаяся по самой своей природе гениальной актрисой, способной на самое изощренное лицедейство, в чем-то, напротив, была беспредельно прямодушна и даже наивна. Это была своего рода непосредственность ясновидящей. Однако пока она двигалась к своей цели, пылкая вера, когда-то владевшая ею, под воздействием превратностей судьбы понемногу угасала. Фауста упорствовала, но теперь ее вела вперед не вера, а гордость, стремление к господству (недаром в ней текла кровь Борджиа) – и именно это стремление направляло все ее решения.
Низвергнутая с заоблачных высот, куда ее подняла и где долго удерживала ее вера, она сумела встать на ноги, истерзанная, растерянная, бесконечно изумленная тем, как жестоко бросили ее оземь, – ее, искренне объявившую себя «Девой», ее, считавшую себя Посланницей и Избранницей Господа.
И кто же низверг ее? Пардальян.
С тех пор ею овладело суеверие и в это, дотоле неукротимое сердце вошел страх; суеверие и страх, соединившись, оказали на нее разлагающее воздействие. Долгое время она считала, будто убив Пардальяна, она тем самым убьет и эти новые ощущения, которые оскорбляли, не могли не оскорблять ее, потому что она была слишком изысканной, слишком подлинной артисткой, влюбленной во всякую красоту – пусть даже эту красоту порождал ужас.
Пардальян устоял под всеми ее ударами. Подобно птице-фениксу из легенды, этот человек вновь появлялся перед ней в тот самый момент, когда она была совершенно убеждена, что убила его, убила раз и навсегда, причем самые хитроумные ее построения, долго и терпеливо возводимые ею, оказывались напрасными. Потом ее изумление уступило место страху. И поскольку к нему примешивалось суеверие, то она была недалека от мысли, что этот человек непобедим, более чем непобедим – бессмертен. От этой мысли до мысли, что Пардальян – ее злой гений и тщетно она будет изнемогать в борьбе с ним, что Пардальяну роковым образом удастся вырываться из всех ловушек вплоть до того дня, когда она сама падет под его ударами, – до этой мысли был один лишь шаг, который казался очень коротким.
Жестоко, упорно продолжала Фауста свою борьбу. Но она уже не верила в себя, в ней уже поселилось сомнение, она уже была готова решить, что все напрасно – что бы она ни предпринимала, Пардальян, этот дьявольски хитрый Пардальян, воскреснув в последний раз, выйдет из могилы, где как ей думалось, она похоронила его, и нанесет ей смертельный удар.
При таких обстоятельствах легко себе представить, какое действие произвели на нее слова Пардальяна, утверждавшего со спокойной уверенностью, что он спасется и от яда, и от пытки голодом.
А со стороны шевалье это никоим образом не было бахвальством, как можно было бы подумать. Вследствие целого ряда заключений, противоположных тем, к каким приходила Фауста, видя, что он всегда, словно чудом, разрушает все, даже самые изощренные ее планы убить его, он в конце концов и сам вполне искренне поверил, что в этой долгой и трагической дуэли именно ему, Пардальяну, суждено одержать верх над своей зловещей и настойчивой соперницей.
С тех пор, каким бы безвыходным ни казалось положение, в какое загоняла его Фауста, он свято верил, что в нужный момент выйдет из него – ведь в конечном счете именно ему суждено одержать верх.
Услышав заверения Пардальяна, что он останется в живых и вырвется из своей нынешней могилы, Фауста содрогнулась и принялась с тревогой спрашивать себя – все ли необходимые меры она приняла, не ускользнула ли от нее, несмотря на всю тщательность приготовлений, какая-нибудь возможность бегства для Пардальяна. И потому она неуверенно спросила его:
– Так ты думаешь, Пардальян, будто ты спасешься, как и в предыдущих случаях?
– Разрази меня гром! – заверил шевалье.
– Почему же? – произнесла Фауста, задыхаясь. Язвительным тоном, от которого у нее заледенело сердце, он ответил:
– Потому что, как я вам уже сказал, нам предстоит свести счеты... Потому что я наконец понял: вы – не человеческое существо, но извращенное, вредоносное чудовище; щадить вас, как я это делал до сих пор, было бы не просто безумием – это было бы преступлением... Ваши злость и коварство переполнили чашу моего терпения, и я наконец решил сокрушить вас... Я вижу – самой судьбой предначертано, что Пардальян усмирит Фаусту и победит ее... Так что вы видите – вам не удастся меня убить, как вы того желаете, и мне суждено выйти отсюда живым. Теперь, когда я осознал, что вы не женщина, а чудовище, порождение ада, я предупреждаю вас: берегитесь, сударыня, берегитесь, ибо я говорю вам правду – в тот день, когда эта рука опустится на плечо Фаусты, настанет ее последний час, она искупит все свои преступления, и мир будет избавлен от бедствия по имени Фауста!
Пока Пардальян ограничивался объяснением, почему он был так уверен, что избегнет всех ее ударов, Фауста слушала, трепеща, и суеверно, точно заклинание, повторяла:
– Да, да, он спасется, как он и говорит, это предначертано, это неотвратимо... Фаусте не удастся нанести удар Пардальяну, ибо ему самому суждено убить Фаусту!..
Однако когда Пардальян, не без причины разъяренный, со все большим и большим ожесточением стал говорить, что близок тот час, когда он отплатит ей и заставит ее искупить все грехи, неукротимая натура этой женщины одержала верх.
Угрозы такого человека, грозившего крайне редко и никогда – попусту, эти угрозы, которые совершенно обоснованно поселили бы ужас в самом мужественном и твердом сердце, Фаусту, напротив, вовсе не обескуражили и не напугали, а лишь вернули уверенность ее воинственной натуре.
Она тотчас же вновь обрела трезвость ума и хладнокровие и потому очень спокойно ответила:
– Не волнуйтесь, шевалье, я поберегусь и сделаю так, что вы никогда больше не сможете принести мне вред.
– Однако, – пробурчал Пардальян, – я вновь призываю вас остерегаться... И извините, сударыня, но я буду с вами несколько бесцеремонен... Не знаю, быть может это действует яд, которого вы для меня не пожалели, но суть дела в том, что я безумно хочу спать. Прервем же эту интересную беседу; с вашего позволения, я лягу на эти плиты, хотя они вовсе не напоминают пуховики; и все же придется мне довольствоваться ими, раз уж Ваше Святейшество не изволило даровать приговоренному к смерти даже жалкой охапки соломы – так-то было бы, не в упрек вам будь сказано, все же менее бесчеловечно... Засим – спокойной ночи!..
И Пардальян, чувствуя как под действием тлетворных миазмов, порожденных отравленной пастилкой, силы покидают его и все кружится в раскалывающейся от боли голове, укутался в свой плащ и постарался устроиться поудобнее на холодных плитах.
– Прощай, Пардальян, – тихонько сказала Фауста.
– Нет, не прощай, клянусь всеми чертями! – еще смог насмешливо воскликнуть шевалье, уже наполовину спавший. – Нет, не прощай, а до свидания... Проклятье! Мы еще свидимся... нам еще нужно кое-что уладить...
Последние слова замерли у него на губах; теперь он лежал неподвижно, застывший словно труп, заснувший... может быть, умерший.
Глава 21 УКРОЩЕННЫЙ ЦЕНТУРИОН
Фауста подождала еще некоторое время, внимательно прислушиваясь, и не услышала ничего... кроме биения собственного сердца, стучавшего вдвое быстрее обычного. Она позвала Пардальяна, она еще что-то ему говорила. Но как она ни напрягала слух, никакой ответ не долетел до нее.
Тогда она выпрямилась и медленно вышла; по-видимому, всецело положившись на принятые ею меры, она даже не стала закрывать за собой дверь.
Она вернулась в тот кабинет, где мы видели ее беседующей с Центурионом, и долго размышляла там, недвижно замерев в своем кресле. В ее голове с неотступностью навязчивой идеи вновь и вновь упрямо возникал не самый важный вопрос:
«Обманул меня Магни или нет? Сонное зелье это или яд?»
Этот вопрос неизбежно приводил к главному, к единственному, который имел для нее значение: «Умер он или просто заснул?»
Тяжело дыша, испытывая истинную муку, будто от физической пытки, при мысли о том чудовищном злодеянии, что она свершила, Фауста все-таки делала из этого логические выводы, и ни настоящая боль, ни тревога перед лицом неопределенности не могли затуманить ясность ее ума.
«Умер... тогда я победила!.. Тогда, освобожденная от этой любви, ниспосланной мне Богом в качестве испытания, моя душа, одержав победу, станет неуязвимой. Я смогу вновь обратиться к своей миссии, уверенная в себе, уверенная отныне в своем торжестве, ибо единственное препятствие, преграждавшее мне дорогу, по моей воле устранено.
Только уснул – тогда все, возможно, придется начать сначала!.. Кто может знать что-либо наверняка, когда речь идет о Пардальяне?.. Если бы я могла проникнуть к нему... один удар кинжала, пока он спит – и все было бы кончено... Что за роковая мысль – приказать выбросить ключ от подземелья!.. Принятые мною меры предосторожности обращаются против меня же самой... Я была так уверена в успехе... но убежденность этого неукротимого человека заронила сомнение и нерешительность в мою душу. Теперь, возможно, мне придется ждать долгие дни, и пока он будет медленно умирать в своей могиле, я тоже буду медленно гибнуть от неопределенности, тревоги и страха, да, от страха, и так до того момента, когда я окончательно уверюсь, что он расстался с жизнью... а это будет нескоро, очень нескоро.»
Она сидела так еще довольно долго, размышляя и строя планы.
Наконец, приняв, по-видимому, твердое решение, она ударила в гонг.
На его звуки появился человек, угодливо склонившийся перед нею.
Этот человек был домочадец, подручный и якобы кузен Красной бороды, то бишь дон Центурион.
– Многоуважаемый Центурион, – сказала Фауста тоном монархини, – да, действительно, меня не обманули на ваш счет. В умелых и надежных руках вы сможете быть ценным помощником. Вы с честью справлялись со всеми поручениями, которые я давала, чтобы испытать вас. Следует признать, вы исполняли мои приказания умно и скоро. Я готова принять вас окончательно к себе на службу.
– Ах, сударыня, – вскричал Центурион вне себя от радости, – поверьте, мое рвение и моя преданность...
– Не надо лишних заверений, – высокомерно прервала его Фауста. – Принцесса Фауста платит по-королевски как раз для того, чтобы ей служили со всем рвением и преданностью... Что касается верности, то мы сейчас об этом поговорим. Главное же – чтобы вы твердо усвоили: вы никогда не найдете другого такого хозяина, как я.
– Это верно, сударыня, – смиренно признался Центурион, – вот почему я счел величайшим счастьем и огромной честью для себя поступить на службу к такой могущественной принцессе.
Фауста строго кивнула головой и спокойно продолжала:
– Вы, многоуважаемый Центурион, бедны, безвестны и презираемы всеми – особенно теми, кто нанимает вас на работу. Вы образованны, умны, бессовестны, и однако, невзирая на ваше бесспорное умственное превосходство, вы останетесь тем, кем вы есть: человеком для грязной работы, странной и чудовищной смесью наемного убийцы, шпиона, священника, головореза – короче, всего того низкого и скверного, что пожелают от вас. Вас нанимают то в одном вашем обличье, то в другом, но каковы бы ни были оказываемые вами услуги, у вас нет надежды возвыситься над низким сословием. Вас выгодно оставлять в тени.
– Увы, сударыня, вы сказали мне, без прикрас и не щадя моего самолюбия, сущую правду, – ответил Центурион, и на его бесстрастном лице невозможно было различить, насколько задела его эта безжалостная истина.
Фауста секунду вглядывалась в него со жгучим любопытством, а затем продолжала с улыбкой:
– Вот что вы есть сейчас и вот чем вы останетесь, ибо ваши нынешние обязанности, низменные и бесчестные, в соединении с вашим небезупречным прошлым, всегда будут мешать вам вырваться из той клоаки, где вы находитесь. И, наконец, дело еще и в том, что, хотя вы и взяли себе приставку «дон», ваше дворянство более чем сомнительно, а ведь, за исключением служителей церкви, те, кто стремится к высоким должностям, должны быть благородного происхождения. Ведь так?
– К несчастью, да, сударыня.
– И все же, невзирая на все эти препятствия, вы строите обширные и честолюбивые планы.
Фауста на мгновение умолкла, устремив на встревоженного Центуриона свой ясный взгляд. Затем она обронила:
– Я могу осуществить эти ваши честолюбивые планы... и сделать многое из того, о чем вы могли разве что мечтать. И это могу только я, ибо только я, обладая достаточным могуществом, имею сверх того независимый ум, чтобы не позволить предрассудкам остановить меня.
– Сударыня, – пролепетал Центурион, опустившись на колени, – если вы совершите то, что обещаете, я стану вашим рабом!
– Совершу, – решительно сказала Фауста. – Ты получишь выправленную по всей форме дворянскую грамоту, чья подлинность будет неоспорима; я поставлю тебя выше всех тех, кто обливает тебя сегодня презрением. А что касается твоего состояния, то суммы, полученные тобой от меня – сущие пустяки по сравнению с тем, что я дам тебе в будущем. Но, как ты сам сказал, ты станешь моим рабом.
– Говорите... приказывайте... – Центурион задыхался. – Ни один верный пес не будет вам так предан, как я.
Фауста полулежала-полусидела в монументальном кресле. Ее ноги, обутые в белые атласные туфельки без задников, опирались на подушечку из шитого золотом шелка, лежавшую на широкой гобеленовой скамеечке высотой со ступеньку. Центурион простерся ниц и, словно желая всячески выразить, что он намеревается быть в буквальном смысле слова ее послушным псом, прополз расстояние, отделявшее его от Фаусты, и набожно прильнул губами к заостренному носу ее туфли.
В этом неожиданном жесте крылось, конечно, намерение воздать Фаусте дань уважения – дань, подобную той, что воздавалась ей в дни, когда она могла считать себя папессой.
Но Центурион не рассчитал: в его преувеличенном подобострастии было ничто гнусное и омерзительное.
Однако Фаусте зачем-то потребовался этот негодяй, ибо, хотя у нее и вырвался легкий возглас отвращения, она не отняла ступню. Напротив, она наклонилась к Христофору, положила свою изящную белую руку ему на голову и какое-то время удерживала целующего ее туфлю наемного убийцу в этой позе; затем, внезапно и резко отдернув ногу, она поставила ее на затылок Центуриону и сильно, без всякой осторожности надавила на него... Оставляя молодого человека в этом чрезвычайно унизительном положении, Фауста произнесла своим грудным, нежным, словно бы ласкающим голосом:
– Я принимаю знаки твоего поклонения. Будь верным и преданным, как верный пес, и я буду тебе хорошей хозяйкой.
Сказав это, она вновь поставила ногу на скамеечку.
Центурион, по-прежнему стоя на коленях, поднял склоненную голову.
– Вставайте! – сказала она изменившимся голосом.
И добавила властным тоном:
– Если справедливо, что вы унижаетесь передо мной, вашей хозяйкой, то будет точно так же справедливо, чтобы вы научились выпрямляться и смотреть в лицо самым великим, ибо вскоре вы станете равным им!
Центурион поднялся, обезумев от радости и гордости. Этот мерзавец ликовал! Теперь, когда он нашел могущественного хозяина, о котором столько мечтал, он наконец-то сможет проявить себя. Наконец-то он станет тем, с кем считаются! Теперь придет его черед владычествовать! О, конечно, он будет верен ей, – ведь она вытаскивает его из безвестности, чтобы сделать грозным и могущественным человеком.
Фауста, словно догадываясь о том, что происходит в его душе, продолжала спокойным голосом, в котором, однако, сквозила глухая угроза:
– Да, тебе придется быть верным мне, это в твоих интересах... Впрочем, не забывай, что я знаю о тебе достаточно, чтобы одним движением пальца отправить на эшафот.
Услышав ее слова (а ему было известно, сколь серьезны эти угрозы), он побледнел, и поэтому она добавила:
– Меня, многоуважаемый Центурион, не предают, – никогда не забывайте об этом.
Центурион взглянул ей прямо в глаза и проговорил тихим, страстным голосом:
– Вы имеете право сомневаться в моей верности, сударыня, потому что ради вас я пошел на предательство. Однако клянусь вам – я искренен, когда говорю, что принадлежу вам душой и телом и что вы можете располагать мною, как вам заблагорассудится. Но даже если не брать в расчет мою искренность, то, как вы сказали сами, вам поручится за меня мой интерес. Я и впрямь слишком хорошо знаю, что никто на свете не сделает для меня то, что решили сделать вы... Я скорее предам самого Господа Бога, сударыня, чем принцессу Фаусту, потому что предать ее означает предать самого себя, а я ведь не до такой степени враг себе.
– Хорошо, – строго сказала Фауста, – вы говорите на языке, который мне понятен. Перейдем теперь к нашим делам. Вот чек на двадцать тысяч ливров, обещанных за поимку господина де Пардальяна. К сему еще чек на десять тысяч ливров, чтобы отблагодарить храбрецов, помогавших тебе.
Центурион, весь дрожа, схватил оба чека и поспешно спрятал их, подумав про себя: «Десять тысяч ливров этим негодяям!.. Ну уж нет, госпожа Фауста, швырять деньги направо и налево не годится... Они и тысяче ливров обрадуются без памяти, а мне останется честная прибыль в девять тысяч ливров.»
К несчастью для себя, Центурион еще недостаточно знал Фаусту. Она незамедлительно дала себе труд доказать ему, что если он искал в ней хозяйку, то у этой наконец обретенной им хозяйки была поистине могучая воля, и что если Христофор не хочет сломать себе шею на этой службе, ему придется идти за Фаустой, ни на секунду не отклоняясь от прямого пути.
Итак, Фауста, словно с легкостью читая его мысли, сказала, не выказывая ни гнева, ни недовольства:
– Придется отвыкнуть от привычки к воровству. Доля, выделяемая мною вам, достаточно велика, чтобы вы оставили каждому, без зависти и сожалений, то, что я ему даю. Принцесса Фауста допускает на свою службу лишь тех людей, на чью неподкупность она может полностью положиться. Если вы и впрямь желаете остаться у меня на службе, вам надо будет стать предельно честным. Если эти доводы еще не вполне вас убедили, внушите самому себе, что хозяин вроде меня следит за всем и всегда. Будьте уверены: час спустя после раздачи денег мне доложат, какую сумму вы передали каждому, и если вы утаите хоть один грош, я уничтожу вас без всякой жалости.
Центурион, устыдившись, покраснел, чему он сам подивился, и согнулся в поклоне:
– Да, теперь я ясно вижу: вы и вправду та, кого послал Бог, коли вам дана власть читать в душах. Отныне, сударыня, клянусь вам – у меня больше и мысли подобной не возникнет.
– Вот и отлично, – холодно ответила Фауста и приказала, – Введите этого ребенка, этого карлика.
Центурион вышел и почти сразу же вернулся в сопровождении Эль Чико.
Мы не можем сказать, ослепили ли богатства, собранные в этой комнате, маленького человечка, поразила ли его красота и величие знатной дамы, к которой его провели. Все, что мы можем сказать – внешне он выглядел совершенно безразличным. Он решительно встал перед Фаустой в гордой позе – в ней была некая дикая грация, присущая ему от рождения; почтительный без униженности, он ждал, храбрясь, и оттого казался даже выше ростом.
Секунду орлиный взор Фаусты сверлил его; затем, притушив сверкание своих глаз и смягчив свой властный голос, принцесса спросила:
– Это вы привели сюда француза и его друзей? Эль Чико, как мы уже заметили, был не слишком болтлив; к тому же, само собою разумеется, он имел весьма смутные представления об этикете, если только ему вообще был знаком смысл этого слова.
Поэтому вместо ответа он ограничился утвердительным кивком.
Фауста в совершенстве обладала искусством творить свой облик в зависимости от характера и положения тех, кого она хотела пощадить или привязать к себе. Только что в беседе с Центурионом она показала себя по-мужски властной и высокомерной, говоря и действуя как могущественная и грозная повелительница. В присутствии карлика повелительница исчезла, ее сменила сердечная и милая женщина. Манеры принцессы сделались более безыскусными, более непринужденными, очень мягкими, и то подобие ответа, что ей дал маленький человечек, она встретила со снисходительной улыбкой. Так же улыбаясь, она небрежно произнесла:
– Этот Тореро, дон Сезар, делал вам добро. Вы должны были питать к нему если уж не любовь, то по крайней мере признательность. И однако вы согласились завлечь его сюда. Почему?
Эль Чико хитро улыбнулся:
– Я отлично знал, что охотятся только за французом, вот оно как. Есть же у меня глаза и уши. Я смотрю, я слушаю... Я коротышка – это верно, но не дурак.
– Стало быть, вы поняли, что два ваши соотечественника не подвергаются никакой опасности?.. А если бы все-таки жизни дона Сезара что-то угрожало, поступили бы вы так, как поступили? Отвечайте искренне.
Маленький человечек секунду колебался, прежде чем ответить. Черты его лица болезненно исказились. Он закрыл глаза и сжал кулачки. По-видимому, в нем происходила сильнейшая борьба, и Фауста с любопытством следила за всеми ее фазами.
Наконец он тяжело вздохнул и глухо произнес:
– Нет.
– В таком случае, – заметила Фауста, – вы бы потеряли те две тысячи ливров, что вам были обещаны от моего имени.
Эль Чико, вероятно, окончательно решил для себя тот вопрос, который он только что мысленно обсуждал с самим собой, ибо на сей раз он ответил без раздумий и колебаний:
– Что ж поделать!
Фауста вновь улыбнулась.
– Хорошо, – сказала она, – я вижу, вы умеете быть признательным. А француз?
При этом вопросе в глазах маленького человечка сверкнул и тотчас же погас огонек; он торопливо отозвался:
– Его я не знаю. Он не друг мне – не то что дон Сезар.
В интонации, с какой были произнесены эти слова, Фаусте послышалось нечто странное.
– Но ведь это друг того самого Эль Тореро, которого вы любите до такой степени, что готовы ради него пожертвовать двумя тысячами ливров! – воскликнула она. – А вам известно, что людей можно очень жестоко ранить, если наносить удар не по ним самим, а по тем, кого они сильно любят?
Задавая этот вопрос намеренно безразличным, равнодушным тоном, Фауста устремила, однако, свой ласковый взгляд на карлика, внимательно изучая его лицо.
Тот вздрогнул, явно удивленный этими словами. Безусловно, помогая убить Пардальяна, он вовсе не думал о том, что тем самым он причиняет большое горе людям, которые любят шевалье. Но вникать в подобные тонкости было Эль Чико не по силам. Поэтому он пожал плечами и пробурчал что-то неясное – Фаусте не удалось разобрать, что именно.
Видя, что ничего от него не добьется, она повела рукой, словно призывая его потерпеть минутку, и чуть слышным голосом отдала Центуриону приказ; тот немедленно исчез.
– Сейчас принесут обещанные деньги, – сказала она, подходя к маленькому человечку. – Для вас это значительная сумма.
Глаза карлика загорелись, лицо его просияло, но он ничего не ответил.
В этот момент Центурион вернулся и положил перед Фаустой мешочек; Чико увидел этот мешочек и больше уже не спускал с него глаз.
– Здесь, – тихо продолжала Фауста, – не две тысячи ливров, а пять... Берите, они ваши.
Слова принцессы совершенно ошеломили карлика. Сумма была такая огромная, такая неслыханная, что Эль Чико широко раскрыл глаза и застыл на месте, лепеча прерывающимся от волнения и радости голосом:
– Пять тысяч ливров!..
– Да! – кивнула Фауста, улыбаясь.
– Для меня?
– Для вас. Берите же!
Сказав это, она подтолкнула мешочек поближе к маленькому человечку, и тот, внезапно обрети подвижность, стремительно схватил его и прижал обеими руками к груди. Он словно боялся, что кто-нибудь отберет у него деньги, и машинально повторял, не в силах поверить своему счастью:
– Пять тысяч ливров!
– Да, ровно столько, – подтвердила Фауста; она, казалось, забавлялась первобытной радостью карлика. – Можете проверить.
Эль Чико живо поднес руку к шнурку, которым был завязан мешочек; карлику явно не терпелось немедленно убедиться, что над ним не насмехаются. Однако шнурок так и остался неразвязанным. Восторженные глаза Эль Чико остановились на Фаусте. Она показалась ему такой ласковой, такой доброй и милой, что он успокоился. Он решительно покачал головой в знак того, что всецело доверяет такой красивой и щедрой даме, и внезапно громко рассмеялся. Однако в его смехе было что-то пугающее. Смех этот очень походил на судорожные рыдания; по загорелым щекам Чико медленно текли слезы, а его взор был устремлен куда-то вдаль, словно человечек наблюдал за каким-то чудным видением; он тихонько повторял, заикаясь, жалобным голосом:
– Богатый! Я богатый!.. Не хуже короля!..
Если Фауста и была поражена таким странным проявлением радости, то она никак этого не показала. Она оставалась по-прежнему серьезной, чуточку растроганной – растроганность была, возможно, напускной, но казалось такой естественной, была так замечательно разыграна, что даже люди куда менее простодушные, чем карлик, ничего бы не заподозрили. С самым доброжелательным видом чарующим голосом она произнесла:
– Вот вы и впрямь богаты. Теперь вы сможете... жениться на той, кого любите.
При этих словах Эль Чико сильно вздрогнул. Он покраснел, затем побледнел и устремил на Фаусту растерянный взгляд, в котором читался смутный ужас. А Фауста, которая сказала это, как говорится, ради красного словца, наобум, не имея в виду ничего определенного, не позаботившись заранее, как она имела обыкновение делать, раздобыть точные сведения об этом человеке, которого она посчитала слишком незначительным, – так вот, Фауста на всякий случай отметила для себя странную взволнованность юноши.
Однако Эль Чико принялся энергично мотать головой, отрицая подобную вероятность, и тогда принцесса серьезно сказала:
– Почему же нет? Сердцем и годами вы мужчина. Отныне вы богаты. Почему бы вам теперь не подумать о том, чтобы вступить в брак, обзавестись своим домом? Вы маленького роста, это верно, но вы не безобразны. При вашем маленьком росте вы замечательно сложены, можно даже сказать, что вы красивы. Не отрицайте. Я вижу – вы любите, так почему же вы не будете любимы?.. Поверьте мне, вы можете быть счастливы, как и все.
Слушая эту красивую даму, говорившую с ним так ласково, убежденно, без всякой насмешки, Эль Чико широко открыл восхищенные глаза. Он «пил мед», пользуясь образным народным выражением, он верил всему, он уже почти не сомневался в себе.
И все-таки счастье, которое ему показали сквозь щелочку, представлялось ему недостижимым – он горько усмехнулся, и Фауста поняла, что настаивать не стоит.
– Ступайте, – сказала она ласково, – и помните: если вам понадобится помощь – то ли в ваших отношениях с той, кого вы любите, то ли в ваших отношениях с ее семьей, – я всегда буду готова выступить в вашу защиту. Я могущественна, очень могущественна, мне вполне по силам уладить ваши дела, и хорошо бы вам помнить об этом. А теперь идите.
Эль Чико, донельзя взволнованный, не нашел даже слов для выражения благодарности. Качаясь, словно пьяный, он направился к двери, позабыв поклониться знатной красавице; он уже собирался переступить порог, когда вдруг обернулся, бросился обратно к Фаvere, схватил ее руку, томно свисавшую с подлокотника кресла, и запечатлел на ней горячий поцелуй. Затем он стремительно выскочил из комнаты – богатый и счастливый.
Фауста не пошевелилась, не произнесла ни слова.
Любые проявления поклонения она принимала так, как подсказывала ей безошибочная интуиция. Она намеренно оскорбила пресмыкавшегося у ее ног Центуриона (чье раболепное поведение, заметим в скобках, вполне отвечало духу той эпохи). Благодарность же карлика она приняла с благожелательной мягкостью. С первой минуты разговора с Эль Чико Фауста разыгрывала роль доброй и великодушной богатой дамы – а актриса она, как мы знаем, была превосходная.
Когда Эль Чико вышел, она подумала: «Теперь этот коротышка позволит ради меня изрубить себя на куски. Но что это за женщина, в которую он влюблен, и почему, показалось мне, я различила что-то вроде ненависти в его словах о Пардальяне? Надо узнать все подробнее; этот карлик будет, возможно, мне полезен.»
Придя к такому решению, она на время приказала себе забыть о маленьком человечке, встала, приподняла портьеру и, прежде чем исчезнуть за ней, обратилась к Центуриону, стоявшему молча и неподвижно:
– Действуйте, как было условлено, и сразу же приходите ко мне в молельню.
Не дожидаясь ответа, уверенная, что ее повеление будет исполнено, она неслышно удалилась.
Принцесса пошла по коридору и остановилась перед той дверью, за которой находилась Жиральда. Прильнув к смотровому отверстию, она заглянула в комнату.
Жиральда лежала на широкой кушетке и мирно спала под действием одурманивающего снадобья.
«Скоро она проснется», – подумала Фауста; она отошла от двери и продолжила свой путь.
Войдя в комнату, которую она ранее указала Центуриону, Фауста села и принялась ждать. Дверь она оставила широко открытой. Молельня была небольшой, очень просто обставленной. Спустя несколько минут на пороге появился Центурион; не заходя внутрь, он сказал:
– Все исполнено, сударыня. Осторожность требует, чтобы мы как можно скорее скрылись отсюда. Можно предположить, что они придут, чтобы осмотреть весь дом.
Фауста махнула рукой, давая понять, что время еще есть, и снова погрузилась в размышления, не обращая более внимания на Центуриона, который ждал ее, не двигаясь с места.
О чем она думала? Какие новые планы выстраивались в ее голове?
Прошло несколько минут, показавшихся Центуриону очень долгими. Наконец Фауста поднялась и подала ему знак войти.
– Сударыня, – повторил наемный убийца, сделав несколько шагов, – нам пора уходить.
– Прикройте дверь, но не захлопывайте ее, – спокойно приказала Фауста.
Центурион, явно заинтригованный, не говоря ни слова, повиновался. Когда он, прикрыв дверь, обернулся, то заметил в толще стены узкое отверстие, до тех пор невидимое из-за широко распахнутой двери.
– Потайной ход, – прошептал он, – теперь я понимаю.
– Возьмите факел, – сказала Фауста, – и посветите мне.
Центурион взял факел и направился к потайной двери. За ней прямо на уровне пола начиналась лестница. Он стал спускаться, освещая путь Фаусте; та закрыла за собой таинственную дверцу, и хотя Христофор искоса следил за принцессой, ему не удалось проникнуть в тайну дверного запора.
Спустившись ступенек на двадцать, они очутились в подземной галерее – достаточно широкой, чтобы два человека могли идти в ней бок о бок, и достаточно высокой, чтобы даже рослый мужчина мог не пригибать голову. Пол в этом подземелье был посыпан мелким песком, приятным для ходьбы и заглушающим шум шагов лучше, чем самый густой и самый мягкий ковер.
Пройдя довольно большое расстояние, Центурион обнаружил поперечную галерею. Он остановился, обернулся к своей повелительнице и спросил:
– Куда мы направимся – направо или налево?
– Стойте там, где вы сейчас находитесь, – ответила Фауста.
И подойдя к стене, она без колебаний, не тратя времени на поиск, взялась за некий камень, который оказался на самом деле небольшой доской, раскрашенной так умело, что она совершенно сливалась с окружающими ее настоящими камнями.
За снятой дощечкой было маленькое углубление.
Фауста просунула туда руку и привела в действие спрятанную там пружину. Тотчас же послышался щелчок, и в нескольких шагах от них в стене открылся проем.
– Проходите, – коротко велела Фауста. Центурион, держа в руке факел, шагнул вперед; за ним последовала по обыкновению бесстрастная Фауста.
Они оказались в достаточно просторной искусственной пещере. Пол здесь, как и в только что пройденных ими галереях, был устлан мелким песком. Со сводов, довольно высоких, свисали лампы. На небольшом возвышении перед широким столом стояли три кресла, а у его подножия, по правую и левую руку от стола, располагались огромные скамейки из массивного дуба; перед самим же возвышением было весьма обширное пустое пространство.
Всей своей обстановкой эта пещера очень напоминала зал для публичных собраний, где могли бы разместиться, не стесняя друг друга, человек пятьдесят.
Знал ли Центурион об этом зале прежде? Знал ли он, для чего предназначено это подземное убежище и что за церемонии в нем проходили?
Можно было подумать, что дону Христофору кое-что известно, ибо едва он вошел в пещеру, как им овладело странное беспокойство. Когда же он окончательно удостоверился, что место это ему знакомо, его беспокойство превратилось в ужас. Он смертельно побледнел, все его тело сотрясала конвульсивная дрожь, отчего факел в его судорожно сжатой руке выделывал па какого-то фантастического танца. Его блуждающий взгляд остановился на Фаусте, но та, казалось, не заметила его волнения и спокойно произнесла:
– Зажгите эти лампы, факел не дает достаточно света.
Центурион, довольный, что может скрыть свое смятение, поспешно повиновался, зажег лампы и, машинально опустив факел, провел рукой по лбу, вытирая капельки холодного пота.
Теперь, когда горели все лампы, Фауста подала головорезу знак следовать за ней. Она вновь вышла из пещеры, подвела его к углублению в стене, прежде прикрытому дощечкой, и повелительно сказала:
– Глядите!
Центурион повиновался и наклонился вперед; волосы у него на голове зашевелились от страха.
Что же необычного он увидел?
Казалось бы, ничего особенного: в этом месте в стене было проделано множество отверстий, которые позволяли заглянуть в самые отдаленные уголки пещеры; но лучше всего можно было рассмотреть возвышение – оно располагалось прямо перед глазами наблюдателя.
Короче говоря, ничего наводящего ужас, и однако Центурион с трудом держался на ногах, готовый вот-вот упасть без чувств.
Фауста, по-прежнему невозмутимая, по-видимому, не замечала этого волнения, превратившегося уже почти в помешательство. Знаком велев ошеломленному Христофору следовать за ней, она вернулась в пещеру. Охваченный сильнейшим ужасом, который полностью парализовал все его мыслительные способности, Центурион даже не заметил, как Фауста, приведя в действие вторую скрытую пружину, закрыла дверь, впустившую их сюда.
– Через эти отверстия, – спокойно проговорила она, – не только отлично видно, как вы сами могли убедиться, но еще и отлично слышно все, что здесь говорится. Благодаря этому углублению я, втайне от всех, присутствовала на двух последних заседаниях, состоявшихся в этом зале... Следует ли мне добавлять, что я знаю ваш секрет?
Центурион рухнул на колени, уткнулся лицом в песок и прохрипел:
– Сжальтесь, сударыня!
Фауста кинула на жалкое создание, пресмыкающееся у ее ног, взгляд, исполненный величественного презрения, и больно ткнула Христофора носком туфельки.
– Вставайте! – произнесла она сквозь зубы. – Не думаете же вы, что я взяла вас к себе на службу для того, чтобы немедленно предать в руки инквизиции?
Одним прыжком Центурион вскочил на ноги. Если раньше он чуть не лишился чувств от страха, то теперь едва не потерял сознание от радости.
– Так вы не собираетесь выдавать меня? – пролепетал он.
Фауста пожала плечами.
– Вы помешались от ужаса, – сказала она холодно.
И проговорила угрожающе:
– Берегитесь! Я не потерплю рядом с собой труса.
Центурион издал громкий вздох облегчения и, выпрямившись, воскликнул:
– Клянусь Господом Богом! Я не трус, сударыня, и вам это отлично известно! Но каков же был мой ужас, когда я решил, что вы собрались выдать меня.
И очередной раз вздрогнув, он добавил:
– Я тайный агент святой инквизиции и слишком хорошо знаю, на какие чудовищные муки обречены те, кто предает ее. Клянусь вам, что и не будучи трусом, можно сойти с ума при одном только упоминании об этих пытках. Уготованное мне в случае измены делу матери-церкви превосходит все, что может вообразить человеческий ум, и потому я без малейших колебаний заколол бы себя на ваших глазах, лишь бы избежать грозящей мне ужасной участи.
Фауста взглянула на него. Центурион вновь обрел все свое хладнокровие и явно был искренним.
– Ну что ж, – сказала она, смягчившись, – я прощаю тебе твой ужас перед пыткой. Я также прощаю тебя за то, что ты захотел скрыть от меня вещи, интересовавшие меня. Но чтобы это было в последний раз! Служба принцессе Фаусте должна быть для тебя превыше всего, даже превыше интересов твоего короля и святой инквизиции. Тебе не следует оценивать события, в которые ты можешь быть вовлечен. Ты просто должен докладывать мне обо всем, что ты видишь, слышишь, делаешь, и даже обо всем, что ты думаешь... А уж мое дело понять, какую выгоду можно извлечь из твоих докладов. Ты принадлежишь мне и будешь – с пользой для меня – предавать тех, кто использует тебя... однако не вздумай предать меня самое, иначе ты сломаешь себе шею. Ты слушаешь?
– Слушаю, сударыня, – смиренно ответствовал Центурион, – слушаю и повинуюсь. К тому же, осмелюсь напомнить, я ведь пришел к вам по своей воле.
– Верно, – согласилась Фауста. – Так во сколько же собрание?
– Через два часа, сударыня.
– У нас еще есть время, – сказала Фауста, направляясь к возвышению и садясь в кресло.
Центурион последовал за ней и встал рядом, у подножия возвышения.
– Итак, – продолжала Фауста, глядя наемному убийце прямо в глаза, – людям, собирающимся здесь, известно, что где-то существует сын дона Карлоса, и они хотят сделать его своим вождем. Несмотря на самые тщательные поиски, им не удалось выяснить, под каким именем скрывается несчастный принц. Могу поклясться – ты знаешь это имя.
– Это правда, сударыня, – подтвердил окончательно укрощенный Центурион.
Во взоре Фаусты зажегся огонек, впрочем, тотчас же погасший.
– Имя? – произнесла она спокойно.
– Дон Сезар, известный по всей Андалузии под именем Эль Тореро, – не колеблясь, ответил Центурион.
Судя по всему, это имя оказалось для Фаусты полнейшей неожиданностью. Мало того, оно, кажется, совершенно не вписывалось в ее тщательно разработанные планы. Во всяком случае, Центурион, поклявшийся быть верным псом принцессы, на какое-то мгновение пожалел об этой клятве, ибо внезапно стал свидетелем вспышки страшного гнева своей госпожи. Услышав имя тореодора, она вскричала:
– Ты сказал – дон Сезар... любовник Жиральды?!
– Он самый, – кивнул Центурион, пораженный ее волнением.
Побледнев от ярости, Фауста вскочила и злобно воскликнула:
– А, презренный! И ты предупреждаешь меня тогда, когда я уже отпустила их – и его самого, и его цыганку?.. А ведь я должна была бы...
Стоя на возвышении, одной рукой опершись о стол, а другую угрожающе вскинув вверх, охваченная приступом ненависти, эта женщина, всегда так прекрасно владевшая собой, испепеляла взглядом злополучного Центуриона; а тот, оцепенев от страха, ничего не понимал в происходящем и только спрашивал себя, как она поступит: собственноручно заколет его отравленным кинжалом или же отдаст в руки палачей инквизиции?
– Сударыня, – произнес он, заикаясь, – я не знал... Вы же не спрашивали...
Неимоверным усилием воли Фауста взяла себя в руки. Ее черты вновь приняли безмятежное выражение, а на лице читались, как обычно, спокойствие и сила. Она медленно села и, облокотившись о стол, обхватив подбородок ладонью, устремив взор в никуда, принялась размышлять. Она, казалось, вовсе забыла о присутствии Центуриона, а тот, безмолвный, чуть дыша, почтительно оберегал ее раздумья.
Наконец она подняла голову и произнесла очень спокойно:
– Вы и впрямь не могли ничего знать. А теперь – рассказывайте.
Глава 22 КАРЛИК ДЕЙСТВУЕТ
Мы вынуждены на короткое время вернуться к одному из действующих лиц данного повествования, чьи поступки требуют нашего внимания тем более, что, возможно, благодаря им нам удастся разгадать весьма пока еще загадочный характер этого скромного персонажа.
Итак, карлик Эль Чико – а именно о нем мы собираемся говорить – выдвинулся теперь на место главного героя.
Но почему бы и нет? Почему бы несчастному карлику и не получить право на отдельную главу? Разве он не имеет права на почести, выпадающие обычно на долю тех, кто привычно выступает на первых ролях?
Эль Чико – несколько уменьшенная копия взрослого человека, причем человека весьма грациозного; мы уже слышали как Фауста, знающая в этом толк, говорила ему, что при своем маленьком росте он красив. Пожалуй, о нем не скажешь, что он хрупкий – его всегда заставляли трудиться, но все-таки он слаб, как ребенок, каковым и является по своему росту. Он находится в самом низу общественной лестницы – ведь он всего-навсего горемычный коротышка, круглый сирота, воспитанный Бог весть как и Бог весть кем, появившийся Бог весть откуда, ютившийся Бог весть где; один Господь знал, чем жил карлик – он просил подаяние, не гнушался ради добычи пропитания и некими подозрительными делишками, но все же, вопреки всему, обладал чувством собственного достоинства и бессознательной гордостью.
Учтите, читатель, что мы не заблуждаемся относительно характера маленького человечка. Мы проникли в самые тайники его души и теперь описываем его мысли и поступки с той беспристрастностью, которая всегда была нам присуща. Читатель сам должен решить нравится или нет ему наш герой; мы настолько уважаем читателя, что не посмеем, разумеется, навязывать ему свое мнение.
Итак, Эль Чико выбежал из кабинета Фаусты. Он был, как мы отметили, вне себя от радости или горя, ибо, по правде говоря, невозможно было решить, какое из этих двух чувств в нем возобладало. Вероятнее всего будет предположить, что радость странным образом смешалась с горем.
Он устремился, по-прежнему бегом, в глубь сада, туда, где протекала река. Судя по всему, он прекрасно ориентировался в этом лабиринте аллей и рощиц, ибо, несмотря на густой ночной мрак, еще более непроницаемый из-за многочисленных деревьев, двигался без малейших колебаний, ступая с совершенной уверенностью и кошачьей ловкостью и избегая всякого шума, способного выдать его присутствие.
Достигнув кипарисов, Чико вскарабкался на один из них с проворством, говорившим о привычке к такого рода упражнениям, и добрался до конуса темной зелени – его маленький рост позволял ему легко спрятаться среди листьев. Очевидно, у него был здесь тайник, известный лишь ему одному да птицам, обитавшим в этих местах, так как он быстро избавился от мешочка, каковым был обязан щедрости Фаусты, и стремительно скользнул вниз по стволу.
Теперь, уже не торопясь, с серьезным и задумчивым видом, он прошел вдоль ряда деревьев и вновь остановился перед молодым кипарисом – случаю было угодно, чтобы тот несколько отступил от своих собратьев и вырос неподалеку от стены. Это дерево было замечательной естественной лестницей, словно специально приготовленной, чтобы преодолевать воздвигнутое людьми препятствие.
Взобравшись на дерево, Эль Чико оказался над стеной. Потом он слегка раскачал тонкий ствол и с ловкостью и гибкостью молодого животного прыгнул на гребень стены. Повиснув на руках, он осторожно соскочил на землю по ту сторону ограды.
Отойдя на несколько шагов, он уселся на жесткую высокую траву, порыжевшую от горячего испанского солнца и совершенно скрывавшую его. Скрестив по-турецки ноги, карлик оперся локтями о колени, уронил голову на руки и долго сидел так в неподвижности.
Быть может, он думал о чем-то своем. Быть может он послушно выполнял приказ, полученный им в доме у кипарисов. Быть может, наконец, он просто-напросто заснул.
В полночь отдаленные звуки монастырского колокола, размеренно и торжественно ронявшего во мрак свои удары, вывели Эль Чико из оцепенения.
Приблизительно в это же время Фауста с идущим впереди нее Центурионом спустилась в подземелье своего таинственного загородного дома.
Эль Чико поднялся, отряхнулся и громко произнес:
– Смотри-ка! Уже пора!.. Вперед!
И он пустился в дорогу – медленным шагом, обходя поместье кругом и вовсе не пытаясь скрываться. Можно было даже подумать, что он стремится привлечь к себе внимание – так он шумел и топал.
Внезапно он услышал приглушенные стоны и увидел у подножия стены нечто вроде двух кулей; кули эти, как ни странно, дергались и извивались.
Эль Чико, судя по всему, ничуть не испугался. Более того – он улыбнулся той хитрой улыбкой, что озаряла порой его необычайно подвижное лицо, и, ускорив шаг, подошел к этим двум предметам. Оказалось, что на траве лежат два человека с ног до головы закутанные в плащи и крепко-накрепко связанные.
Не теряя ни секунды, он наклонился над первым из них и принялся разрезать стягивавшие его веревки и снимать душившую его накидку.
– Сеньор Тореро! – воскликнул Эль Чико, когда лицо жертвы наконец открылось.
Весь облик маленького человечка выражал столь явное изумление, интонации его голоса были столь естественными, столь искренними, что даже самый недоверчивый человек ничего бы не заподозрил.
Тореро, не теряя времени на изъявление благодарности своему спасителю, – или якобы спасителю, – закричал:
– Скорое! Помоги мне!
И, не медля ни минуты, он, в свою очередь, бросился к товарищу по несчастью и с помощью услужливого Эль Чико освободил его от веревок.
– Сеньор Сервантес! – воскликнул карлик со все возрастающим удивлением.
Это и вправду был Сервантес; он с трудом сел и проговорил хриплым голосом:
– Смерть всем чертям! Я там чуть не задохнулся! Благодарю, дон Сезар.
– Быстрее! – закричал потрясенный Эль Тореро. – Мы упускаем время! Боюсь мы уже опоздали! Поспешим же!
Это было легче сказать, чем сделать. С писателем обошлись очень грубо, и дон Сезар с тревогой увидел, что торопить друга нельзя, ибо ему требуется хотя бы несколько минут, чтобы прийти в себя. Сервантес, впрочем, не преминул и сам сказать об этом, пробормотав:
– Секундочку!.. Черт подери, мой друг, дай-ка я чуть-чуть вздохну... Меня наполовину задушили.
Это была сущая правда. Тореро не мог покинуть своего друга в таком состоянии. Он стоически смирился с этим, но поскольку каждое уходящее мгновение уменьшало его шансы подоспеть вовремя, чтобы помочь Пардальяну и освободить Жиральду, он сделал то единственное, что ему оставалось: с помощью Эль Чико принялся энергично растирать затекшие мышцы своего друга.
Вдруг Сервантес изумленно и настороженно взглянул на карлика и, нахмурясь, негромко спросил:
– А ты-то что здесь делаешь? Разве ты не должен был стоять возле дверей?
Маленький человечек, продолжая разминать руку писателя, ответил:
– Я увидел, что вы все не возвращаетесь... Я встревожился и захотел узнать в чем дело. Обошел дом кругом... к счастью для вас, потому что если бы не я... Вот оно как!
И он кивнул в сторону лежащих на земле веревок и накидок.
Эль Чико, конечно же, был первостатейным актером, ибо Сервантес, который не спускал с него глаз, не смог уловить ни в его поведении, ни в его словах ни одной нотки фальши. Маленький человечек держался очень естественно.
Писатель, он же искатель приключений, вздохнул с жалобным видом:
– Это уж точно – если бы не ты, я бы до сих пор задыхался с этим проклятым кляпом во рту, и одному Богу известно, когда и как мы бы освободились.
Наконец он встал на ноги и сделал несколько шагов.
– Ага, – удовлетворенно произнес он, – ничего не сломано, и по-моему, я уже достаточно окреп, чтобы следовать за вами, дон Сезар.
– Пойдемте же! – вскричал Тореро, сгоравший от нетерпения.
И он бегом устремился вперед, на ходу объясняя, что с ним приключилось как раз в тот момент, когда он вместе с Пардальяном собирался броситься в погоню за похитителем Жиральды.
– Итак, – спросил Сервантес, – шевалье атаковал врагов один? Если их не слишком много, он, возможно, останется победителем.
– Увы! – вздохнул Тореро.
Беседуя таким образом, они добрались до ворот. Тореро в мгновение ока оказался на стене. Сервантес встал на тумбу и уже собирался последовать за ним, когда его взгляд упал на карлика, который все это время шел за друзьями, а теперь смотрел, как они перелезают через стену. Писатель вновь спрыгнул на землю, взял Эль Чико на руки и передал его дону Сезару, который бережно опустил малыша по ту сторону стены. Потом Сервантес схватил руку, протянутую ему доном Сезаром, и в свою очередь вскарабкался на стену, бормоча:
– Я предпочитаю, чтобы он был вместе с нами. Так мне будет спокойнее.
Карлик, между тем, вовсе не пытался протестовать, и Сервантес с удовлетворением увидел, что он дожидается их у подножия стены, отнюдь не намереваясь бежать.
Оба друга одновременно спрыгнули на траву и бегом устремились к дому в сопровождении карлика – решительно, он имел вид человека честного и движимого самыми лучшими намерениями, так что романист вконец успокоился на его счет.
На сей раз им было не до хитростей и мер предосторожности – оно, возможно, и было бы полезно, но друзья боялись потерять драгоценное время, которое и без того было уже упущено.
Дон Сезар и Сервантес со шпагами в руках торопливо направлялись к темному зданию.
Случаю было угодно, чтобы они вышли к крыльцу.
Мы сказали – случаю. На самом же деле их подвел к крыльцу карлик, который в конце концов оказался впереди двух приятелей. Они следовали за ним совершенно машинально, быть может, сами не отдавая себе в том отчета.
В несколько прыжков они преодолели ступеньки и оказались у дверей. На секунду они остановились в нерешительности. На всякий случай Тореро поднес руку к щеколде. Дверь раскрылась.
Они вошли.
Серебряная лампа, подвешенная к потолку, заливала своим мягким светом великолепие прихожей.
– О, черт! – прошептал восхищенный Сервантес. – Если судить по данному помещению, здесь живет по меньшей мере принц.
В отличие от приятеля, дон Сезар не терял времени на созерцание всех этих чудес. Увидев в нескольких шагах от себя портьеру, он приподнял ее и решительно прошел вперед.
Все трое очутились в том кабинете, где четвертью часа ранее Фауста передала карлику сумму в пять тысяч ливров, спрятанную им в тайнике на кипарисе.
Как и передняя, кабинет тоже был освещен – только не лампой, а несколькими розовыми свечами, дающими рассеянный свет; они были вставлены в массивный серебряный канделябр.
«На сей раз, – подумал Сервантес, – мы оказались в небольшом королевском дворце!.. Сейчас на нас нападут тучи вооруженных людей, переодетых лакеями.»
Волновался Сервантес как раз из-за подозрительно ярко освещенных комнат дома.
И вправду, если только не предположить, будто их ожидали и желали облегчить им задачу, – а подобное предположение было бы чистой нелепицей, – приходилось признать, что этот чудесный дворец обитаем. И владельцем столь роскошного жилища мог быть если уж не король собственной персоной, то по крайней мере знатный вельможа, окруженный многочисленной челядью – то бишь хорошо обученными вооруженным людьми. Помимо того, казалось очевидным, что этот вельможа еще не лег спать, иначе огни были бы потушены. Стало быть или он сам, или кто-нибудь из его людей мог появиться с минуты на минуту, и тогда, как легко было предположить, на непрошеных гостей градом посыпятся удары.
Однако же, если судить по изумительному великолепию этого жилища, его владельцем мог быть сам король, собственной персоной, и в этом случае положение вторгшихся сюда становилось ужасным, ибо, даже допуская, что они смогут выйти живыми и невредимыми из схватки со слугами, им все равно не удастся избежать королевского злопамятства, и скорый арест, за коим последует не менее скорая казнь, которая свершится втихомолку, навсегда излечат их от греха любопытства. Король куда более, чем обычные смертные, не любил, чтобы ему мешали в его приятном времяпрепровождении.
Предаваясь этим мало обнадеживающим размышлениям, Сервантес тем не менее ни на шаг не отставал от сына дона Карлоса. Оба они прекрасно осознавали, какой опасности подвергаются, и все-таки оба были исполнены решимости идти до конца.
Что касается дона Сезара, то освобождение Жиральды – а оно казалось ему более чем сомнительным – отошло для него на второй план. Пардальян, полагал Тореро, сражался с людьми, похитившими Жиральду, то есть рисковал своей жизнью ради их дружбы. Мысль, бывшая сейчас для него самой главной, заключалась в том, чтобы отыскать шевалье и если еще не поздно, вызволить из беды. Надо ли говорить, что недостойное желание покинуть того, кто столь великодушно жертвовал ради него жизнью, ни на секунду не посетило храброго юношу.
Для Сервантеса все обстояло еще проще. Он сопровождал своих друзей и должен был разделить все их несчастья, разумеется, он тоже готов был погибнуть, но не отступить.
Итак, принц и романист шли осторожно, но весьма решительно.
Из кабинета она попали в коридор.
Этот коридор, довольно широкий, как мы уже могли видеть, наблюдая за Фаустой, был – точно так же, как прихожая и кабинет – освещен; освещали его лампы, висящие на потолке на равном расстоянии друг от друга.
И – вокруг ни души, полное безмолвие. Невольно напрашивалась мысль о том, что обитатели этого жилища куда-то спешно бежали.
Тореро, шедший впереди, не раздумывая открыл первую же встретившуюся ему дверь.
– Жиральда! – крикнул он в порыве неудержимой радости.
И ринулся в комнату, а следом за ним – Сервантес и карлик.
Жиральда, как мы уже сказали, глубоко спала под действием одурманивающего снадобья.
Дон Сезар крепко обнял ее; встревоженный тем, что она не отвечает на его зов, он простонал в тревоге:
– Жиральда! Проснись! Скажи что-нибудь! После чего разжал руки, опустился на колени и сжал ее ладони. Девушка, которую он больше не поддерживал, откинулась на подушки.
– Умерла! – и влюбленный, страшно побледнев, зарыдал. – Они убили ее!
– Нет, нет! Клянусь телом Христовым! – живо воскликнул Сервантес. – Она всего лишь заснула. Посмотрите, как мерно вздымается ее грудь.
– Верно! – воскликнул дон Сезар, мгновенно переходя от глубочайшего отчаяния к самой неистовой радости. – Она жива!
В этот момент Жиральда вздохнула, шевельнулась и почти сразу же открыла глаза. Казалось, она ничуть не поразилась, увидев Тореро у своих ног, и улыбнулась ему.
Она сказал ему с величайшей нежностью:
– Мой дорогой сеньор!
Голос ее напоминал щебетанье птиц. Он ответил:
– Сердце мое!
И в голосе его слышалась любовь.
Больше они ничего друг другу не сказали – да и к чему лишние слова?
Они взялись за руки и, позабыв обо всех на свете, говорили друг с другом одними глазами, счастливо улыбаясь. Это была картина и восхитительная, и очаровательная.
Жиральда – во всем блеске юности, с сияющими глазами, ярким румянцем во всю щеку, жемчужными зубками и пышными черными волосами, украшенными алым цветком граната, – была удивительно хороша. А как же шел ей экзотический цыганский наряд: широкая шелковая юбка, яркий бархатный лиф – узкий, замечательно подчеркивающий талию, и огромная шелковая же шаль, обшитая тесьмой и помпонами!
Возможно они сидели бы так до бесконечности, безмолвно беседуя на языке влюбленных, если бы здесь не оказалось Сервантеса. Его сердце было свободно, поэтому, бросив восхищенный взгляд на очаровательную пару, радовавшую его взор (недаром же он был человеком искусства!), он быстро вернулся к реальности .– опасной и пугающей. Не слишком-то беспокоясь о том, что он нарушает уединение (хотя и мнимое) юных влюбленных, писатель бесцеремонно воскликнул:
– А господин де Пардальян?! Не следовало бы его забывать!
Грубо возвращенный на землю этими справедливыми словами, принц тотчас же вскочил, устыдившись того, что под действием нежных глаз своей возлюбленной на мгновение позабыл друга.
– Да, но где же господин де Пардальян? – спросил он.
Этот вопрос был адресован Жиральде, и та удивленно заморгала.
– Господин де Пардальян? – повторила она. – Но я его не видела!
– Как! – в смятении вскричал Эль Тореро. – Стало быть, вас освободил не он?
– Но, дорогой мой сеньор, – ответила она, удивляясь все больше и больше, – меня вовсе не требовалось освобождать!.. Я была совершенно свободна.
Настала очередь дону Сезару и Сервантесу прийти в изумлением.
– Вы были свободны? Но тогда как же случилось, что я нашел вас здесь спящей?
– Я ждала вас.
– Так вы знали, что я должен появиться?
– Конечно!
Удивление Жиральды, Тореро и Сервантеса все возрастало. Было совершенно очевидно, что они ничего не понимали в происходящем. Вопросы Тореро казались совершенно загадочными Жиральде, а ответы девушки вместо того, чтобы прояснить ситуацию, лишь запутывали ее. Друзья стояли ошеломленные, с совершенно растерянным видом.
И только карлик, немой свидетель этой сцены, сохранял непоколебимое спокойствие. Впрочем, он вообще производил сейчас впечатление человека, которого ничуть не интересует все, что происходит вокруг него: уставившись в пространство, он, казалось, думал о вещах, известных лишь ему одному.
А тем временем Тореро воскликнул:
– Ну и дела! Это уж слишком! Кто вам сказал, что я приду сюда?
– Принцесса.
– Какая принцесса?
– Не знаю, – простодушно ответила Жиральда. – Она мне не сказала, как ее зовут. Я знаю, что она и красива, и добра. Я знаю, что она мне обещала известить вас о том, что путь свободен и вы можете прийти за мной, не подвергаясь опасности. Я знаю, что она сдержала свое слово... раз вы здесь. Это все, что я знаю.
– Весьма странно! – прошептал дон Сезар задумчиво.
– Да, пожалуй! – согласился Сервантес. – Но сдается мне, дон Сезар, что нам было бы лучше немедленно приняться за розыски шевалье. Мы сможем расспрашивать Жиральду и одновременно обыскивать дом.
– Вы правы, черт побери! Мы теряем драгоценное время. Однако, по-моему, брать Жиральду с собой не слишком-то разумно, особенно если нам придется драться. Оставлять ее здесь тоже, я полагаю, нельзя. Кто знает, что может с ней стрястись, пока мы будем заняты осмотром дома!
– Но, сеньор, – наивно заметила Жиральда, – зачем обыскивать дом? Здесь больше никого нет.
– Откуда вам это известно, Жиральда?
– Так мне сказала принцесса. Разве вы не нашли все двери открытыми? Разве вы не обнаружили, что все комнаты освещены?
– Верно, клянусь телом Христовым! – воскликнул Сервантес.
– И где же теперь эта знаменитая принцесса? – тихо спросил Тореро.
– Она вернулась в свой городской дом под охраной своих людей... По крайней мере, так она меня уверяла.
Эль Тореро вопросительно взглянул на Сервантеса.
– И все-таки надо обойти весь дом, – энергично сказал тот.
Дон Сезар, все еще колеблясь, посмотрел на молодую девушку.
– Поверьте, дорогой сеньор, – убежденно сказала Жиральда, – я могу, ничего не опасаясь, пойти вместе с вами. Здесь больше никого нет. Принцесса уверяла меня в этом, а судя по ее виду, этой женщине чужда ложь.
– Пойдемте! – внезапно решился Тореро.
Не говоря ни слова, Эль Чико взял с небольшого столика зажженный канделябр, чтобы освещать маленькому отряду дорогу.
Осмотр начался. Сначала друзья шли, остерегаясь, потом, по мере того, как они обнаруживали, что в таинственном доме и впрямь нет ни души, они уже продвигались вперед, не таясь без всяких предосторожностей.
Ни в подвале, куда они спустились, ни на чердаке они не нашли ни единой запертой на ключ двери. Приятели проникли повсюду, обыскали буквально все.
И нигде не отыскали ни малейших следов Пардальяна!
Поскольку шевалье на глазах Тореро впрыгнул в комнату, являвшую собой некое подобие будуара, стремясь нагнать мужчину, на руках уносившего заснувшую Жиральду, то дон Сезар снова и снова возвращался в это помещение, полагая, что именно там они найдут объяснение таинственного исчезновения их друга. Поэтому, когда они в очередной раз собрались здесь все вчетвером, то они передвинули всю мебель и даже простучали стены и пол, не оставив без внимания ни одной щели, ни одного выступа.
Ничего!
А между тем, хотя они этого и не подозревали, как раз здесь, прямо у них под ногами, тот, кого они столь упорно разыскивали, спал, быть может, вечным сном.
Обоих друзей и Жиральду, посвященную в суть дела, порядком волновала бесплодность их поисков, и тревога эта все росла.
И только карлик покорно, молча, с полнейшим равнодушием следовал за ними. Если бы хотел, он давно уже мог уйти восвояси. Сервантес, имевший ранее некоторые подозрения на его счет, отказался от своих сомнений и более не следил за ним; как и Жиральда, как и дон Сезар, он, казалось, забыл о его присутствии. Тем не менее маленький человечек предпочитал быть у них на глазах. А может быть, его приковывал к данному месту какой-то особый интерес? Недаром же при имени Пардальян карлик несколько раз презрительно ухмыльнулся, а в глазах его зажигался – и тут же, впрочем, гас – огонек. Если бы кому-нибудь пришло в голову наблюдать за ним в этот момент, этот человек наверняка бы решил, что злоключения шевалье доставляли карлику радость.
Видя, что поиски ни к чему не приводят, Сервантес и дон Сезар решили проводить Жиральду до дома, а потом отправиться к себе и отдохнуть – с тем, чтобы утром вернуться сюда и подробно расспросить таинственную принцессу, которая наверняка не станет надолго оставлять без присмотра свою роскошную загородную резиденцию.
Порешив на этом, они прошли садом и приблизились к воротам, которые, по уверениям Жиральды, должны были быть открыты. Так оно и оказалось – даже щеколды не были задвинуты.
– Стоило после этого карабкаться на стену, – заметил Сервантес. – Ведь мы могли войти сюда по-людски!
– Откуда же нам было знать, – отозвался Эль Тореро.
– Да, верно. И вот еще что, друг мой: когда я думаю обо всех этих богатствах, любовно собранных здесь и брошенных теперь на милость первого встречного бродяги, которому стоит только из чистого любопытства толкнуть дверь, я невольно прихожу к выводу, что, по-видимому, знатная дама, владелица этого изумительного жилища, или немыслимо беззаботна, или сказочно богата.
Под влиянием подобных размышлений славный Сервантес приложил все старания, чтобы закрыть садовую калитку.
Они пустились в путь; карлик, словно разведчик, шел впереди, Жиральда – посередине.
Пройдя несколько шагов, Эль Чико вдруг остановился и встал в своей обычной позе – подбоченившись – перед Жиральдой и ее двумя кавалерами:
– Француз!.. Он, может, давно вернулся в трактир, вот оно как! – сказал он с присущей ему лапидарностью.
Дон Сезар и Сервантес переглянулись.
– Почему бы и нет, это вполне возможно, – сказал писатель.
Дон Сезар с сомнением покачал головой:
– Не думаю... Но все равно, пойдем-ка в трактир «Башня».
Глаза карлика удовлетворенно блеснули. И не добавив ни слова, он направился по дороге к тому постоялому двору, где квартировал шевалье.
Эль Тореро шагал рядом с Жиральдой мрачный, молчаливый; заметив его угрюмый, огорченный вид, она спросила его ласково и встревоженно:
– Что с вами, Сезар? Неужто исчезновение господина де Пардальяна настолько вас опечалило? Поверьте мне – шевалье такой человек, что выйдет живым и невредимым из самых страшных испытаний. Там, где другие – и даже самые бесстрашные – неминуемо погибли бы, он наверняка останется победителем и не получит ни единой царапины. Он такой сильный! Такой добрый! Такой храбрый!
Это было сказано с наивным восхищением и совершенной убежденностью, которые в иных обстоятельствах, зайди речь о ком-нибудь другом, кроме Пардальяна, непременно пробудили бы в молодом человеке ревность.
Но, надо полагать, мысли Эль Тореро были заняты совсем другим, ибо он тихо ответил:
– Нет, Жиральда, дело не в этом, вернее – не только в этом. Я искал господина де Пардальяна и буду искать его до тех пор, пока не узнаю, что с ним стало – помимо того, что я люблю его, как брата, мне еще повелевает делать это моя честь, хотя я тоже уверен, что он сумеет справиться с любой опасностью и без нашей помощи.
– Конечно, – подтвердил Сервантес, не пропустивший ни слова из беседы двух влюбленных. – Пардальян принадлежит к тем исключительным личностям, которые, не торгуясь, приходят на выручку всякому, кто обратится к ним. Но если, волею случая, они сами оказываются в затруднении, то действуют столь энергично, что к тому времени, когда помощь прибывает, дело уже бывает ими сделано. Судьбой предначертано, что эти люди оказывают услуги всякому, кто их попросит, и вряд ли кому удастся вернуть им хотя бы часть – пусть даже самую малую! – того добра, которое они сделали людям.
Эти три человека, безупречно честные и прямодушные, относились к Пардальяну, которого они знали всего лишь несколько дней, с безграничной любовью и восторгом.
Видя, что дон Сезар, решительно одобрив слова Сервантеса, вновь впал в сумрачную угрюмость, Жиральда продолжала:
– Но что же, мой ласковый сеньор, что же вас так печалит?
– Жиральда, – спросил Тореро, остановившись, – что это за история с похищением, поведанная нам Эль Чико?
– Это сущая правда, – сказала Жиральда, стараясь понять, куда же он клонит.
– Вас действительно похитили?
– Да, Сезар.
– Центурион?
– Центурион.
– Но в такого рода делах Центурион действует не ради себя.
– Понимаю вас, Сезар. Центурион – правая рука дона Яго Альмарана, Красной бороды.
Произнеся это имя, она почувствовала, как вздрогнул ее возлюбленный, которого она держала под руку. Она покраснела, и на ее губах мелькнула лукавая улыбка. Она поняла, что происходило в душе молодого человека.
Дон Сезар просто-напросто ревновал.
Сервантес, должно быть, тоже это понял, потому что пробормотал:
– Любовь! Ревность!.. Безумие!
А Эль Тореро после секундного молчания продолжал дрожащим голосом:
– Как же могло случиться такое – вы, зная, что находитесь во власти этого чудовища (а вы уверяли, будто ненавидите его), оставались, как я сам видел, спокойной и безмятежной и даже не пытались убежать, что, однако, было бы очень просто.
Жиральда хотела напомнить, что не могла бежать, как ей советовал ее возлюбленный, ибо была усыплена одурманивающим снадобьем, так что в какой-то момент он сам счет ее мертвой. Однако же она ограничилась тем, что тихо ответила:
– Дело в том, что на сей раз Центурион действовал не ради известной вам личности.
– А! – произнес Эль Тореро, еще более встревоженный. – Тогда ради кого?
– Ради принцессы, – смеясь, сказала Жиральда.
– Принцессы?.. Не понимаю.
– Сейчас поймете, – и Жиральда внезапно стала серьезной. – Послушайте, Сезар, вы знаете, что я отправилась на поиски моих родителей?
– Так что же? – спросил Эль Тореро. Он уже забыл про свою ревность и теперь думал лишь о том, чтобы утешить ее. – Неужто вас опять постигло разочарование?
– Нет, Сезар, на этот раз я все узнала, – печально отозвалась Жиральда.
– Вам стали известны подробности о вашей семье? Вы теперь знаете, кто ваш отец и кто ваша мать?
– Я знаю, что моего отца и матери более нет на свете, – сказала молодая девушки и разрыдалась.
– Увы! Бедное мое дитя, увы, – прошептал Эль Тореро, ласково обнимая ее. – И ваши родители были, как вы и думали, людьми родовитыми?
– Нет, Сезар, – просто сказала Жиральда, – мои отец и мать были людьми из народа. Они были бедными людьми, очень бедными, потому-то им и пришлось бросить меня, что они не могли меня прокормить. Ваша невеста, Сезар, не принадлежит даже к захудалому дворянскому роду. Она простая девушка, ставшая цыганкой.
Дон Сезар еще сильнее сжал ее в своих объятиях.
– Единственная моя! – произнес он с невыразимой нежностью. – Раз так, я буду любить вас еще сильнее. Я стану всем для вас, как вы стали всем для меня.
Жиральда подняла к юноше свое очаровательное личико и сквозь слезы улыбнулась ему – улыбнулась тому, кто говорил с ней так нежно и в чьей любви она была так же уверена, как и в своей собственной. Но Эль Тореро внезапно нахмурился:
– А вы это твердо знаете, Жиральда? Вас так часто обманывали.
– На сей раз никакого сомнения нет. Мне предоставили доказательства.
Секунду она пребывала в задумчивости, а потом, осушив слезы, продолжала с улыбкой, чуть окрашенной насмешкой:
– А выиграла я в этом деле то, что теперь я знаю: когда-то, еще до того, как я стала цыганкой, я была крещена. Как видите, выигрыш не слишком-то велик.
По складу мыслей Жиральда была скорее язычница, чем христианка. Именно поэтому она говорила о своем крещении с такой беззаботностью.
Дон Сезар, напротив, с самого раннего детства воспитывался как ревностный католик. И хотя благодаря прожитым годам, размышлениям, чтению и общению с учеными и просвещенными людьми его религиозные чувства угасли настолько, что теперь едва-едва тлели, он, однако, не мог полностью избежать влияния бытовавших в ту эпоху предрассудков и потому строго ответил:
– Не говорите так, Жиральда! Все обстоит совсем иначе. Ведь теперь вам не страшно то обвинение в ереси, которое дамокловым мечом висело над вами. Теперь вам больше не придется бояться ужасной казни, которая вам постоянно угрожала.
Но вернемся к началу вашего повествования. Итак, вы сказали, что вас похитили по приказу этой неизвестной принцессы...
– Не совсем так. Когда я увидела, что оказалась в руках Центуриона и его людей, меня охватило глубокое отчаяние. Я думала, что меня отдадут этому страшному человеку – Красной бороде. Судите же, каково было мое удивление и моя радость, когда я обнаружила, что стою перед знатной дамой, которую никогда раньше не видела и которая, ласково утешив меня, поклялась, что мне не грозит никакая опасность.
Более того: она заявила, что я вольна уйти из ее дома, как только того пожелаю.
– И все же вы остались! Почему? Почему эта принцесса приказала вас похитить? Какое ей дело до вас и какое вам дело до нее? Стало быть, она вас знала? Как? Откуда?
Дон Сезар задавал свои вопросы один за другим со все возрастающим волнением. Жиральда, угадывая его ревнивые мысли и понимая, что он страдает, отвечала ему с необычайной мягкостью.
– Сколько вопросов, сеньор! Да, принцесса меня знала. Откуда? Да разве та, кого назвали Жиральдой – отчасти потому, что свои детские годы она жила в тени этой башни, а отчасти из-за ее умения долго вращаться в танце, когда она выступала на площадях, – не известна всей Севилье?
– Это правда, – прошептал раздосадованный дон Сезар.
– Строго говоря, принцесса не приказывала меня похищать. Скорее уж она меня освободила. Дело было так: вы знаете, что Центурион уже давно подстерегал меня. Если бы не вмешательство господина де Пардальяна, он бы совсем недавно арестовал меня. Я не знаю, как и отчего так вышло (мне этого не открыли), но Центурион служит также и принцессе и подчиняется ей гораздо более, чем Красной бороде. Центурион, должно быть, сообщил принцессе, что получил приказ похитить меня, а та, в свою очередь, приказала привести меня прямо к ней, что он и вынужден был сделать.
– Почему? Почему принцесса, с которой вы не были знакомы, так интересуется вами?
– По чистой случайности! Принцесса где-то увидела меня. Она была поражена – так она говорит – грациозностью моих танцев и навела обо мне справки, хоть я о том и не подозревала. Будучи богатой и могущественной, она за несколько дней выяснила то, чего мне не удалось разузнать за долгие годы поисков. Принцесса была тронута и пожелала познакомиться со мной поближе; она воспользовалась первой же представившейся ей возможностью – с тем большей радостью и готовностью, что одновременно она избавляла меня от большой опасности.
– Получается, – сказал Тореро, качая головой, – что я перед ней в неоплатном долгу.
– Долг этот поистине огромен, Сезар, – проникновенно подтвердила Жиральда. – Как вы полагаете, почему я осталась в том доме, а не покинула его при первой же возможности? Да потому, что принцесса сообщила мне, будто одному моему знакомому грозит смертельная опасность, если он встретится со мной в эти двое суток. А я ведь люблю этого человека больше собственной жизни, и если мое присутствие несет ему гибель, я лучше погребу себя заживо. И еще принцесса уверила меня, что когда опасность минет, она позаботится о том, чтобы предупредить этого человека, и он сам придет за мной. Надо ли вам называть имя этого человека, дон Сезар? – добавила Жиральда с лукавой улыбкой.
Насколько Эль Тореро был ранее встревожен, настолько же теперь он сиял.
Он буквально засыпал свою невесту благодарностями и заверениями в любви, и та покраснела от удовольствия.
Однако же и теперь, когда его ревнивые предположения были развеяны искренними объяснениями Жиральды, когда порывы его чувств несколько улеглись, – слова невесты все-таки весьма удивили его, и он воскликнул:
– Так значит, эта принцесса знает и меня тоже? Но чем может ее заинтересовать заурядная особа вроде меня? И какая опасность могла мне угрожать? Не кажется ли вам, что все это очень странно?
– Вы преувеличиваете. Я вам уже говорила, что принцесса красива и в то же время добра, и этого вполне достаточно, чтобы объяснить, чем вызван ее интерес к вам. Более того: она знает, кто вы, она знает вашу семью.
– Она знает, кто я? Она знает имя моего отца?
– Да, Сезар, – значительно сказала Жиральда.
– Она назвала вам это имя?
– Нет! Она назовет его только вам.
– Она сказала вам, что откроет мне тайну моего рождения? – спросил Эль Тореро, загораясь надеждой.
– Да, сеньор, как только вам будет угодно попросить ее об этом.
– Ах, – воскликнул Эль Тореро, – скорее бы наступило завтра, чтобы я смог пойти к этой принцессе и расспросить ее. О, узнать, узнать, наконец, кто я такой и кто были мои близкие! – в восторге повторял он.
Пока двое влюбленных, не обращая внимания на Сервантеса, делились своими переживаниями, он говорил себе:
«Ого! Что же это за принцесса, которая знает стольких людей и владеет столькими тайнами? И зачем она вмешивается не в свое дело, собираясь открыть несчастному принцу, кто он такой? По-видимому, она и не подозревает, что подобное открытие обрекает его на верную смерть! Как помешать этой незнакомке?»
Тем временем без всяких злоключений они добрались до трактира «Башня».
Была приблизительно половина второго ночи, поэтому трактир выглядел тихим и темным. Все его обитатели, конечно же, давно спали.
Эль Чико, судя по всему, охваченный угрюмой тоской, постучал в калитку особым образом: тем стуком, что был известен только завсегдатаям постоялого двора.
Несмотря на поздний час, дверь почти мгновенно открылась, словно их ожидали, и они увидели тонкое личико – одновременно встревоженное и любопытное – малышки Хуаны, хорошенькой дочери трактирщика Мануэля.
Увидев молодую девушку, Эль Чико заметно побледнел. Надо полагать, однако, что маленький человечек обладал очень сильной волей и отлично умел владеть собой; кроме того, он замечательно мог скрывать свои истинные чувства и впечатления, ибо кроме землистой бледности, внезапно залившей его смуглое лицо, ничто в нем не выдало его чрезвычайного волнения.
Эль Чико гордо выпрямился во весь свой небольшой рост и улыбнулся красивой девушке улыбкой, какой встречают старых знакомых. Это и понятно: Хуана и Эль Чико знали друг друга с детства.
Однако несмотря на то, что карлика отличала врожденная гордость, внимательный наблюдатель все же заметил бы в его поведении, в его улыбке, словно бы покорной, в ласковом и чуть тревожном выражении лица оттенок того восхищения, одновременно пылкого и смиренного, какое испытывают к существам высшей касты. Короче, в те мгновения, когда Эль Чико не думал, что за ним наблюдают, он выглядел как ревностный католик, поклоняющийся Деве Марии.
Напротив, в манерах Хуаны, хотя и очень открытых и сердечных, вдруг появилось нечто покровительственное: она обращалась с Эль Чико слегка высокомерно, и это было заметно, несмотря на всю ее природную скромность.
Человек безразличный решил бы, что красивая андалузка – дочь состоятельного буржуа, чей трактир процветал, умела сохранять дистанцию, отделявшую ее от этого нищего. Человек более внимательный легко обнаружил бы в ее поведении следы едва ли не материнской привязанности.
И в самом деле: у Хуаны внезапно изменилась манера говорить, в ее голосе возникли ласковые нотки, а тон стал резковатым и подчас ворчливым – как у маленькой девочки, играющей в дочки-матери с любимой куклой.
Да-да, именно так! Карлик, по-видимому, был для нее живой игрушкой, которую ребенок любит всем сердцем, хоть и обижает ее – впрочем, без всякой злобы, – удовлетворяя свою инстинктивную потребность почувствовать себя маленьким хозяином, маленьким тираном. Ребенку надоела игрушка? Он пренебрежительно бросает ее в угол, не заботясь о том, что может сломать ее, и больше на нее не глядит. Но вот ему захотелось опять взять ее в руки – и тут он замечает, что, пренебрежительно бросив ее, он что-то ей сломал. Малыш горько плачет, поднимает куклу, баюкает ее, ласкает, утешает, нежно с ней разговаривает, стараясь искупить то зло, что он невольно причинил.
Приблизительно так вела себя Хуана по отношению к карлику.
Самое удивительное заключалось в том, что сам он, обычно весьма обидчивый, охотно прощал Хуане такое поведение – причем он не оставался безропотным, как игрушка, но выказывал явное удовольствие ее манерами. Он находил их вполне естественными. Что бы ни делала Хуана, ничто его не оскорбляло, не сердило, не отталкивало. Ведь это была Хуана! Ей дозволялось все. Ее грубые или резкие выходки шаловливого и избалованного ребенка, уверенного в прочности своей деспотической власти, казались ему очень милыми... и уж во всяком случае это было куда лучше, чем ее безразличие.
Хуана была хозяйкой, а карлик – ее верным и преданным рабом, который с терпеливостью сносит и хорошее, и дурное.
Было ли все вышеописанное следствием привычки, приобретенной еще в детстве? Может быть.
Так или иначе, но надо признать, что эти поклонение и восхищение были совершенно понятны.
Хуане недавно исполнилось шестнадцать лет. Она являла собой воплощенный тип андалузки. Она была маленькая, хорошенькая, тоненькая, и ее быстрые, радостные движения, исполненные задорной грации, отличались замечательной природной изысканностью. У нее был яркий румянец, великолепные черные глаза – то пылкие, то томные – и маленький ротик с алыми, немного чувственными губами. Ее тонкие аристократические запястья и белые нежные кисти рук, за кожей которых она тщательно следила, заставили бы побледнеть от зависти любую знатную даму.
Хуана отличалась необычайной опрятностью, а ее платье, намного богаче того, что носили ее подруги, выдавало страсть к утонченному кокетству; снисходительная же отцовская гордость вместо того, чтобы умерить эту страсть, находила удовольствие в том, чтобы разжигать дочкино кокетство, ибо славный Мануэль, которому трактир, очевидно, приносил немало золотых монет, не отступал ни перед какими расходами, лишь бы удовлетворить капризы своего избалованного ребенка.
Вот почему Хуана была всегда нарядна, как статуя мадонны в церкви; впрочем, костюм андалузки она носила с непринужденностью, исполненной очаровательной изысканности.
Но если для девушек ее сословия предназначалось обычно сукно или полотно, то Хуана носила бархатный плащ, корсаж из светлого шелка, выгодно облегавшей тонкую гибкую фигуру, и в тон корсажу шелковую юбку, из-под которой виднелись тонкая лодыжка и крохотная детская ступня – узкая и с красивым подъемом, обутая в атлас и составлявшая для Хуаны, как истинной андалузки, предмет ее большой гордости. Вместо привычной шали она носила богатый передник, украшенный галунами, тесьмой, шнурками и помпонами – впрочем, как и весь остальной костюм.
Разодетая подобным образом, Хуана приглядывала за слугами своего отца, и должен был появиться очень важный сеньор – вроде этого француза, или же старый добрый друг – вроде господина Сервантеса, чтобы она снизошла до него и самолично, своими белыми ручками, обслужила гостя. Да и то считая при этом, что именно она оказывает честь тем, кого обслуживает... и быть может, красавица была права.
Понятно, что, зная все эти обстоятельства, Сервантес был чрезвычайно изумлен, когда обнаружил, что сие подобие маленькой королевы бодрствует, ожидая их, причем бодрствует в одиночестве, не позвав себе в напарницы кого-либо из служанок. Впрочем, Сервантес был слишком занят своими мыслями, чтобы придавать значение таким пустяковым подробностям.
Хуана посторонилась, впуская ночных посетителей, и хотя она казалась чем-то сильно расстроенной и обеспокоенной, она ответила на улыбку Эль Чико радостной улыбкой и приветливо, дружески протянула ему руку с тем видом властительницы, который она всегда невольно принимала с ним.
Этого оказалось достаточно, чтобы на щеки маленького человечка вернулась толика того румянца, что так внезапно исчез при виде молодой девушки. Этого оказалось достаточно, чтобы его взгляд зажегся восторгом, который он и не пытался скрывать, уверенный, что у его спутников слишком много своих забот, чтобы еще наблюдать за ним.
Когда Сервантес, шедший последним, вошел во внутренний дворик, Хуана, прежде чем затворить дверь, после секундного замешательства вновь выглянула наружу, вглядываясь в ясную, полную миллиардов звездных огоньков ночь: это было едва ли не единственное освещение, которое святая инквизиция позволяла своим подданным – сама же она, как известно, любила освещать испанские ночи кострами аутодафе.
Странное дело – малышка Хуана казалась взволнованной.
Можно было подумать, что она кого-то ждет, что она очень беспокоится и огорчена тем, что не видит этого человека. Уверившись в отсутствии пятого посетителя, Хуана испустила тяжкий вздох, удивительно похожий на всхлипывание, медленно задвинула засовы и провела всех пришедших на кухню, расположенную в самой глубине дома; благодаря этому последнему обстоятельству там можно было зажечь свечи, не опасаясь кары за нарушение полицейских указов, запрещавших зажигать в доме свет после вечерней зори.
Заспанная дуэнья Хуаны суетилась возле очага, глухо бормоча проклятья по адресу бродяг-полуночников, которые в такой поздний час не дают спать добрым христианам и разгуливают по улицам, вместо того, чтобы давным-давно лежать в своей кровати, натянув одеяло до самого подбородка. Хуана следила за ней бездумным взглядом, но даже не видела ее.
Малышка Хуана была очень встревожена и бледна. Ее красивые глаза, обычно такие насмешливые, подернулись пеленой невыплаканных слез. Один вопрос жег ей губы, но она не осмелилась высказать его, и никто не заметил необычного волнения девушки.
Никто – кроме верной служанки, которая ворчливо, но с затаенной нежностью, принялась упрекать свою молодую хозяйку за то, что она сама решила ожидать поздних посетителей, а не поручила это скучное занятие достойной матроне, честной и преданной долгу; уж эта достойная женщина, привыкшая с утра до вечера работать не покладая рук, наверняка сумеет быть более гостеприимной, чем ее избалованная и сонная госпожа.
Но мы забыли упомянуть Чико: он не сводил с Хуаны глаз и, видя, как радость постепенно покидает ее, тоже грустил; он очень напоминал сейчас преданного пса, готового на все, лишь бы вернуть улыбку на уста хозяина.
Однако крошка Хуана не видела ни служанки, ни Чико, никого... Казалось, она предается каким-то размышлениям, очевидно, горестным.
Из этих размышлений ее внезапно вывел вопрос.
– А господин де Пардальян вернулся? – спросил Тореро.
Малышка Хуана сильно вздрогнула и едва смогла пробормотать сдавленным голосом:
– Нет, сеньор Сезар.
– Так я и знал! – прошептал Тореро, с удрученным видом глядя на Сервантеса.
Малышка Хуана сделала над собой огромное усилие и белая, словно полотно, спросила:
– Но ведь господин де Пардальян был с вами. Надеюсь, с ним не случилось ничего дурного?
– Мы тоже надеемся, крошка Хуана, но сможем узнать это наверняка только завтра утром, – озабоченно сказал Сервантес.
Хуана пошатнулась и упала бы, если бы рядом не стоял стол, за который она ухватилась. Никто не заметил этого внезапного приступа слабости.
Кроме служанки, разумеется, – та заголосила:
– Да вы, барышня, на ногах не стоите от усталости! Что же это вы сами себя истязаете и не хотите немедленно идти спать?
Тогда Чико стремительно подошел к девушке, словно желая поддержать ее или даже поднять на руки.
Сервантес же, по обыкновению рассеянный, попросил:
– Дитя мое, прикажите приготовить нам постели. Остаток ночи мы проведем здесь, а завтра, – добавил он, повернувшись к дону Сезару и Жиральде, – мы возобновим наши поиски.
Эль Тореро одобрительно кивнул.
Хуана (она, кажется, была счастлива избежать мучительной необходимости скрывать свои чувства) пошла за служанкой, а гости – в свои комнаты.
Перед тем как удалиться, Сервантес дружески помахал рукой Эль Чико, а Тореро горячо поблагодарил маленького человечка за помощь и заверил его, что отныне тот вправе рассчитывать на заботу и кошелек молодого тореадора. Жиральда же присоединила к словам жениха свою собственную благодарность.
Карлик принял все эти изъявления дружеских чувств со свойственным ему гордым и равнодушным видом, но по тому, как горели его глаза, было ясно видно, что он рад этой дружбе.
Глава 23 ЭЛЬ ЧИКО И ХУАНА
Оставшись один на трактирной кухне, Чико подтащил к угасающему очагу тубаретку и вскарабкался на нее.
Карлик был грустен: ведь он видел, что «она» была грустна и взволнована. Опустив голову на руки, он принялся размышлять над разными разностями из своей жизни, еще такой короткой. Вся его прошлая жизнь – как и его настоящее, как, очевидно, и его будущее – сводилось к одному слову: Хуана.
Сколько Хуана себя помнила, она всегда видела карлика рядом с собой. У малыша не было семьи, и если кто-нибудь когда-нибудь и обращал на него внимание, то исключительно для того, чтобы поколотить его или надавать оплеух. Естественно, без такого участия в своей судьбе он вполне обошелся бы.
У Хуаны же, несмотря на всю ее шаловливость, было доброе сердце. Сама того не ведая и не понимая, она была тронута этим сиротством. Еще совсем ребенком, движимая тем инстинктом материнства, который дремлет в сердце каждой девочки, она приучилась сама заботиться о том, чтобы Эль Чико имел приличный кров и еду. Постепенно она таким образом привыкла играть в маленькую маму. И поскольку ее отец подавал окружающим пример, подчиняясь всем ее прихотям, а сама она была очень ласковой девочкой, то она умела без труда заставить себя слушаться. Вот почему в ее отношениях с карликом до сих пор сохранился легкий налет покровительства.
Он же, со своей стороны, привык, что она командует, и раз все в доме подчинялись ей, не споря, то он поступал как все.
Впрочем, в том случае, если бы у него вдруг возникли поползновения к бунту (о чем он и не помышлял, находя свое рабство замечательно сладостным), то мораль, представленная в данном случае упреками и нотациями достойного Мануэля – отца его маленького тирана – итак, мораль, преподанная ему, гласила бы: тот, кто дает, намного выше того, кто получает. Следовательно, второй должен неустанно возносить благодарности и кланяться первому.
Идея унижения, вообще-то говоря, не очень легко укладывалась в голове Эль Чико – у него были свои собственные идеи, и как утверждала та же праведная мораль, они должны были привести его в один прекрасный день прямо на костер; то был единственный конец, уготованный маленькому мальчику – хотя и крещеному, но вынашивающему такие мысли, от которых бросило бы в дрожь самого завзятого еретика.
Тем не менее, когда речь шла о Хуане, малыш охотно склонял голову, так что это вошло у него в привычку. И вошло так основательно, что ему суждено было сохранять ее всю свою жизнь. Оспорить приказ или желание Хуаны казалось ему чем-то чудовищным, невозможным. Этот маленький мальчик – противный и дерзкий бесенок, который много раз заявлял, что не признает ни хозяина, ни властей – легко признавал власть Хуаны, считал дочку Мануэля своим единственным хозяином, и даже достигнув возраста мужчины, до сих пор часто называл ее «маленькая хозяйка», чем девушка очень гордилась.
Дети выросли. Хуана превратилась в красивую молодую девушку.
Чико стал мужчиной... но по росту своему остался ребенком.
Поначалу Хуана была несказанно удивлена, видя, что постепенно она становится такой же большой, как и ее приятель, а потом и выше его – а ведь он был на целых четыре года старше! Ей это чрезвычайно понравилось. Ее кукла так и останется маленькой куколкой. Как это будет замечательно!
С возрастом это эгоистическое чувство уступило место жалости – она видела: Чико был крайне уязвлен и огорчен тем, что он остается все таким же маленьким, в то время как вокруг него все растут. И Хуана дала себе слово никогда не покидать этого малыша. Что станется с ним без нее?
Постепенно привычка постоянно видеть свою «маленькую хозяйку», находиться подле нее, мгновенно и безмолвно выполнять все ее поручения, больше похожие на приказы, сменилась иным чувством – чувством, в котором, по нашему мнению, Чико и сам не отдавал себе отчета; имя этому чувству было – любовь. Любовь чистая, любовь абсолютная, сверхчеловеческая, любовь, исполненная жертв и самоотречения.
Да иначе и быть не могло. На протяжении многих лет Хуана была для него Богом, объектом его постоянного поклонения. Для приношения ей ничто не было слишком красивым, слишком изысканным, слишком роскошным.
Чико был готов ради своей повелительницы на любые жертвы. Если бы потребовалось, он бы без раздумий лег в сточную канаву и подставил Хуане свою грудь, чтобы ее маленькие ножки не ступали по грязи. Все его мысли были направлены к одной цели: доставить удовольствие Хуане, удовлетворить прихоти Хуаны, даже если он сам должен был от этого пострадать, даже если сердце его истекало кровью. Когда она была рядом с ним, у него не было ни воли, ни способности здраво рассуждать, ни каких бы то ни было своих желаний. Она думала, говорила, ощущала за них двоих. Он жил лишь благодаря ей и умел лишь восхищаться ею и слепо одобрять то, что она решила.
Любовь карлика вовсе не была плотской. Тщетно пытался он уверить себя, что он – обычный мужчина; Чико отлично знал, что это не так. Мысль о возможном браке между женщиной – настоящей женщиной – и им – человеческим обрубком – ни на секунду не приходила ему в голову. Помилуйте, разве такое возможно? И только речи этой знатной дамы – то есть Фаусты – пробудили в нем подобные мысли. Хотя нет, глупости, богатая красавица попросту насмехалась над ним! Конечно, она говорила это, желая повеселиться, ей хотелось посмотреть, что он, Чико, ответит ей, как он поступит. По счастью, он ничего не сказал. Он все понял. Чико хоть и мал ростом, да хитер, вот оно как!
В день, когда Хуане исполнилось тринадцать лет, она, роскошно и изящно разодетая, спустилась в общий зал. Разумеется, не для того, чтобы собственноручно что-то делать – фи, как можно! – но чтобы заменить хозяйку, свою давно умершую мать, обязанности которой по дому все эти годы исполняла та самая славная (хотя и, как вы наверняка успели заметить, несколько ворчливая) женщина, которая так усиленно посылала Хуану спать.
Матрона эта откликалась на имя Барбара, или же – на французский манер – Барб.
Итак, Хуана начала смотреть за слугами (их. тогда было еще немного) и управлять домом, да так искусно, что никто бы и не подумал ей перечить. В то же время она умела так угодить клиентам (далеко не всегда покладистым), поступать так деликатно, так ловко раздавать направо и налево улыбки и комплименты, что просто чудо!
Очень скоро трактир «Башня» стал одним из самых бойких мест в Севилье, а ведь здесь в хороших трактирах недостатка нет.
Но тут вновь вмешалось общественно мнение – опять-таки в лице достойного Мануэля, каковой однажды возмутился тем, что Хуана, его единственная наследница, убивается на работе, а этот лентяй Эль Чико, хотя ему пошел уже семнадцатый год, болтается без дела и не имеет другой заботы, кроме как с утра до вечера считать ворон под тем надуманным предлогом, что он слишком маленького роста.
В соответствии все с той же моралью карлику заметили, что если человек беден и у него нет семьи, то ему надо работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь.
Чико в ужасе спросил себя, что же он сможет делать, чтобы прокормиться – ведь никто и не подумал обучить его какому-нибудь ремеслу; впрочем, у бедняги было не больше силенок, чем у птенчика, только что выпавшего из гнезда.
Но поскольку, как ни странно, Хуана, по-видимому, соглашалась с общественным мнением, Чико, исполненный пыла и доброй воли, изъявил готовность трудиться, что должно было сделать его свободным человеком. Мануэль тотчас же этим воспользовался и взвалил на него самую тяжелую и грязную работу, а в обмен на это великодушно предоставил карлику кров и пропитание.
Работа, назначенная Эль Чико, была ему явно не по силам. Может быть, он ее все-таки и выполнял бы, чего бы ему это ни стоило, но окружающие вовсе не щадили его самолюбие. Самолюбие Чико – эта невидимая субстанция – никем не принималось в расчет.
В своей новой роли карлик быстро стал объектом всеобщих издевательств. Все, начиная хозяином и кончая последним мальчишкой из конюшни, считали себя вправе приказывать ему. А если эти приказания выполнялись плохо, то тумаки сыпались градом.
Самое же страшное заключалось в том, что работа удерживала его вдали от Хуаны, а это было для него жесточайшим испытанием; кроме того, новое положение малыша было таково, что он целиком и полностью попадал под власть челяди и посетителей – зачастую вдрызг пьяных; и слуги, и завсегдатаи трактира не скупились на оскорбления и подзатыльники. Никогда малыш не был так несчастен. Вот почему долго это не продлилось. Через несколько дней такой пытки Чико бросил передник, метлу, посетителей и хозяина и исчез.
Как он жил? Да очень просто: мелкими кражами. Для поддержания сил ему надо было немного. В огромном саду, именуемом Андалузией, хватало сочных плодов, и ему оставалось лишь сорвать их. Если же погода не позволяла отправляться на подобный промысел, он шел на церковную паперть и стоял там с протянутой рукой. Это вполне соответствовало нравам той эпохи, и даже такой убежденный моралист, как Мануэль, не мог тут ничего возразить.
Чико ел мало, ночевал Бог весть в какой дыре, одевался в лохмотья, но зато был свободен. Свободен спать на теплом солнышке, валяясь в сухой траве, свободен мечтать при звездах.
Он был рад и горд. Он расправил плечи и распрямил спину и с независимым видом отворачивался от всякого, кто заговаривал с ним неподобающим, по его мнению, тоном.
После бегства карлика Мануэль долго изливал на окружающих горькие жалобы и осыпал неблагодарного упреками, пророча ему всяческие муки и позорную смерть где-нибудь в канаве, а то и на костре инквизиции. Да и что еще может ожидать такого подлеца, лентяя и негодяя без чести и совести, риторически восклицал трактирщик.
Однако Чико, вопреки уверениям достойного Мануэля, вовсе не был неблагодарным. Просто его благодарность распространялась – что вполне естественно – на единственное создание, от которого он видел доброту и любовь: на Хуану.
Карлик ежедневно находил способ проскользнуть в трактир – ведь он был невелик ростом – и там, забившись в угол, наслаждался видом владычицы своего сердца.
Он смотрел на Хуану – веселую, подвижную, всегда разодетую, как королева; она ходила по залу, командовала слугами, приглядывала за всем, как опытная хозяйка, каковой она и была от самого рождения.
Вдоволь налюбовавшись красавицей, Чико уходил довольный... чтобы вернуться на следующий день.
Иногда, когда она проходила рядом с ним, малыш осмеливался вытянуть руку, дабы схватить краешек ее юбки и набожно поднести его к губам. А еще он целовал следы ее ног, оставшиеся на усыпавшем дворик песке. К сожалению, подобные счастливые мгновения выпадали ему нечасто.
Однажды, не рассчитав, Чико вместо ее юбки прикоснулся к щиколотке. Он в ужасе замер, тем более что Хуана, решив, что это грубая шутка какого-нибудь гостя, остановилась, побледнев от негодования, и громко вскрикнула; на ее крик прибежали Мануэль и слуги.
Бедный Чико сразу понял, что сейчас произойдет: все переполошатся, обыщут трактир, вытащат насмерть перепуганного Чико из его убежища, хорошенько вздуют, а затем с позором изгонят отсюда, изгонят прямо на ее глазах.
С самым жалким видом он выполз из своего укрытия, упал перед нею на колени, умоляюще сложив руки, и прошептал:
– Это я, Хуана. Не бойся.
Несмотря на то, что он выглядел настоящим оборванцем, она сразу же узнала его. И, разумеется, не испугалась. Нет, она даже казалось довольной, когда уверенно лгала отцу, спросившему, в чем дело:
– Пустяки. Я ударилась об стол и не удержалась – закричала, как дурочка.
Папаша Мануэль, не обнаружив ничего подозрительного, удалился, вполне удовлетворенный таким объяснением; слуги возвратились к своим занятиям, а она... она подала ему незаметный знак, и он с готовностью ему повиновался. Разве не вошло у него в привычку беспрекословно слушаться Хуану?
Она отвела его в закуток, где никто не мог их услышать, и сразу же принялась на него кричать:
– Что ты делал там в углу? Негодяй! Лентяй! Еретик! Да как ты посмел опять появиться в доме, откуда ты бессовестно сбежал, даже не попрощавшись?.. Неблагодарный! Бессердечный!
Она могла сколько угодно сердиться и говорить строгим голосом – по ее глазам он видел, что она очень обрадовалась, увидев его, ну просто донельзя обрадовалась, вот оно как!
Очень взволнованный, он смиренно ответил:
– Я хотел видеть тебя, Хуана.
– Неужели? А не слишком ли ты медлил? Ведь столько дней прошло, а ты обо мне и не вспомнил!
Карлик ответил очень печально:
– Я не забыл тебя, Хуана, да и как я мог бы тебя забыть? Я приходил сюда каждый день.
– Каждый день? И ты хочешь, чтобы я тебе поверила? Почему же ты ни разу не показался?
– Я думал, что меня сразу выгонят.
Девушка посмотрела на него с удивлением и состраданием.
Пожав плечами, она произнесла:
– Честное слово, ты вполне этого заслуживал бы... И все-таки ты должен был знать, что я-то так никогда бы не поступила.
– Ты, Хуана, да. А твой отец? А другие?
Довод показался ей достаточно весомым, и потому она ответила не сразу.
Хуана вовсе не подвергала сомнению его слова, мало того, не исключено, что она даже несколько раз видела его под лавками или под столами, но из гордости и упрямства не пыталась заговорить с ним.
Желая скрыть свое замешательство, она продолжала ворчливо:
– Ну и вид у тебя! Тебя можно принять за бродягу! И не стыдно тебе являться ко мне на глаза в таких лохмотьях? Разве ты не мог прийти сюда хотя бы не таким грязным?
Карлику стало стыдно и он опустил голову. На ресницах его дрожали слезы. Упрек задел его за живое; впрочем, если бы не это злополучное происшествие, он, конечно же, никогда не предстал бы перед ней в таком виде.
Она увидела, что причинила Эль Чико боль, унизив его, и сказала, смягчившись, проницательно глядя на него:
– Не ты ли приносил цветы, которые я подчас находила на моем окне?
Карлик покраснел и утвердительно кивнул.
– Зачем ты это делал? – настаивала она, по-прежнему пристально глядя на него.
Он ответил искренне и не раздумывая:
– Я не хотел, чтобы ты считала меня неблагодарным. Мне безразлично, что подумают другие, но ты – другое дело, вот оно как! Я решил, что ты догадаешься и простишь меня.
Секунду она смотрела на него, не отвечая, а потом произнесла с загадочной улыбкой:
– Отлично! Но как же ты сумел добраться до моего окна? Несчастный! Неужели тебе никогда не приходило в голову, что ты мог сорваться и разбиться и что я до конца своих дней корила бы себя за твою смерть?
Он почувствовал, как радостно забилось его сердце. Значит, она больше не сердится. Она по-прежнему любит его, коли так боится за его жизнь. И звонко рассмеявшись, он объяснил:
– Это совсем не опасно. Я маленький, легкий и цепкий – вот оно как!
– Это верно, ты ловкий, словно обезьяна, – сказала она, тоже радостно рассмеявшись. – И все-таки не делай этого больше... Ты будешь давать цветы прямо мне в руки, так будет лучше.
– Ты хочешь, чтобы я приходил к тебе? – спросил он, весь трепеща, с надеждой в голосе.
Она скорчила жалобно-презрительную гримаску:
– Раз уж ты вернулся, не выгоню же я тебя, верно?
– Но что скажет твой отец? Мануэль?
Она равнодушно махнула рукой, показывая, что это вовсе не заботит ее, и решительно заявила:
– Ты хочешь видеть меня, не прячась и не боясь? Хочешь или нет?
Он в восторге молитвенно воздел руки.
– В таком случае, – сказала она со своей озорной улыбкой, – об остальном не беспокойся. Ты будешь есть вместе с нами, ночевать ты будешь здесь, я прикажу тебя прилично одеть, а что касается работы, ты будешь делать лишь то, что тебе самому захочется. Пойдем, нам пора.
Он покачал головой и не двинулся с места. Хуана побледнела и, устремив на него обиженный взгляд, проговорила со слезами в голосе:
– Значит, ты не хочешь?
И тотчас же добавила, напустив на себя властный и решительный вид:
– Значит, я уже больше не твоя маленькая хозяйка? Ты меня больше не слушаешься? Ты бунтуешь?
Эль Чико ответил очень тихо, но твердо:
– Ты есть и всегда будешь смыслом всей моей жизни. Чтобы увидеть тебя, я пройду через огонь... Но я больше не хочу, чтобы ты меня кормила, одевала и давала мне кров.
Девушка невольно бросила взгляд на его лохмотья, и он опять опустил голову и покраснел. Она нежно, но решительно взяла карлика за подбородок, вынудила его посмотреть на нее и заглянула прямо ему в глаза. И вдруг она поняла, что происходит в его душе. С присущей ей чисто женской деликатностью она не стала более настаивать на своем.
– Изволь, – сказала она после паузы. – Ты станешь приходить, когда захочешь. Что до всего остального, то поступай, как знаешь. Но если тебе что-нибудь понадобится, помни – ты причинишь мне большую боль, коли позабудешь, что я навсегда останусь твоей любящей и преданной сестрой. Обещаешь ты мне, что не позабудешь об этом?
Она произнесла это так нежно и взволнованно, что ошибиться насчет ее чувств было невозможно.
И тогда – так уже случалось и прежде, когда Хуана изображала королеву, а Эль Чико смиренно воздавал ей почести – он опустился на колени и тихонько прильнул губами к ее атласной туфельке.
Не могло быть никаких сомнений в значении этого жеста. Бедный маленький человечек – то ли сознательно, то ли нет – вложил в этот смиренный и бесконечно робкий поцелуй всю свою любовь, сотканную из покорности, преданности и самоотречения. Этот его поступок был тем более трогательным, что обычно Эль Чико держал себя чрезвычайно гордо. Как ни была целомудренна Хуана, она поняла, что ей признались в любви, и лицо ее озарилось радостью.
Впрочем, она приняла эти почести, не смущаясь, без ложной скромности и ложной стыдливости, как дань ее красоте и доброте. Она приняла их как монархиня, уверенная, что она стоит очень высоко над смертным, распростертым у ее детских ног. Совершенная простота и естественность ее поведения, замечательное благородство, написанное на ее тонком, аристократическом лице, столь необычном для девушки ее возраста и ее сословия, вызвали бы сдержанное одобрение самой Фаусты – этого непревзойденного авторитета по части величественных поз.
Принимая эти знаки внимания, Хуана опустила на задыхающегося от волнения малыша, бывшего ее вещью, ее игрушкой, умиленно-ласковый взгляд, в котором сквозили и лукавство, и жалость.
Наконец Эль Чико поднялся и произнес слова, вырвавшиеся из самой глубины его существа:
– Ты есть и всегда будешь моей маленькой хозяйкой!
Она радостно захлопала в ладошки и торжествующе воскликнула:
– А я это и так знаю! И сразу же, словно ребенок (каковым она и была), Хуана схватила его за руку и воскликнула, зарумянившись от удовольствия:
– Пошли, пошли к моему отцу!
– Нет! – сказал он тихо. Она с задорным видом топнула ножкой и спросила полуобиженно-полунедоуменно:
– Ну, что еще такое? Он бросил взгляд на свои отрепья и сказал:
– Я не хочу, чтобы твой отец видел меня в этих лохмотьях. Я вернусь завтра, и ты увидишь, что я не заставлю тебя краснеть.
Как он сумел все устроить? Как это ему удалось? Какая таинственная работа была им проделана? Этого мы не знаем и никогда не узнаем. Но так или иначе, на следующий день он явился в «Башню» в почти новом костюме; наряд его не блистал роскошью, однако был безупречно чистым и элегантным и замечательно подчеркивал хрупкость красивой миниатюрной фигурки.
Итак, Чико пришел в трактир.
Сначала он заметил, как заблестели от удовольствия глаза кокетливой Хуаны, увидевшей его чисто и аккуратно одетым. Затем на ошеломленных лицах Мануэля и сбежавшихся слуг он смог прочесть восторженное изумление, предметом коего был он, Чико, изящный кавалер.
С того дня он весьма тщательно берег свой единственный парадный наряд, который он надевал лишь для встречи со своей маленькой хозяйкой, а затем прятал в какой-то тайник, известный ему одному. Все остальное время он носил обычные лохмотья, и их вид вовсе не пугал его. Правда, урок Хуаны пошел ему на пользу, и если от шатаний по лесам и дорогам его одежда и понесла некоторый урон, то, по крайней мере, он содержал себя в идеальной чистоте, и в соединении с его достойным и горделивым видом это привлекало на его сторону симпатии и доброжелательность горожан.
Хуане стоило только обвить руками шею отца – и Чико тут же простили.
Поскольку папаша Мануэль не был, в сущности, злым человеком, он встретил «неблагодарного» приветливо и обошелся без нравоучений. Он даже проникся к карлику некоторым уважением, узнав, что маленький беспризорник самым решительным образом отказался даром жить в «Башне», как это было раньше.
К любым праздникам маленький человечек непременно дарил Хуане подарки. Как уж он там изворачивался с деньгами, нам неизвестно, однако девушка всегда с нетерпением ждала таких дней, и ее радостные ожидания оправдывались. Обычно это были милые сердцу кокетки мелочи и безделушки – а мы знаем, что Хуана очень любила принарядиться.
В такие дни Эль Чико изволил принимать исходящее от Мануэля приглашение на ужин и занимал место за семейным столом, рядом со своей хозяйкой, такой же счастливой, как он сам.
Сейчас же, пока Хуана там, наверху, занималась гостями, Чико, сидя у угасающего камина, с грустью вспоминал прошлое.
То ли у маленького человечка была действительно поразительная сила воли, то ли его робость, в соединении с чувством физической неполноценности, заставляла его думать, что радости обычных смертных для него – запретный плод, то ли, наконец, судьбой ему было заранее предначертано приносить самые мучительные жертвы, – но никогда до сего дня признание в любви не срывалось с его губ. Очень ревнивый, он тем не менее всегда старался скрыть свои самые глубокие чувства, и ему это удавалось... как он считал.
Истина же заключалась в следующем: Хуана (в каком бы целомудренном неведении она ни пребывала во всем, что касается любви) была слишком тонкой натурой и слишком смышленой девочкой, чтобы давно уже не догадаться об отношении к ней малыша Чико. И в самом деле, не надо было иметь особого опыта, чтобы понять: карлик всецело находится под ее влиянием.
Была ли она влюблена в Чико или нет – это мы увидим позже. Но одно можно сказать наверняка: она привыкла рассматривать его как свою – и только свою – собственность. Подобострастие карлика постепенно развило в ней, хоть она сама того и не сознавала, сильный эгоизм. Простодушно и вполне искренне она прониклась сознанием своего превосходства и была убеждена в том, что если она совершенно свободна в своих привязанностях, свободна играть чувствами маленького человечка, как ей заблагорассудится, свободна в своих прихотях и может баловать его или же обижать и заставлять мучиться и страдать, то сам бедняга Эль Чико имеет право только на одно: на глубокое благоговение перед своей хозяйкой.
Во всем, что касалось их взаимоотношений, она вела себя как истинная влюбленная: была до чрезвычайности требовательной, вернее даже сказать, ревнивой и придирчивой, и одна лишь мысль о возможной «измене» малыша Чико причинила бы ей мучения.
С того мгновения, как Хуана поняла, что карлик бесконечно обожает ее, его любовь не могла оскорблять ее. Кокетничала ли она с ним? Трудно сказать. Одно было очевидно – она находила истинное наслаждение во владычестве над своим покорнейшим рабом, поэтому посягательство на ее собственность было бы для нее жестоким ударом.
Однако всего этого карлик не знал. До сегодняшнего дня он вообще почти не думал о чувствах Хуаны, ибо его любви хватало на двоих. И только слово Фаусты, брошенное ею наудачу, посеяло смятение в его душе и заставило задаться весьма трудным вопросом.
Этот вопрос Чико повторял про себя вот уже несколько часов.
Возможно ли такое? Теперь, когда он богат, посмеет ли он жениться, как все другие мужчины? Осмелится ли он когда-нибудь сделать предложение, и как оно будет принято? Не вызовут ли его слова взрыв смеха? А его любовь – такая чистая, такая бескорыстная, о которой станет вдруг известно всем – не превратится ли она в предмет всеобщих насмешек? А Хуана? Любит ли она его? Он отвечал себе: нет!
Хуана любит его как игрушку, как слабого и, быть может, немощного брата. Вот и все.
Настоящей любовью Хуана любит другого, и Чико слишком хорошо знал имя соперника, которого она предпочла ему.
Язвительный и ворчливый голос дуэньи Барбары вывел его из задумчивости.
– Святая Дева! – причитала матрона. – Вы что, хотите погубить себя? Да что же это происходит, объясните ради Бога?
– Ничего не происходит, моя добрая Барбара, у меня дела внизу, и я отправлюсь спать только тогда, когда с ними покончу.
– Разве я уже не гожусь на то, чтобы помочь вам? – укорила хозяйку дуэнья.
– Мне надо побыть одной. Ступай спать. Я скоро тоже пойду.
И поскольку служанка продолжала настаивать, Хуана твердо заявила:
– Ступай, я так хочу!
Чико услышал еще невнятные причитания, приглушенное шарканье стоптанных туфель, затем стук двери, захлопнутой в ярости, и... более ничего.
Наступила недолгая тишина – Хуана, очевидно, желала удостовериться, что дуэнья в самом деле ушла. Затем Чико различил стук маленьких каблучков по ступенькам лестницы из резного дуба. Карлик соскользнул с табуретки и стоя принялся ждать Хуану.
Девушка вошла в кухню. Не говоря ни слова, она упала в просторное деревянное кресло, которое старая Барбара позаботилась принести сюда специально для нее, и, облокотившись о стол, уронила голову на руки; она сидела так, не шевелясь, с остановившимся взглядом расширенных глаз, не проронив ни единой слезы.
Чико безмолвно уселся рядом с ней на чистые и сверкающие плитки кухонного пола и, словно опасаясь, как бы их холод не причинил ей вреда, осторожно взял ее маленькие ножки в свои ладони и бережно поставил их себе на колени.
То ли Хуана уже привыкла к подобным поступкам карлика, то ли была слишком озабочена, но она, казалось, не обратила ни малейшего внимания на эту нежную заботу, оказываемую ей. Она сидела по-прежнему бледная, неподвижная, уставившись в пространство; временами по ее телу пробегала дрожь.
А Чико, не произнося ни слова, печально смотрел на нее глазами доброго пса и, когда чувствовал, что она дрожит, легонько сжимал ее ступни, словно говоря ей:
– Я здесь! Я разделяю твое горе. Долго они сидели так молча: она – быть может, забыв о его присутствии, он – не зная, каким образом оторвать ее от горьких размышлений. Наконец он жалобно произнес:
– Ты страдаешь, маленькая хозяйка?
Она не ответила. Но очевидно, волны любви, исходившие от Чико, растопили ледяной панцирь, сковывавший ее бедное истерзанное сердце, потому что она уронила свою красивую головку на ладони и тихо заплакала, часто и судорожно всхлипывая, как то бывает с детьми, которым нанесли страшную обиду.
– Бедная Хуана! – произнес он опять, машинально сжимая ее детские ножки.
У маленького человечка хватило сил пожалеть ее – прежде всего ее! Ведь он отлично знал, что с ней и почему она так плачет. Бедная Хуана! Ее слезы падали прямо ему на сердце, словно капли расплавленного свинца. Он смутно ощущал, что вот-вот свершится непоправимое, что она заговорит и с неосознанной жестокостью признается ему в том, чего не вынесет его душа.
И вдруг Эль Чико решился на истинный подвиг самоотречения и сам бросился навстречу своей судьбе; мужественно – со слезами на глазах и с улыбкой на устах – он спросил:
– Так ты его любишь?
– Люблю? Кого?
Но он молчал. Он отлично знал, что ему нет необходимости называть имя. Хуана не могла не понять этого вопроса.
Она и в самом деле сразу же все поняла и вовсе не удивилась тому, что ему известно о ее чувстве.
Просто вопрос прозвучал неожиданно и застал девушку врасплох. А может быть, она попросту никогда не задавала его себе – вот так прямо, без всяких уверток. Во всяком случае, Хуана отняла руки от лица, и глядя на карлика глазами, полными слез, ответила с трогательным простодушием:
– Не знаю!
На мгновение в его сердце вспыхнул огонек надежды. Если она и сама этого не знает, быть может, не все еще потеряно. Быть может, ему удастся в конце концов излечить ее от увлечения чужеземцем, а потом и завоевать...
Однако огонек этот тут же погас. Девушка не смогла – или не захотела – сдерживаться и горестно сказала, не замечая, как эти слова ранят маленького человечка:
– Не знаю, люблю ли я его! Но вот людей, которые столь ожесточенно преследуют его и которые, чтобы победить его, такого мужественного и такого сильного, завлекли его, наверное, в какую-нибудь ловушку, где подло убили... этих людей я ненавижу! Я их ненавижу, это убийцы... проклятые убийцы... да, да, проклятые!
В ярости повторяя эти слова, она неистово топала каблучками, забывая, что бьет ими Чико, а может быть, попросту не заботясь о том – ведь карлик принадлежал ей, и, значит, она могла обращаться с ним грубо и даже жестоко.
Но малыш не шелохнулся. Он даже не почувствовал боли от ударов каблуков. Хуана могла бы избить его в кровь – сейчас он бы этого и не заметил. Смертельная бледность разлилась по его лицу. Одна мысль билась в его мозгу, и она-то и делала его равнодушным к физической боли:
«Она ненавидит и проклинает тех, кто заманил его в ловушку! Но ведь я как раз из их числа!.. Значит, она будет ненавидеть и проклинать и меня тоже? Если бы только она знала! Она бы бросила мне в лицо это слово: «Убийца!» Она прогнала бы меня с глаз долой... и все было бы кончено, мне бы оставалось только умереть. Умереть!..»
И тут Хуана тоже вспомнила о смерти. Она сказала, продолжая плакать:
– Я не знаю, люблю ли я его! Но мне кажется, если я его больше не увижу, я умру.
От одного вида ее слез, от ее слов о том, что она умрет, он тоже тихонько, по-детски, заплакал. И не сознавая, что делает, он принялся целовать милые маленькие ножки и, омывая их своими слезами, повторять, давясь судорожными рыданиями:
– Я не хочу, чтобы ты умирала! Не хочу! Внезапно в голову ему пришла одна мысль. Он поднялся с пола.
– Послушай, хозяйка, – сказал он нежно, – ступай сейчас к себе в комнату и ложись спать, ни о чем не беспокоясь. Я пойду отыщу его и завтра приведу к тебе.
Женщина, которая любит другого, всегда несправедлива и жестока к тому, кто любит ее и кем она пренебрегает. Хуана немедленно что-то заподозрила и решила добиться от Чико правды.
Она мгновенно вскочила, грубо схватила его за воротник и стала трясти несчастного, крича пронзительным голосом:
– Ты что-то знаешь! Ну, конечно – ведь это ты пришел за ним. Это ты уговаривал его пойти вместе с доном Сезаром. Что с ним сделали? Говори! Да говори же, презренный!
Он простонал, не пытаясь вырваться:
– Ты делаешь мне больно!
Девушке стало стыдно, и она отпустила его.
– Я ничего не знаю, Хуана, клянусь тебе! – произнес он очень тихо. – Если я и пришел за ним, то лишь из любви к тебе.
– Да, правда, – согласилась она, – откуда бы тебе что-то знать! Из любви ко мне ты не захотел бы помогать в его убийстве. Я, наверное, сошла с ума... Прости меня.
И она протянула ему руку, словно королева. А он, добрый верный слуга, схватил белую ручку, которая только что мучила его, и почтительно припал к ней губами.
Однако он зародил в ней надежду, и вся дрожа от нетерпения, она спросила:
– Что ты собираешься делать?
– Не знаю. Но если кто и может его спасти, то это, по-моему, я... Я такой маленький, я могу пройти повсюду и ни в ком не вызвать подозрений. Я ничего не знаю, не спрашивай меня ни о чем... Подожди только до завтра. Сделай это ради меня.
Неожиданно она крепко обняла его и, прижав к груди, воскликнула, сама того не зная, как больно задевает кровоточащую рану в его сердце:
– Ах, мой Чико! Мой дорогой Чико! Если ты вернешь мне его живым, как я буду любить тебя!
Карлик осторожно высвободился из ее объятий.
Когда он целовал кончики ее пальцев, подол юбки или носки туфелек, она позволяла ему все это со снисходительностью божества, принимающего поклонение верующего. Когда Хуана была довольна, она трепала его по щеке или же тихонько тянула за ухо. Иногда она даже приникала губами к его лбу. И это было все. Никогда прежде она не обнимала его и не прижимала к сердцу!
Это объятие, предназначенное, как он безошибочно чувствовал, другому, причинило ему почти физическую боль.
– Я сделаю, что смогу, – сказал он просто. – Надейся. Ты обещаешь мне, что пойдешь отдохнуть?
– Я не смогу, – сказала она с болью в голосе. – Я как неживая.
– И все-таки надо жить... А иначе завтра, когда я приведу его к тебе, ты будешь усталой и покажешься ему уродливой.
И говоря это, несчастный улыбался!
У девушки хватило жестокости сказать карлику:
– Ты прав. Я пойду отдохну. Я не хочу выглядеть уродиной.
– А что ты будешь делать, когда он вернется? На что ты надеешься, Хуана?
Она вздрогнула и страшно побледнела.
И вправду, на что она надеялась?
Она не задавала себе этого вопроса. Малышка Хуана увидела французского сеньора – такого красивого, храброго, блестящего и к тому же доброго. Ее маленькое целомудренное сердечко учащенно забилось, и она вся отдалась новому неизведанному чувству, не понимая, какие опасности могут подстерегать ее в будущем.
Лишь услышав прямой и четкий вопрос Чико, девушка осознала – но не слишком ли поздно? – куда завело ее безрассудство. Она вся сжалась от горя и отчаяния. Конечно, не могло;быть и речи о браке между дочерью трактирщика вроде нее и этим французским сеньором, посланным с поручением от одного короля, и какого короля – властелина Франции! – другому королю! Было бы чистейшим безумием поверить в такое хоть на минуту.
Тогда на что же она могла надеяться?
Разве француз уделял ей много внимания? Это был настоящий сеньор, и у него, надо полагать, имелись очень серьезные и важные дела, которые ему следовало уладить. Разумеется, она не существовала для него, а если он и обратился к ней с несколькими словами заурядных любезностей, то лишь из чистой обходительности – он ведь не гордый и такой добрый. Но загораться какой-то надеждой – нет, это совершеннейшее сумасбродство! Хуана поняла, что ее любовь навсегда обречена быть смиренной и униженной... как любовь Чико к ней.
Ее отчаяние перед безмерностью своего горя раскрыло ей, наконец, какую боль должен был испытывать Чико – ведь по отношению к ней он находился в том же положении, в каком она была по отношению к Пардальяну; она поняла, насколько она, сама того не осознавая, была жестока с карликом. Сделав над собой невероятное усилие (у девушки было очень доброе сердце), она слабо улыбнулась и произнесла полушутливым тоном:
– Приведи его сюда – это единственное, о чем я прошу. Что же до всего остального, то я отлично знаю – мне надеяться не на что. Господин де Пардальян вернется к себе в страну, а я утешусь и понемногу позабуду его.
Попытавшись хоть частично загладить причиненное ею зло, Хуана захотела пойти еще дальше и t чисто женским лицедейством, а может быть, и искренне – настолько велика была в тот момент ее жалость к Чико – добавила:
– Но ведь у меня останется мой Чико, и я буду любить его... Никто не заслужил этого больше, чем ты.
Эта надежда, поданная ему девушкой, которая, возможно, и сама в это не верила, мгновенно наполнила душу Чико радостью; а Хуана, словно желая окончательно свести его с ума, наклонилась к нему, запечатлела на его губах целомудренный поцелуй и сказала, тихонько подталкивая к выходу:
– Ступай, Чико. Сделай, что сможешь. А я, дожидаясь тебя, постараюсь чуточку отдохнуть.
Глава 24 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЧИКО
Карлик шел мелкими шажками, низко опустив голову и погрузившись в размышления, которые занимали его целиком. Он шел, не испытывая никакого страха. Да и кого ему было бояться? Все самые отъявленные висельники Севильи (одному Богу известно, сколько их было) хорошо знали Чико и считали своим. Бандиты всегда предпочитали вместе выступать против какого-нибудь общего «врага» – припозднившегося путника или пьяницы с толстым кошельком, – а не ввязываться в распри друг с другом.
Итак, маленький человечек ничего не боялся, разве только встречи с ночным дозором. Но у него были острое зрение и тонкий слух, сам он был легким на ногу и проворным, будто обезьянка, а малый рост позволял ему, в случае тревоги, превратить в укрытие все, что бы ни встретилось на пути: тумбу, ствол дерева или просто яму. Там, где присутствие обычного человека было бы неизбежно обнаружено, он всегда находился в безопасности.
Да, он ничего не боялся, но пребывал в крайней растерянности.
Потрясенный до глубины души скорбью Хуаны, сказавшей, что она умрет, если умрет Пардальян, Чико, не осознав все значение своих слов, пообещал найти француза и привести его в «Башню», дав таким образом понять, что он уверен, будто шевалье жив.
Однако все обстояло совсем наоборот. У Чико имелись вполне веские причины полагать, что тот, кого он считал своим соперником, был уже отправлен в лучший мир. И поэтому, шагая под усыпанным звездами небом, он в ярости бормотал:
– И надо же мне было обещать отыскать его! Что же мне теперь делать? В этот час тело француза уже наверняка несут воды Гвадалквивира, и так ему и надо! Так ему и надо! Вот оно как! Зачем он явился сюда? Чтобы похитить сердце Хуаны?
Сам того не замечая, он перенял у молодой девушки множество жестов, поз и выражений. Хуана была приблизительно в два раза выше его, но это вовсе не означало, что она была высокого роста. Напротив, Хуана считала себя слишком маленькой, очень злилась на судьбу и всегда носила высокие каблуки и держалась очень прямо, вскинув голову и расправив плечи, что добавляло очарования ее грациозной фигурке, гибкой и тонкой.
Эль Чико, не подозревая того, тоже задирал голову и гордо расправлял грудь и плечи, чтобы как-то увеличить свой рост десятилетнего мальчика. Хуана имела привычку топать ногами, если ей перечили или если она приходила в ярость; карлик, сам того не замечая, делал то же самое.
Сполна выразив свои чувства по отношению к сопернику, Эль Чико вернулся к своим размышлениям.
«Я не какой-нибудь дурачок! Я прекрасно понял, что люди Центуриона устроили засаду в доме, куда я его привел. Вот оно как! Если дон Сезар ничего не нашел, стало быть, тело бросили в реку. Это уж точно, вот оно как! Принцесса никогда бы с такой готовностью не позволила осматривать ее дом, если бы не приняла все необходимые меры. Разве только...»
Секунду он размышлял, приложив указательный палец к губам, на которых играла хитрая улыбка.
«Разве только француза заперли в одном из тайных укрытий в доме. Вот оно как! Впрочем в этом доме столько тайников, а мне известны далеко не все. Но зачем его заперли? Что с ним собираются сделать? Кто знает, может, его и выпустят на днях!»
Эта мысль показалась ему совершенно нелепой. Он пожал плечами и продолжал: «Ну, нет! Принцесса заманила его к себе в дом не для того, чтобы выпустить обратно! А если я, Чико, буду настолько глуп, чтобы пойти к этой красивой принцессе и задать ей этот вопрос, как я было вознамерился, когда увидел плачущую Хуану, то что со мной станется?.. Меня попросту бросят к французу: составить ему компанию, вот и все! Значит, я не пойду туда. Я не настолько глуп, вот оно как.»
Он на секунду остановился, раздираемый сомнениями.
«Но ведь я же обещал Хуане. Что же мне теперь делать? Пойти осмотреть все известные мне тайники?.. А если, к несчастью, я найду француза и притом живым!.. Стало быть, придется взять его за руку и отвести к маленькой хозяйке?.. И это сделаю я!.. Да возможно ли такое?..»
Выражение неизъяснимой тоски исказило его лицо, и он подумал в ожесточении: «Настоящему мужчине мужество может и изменить. А я маленький и слабый и, значит, не имею права трусить и отступать! Я справлюсь со своими чувствами, я заглушу голос своего сердца, я не стану обманывать Хуану и говорить, что не нашел француза... Я пойду туда!.. Но как же все это несправедливо! Я ведь тоже мужчина, вот оно как! Я ведь не святой!»
Однако эти рассуждения все же не убедили его окончательно, и он задумчиво прошептал:
– Я мужчина, и я теперь богат; мне сказали, что я хорошо сложен и, кроме моего маленького роста, во мне нет никакого изъяна или уродства. Почему бы я не мог приглянуться какой-нибудь женщине? Хуана, такая высокая рядом со мной, говорят – увы! – совсем маленькая. Если бы она захотела, я бы сделал ее самой счастливой женщиной на всем белом свете. Я так ее люблю! Я бы так баловал ее! Да, но я маленький, вот в чем дело! И потому никому я не нужен, ни ей, и никакой другой женщине. Почему? Потому что мир стал бы смеяться над той, которая посмела бы взять себе в мужья карлика!.. Стоит только кому-нибудь произнести слово «карлик» – и все лица расплываются в улыбках... Неужели я обречен никогда не быть любимым? Никогда не иметь своего домашнего очага? Ну что ж, пускай! Я согласен. Но по крайней мере пусть у меня, как и раньше, останется моя хозяйка. И пусть она не просит меня, чтобы я сам ей привел ее кавалера. Нет! Это уж слишком! Не могу!
Он прижал свои маленькие кулачки к глазам, словно желая скрыть от себя самого страшное видение: его милая Хуана в объятиях ненавистного француза. И снова в его усталом мозгу закружился хоровод мыслей.
«Принцесса – а она ведь человек ученый – сказала мне, что людей можно ранить гораздо сильнее, если нанести удар не им самим, а тем, кто им дорог! Хуана сказал мне, что умрет, если этот проклятый француз не вернется. А ведь именно я отправил этого француза на смерть. Это меня, сама того не зная, Хуана назвала убийцей. Если Хуана умрет, как она сказала, значит, именно я убью ее, и я стану дважды убийцей. Да разве такое возможно? Если Хуаны не станет, я тоже умру. Если же я приведу ей француза, она будет жить, а я, – я нет. Я умру от отчаяния и ревности... Как бы я ни повернул дело, удар приходится по мне. Почему? За что? Какое преступление я совершил? Почему я проклят?»
Внезапно он решительно заключил: «Ну так нет!.. Если мне суждено умереть, я умру, но только она не достанется другому, да еще с моей же помощью! Пусть проклятый француз исчезнет навсегда... Я не сделаю ничего, чтобы спасти его... Или даже убью его своими слабыми руками!.. А потом – кто знает? В конце концов Хуана сама сказала – она, может быть, его забудет и станет любить меня, как раньше, она обещала. Большего я и не прошу, коли мне уж на роду написано, что на большее мне надеяться нечего.»
Итак, маленький человечек вынес окончательный приговор Пардальяну.
Приняв это решение, он заторопился и вскоре достиг дома у кипарисов.
Он направился прямо к воротам и попытался осторожно их открыть. Но ворота не поддались. Карлик улыбнулся.
– Принцесса возвратилась, – прошептал он, – теперь все двери заперты, и внутри есть люди. Надо быть поосторожней. Вот оно как! Мне вовсе не улыбается отправиться к французу на дно реки.
Эль Чико прошел вдоль стены, нагнулся и пошарил в темноте по земле. Когда он выпрямился, в руках у него была тонкая, длинная, прочная веревка с крюком на конце. Он направился к тому кипарису, который рос у стены, раскрутил веревку над головой и набросил ее на дерево. Со второй попытки крюк зацепился за толстую ветку. Карлик потянул веревку – она держалась крепко.
Тогда он стал карабкаться по стволу с ловкостью молодой кошки и вскоре оказался на вершине дерева. Затем он отцепил веревку, обмотал ее вокруг пояса и соскользнул на землю по ту сторону стены.
Эль Чико осторожно направился к тому кипарису, где спрятал свое сокровище. Он забрал мешочек Фаусты, прибавил к нему кошелек дона Сезара и спрятал все это у себя на груди. Цель его экспедиции была достигнута, и несколько минут спустя он был уже за пределами сада.
Карлик вернул веревку на то место, где он ее взял, и направился к реке, но предварительно огляделся, желая убедиться, что за ним никто не подсматривает.
Внизу шумел, катя свои воды, Гвадалквивир. Крутой берег выглядел пугающе. На небольшом расстоянии от поверхности земли, недоступное водяным брызгам, находилось отверстие, темная дыра, забранная железной решеткой с толстыми часто посаженными переплетающимися прутьями.
Эль Чико повис над обрывом как раз над этим отверстием и с ловкостью, которая выдавала немалый опыт, уцепился за решетку. Он ухватил один из прутьев, очевидно давным-давно подпиленный, и без усилия отвел его в сторону. Образовалась квадратная лазейка – даже худой и низкорослый человек не мог бы проникнуть через нее; но карлик легко проскользнул внутрь, после чего поставил прут на место, хотя без этой излишней предосторожности он мог бы и обойтись.
Он очутился в проходе, посыпанном тонким песком; своды прохода были очень низкими, хотя карлик мог идти в нем, не сгибаясь.
Когда-то, во времена владычества мавров, этот канал служил, должно быть, для того, чтобы подводить воду к бассейнам владения.
Позже, когда дом перешел в руки какого-то христианского воина, канал сменил свое назначение. Его превратили в потайной ход, который в случае необходимости должен был служить убежищем. Естественно, его обустроили в соответствии с отведенной ему новой ролью. В частности, в разных местах его перегородили толстыми стенами, предназначенными остановить непрошеных гостей. Однако в каждой из этих стен имелись тщательно замаскированные проходы, которые открывались, если нажать на скрытую пружину.
Затем тайна этих проходов была утеряна; надо полагать, Фауста ничего о них не знала, иначе она непременно предприняла бы все необходимое, чтобы оградить себя от вторжений.
Эль Чико, по-видимому, превосходно знал все повороты и закоулки подземелья, а заодно и всевозможные способы открывания потайных дверей, ибо он шел вперед без малейших колебаний.
Откуда ему стали известны эти секреты? Наверное, благодаря случаю. Должно быть, карлик когда-то нечаянно открыл самую первую дверь. Слабый, как ребенок, одинокий, привыкший к насмешкам и издевательствам, он тотчас понял, что сможет создать себе здесь надежное убежище, о котором никто никогда не догадается. Он ни минуты не раздумывал и сразу же там поселился.
Будучи человеком умным и наблюдательным, Эль Чико вскоре заподозрил, что здесь должно быть что-то еще, а не только открытый тупик. Он принялся искать. Не один месяц и даже не один год потратил он на долгое, терпеливое – камень за камнем – изучение своих владений. К счастью, удача сопутствовала ему, и понемногу он открыл тайну большинства этих ходов. Таким образом, он значительно расширил свою империю – без смертоносных сражений и без пролития крови, если не считать царапин, полученных им, когда он иногда пытался расшатать камень, за которым, как ему подсказывал инстинкт или же логически выведенное умозаключение, должен был скрываться секретный механизм.
Итак, Эль Чико шагал, заставляя глыбы стен вращаться вокруг своей оси или отступать вглубь, а потом вновь вздыматься позади него, одним прикосновением открывая чудовищные железные двери, которые сами собой закрывались за ним; наконец, он подошел к подножию маленькой каменной лесенки, очень узкой и крутой. Хотя карлика окружала полная темнота, ему, казалось, это вовсе не мешало, и он двигался так же легко, как если бы лесенка была освещена.
Он проворно вскарабкался по ступенькам (их было около десяти) и остановился лишь тогда, когда его лоб уперся в свод тоннеля. Тогда он наклонился к ступенькам и пошарил там. Послышался щелчок, и плита, расположенная как раз у него над головой, сама собой бесшумно приподнялась. Прежде чем подняться по двум последним ступенькам, он пошарил с другой стороны, и раздался новый щелчок. Только тогда он переступил через последние ступеньки и проник в подвал, громко произнеся, как то имеют обыкновение делать люди, живущие одни:
– Ну, наконец-то я дома!
И не оборачиваясь, уверенный, что каменная дверь закроется сама собой, маленький человечек сделал два шага вперед, присел на корточки перед подвальной стеной и прикоснулся пальцем к одной из мраморных пластинок. Приведенная в действие пружиной (на нее-то он и нажал, прежде чем войти сюда), пластинка откинулась увлекая за собой всю каменную кладку, на которой она была закреплена.
В итоге получился проем столь низкий, что ему пришлось нагнуть голову, прежде чем шагнуть вперед. Он зажег свечу, чей колеблющийся свет едва освещал ту дыру, куда он проник.
Это был маленький закуток, образованный в толще стены – около шести футов в длину и трех футов в ширину, но достаточно высокий, чтобы человек среднего роста мог стоять, не касаясь головой свода.
Здесь находился ящик, поставленный на четыре ножки. Ящик этот был набит свежей соломой, а на соломе лежали два маленьких матрасика. Белая простыня и одеяло окончательно придавали ему вид удобной кровати.
Здесь был и другой ящик, приспособленный под стол. Был также маленький прочный сундучок, снабженный большими замками, второй столик поменьше, два маленьких табурета и крохотная домашняя утварь, причем все это сверкало чистотой. Казалось, то были кукольные покои.
Таков был дворец Эль Чико.
Закуток проветривался через отдушину, перед которой Эль Чико соорудил нечто, отдаленно напоминающее деревянный ставень.
Теперь, когда карлик зажег свечу, он, предосторожности ради, закрыл ставень, чтобы свет не выдал его присутствия в том случае, если бы принцессе или кому-то из ее людей взбрело в голову спуститься в подвалы дома.
Но он не вернул на место пластину, маскировавшую вход в его жилище. Он был так уверен, что с этой стороны ему не угрожает никакая опасность.
Чико положил мешочек с золотом на стол, сел на один из своих табуретов и, облокотившись на стол, уронив голову на руки, стал думать.
Случилось то, чего так боялась Фауста: Пардальян не погиб от яда.
После нескольких часов сна, скорее походившего на смерть, наступило долгое медленное пробуждение. Пардальян сел и мутным взором обвел странное место, где он находился. Под воздействием усыпляющих испарений, которыми был насыщен воздух, его мозг словно оцепенел, как если бы пропитался винными парами; в голове – ни единой мыли, все тело ломит.
Однако понемногу одурманивающее действие снадобья рассеялось, голова прояснилась, заработала память; к шевалье полностью вернулось сознание, а вместе с ним – хладнокровие и та вера в себя, что делали его столь грозным.
Впрочем, он не был особенно удивлен, обнаружив, что жив. Он этого ожидал.
В самом деле: Пардальян не был обманщиком, он, выражаясь современным языком, не блефовал. Наоборот, он был человеком искренним, убежденным в том, что он говорит. Так было и тогда, когда он уверял Фаусту, что победит яд и выйдет живым из своей гробницы...
Почему? Чем подкреплялась эта уверенность?
Возможно, он и сам затруднился бы это объяснить. Ясно было одно: уверенность эта у него была, а об ее корнях он не задумывался.
Любой другой на его месте стал бы осторожничать с Фаустой и не открывать ей своих мыслей. Но Пардальян был человек искренний, можно даже сказать, простодушный, его правдивость иногда прямо-таки обескураживала. И не его вина, если эти откровенность и прямодушие воспринимались иными как дипломатичность, хитрость, а то и пронырливость. Это объяснялось единственно тем, что большинство изворотливых натур невосприимчивы к доброте и искренности.
Пардальян считал, сам не зная почему, что ему удастся избегнуть чудовищной смерти, уготованной ему Фаустой. Он так полагал и так сказал, даже не задумываясь о печальных последствиях, которые могла иметь его откровенность.
Итак, вновь обретя способность рассуждать, он ничуть не удивился тому, что яд на него не подействовал, и съехидничал:
– Да, не везет госпоже Фаусте со мной! Не надолго хватило ее яда. А ведь я ее предупреждал! Теперь мне ничего не остается, как осуществить вторую часть моего предсказания и выйти отсюда живым и невредимым прежде, чем меня одолеют голод и жажда. Что ж, придется мне опять расстроить госпожу Фаусту; она, право, слишком уж милостива ко мне, так и осыпает благодеяниями.
«Выйти отсюда» – сказал шевалье; однако же как это сделать? Есть ли выход? И Пардальян прошептал:
– Посмотрим! Последние сутки я только и делаю, что воюю со всяческими хитрыми механизмами, которые столь любезны сердцу господина Эспинозы.
Разрази меня гром, если эта могила тоже не оснащена какими-нибудь пружинами! Кроме того, я знаю мою Фаусту: она наверняка оставила себе какой-нибудь ход, чтобы при желании убедиться в моей смерти. А такое желание у нее наверняка возникнет. Поэтому – поищем!
И Пардальян принялся за поиски методичные, тщательные, терпеливые, насколько это было возможно в окружавшей его кромешной темноте.
Однако он со вчерашнего дня, по существу, так и не отдохнул. Кроме того, очевидно, мерзкое снадобье очень подорвало его силы, так что уже через несколько минут ему пришлось остановиться.
– Черт, – пробормотал он, – думается мне, эти поиски могут затянутся и оказаться куда более трудными, чем хотелось бы. От яда госпожи Фаусты ноги сделались ватные. Так не будем же понапрасну тратить силы. Пусть его действие полностью рассеется, а мы пока отдохнем.
С этими словами Пардальян, за неимением табурета, уселся на свой сложенный плащ, расстеленный на плитах, и стал ждать, когда силы вернутся к нему. Пользуясь временем, он добросовестно изучал топографию своей камеры, дабы облегчить, насколько это возможно, свои поиски.
Через некоторое время шевалье почувствовал себя окрепшим и решил возобновить свои труды.
Но внезапно, вместо того, чтобы подняться на ноги, шевалье растянулся плашмя, прильнув ухом к плитам. Почти тотчас же он прошептал с лукавой улыбкой на лице:
– Черт возьми! Или я сильно ошибаюсь, или вот тот, кто избавит меня от долгих поисков. Если мне посылает его госпожа Фауста, желая со мной покончить...
Тут он в тревоге замолчал, и на лбу у него выступил пот.
«Если их несколько, что весьма вероятно, – подумал он, – хватит ли у меня сил для схватки?»
Он сел на корточки и стал бесшумно разминать кисти рук.
– Хорошо! – произнес он скоро с удовлетворенной улыбкой. – Если их не слишком много, может и удастся выкрутиться.
Шевалье прижался к стене, вслушиваясь и вглядываясь, готовый действовать.
Он увидел, как одна из плит прямо перед ним слегка шевельнулась. Он быстро подошел, устроился поудобней, встав на колени, и стал ждать.
Теперь плита, толкаемая невидимкой, медленно поднималась и, поднимаясь, скрывала собой сидящего Пардальяна.
Не двигаясь с места, он вытянул вперед руки, готовые сомкнуться на шее врага, которого он ожидал здесь, у зияющего отверстия.
Но его кулаки не обрушились на пришедшего.
Пардальян с удивлением увидел не вооруженных людей, а вошедшего в подземелье Чико, которого шевалье сразу же узнал и ошеломленно прошептал:
– Карлик!.. Неужто он один? Зачем он сюда пришел?
А карлик, словно желая побыстрее предоставить ему необходимые сведения, громко воскликнул:
– Ну, наконец-то я дома!
«Дома! – подумал Пардальян, глядя по сторонам. – Не ночует же он в этой могиле!»
Плита опускалась сама собой, но шевалье это уже больше не занимало. Теперь у него на уме было другое. Он не спускал глаз с Эль Чико.
«Какого черта он здесь делает?» – думал он.
Эль Чико, который, как мы видим, совершил крупную неосторожность, не обернувшись назад, тем временем открыл дверь своего жилища и зажег свечу.
– Ага! – восторженно прошептал Пардальян. – Так вот что он называет своим домом! Разрази меня гром, если бы я хоть когда-нибудь смог открыть секрет всех этих ходов. Однако с этим человечком я бы не прочь познакомиться поближе!
Эль Чико, кроме того, допустил и вторую неосторожность, оставив свою дверь открытой. Пардальян тут же ползком приблизился к проему и бросил нескромный взгляд внутрь. Он невольно испытал восхищение перед изобретательностью маленького человечка, проявленной им при обустройстве своего таинственного убежища.
«Бедняга-малыш! – с жалостью подумал шевалье. – Да как же он может там жить? И возможно ли, чтобы человеческое существо было вынуждено поселиться в склепе, жить без воздуха, без света, лишь бы укрыться от людской злобы – и все только потому, что оно слабо и одиноко!»
В порыве великодушия Пардальян забыл о своем предубеждении против карлика, которого он не без оснований подозревал в сговоре с Фаустой. Природная доброта шевалье взяла верх над злопамятством, и теперь он испытывал лишь бесконечную жалость к несчастному обездоленному человечку.
Карлик сел за свой стол, спиной к проему, через который Пардальян мог свободно наблюдать за ним. Чико, впрочем, и в голову не приходило, что он «у себя дома» не один и что за ним следят.
Малыш долго сидел в задумчивости, а потом протянул руку к мешочку и высыпал его содержимое на стол.
«Гром и молния, – мысленно воскликнул Пардальян, услышав звон катящихся монет, – да этот маленький нищий богат, как покойный Крез. Где же он взял золото?»
Словно отвечая на невысказанный вопрос шевалье, карлик произнес:
– Да, здесь действительно пять тысяч ливров. Принцесса не обманула.
«Чем дальше, тем лучше, – сказал себе Пардальян. – Он купается в золоте и знается с принцессами. Остается только предположить, что он и сам принц, превращенный в карлика каким-нибудь злым волшебником.»
Но внезапно его осенило, и глаза его вспыхнули гневным огнем.
«Трижды дурак! – выругал он себя. – Да ведь эта принцесса – Фауста... Это золото – цена моей жизни... Как раз ради того, чтобы получить это золото, гнусный недомерок и завел меня в ловушку, куда я устремился очертя голову. Не знаю, что мне мешает поколотить его, как он того заслуживает.»
Карлик убрал золото обратно в мешочек и крепко-накрепко завязал его, а затем подошел к сундучку, вытащил оттуда пригоршню серебряных монет и разложил их на столе. Он опорожнил еще и кошелек, полученный им от дона Сезара, и принялся вслух считать деньги:
– Пять тысяч сто ливров и еще несколько реалов.
Он стоял перед столом, и Пардальян видел его в профиль!
«У него зловещий вид, – подумал шевалье. – А ведь пять тысяч ливров составляют кругленькую сумму. Быть может, он скупец?»
– Я богат! – повторил Чико с хмурым видом. И гневно воскликнул:
– Но к чему мне это богатство? Хуана никогда не взглянет на меня, она любит француза!
«О черт! – мысленно вскричал Пардальян. – Ну и ну, вот это новость! Теперь я начинаю понимать. Это не скупец, это влюбленный... и ревнивец. Бедный маленький чертенок!»
– Но француз умер! – продолжал Чико.
«Я умер? Еще чего не хватало!.. Подумать только, сколько я встречаю людей, жаждущих непременно загнать меня в гроб и хорошенько заколотить крышку. Это, в конце концов, даже скучно! Что у них, других дел нет, что ли?»
– Зачем мне все это?.. Ладно, раз я не могу получить руку Хуаны, я потрачу это золото на подарки для нее. Тут есть на что купить украшений и богато расшитых плащей, и платьев, и шалей, и мантилий, и премиленьких туфелек из атласа и даже из кордовской кожи – она такая мягкая и душистая... Всего накуплю!.. Боже мой, до чего нарядной станет моя Хуана! Нарядной и... счастливой! Ведь она так любит красивые вещи!
Чико весь сиял.
«Где только, черт подери, не гнездится любовь!» – мелькнуло в голове у Пардальяна.
Внезапно радость карлика угасла. Он простонал:
– Нет! Я не могу иметь даже такой радости. Хуана удивится, увидев, что я так богат. Она ведь все понимает, вот оно как! Она, возможно, догадается, откуда у меня появилось мое богатство. Она прогонит меня, она бросит мне в лицо мои подарки и назовет убийцей. Нет! Это золото проклято, это цена крови, и я не могу им воспользоваться... Напрасно я стал преступником!
И он яростным жестом смахнул со стола мешочек, который со звоном покатился по плитам.
«Смотрите-ка! – хмыкнул Пардальян, и глаза его заискрились. – А мне, пожалуй, нравится этот коротышка!»
Чико взволнованно ходил взад-вперед по своей комнате. Вот он остановился прямо перед проемом, нахмурился, невидяще уставился глазами в пространство и прошептал:
– Убийца... Хуана так и сказала: я – убийца... Да, я заслужил этот титул по тому же праву, что и люди, своими руками убившие француза... и даже больше их... Вот оно как! Если бы не я, он бы не погиб... Это я, я виноват в его смерти... И как я мог решиться на такое?! Видно, ревность совсем свела меня с ума... Но теперь, когда моя хозяйка произнесла это ужасное слово: «Убийца!», я все понял, и стал отвратителен самому себе!..
Пардальян не пропустил ни слова, со страстным вниманием следя за всеми этапами битвы, которая происходила в душе карлика.
А тот опять вернулся к своим размышлениям, излагая их вслух; Пардальян же перемежал их тихими комментариями.
– А может, француз не умер?
– Об этом надо было подумать с самого начала! – усмехнулся Пардальян.
– А вдруг его еще можно спасти? Ведь я обещал Хуане.
– Вот уж не думал, что малышка Хуана так живо мною интересуется!
– Если француз умер, то Хуана тоже умрет, а я умру сразу вслед за ней.
– Да нет же, нет! Не хочу я иметь все эти смерти на своей совести, черт подери!
– Если француз жив и я его спасу...
– Вот так-то лучше!.. Ну, и что ты сделаешь в таком случае?
– Хуана будет счастлива... Француз полюбит ее.
– Клянусь рогами дьявола, нет! Не полюблю я ее, глупец!
Чико, словно услышав Пардальяна, продолжал:
– Конечно, полюбит! Ведь она такая хорошенькая!
– Чтоб они провалились, эти влюбленные! Все они одинаковы – воображают, будто вся вселенная только и смотрит, что на предмет их страсти.
– Француз полюбит ее, и тогда я умру.
– Опять! Право слово, это просто мания какая-то!
– В конце концов, что за важность? Кому какое дело до меня? Я искуплю причиненное мною зло. Я больше не буду убийцей, моя хозяйка будет обязана мне своим счастьем, и я смогу уйти из жизни довольным – может быть, обо мне станут даже сожалеть!
– Клянусь честью, вот замечательная мысль, вполне достойная этого влюбленного безумца!
– Решено. Я обыщу все известные мне тайники.
– Отлично! Далеко идти не придется, – произнес шевалье, исподтишка посмеиваясь.
Стараясь не шуметь, он отошел вглубь камеры, завернулся в плащ, растянулся на каменных плитах и притворился крепко спящим.
Карлик продолжал:
– А если я его не найду... если он умер... завтра я отравлюсь к принцессе и потребую его вернуть.
С горькой улыбкой он заключил:
– Без всякого сомнения, она отправит меня вслед за ним. Тогда Хуана так никогда и не узнает страшную правду. Она решит, что я погиб, стараясь спасти его, и будет оплакивать меня.
Он пробормотал еще несколько неясных слов, потом неожиданно загасил свечу и вышел, напутствуя себя:
– Вперед!
Тотчас же его внимание привлекла какая-то тень на белых плитах пола. Это был Пардальян, притворившийся спящим. Эль Чико вздрогнул:
– Француз!
Карлик почувствовал, что вот-вот упадет без сознания. Он не ожидал, что найдет своего соперника так быстро... Да еще здесь, у себя под боком... Чико удивленно пробормотал:
– Но как же это я не увидел его, когда входил? Ах да, плита скрывала его, а я не посмотрел назад. Кто бы мог предположить... Я еще так громко говорил сам с собой!..
Карлик тихонько подошел к Пардальяну; тот, казалось, спал глубоким сном, однако краешком глаза следил за Чико.
«Неужели он умер?» – мелькнуло в голове у карлика.
От этой мысли его бросило в дрожь – он сам не понимал, что было тому причиной: радость или страх.
Битва между добром и злом длилась уже долго. Но теперь добро одержало окончательную победу: Чико был исполнен решимости спасти своего соперника и был бы крайне удивлен, если бы ему сказали, что он совершает героический поступок. Он знал лишь одно: нельзя допустить, чтобы Хуана ненавидела его и называла убийцей. Вот и все. Остальное не имело значения.
Маленький человечек наклонился над шевалье, прислушался и уловил негромкое ровное дыхание.
– Он спит! – произнес карлик.
И хотя его одолевала неприязнь к французу, он все же невольно воздал ему должное и прошептал, тихонько кивая головой:
– Он храбрый. Он спит, а ведь наверняка знает, что его ждет, знает, что его могут убить прямо во сне. Да, он храбр; возможно, именно потому-то Хуана и любит его.
Без горечи, без зависти, просто констатируя очевидное, он заключил:
– Я тоже был бы храбрым, если бы был таким же сильным, как он... По крайней мере, мне так кажется.
Эль Чико и не подозревал, что тот, чьей смелостью он восхищался, лишь притворяется спящим и сам восхищается его, карлика, смелостью, которую тот в себе и не подозревал.
Глава 25 ЧИКО ОТКРЫВАЕТ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ ДРУГ
Карлик осторожно тронул шевалье за плечо. Тот сделал вид, будто внезапно проснулся, и сделал это так естественно, что у Чико и мысли не возникло, что его обманули. Пардальян сел; даже в таком положении он был на добрых пол головы выше карлика, стоявшего перед ним.
– Чико? – воскликнул изумленный Пардальян. И добавил жалостным голосом:
– Бедный малыш, и ты тоже стал узником! Ты и не подозреваешь, на какую чудовищную казнь нас обрекли.
– Я не узник, сеньор француз, – строго сказал Чико.
– Ты не узник? – вскричал безмерно удивленный Пардальян. – Но что же тогда ты делаешь здесь, несчастный? Разве ты не слышал: нас ждет смерть, отвратительная смерть.
Чико, явно сделав над собой усилие, глухо сказал:
– Я пришел за вами.
– Зачем?
– Чтобы спасти вас, вот оно как!
– Чтобы спасти меня? Ах, черт!.. Значит, ты знаешь, как отсюда выйти?
– Знаю, сеньор. Смотрите!
И с этими словами Чико подошел к железной двери и, не тратя ни секунды на поиски нужного места, нажал на один из огромных гвоздей, которыми были прибиты металлические листы.
Шевалье – он стоял неподвижно и лишь глядел на то, что предпринимает карлик – вздрогнул:
«Сколько драгоценного времени я потерял бы на бесплодные поиски, прежде чем обратил бы внимание на дверь!»
Один из железных листов отошел в сторону.
– Вот! – сказал Чико просто.
– Вот! – повторил Пардальян с самым простодушным видом. – Так это отсюда ты пришел, пока я спал?
Чико утвердительно кивнул.
– Я ничего не слышал. Этой дорогой мы и выберемся?
Новый кивок головы.
– Ты не слишком-то разговорчив, – заметил Пардальян и улыбнулся при мысли о том, что минуту назад карлик, считая, что он здесь один, был гораздо менее скуп на слова.
– Нам лучше уйти побыстрее, сеньор, – сказал Чико.
– Время у нас еще есть, – ответил Пардальян флегматично. – Так ты знал, что я заперт здесь? Ведь ты же сам заявил, что пришел за мной, не так ли?
Этот вопрос, по-видимому, привел карлика в замешательство, и он предпочел промолчать.
– Но ты же сам мне это сказал, – настаивал шевалье.
– Да, сказал. Я вас и вправду искал, но не знал, что вы находитесь именно здесь.
– Тогда почему же ты сюда пришел? Что ты здесь делаешь?
Все эти вопросы очень тревожили карлика, но Пардальян, казалось, ничего не замечал. Припертый к стене Чико, наконец, буркнул:
– Я здесь живу, вот оно как!
И ему пришлось сразу же пожалеть о своих словах.
– Здесь? – недоверчиво произнес Пардальян. – Ты, наверное, смеешься надо мной! Ведь не живешь же ты в этом подобии склепа?
Карлик пристально посмотрел на шевалье. Эль Чико вовсе не был дураком. Он ненавидел Пардальяна, но его ненависть не доходила до ослепления. Неясный инстинкт подсказывал ему что надо любить и чем восхищаться, а что, напротив, осуждать и порицать. Если бы он мог, он убил бы Пардальяна, в котором видел своего счастливого соперника, не испытывая никаких угрызений совести за это убийство. Однако он почувствовал, что человек, отправляющий своего соперника на тот свет ради некоей суммы денег, совершает низкий поступок. И он, бедный малый, живущий мелкими кражами или подаянием, с отвращением отбросил эти деньги, первоначально им принятые!
Да, он ненавидел Пардальяна. Однако он воздал должное храбрости своего врага, мирно спавшего, когда у его изголовья стояла смерть. Он ненавидел Пардальяна; но вглядываясь в это лицо, которое светилось прямодушием и на котором, как ему казалось, он различал выражение жалости и сочувствия, он инстинктивно понял: у его соперника благородное сердце, и он, карлик, может рассчитывать на то, что его не предадут.
Маленькому человечку стало стыдно за свои колебания, и он ответил откровенно:
– Да, я здесь живу.
Он приоткрыл вход в свой закут и зажег свечу. У Пардальяна было свое на уме, и он проник в комнатку вслед за Эль Чико, говоря:
– Отлично! Теперь здесь все видно. Так-то лучше. С наивной гордостью карлик поднял свечу, чтобы лучше осветить жалкую роскошь своего жилища. Он совсем забыл, что тем самым он ярко осветил и мешочек с золотом, валявшийся на полу. Он не заметил, что смеющиеся глаза Пардальяна сразу же обратились к этому мешочку.
– Замечательно! – восхитился шевалье, и этот комплимент заставил карлика вспыхнуть от удовольствия. (Эль Чико был поражен, однако, тем, что вдруг ощутил к французу нечто вроде симпатии.) – И все же, как ты можешь здесь жить, ведь это напоминает могилу? – добавил Пардальян.
– Я маленький. Я слабый. Люди не всегда добры ко мне. А здесь я в безопасности.
Пардальян с жалостью взглянул на него.
– И тебя тут никто не тревожит? – спросил шевалье безразлично.
– Никогда!
– А люди из дома, оттуда, сверху?
– И они тоже. Никто не знает этого тайника, вот оно как! В этом доме есть и другие тайники, о которых никто не догадывается, кроме меня.
Чтобы оказаться почти вровень со стоящим карликом, Пардальян уселся прямо на пол.
И сам не зная почему, растерянный Чико был тронут этим жестом, как ранее был тронут похвалой своему жилищу. Он понял, что этот сеньор, такой храбрый и такой сильный, согласился сесть на холодные плиты только для того, чтобы не подавлять своим великолепным ростом его, Чико. Он уже привык испытывать к своему сопернику только ненависть и теперь пребывал в полном смятении, чувствуя, как его ненависть отступает; он был ошеломлен, ибо ощущал, ' как постепенно в нем зарождается чувство, похожее на симпатию; он был изумлен этим и в то же время злился на самого себя.
Не очень задумываясь над тем, что он говорит, он произнес, может быть желая скрыть странное волнение, обуревающее его.
– Сеньор, пора уходить, поверьте мне.
– Ба! Торопиться некуда. Ведь, как ты говоришь, никто не знает этого тайника, так что ни один человек не потревожит нас здесь.
– Дело в том, что... я не могу вывести вас там, где я обычно прохожу.
– Почему?
– Вы слишком большой, вот оно как!
– Черт возьми! И что же теперь? Ты знаешь другой путь, где я смогу пройти? Да?.. Отлично.
– Понимаете, но на этом пути нам может кое-кто повстречаться.
– Стало быть, это подземелье обитаемо?
– Нет, но иногда там бывают люди... они собираются и что-то обсуждают... Сегодня у них как раз собрание.
Карлик говорил осторожно, как человек, который не хочет сказать больше, чем следует. Пардальян не сводил с него глаз, отчего смущение Эль Чико только увеличивалось.
– И что же это за люди? – с любопытством спросил шевалье.
– Не знаю, сеньор.
Это было сказано очень сухо. Пардальян понял, что карлик ничего больше ему не скажет. Настаивать было бесполезно. Шевалье чуть улыбнулся и прошептал:
– Неболтлив!
Вслух же произнес с видом совершеннейшего простодушия, который вводил в заблуждение людей и похитрее Эль Чико:
– А знаешь, я был приговорен к смерти. Да, я должен был умереть от голода и жажды.
Шевалье не сводил глаз с карлика. Маленький человечек пошатнулся. Мертвенная бледность разлилась по его лицу.
– Умереть от голода и жажды, – пробормотал он, запинаясь. – Это ужасно.
– Да, в самом деле, довольно ужасно. Ты, наверное, и представить бы себе такое не мог? Это придумала одна принцесса из числа моих знакомых... ты-то ее не знаешь, к счастью для тебя.
Пардальян произнес эти слова самым естественным тоном, ласково улыбаясь. Однако карлик покраснел и отвел взор. Ему казалось, что чужестранец хочет, чтобы он почувствовал, сообщником какого чудовищного преступления он, Чико, стал.
Содрогаясь от ужаса, маленький человечек говорил себе: «Стало быть, принцесса дала мне пять тысяч ливров, желая уморить француза голодом и жаждой! И я согласился помочь ей! Что бы сказала моя хозяйка, если бы узнала, что я оказался таким негодяем? А принцесса – она выглядела такой доброй! Значит, это настоящее чудовище, порождение ада?»
Маленький человечек не узнавал сам себя. В его душе зародилось нечто такое, о чем он никогда даже и не подозревал. С уважением, к которому примешивался суеверный ужас, он смотрел на этого чужеземца – насмешливо улыбаясь, тот с самым невинным видом произносил очень простые вещи – и тем не менее эти простые вещи порождали в голове Эль Чико сумятицу, какие-то неясные мысли; эти мысли причиняли ему боль, он не совсем понимал их, они мешались в его голове с мыслями давно привычными.
Что же за человек был этот француз? Сила его взгляда и очарование улыбки были совершенно удивительны, в то время как с губ его слетали самые заурядные слова. Что же это за человек, вносящий в сердце Чико такое смятение?
Почему же, раз уж Чико его ненавидел – а Чико ненавидел его всеми силами души, вот оно как! – почему же мысль об этой страшной казни, которая должна была бы его обрадовать, наполняла его душу ужасом и отвращением? Почему? Что такого особенного было в этом французе?
Между двумя людьми, равно простодушными и добрыми, всегда существует тайное родство, так что они с первого взгляда верно оценивают друг друга. Пардальян был плохо знаком с карликом и имел веские причины полагать, что именно благодаря коротышке он попал в эту передрягу. Почему же шевалье не испытывал к нему никакого гнева, а одну только жалость? Почему в его голове неожиданно созрел план: как вытащить это маленькое и чужое ему существо из той пучины отчаяния, куда, как шевалье видел, тот погружается? Почему?
Карлик тоже не был знаком с Пардальяном. У него были все основания ненавидеть его смертельной ненавистью. Почему же он внезапно ощутил, что эта ироническая усмешка, что это лукавое простодушие – всего лишь маска? Как он угадал, что под этой маской таятся доброта и бескорыстие? Почему, хотя он уверял себя, что его сердце пылает только ненавистью, он чувствовал, что его влечет к тому, кого он ненавидит? Почему, наконец (это может показаться противоречием), почему эта насмешливая улыбка обладала способностью раздражать его, хотя он и видел, что за ней не кроется ничего, кроме доброты? Почему? Мы лишь констатируем и никоим образом не беремся объяснить этот феномен.
Однако не следует полагать, будто карлик добровольно, без боя сдавался, отступая перед новыми, зарождающимися в его сердце чувствами. Эти чувства приводили его в величайшую растерянность, и он не мог поддаваться им, не сопротивляясь. И потому он напрягал всю свою волю, чтобы избежать влияния, казавшегося ему почти сверхъестественным. Насколько это было в его силах, карлик разжигал в себе ненависть, но в конце концов вынужден был признать, яростно проклиная свое, как он считал, малодушие, что это бесполезно. Впрочем, всякий раз, как он чувствовал, что вот-вот уступит, он вновь восставал с неистовством, кажущимся ему искренним, – но вряд ли оно обманывало грозного противника, с которым он вступил в схватку.
Короче говоря, Пардальяну Чико отчасти напоминал чистокровного, но необъезженного скакуна, несущего на себе первоклассного всадника: как он ни встает на дыбы, как ни брыкается, ловкая и твердая рука, не нуждающаяся в хлысте, принуждает его успокоиться и покорно следовать по нужной всаднику дороге.
Видя, что Чико молчит, Пардальян, внезапно посерьезнев, продолжал:
– Ты видишь, от какой чудовищной казни ты спас меня! Я не богат, Чико, но, начиная с сегодняшнего дня, все, чем я обладаю, принадлежит тебе. Я хочу, чтобы ты стал мне вроде братишки. Тебе больше не понадобится, словно загнанному зверьку, зарываться в нору. Шевалье де Пардальян станет опекать тебя, а ты должен знать, что люди почитают тех, кого он любит и уважает. Вот тебе моя рука, Чико.
Произнеся эти слова, Пардальян торжественно протянул свою руку, и в его глазах блеснуло лукавство.
Карлик секунду оставался в нерешительности. Может быть, тот особый инстинкт, что направлял его, помог ему уловить это почти незаметное лукавство? Трудно сказать. Но так или иначе, он живо попятился и, словно опасаясь обжечься от соприкосновения с этой протянутой к нему и дружески раскрытой рукой, отвел свою ручку за спину.
Пардальян не рассердился. Легкая насмешка в его взгляде сделалась заметнее благодаря улыбке.
– Эй, Чико, ты что же, считаешь себя слишком важным сеньором, чтобы пожать мою руку? Проклятье! Да будет тебе известно, я протягиваю ее очень немногим.
– Дело не в этом, – пролепетал карлик, сам не зная, что он говорит.
– В таком случае, твою руку!.. Нет? А может, ты считаешь себя недостойным пожать мою руку? – произнес Пардальян с безразличным видом, но с той неизменной иронической улыбкой, которая особенно раздражала карлика...
Чико посмотрел французу прямо в лицо и вызывающе бросил:
– А даже если и так?
Голос его дрожал от стыда... или от ярости.
– Ого! Да ты возмущен, как я погляжу! Разве ты не тот славный малый, каким я тебя считал? Что же за преступление ты совершил?
Карлик, до сих пор сдерживавшийся, внезапно взорвался, раздираемый противоречивыми чувствами.
– Я не хочу вашей дружбы, – в бешенстве закричал он. – Я не хочу вашего покровительства, я не хочу прикасаться к вашей руке! Я не хочу от вас ничего, ничего, ничего!.. Это я привел вас сюда, и я знал, что вас хотели убить... Я знал это, вы слышите? И мне заплатили за мои труды... Да, мне дали пять тысяч ливров... смотрите, вот они! – добавил он, яростно отшвырнув ногой мешочек; тот подкатился к сапогам Пардальяна, и золотые монеты со звоном рассыпались по полу.
– Значит это ты сделал? – грозно вопросил шевалье.
– Да, я, вот оно как! – подтвердил карлик, смело выдержав его взгляд.
– Ах, ты?! – проговорил Пардальян ледяным тоном. – Ну что ж, молись, настал твой последний час.
И не поднимаясь с поля, он положил свои мощные руки на хрупкие плечи Эль Чико, мгновенно присевшего под такой тяжестью.
При виде жалости, мелькавшей порой в глазах шевалье, карлика охватывала нерешительность; он не знал, что делать, как себя держать. Но при виде иронической улыбки на лице француза Чико обуревала ярость – невзирая на свой маленький рост и свою слабость, он был весьма обидчив.
Почуяв гнев Пардальяна – Чико, разумеется, не понял, что шевалье разыгрывает его, – карлик обрел спокойствие, которого до сих пор ему так недоставало. А поскольку все чувства у этого странного человечка достигали своего крайнего выражения, то он и продемонстрировал хладнокровие, которое свидетельствовало о его замечательной храбрости.
Чико даже не поднял руку, чтобы защититься, не попытался увернуться. Под мощным нажимом он постарался горделиво выпрямиться, и его взгляд – прямой, бесстрашный, вызывающий – устремился на противника. Все его тело, казалось, подалось навстречу смертельному удару – возможно, именно его карлик и желал.
Кажется, он нашел, наконец, достойный выход, который тщетно искал до сих пор: умереть задушенным, раздавленным своим врагом.
Да, умереть!.. Но вместе с ним погибнет и его враг. Как он выйдет отсюда, если убьет карлика? Правда, выход из камеры Чико французу показал. А дальше?
Лестница вела к тупику, откуда шевалье, не зная секрета, открывающего перегородку, никогда не сможет выйти. Он просто сменит одну могилу на другую. И карлик почувствовал некоторое презрение к своему сопернику – такому сильному, такому храброму... и такому глупому! Конечно, глупому; ведь убивая сейчас его, Чико, француз подписывает свой смертный приговор.
Погибнуть немедленно, сейчас же! Он только этого и хотел, вот оно как! Он терял Хуану, однако, по крайней мере, она не доставалась и Пардальяну.
Да, решительно, это был хороший выход. Но...
Но случилось так, что ненавистный соперник ослабил свою хватку. Случилось так, что ирония в его взгляде уступила место такой нежности, лицо, еще секунду назад столь грозное и ужасное, выразило такую доброту, такое благодушие, что Чико, смотревший ему прямо в глаза, почувствовал, как им вновь овладевает смятение, и в невольном порыве он не прокричал: «Берегитесь!», а тихонько проговорил, не пытаясь вырваться:
– Если вы убьете меня, то как вы отсюда выйдете?
– Чума меня побери! Клянусь честью, то, что ты говоришь, совершенно справедливо! А я и не подумал об этом! Но будь спокоен – ты еще свое получишь, – пообещал Пардальян.
С этими словами он отпустил маленького человечка. И как только шевалье это сделал, на его губах вновь появилась привычная, сводящая Чико с ума улыбка... О, едва заметная! Но Чико угадывал ее. Он пожалел обо всем и, словно желая вызвать ярость этого человека, приводящего его в замешательство, сказал вызывающе:
– Пойдемте. А после того, как я вас спасу, вы сможете меня убить. Клянусь вам – я не буду пытаться избежать смерти, которой вы мне грозите.
И добавил тихо, еле слышно:
– И тогда придет освобождение!
– Так ты желаешь себе гибели?
Чико исподлобья посмотрел на шевалье: ведь я же говорил очень тихо, а этот дьявол все-таки услышал! Если я хочу умереть, то это мое дело! Зачем француз во нее вмешивается? Ну, раз Чико так глупо пропустил удачную возможность умереть, остается лишь спасать соперника.
– Пойдемте, сеньор, – сказал он холодно, – скоро будет поздно.
– Да погоди ты! Какого черта?! Знаешь, я человек любопытный. Прежде всего я хочу знать, почему ты отправил меня на смерть?
На сей раз знаменитая улыбка сверкала уже вовсю. Да еще этот насмешливый голос – Эль Чико уже начинал привыкать к нему.
В глазах маленького человечка, устремленных прямо на Пардальяна, полыхнуло пламя, и он выдохнул все свои чувства в ребяческом крике:
– Потому что я вас ненавижу! Ненавижу!
В своей ярости он нашел лишь эти слова и исступленно повторял их, топая ногами.
– Вот как, значит ты меня ненавидишь? – спокойно улыбнулся Пардальян.
– Я настолько ненавижу вас, что убил бы, если бы не пообещал вас спасти! – выведенный из себя, Эль Чико скрежетал зубами.
– Ты бы убил меня! – расхохотался Пардальян. – Ну-ну! Да чем же, бедный малыш?
Карлик подскочил к своей кровати и вытащил оттуда кинжал, спрятанный между двумя матрасами.
– Вот этим! – крикнул он, размахивая грозным оружием.
– Смотрите-ка! – мирно заметил Пардальян. – Да это же мой кинжал!
– Да, – сказал Эль Чико с неистовством, которое он пытался выдать за цинизм, – пока вы перелезали через стену, я украл его у вас! Украл! Украл!
Он произносил эти слова, казалось, испытывая горькое удовольствие, хлеща себя ими, словно кнутом. Пардальян отвечал с невозмутимым спокойствием:
– Ну, раз уж у тебя есть оружие и раз ты хочешь моей смерти, так убей меня.
На сей раз шевалье посмотрел на карлика без малейшей насмешки, а только с каким-то любопытством.
Обезумев, карлик занес руку.
Пардальян не пошевелился. Он продолжал холодно смотреть на него.
Рука карлика медленно опустилась. Малыш со злостью зашвырнул кинжал в самый угол и обиженно простонал:
– Я не хочу! Не хочу!
– Почему?
– Потому что я обещал...
– Это ты уже говорил. Кому ты обещал, дитя мое?
Невозможно передать мягкую нежность, с какой шевалье произнес эти слова. Его голос был теплым, ласковым; весь его облик излучал симпатические флюиды столь мощные и обволакивающие, что Чико был потрясен этим до глубины души. Его бедное маленькое сердечко, сжавшееся так, что, казалось, он вот-вот задохнется, оттаяло, из глаз брызнули кроткие, благодетельные слезы, а с губ полилась однообразная жалоба, подобная плачу младенца:
– Я слишком несчастен! Слишком несчастен! Да-да, несчастен!
«Отлично, – подумал Пардальян, – он плачет – значит, он спасен! Теперь мы сможем понять друг друга.»
Он притянул карлика к себе, прижал его маленькое личико, омытое слезами, к своей широкой груди и с нежностью брата стал тихонько укачивать Чико, приговаривая что-то успокаивающее.
У карлика за всю его жизнь никогда не было друга, никогда его отчаяние не было скрашено ничьим участием, и потому он всей душой потянулся к этому благородному сердцу, бесконечно взволнованный и в то же время удивленный; он ощущал, как от соприкосновения с этой великодушной натурой в нем возникает сладкое чувство, в котором слились благодарная нежность и зарождающаяся привязанность.
А те, кто знал лишь грозную силу, холодное бесстрашие, неукротимую храбрость, бьющее наотмашь слово и ироническую улыбку необычайного человека по имени шевалье де Пардальян, были бы чрезвычайно озадачены, если бы увидели, как нежно, по-братски он обнимает и утешает этого обездоленного, с какой неожиданной добротой он умудряется найти нужные слова для этого бродяги, нищего, с которым еще накануне он даже не был знаком... и который пытался погубить его.
Однако Чико был мужчина, вот оно как! Он собрал все свои силы, и ему удалось справиться со слабостью.
Он потихоньку высвободился и посмотрел на Пардальяна так, словно никогда его не видел. В глазах маленького человечка не было больше ни гнева, ни возмущения. В них не было и того выражения тоскливой безнадежности, что так взволновало Пардальяна. В этих глазах застыло сейчас лишь выражение безмерного удивления – Чико был ошеломлен и тем, что, как он сам ощущал, он стал совсем другим, и тем, что он совершенно не узнает человека, одной встречи с которым оказалось достаточно, чтобы в нем произошла эта так поразившая его самого перемена.
Теперь, когда он уже мог смотреть на француза без прежней ненависти, Эль Чико, рассматривая его, с простодушным восхищением говорил себе:
– Он красивый, он сильный, он храбрый. В его лице есть что-то величавое, чего я никогда ни у кого не видел. Он кажется мне более возвышенным и более благородным, чем сам король... И он добрый... добрый, как святые, чьи изображения я видел в соборе. Как же можно не любить его?
Шевалье глядел на него с доброй улыбкой, и Эль Чико, сам того не замечая, тоже улыбнулся – так улыбаются другу.
– Ну вот! – радостно воскликнул Пардальян. – Теперь все позади, не так ли? Ты видишь, я не такой уж отвратительный малый, каким я тебе казался. Давай твою руку, и будем добрыми друзьями.
Он снова протянул руку карлику, но тот, устыдившись, опустил голову и прошептал:
– Несмотря на все, что я сказал и сделал, вы хотите...
– Говорю тебе, давай мне руку, – продолжал настаивать Пардальяна с серьезным видом. – Ты славный парень, Эль Чико, и когда ты познакомишься со мной поближе, то узнаешь – я не часто произношу те слова, которые я только что сказал тебе.
Побежденный, карлик вложил свою руку в ладонь шевалье, где она полностью утонула, и пробормотал:
– Вы добрый!
– Чепуха! – пробурчал Пардальян. – Просто я сужу о вещах здраво. И если ты не знаешь сам себя, то из этого вовсе не следует, будто тебя не знаю я.
Самые длинные свои беседы одинокий карлик вел с самим собой. Поэтому легко понять, что хотя он и был весьма смышленым, некоторые обороты речи Пардальяна повергали его в недоумение, и он не очень-то хорошо улавливал их смысл. Он не вполне понял последние слова шевалье, восприняв их буквально.
– Вы меня знаете? – воскликнул он удивленно. – Кто же вам рассказал обо мне?
Пардальян с самым серьезным видом поднял палец и пояснил, улыбаясь, как улыбаются ребенку:
– Мой мизинец!
Потрясенный Эль Чико с суеверным страхом вытаращился на своего собеседника. Сила, толкавшая его к шевалье, казалась ему столь сверхъестественной, что он был уже почти готов принять его за колдуна.
– И вот что, – продолжал Пардальян, – давай немного побеседуем. Только не забывай, что я все знаю. Начнем, пожалуй, вот с чего: почему ты хотел, чтобы меня убили? Ты ревновал меня, не так ли?
Карлик утвердительно кивнул.
– Хорошо. И как ее зовут? Не прикидывайся глупцом, ты прекрасно меня понимаешь. Если ее не назовешь ты, то я сделаю это сам... Мой мизинец при мне, и он все мне расскажет.
Карлик, который не решался отвечать, увидел, что ему не удастся уклониться от ответа. Он смирился и обронил:
– Хуана.
– Дочь трактирщика Мануэля?
– Да.
– И давно ты ее любишь?
– Всю свою жизнь, вот оно как!
Не могло быть ни малейших сомнений в искренности этого ответа. Пардальян улыбнулся и продолжал:
– А ты говорил ей, что любишь ее?
– Никогда! – негодующе воскликнул Эль Чико.
– Да если ты ей об этом не говоришь, то как же, по-твоему, она это узнает, дуралей? – рассмеялся Пардальян.
– Я никогда не посмею.
– Понятно. Но в один прекрасный день храбрость у тебя появится. Продолжим. И ты решил, что я ее люблю, и возненавидел меня, так ведь?
– Не совсем так.
– Ага! А в чем же тогда дело?
– Это Хуана вас любит.
– Ты глупец, Эль Чико.
– Верно, – печально согласился Эль Чико – он думал о горе Хуаны. – Верно, знатный сеньор вроде вас не может иметь ничего общего с дочерью трактирщика.
– И ты в это веришь?
– Еще бы.
– Однако, – проникновенно сказал Пардальян, – ты ошибаешься. И вот тебе доказательство: знатный сеньор вроде меня женился когда-то на трактирщице.
– Вы смеетесь надо мной, сеньор, – недоверчиво предположил Эль Чико.
– Нет, мой милый, это чистая правда, – произнес глубоко взволнованный шевалье.
И говоря скорее с самим собой, чем с карликом, он продолжал:
– Прежде чем стать госпожой де Пардальян, графиней де Маржанси (я ведь граф де Маржанси, и поверь, если я говорю это тебе, то вовсе не из тщеславия), итак, прежде чем сделаться графиней де Маржанси, этот ангел доброты и совершенной преданности (смерть похитила ее у меня), сначала была просто красавицей Югеттой, хозяйкой знаменитого в Париже трактира «У ворожеи»; ты о нем, конечно, не слыхал, ведь ты никогда не выезжал из Севильи. Клянусь честью, Севилья – красивый город, но поесть так, как в Париже... нет, черт подери, этого здесь не умеют! Словом, сам видишь – то, что ты считал веской причиной, есть всего лишь глупость.
– Возможно ли! – воскликнул ошеломленный Эль Чико. – Что же вы за человек?
– Я знатный сеньор... Это ты так сказал, – произнес Пардальян со своим иронично-простодушным видом.
– В таком случае, – прошептал Эль Чико, побледнев, – вы могли бы...
– Ну-ну?..
– Жениться на Хуане.
– Нет, тысяча чертей! На то есть две причины. Первая (и ее одной уже вполне хватило бы): я не люблю ее и никогда не полюблю. Да, мой милый, ты можешь сколько угодно вращать глазами, но это так. Из того, что малышка Хуана представляется тебе королевой среди красавиц, еще не следует, что точно так же полагают и все прочие мужчины. Я согласен: Хуана – прелестное дитя; полная грации и очарования, она похожа на маленькую маркизу, переодетую в трактирщицу – ну-ну, нечего млеть от удовольствия, я, кажется, о ней говорю, а не о тебе! Но как бы то ни было, смирись, пожалуйста, со следующим фактом: я ее не люблю и никогда не полюблю.
И с невыразимой печалью, которая потрясла карлика и убедила его куда быстрее, чем то могла бы сделать самая длинная речь, он сказал:
– Видишь ли, малыш, мое сердце давным-давно умерло.
– Бедная Хуана! – вздохнул Эль Чико.
– Влюбленные – это самые норовистые и странные животные! – взорвался Пардальян с комической яростью. – Вот, например, полюбуйтесь: только что он хотел заколоть меня, лишь бы Хуана не была моей. А теперь он ревет как бык на скотобойне, потому что она мне не нужна. Гром и молния! Ты, наверное, и сам не знаешь, чего хочешь?
Карлик покраснел, но промолчал.
– Так что же, черт побери, значат эти твои слова: «Бедная Хуана»?
– Она любит вас, – печально ответил Эль Чико.
– Ты уже мне это говорил. А я тебе повторяю: она меня не любит, смерть всем дьяволам ада! Она меня не любит, и точно так же я не люблю ее!
Карлик подпрыгнул на месте. Его лицо выражало такую оторопь, что Пардальян звонко расхохотался.
– Хотя твое удивление льстит моему самолюбию, – лукаво сказал он, – все-таки дело обстоит именно так, как я тебе говорю: Хуана не любит меня.
– Однако...
– Однако она сказала тебе, что умрет, если умру я.
– Как!.. Вы знаете?..
– Я же тебе объяснил – мой мизинец... И все-таки я в который уже раз повторяю то, что ты слышал: она не любит меня.
– Не может быть! – пробормотал карлик, не смея дать волю радости.
Пардальян пожал плечами.
– Эй, малыш, – продолжал он, – ты мне доверяешь?
– О! – порывисто произнес Эль Чико.
– Хорошо. В таком случае, предоставь мне действовать. Люби Хуану всем сердцем, как ты любил ее до сего дня, а об остальном не заботься, это уж мое дело.
– Так вы, стало быть, Господь Бог? – наивно спросил карлик, в восторге складывая ладони. – Подумать только, а я был таким негодяем, что...
– Сейчас ты опять начнешь пороть чушь, – прервал его шевалье. – А теперь, когда мы объяснились, нам пора уходить.
Карлик бросился за кинжалом, поднял его и протянул Пардальяну:
– Возьмите его, теперь мы подвергаемся риску встретить по дороге людей. Как жаль, что у вас больше нет шпаги!
– Постараемся обойтись тем, что есть, – спокойно ответил Пардальян, с видимым удовлетворением водворяя кинжал обратно в ножны.
– Пойдемте, – сказал Чико, видя, что тот уже готов.
– Секунду, малыш. А золото? Я полагаю, ты не оставишь его здесь?
– А что же с ним делать?
Карлик задал этот вопрос с простодушием, которое вызвало у шевалье улыбку. Казалось, маленький человечек хотел тем самым сказать, что отныне только Пардальян имеет право распоряжаться его имуществом.
– Надо подобрать его и понадежней запереть вон в том сундучке, – сказал шевалье. – Разве тебе не нужны деньги, чтобы жениться?
Карлик сначала покраснел, потом побледнел.
– Как, – произнес он, и по его телу пробежала дрожь, – вы надеетесь?..
– Я ни на что не надеюсь. Поживем – увидим. Карлик покачал головой и посмотрел на монеты, раскатившиеся по каменным плитам.
– Золото!.. – прошептал он с многозначительной гримасой.
– Вижу – это твое больное место, – улыбнулся Пардальян. – Ну, и за что же тебе дали это золото?
– За то, чтобы я отвел вас в дом у кипарисов.
– Но ты ведь отвел меня; мало того: я все еще здесь.
– Увы, – вздохнул Эль Чико. Ему было стыдно.
– Стало быть, ты выполнил свое обязательство. Это золото – твое. Собери его, и, повторяю тебе еще раз, об остальном не волнуйся.
Глава 26 ЗАГОВОРЩИКИ
Присущие Эль Чико обидчивость и гордость сделали из него отверженного, восстающего против всякой власти. До этого дня только один человек мог говорить с ним тоном хозяина: Хуана. Владычеству Хуаны он подчинялся, если можно так выразиться, с незапамятных времен. Он к этому привык, и было совершенно очевидно: что бы ни случилось, никогда у него, Эль Чико, не хватит воли командовать Хуаной, у него даже и мысли такой не возникнет. Да и как такое возможно? Он был и на всю жизнь останется скромным обожателем той, кто воплощал в его глазах мадонну. Разве добрый христианин осмелиться совершить подобное святотатство – не исполнить приказ мадонны? Нет, конечно, вот оно как! И хотя из-за его внешней религиозной независимости Эль Чико в глазах некоторых людей выглядел еретиком, эта независимость могла быть только относительной: он не мог избегнуть воздействия определенных идей, бывших тогда входу. Итак, Хуана казалась ему мадонной, и он беспрекословно, как мадонне, ей повиновался.
И вот теперь в его жизнь вошел другой хозяин: шевалье де Пардальян. Маленькому человечку казалось, что француз всегда имел право повелевать им, и самое лучшее, что он, Чико, может сделать – это повиноваться ему, как он повиновался Хуане. Было и еще кое-что, утверждавшее его в этой мысли: он понял, что после долгих, неистовых попыток уйти из-под этого влияния, он в конце концов подчинился ему, причем подчинился не от слабости и с негодованием, а подчинился с удовольствием. Почему?
Дело в том, что Пардальян сумел внушить карлику убежденность в том, будто благодаря ему, Пардальяну, химерические мечтания маленького человечка о разделенной любви могли стать явью. Вот почему, если Хуана казалась ему мадонной, то Пардальян явился ему как сам Господь Бог. Мысль о сопротивлении ни на секунду не могла прийти ему в голову – ведь приказы, получаемые им, вели его к осуществлению мечты, к победе, которую он до сих пор считал неосуществимой.
И потому, услышав просьбу шевалье подобрать золото Фаусты, Чико немедленно повиновался.
Когда все состояние карлика было собрано, заперто в ящик и на него, как и полагается, был навешен замок, Пардальян сказал:
– А теперь пора! В путь!
Карлик задул свечу, нажал на пружину, которая приводила в движение плиту, загораживающую вход в его закуток, и направился к лестнице; Пардальян последовал за ним.
Как Чико объяснил, он повел француза не той дорогой, по которой пришел сюда сам. В самом деле: Пардальян мог бы, в случае надобности, даже ползком добраться до той решетки, что закрывала туннель, выходящий к реке. Но вот пролезть через дыру, проделанную карликом по своему росту, он уже не смог бы. Отверстие пришлось бы расширять, что потребовало бы многих часов работы и инструментов.
Впрочем, Пардальяна особенно не волновало каким именно путем он выйдет из этого зловещего подземелья, где неумолимая воля Фаусты обрекла его на голодную смерть; Господи, ему так хотелось на волю, под звездное небо!
Темнота не причиняла ему особенных неудобств – его глаза уже привыкли к ней, и он со своей обычной беззаботностью шагал позади маленького человечка по лабиринту многочисленных, до невозможности перепутанных между собой коридоров, старательно запоминая объяснения своего провожатого, ибо карлик предупредительно показывал ему тайные механизмы, помогающие миновать бесконечные препятствия, то и дело преграждавшие им дорогу.
Они находились в широком песчаном коридоре, настолько широком, что можно было идти рядом, не мешая друг другу. Этот коридор выходил в другой коридор, пересекавший его под прямым углом.
Внезапно Пардальян замер от изумления. Ему показалось, что там, впереди, за стеной, возвышавшейся в нескольких метрах от них, мерцают звезды.
– Мы подходим к выходу? – спросил шевалье шепотом.
– Еще нет, сеньор, – ответил карлик так же тихо.
– А мне показалось... Черт возьми! Я не ошибаюсь! Вот... опять... я вижу звезды.
Они подошли к стене, и прямо перед собой Пардальян увидел – но не звезды, как он сначала решил, а довольно много огоньков.
Первым его порывом было выхватить кинжал из ножен; он прошептал:
– Ты был прав, малыш; по-видимому, придется драться.
Карлик не ответил. Он, очевидно, был достаточно осведомлен касательно этих огоньков, ибо, не подавая виду, стал потихоньку подталкивать стоящего слева от него Пардальяна. Целью сего маневра было удалить эти огоньки из поля зрения шевалье, отведя его с того места, откуда они были видны. Но у Пардальяна уже пробудилось любопытство, и никто и ничто на свете не могло бы отвлечь его.
Он подошел совсем близко и с удовлетворением увидел, что никто за ними не гнался и не устраивал им ловушки, как ему на мгновение показалось. Огоньки мерцали по ту сторону стены; очевидно, в ней были отверстия, или же попросту из кладки выпали камни. А поскольку он не видел в этой стене никакого широкого прохода, то и заключил, что ему не угрожает никакая опасность.
Тем временем Чико как ни в чем не бывало хотел продолжить путь, повернув налево.
– Минутку, – прошептал Пардальян. – Может ты и не любопытен, но я – весьма и весьма. Я хочу видеть, что происходит по ту сторону стены.
Свет пробивался через отверстие, находившееся прямо перед ним. Шевалье наклонился и посмотрел. Почти тотчас же он выпрямился и слегка присвистнул как человек, который открыл что-то очень интересное.
– Пойдемте, сеньор, – в отчаянии настаивал Чико. – Пойдемте, а то как бы не было слишком поздно.
Решительным жестом Пардальян велел ему молчать и, снова наклонившись к отверстию, принялся смотреть и слушать с напряженным вниманием. Вздохнув, карлик, видя всю тщетность своих усилий, смирился и, прислонившись спиной к стене, скрестив руки на груди, стал ждать, что еще предпримет его спутник.
Что же такого занимательного открылось взору Пардальяна? А вот что.
Как мы помним, Фауста спустилась в подземелье своего дома в сопровождении Центуриона. Она вынула из стены камень и приказала Центуриону посмотреть в образовавшуюся дыру, чтобы доказать ему, каким образом можно, оставаясь невидимым, наблюдать за всем, что происходит в этой странной пещере, где устроен зал собраний.
Фауста не пожелала закрыть отверстие или же просто пренебрегла осторожностью, и случай привел Пардальяна как раз к этому месту, где через маленькие дырочки, искусно проделанные с внутренней стороны, пробивалось сияние тех многочисленных огоньков, что освещали сейчас пещеру.
На скамейках, стоявших в зале, шевалье увидел человек двадцать – все они были ему незнакомы.
На возвышении, в креслах, сидели еще три человека: судя по всему, председатель и заседатели этого ночного тайного собрания; они также были неизвестны Пардальяну.
В тот момент, когда Пардальян наклонился к выемке в стене первый раз, председатель этого собрания, сидевший посередине, поднялся с места и сказал (шевалье, который внимательно вслушивался, хорошо различал его голос):
– Сеньоры, братья и друзья, мне выпала великая честь представить вам нового члена нашего общества. Я, избранный вами главой, смиренно отступаю перед ним и приветствую в его лице единственного предводителя, достойного руководить нами вплоть до обретения нами давно ожидаемого монарха.
Эти слова вызвали среди пораженных собравшихся некоторый шум, а затем – проявление живейшего любопытства: в зале заметили, что это новое лицо, представленное им как единственно возможный предводитель – женщина.
Пардальян сразу же узнал ее – именно в этот момент он слегка присвистнул, что мы и отметили.
Этой женщиной была Фауста.
Медленно, с несколько театральной величавостью, свойственной ей, принцесса поднялась на возвышение и встала лицом к незнакомым ей людям – казалось, она уже властвовала над ними благодаря своему взгляду: черные алмазы ее глаз обладали странной, завораживающей силой.
Три человека, сидевшие на возвышении и, очевидно, знавшие, зачем Фауста пришла сюда, торопливо встали. В одно мгновение стол был отодвинут, на самом краю возвышения появилось кресло, и Фауста с удивительным спокойствием, производящим столь сильное впечатление, опустилась в него. Тотчас же все трое шагнули за спинку кресла и застыли в чопорной позе придворных сановников, заступивших на дежурство при монархине.
Вероятно, все трое были знатными и высокопоставленными сеньорами; вероятно, своим происхождением или же достоинствами они уже давно сумели завоевать всеобщее уважение и доверие, потому что эти знаки необычайного почтения произвели самое глубокое впечатление на собравшихся.
Быть может, на присутствующих в зале подействовал пример этих троих, быть может, их увлекла неотразимая красота той, что внезапно появилась среди них, подобная королеве, но все, не задумываясь, поднялись и стоя стали почтительно ждать, когда эта незнакомая дама соблаговолит объясниться.
Фауста еще не заговорила, но уже могла быть уверенной в успехе, и она прекрасно это сознавала.
Пардальян тоже почувствовал общее настроение и потому прошептал:
– Несравненная актриса!
И тут же с беспокойством спросил себя:
– Что она сейчас им предложит? И кто эти люди?.. Ну что ж, послушаем, а там видно будет.
Фауста, как всегда отлично владеющая собой, никак не проявляла обуревавших ее чувств. Она приняла воздаваемые ей почести как нечто должное и с тем видом доброжелательного достоинства, который был ей свойственен в нужные минуты.
Мгновение ее внимательный взгляд скользил по склоненным перед ней головам; затем, полуобернувшись, она подала знак тому из троих, кто представил ее людям в зале.
Тот покинул свое место, бывшее как раз позади Фаусты, и, приблизившись к краю возвышения (при это он следил за тем, чтобы ненароком не загородить Фаусту и не оказаться впереди нее), сказал:
– Сеньоры, перед вами – принцесса Фауста. Принцесса – правительница в той стране солнца, любви и цветов, в той земле обетованной, что называется Италией. Принцесса Фауста сказочно богата. Она знает о наших планах все и могла бы, я думаю, назвать вас всех по именам, титулам и званиям.
Подобное открытие повлекло за собой ропот среди собравшихся. Все эти люди, еще секунду назад исполненные доверия, кидали друг на друга взгляды, где сквозило подозрение.
Фауста поняла, что происходит в их душах.
Она простерла вперед руку в умиротворяющем жесте:
– Успокойтесь, сеньоры, среди вас нет предателей. Мне никто не выдавал существование вашего сообщества. Я сама догадалась об этом. Когда в стране правит кровавый тиран, подобный тому, под гнетом власти которого агонизирует ваша прекрасная страна Испания, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: должно возникнуть какое-то противодействие; наверняка найдутся люди, которые попытаются навсегда сбросить унизительное железное ярмо. После этого вывода додумать остальное совсем уж просто. Что же до ваших имен, до ваших планов, то они мне известны потому, что я могла невидимо присутствовать почти на всех ваших собраниях.
Это прямодушное заявление, произнесенное в высшей степени уверенным тоном, рассеяло все нарождавшиеся было сомнения.
Однако тот факт, что женщина без всякой подсказки сама догадалась о существовании их общества, а затем набралась мужества проникнуть в их тайны, да так, что они ничего не заподозрили, столь изумил всех, что в зале вновь начались перешептывания и переглядывания – на этот раз восхищенные.
Да еще им понравилась та непринужденность, с какой незнакомая женщина говорила о вещах значительных и представляющих опасность; в общем, благодаря всему этому у них создалось довольно высокое мнение о той, кто только что выступала перед ними.
Фауста прекрасно уловила эти настроения, но никак этого не показала. Она повернулась к человеку, представлявшему ее собранию и произнесла, коротко, словно уже приобрела право повелевать:
– Продолжайте, герцог!
Тот, кого она назвала герцогом, отвесил низкий поклон и вновь заговорил, выражая мысли многих в зале:
– Да, сеньоры, принцесса сказала правильно: среди нас нет, не было и никогда не будет предателей. Принцесса Фауста хорошо знает и нас, и наши планы. И хотя она, по-видимому, считает, что мы законспирированы плохо, да будет мне все же позволено заметить: дабы обнаружить нас и открыть место наших собраний, надо обладать недюжинной проницательностью. А чтобы пойти на риск и пополнить собой наши ряды, нужно обладать смелостью и отвагой, какая найдется не у всякого мужчины, включая и самых смелых.
Послышался одобрительный ропот.
– Свою безмерную власть, – продолжал герцог, – свои несметные богатства, свой несравненный ум, свою мужскую смелость, свое огромное честолюбие и великие замыслы – все это принцесса Фауста ставит на службу делу возрождения нашей страны, делу, которому посвятили себя все мы.
На сей раз уже не ропот – приветственные клики стали ему ответом, в то время как глаза присутствующих с явным восхищением устремились на женщину, представленную им как исключительное существо. Герцог говорил все более громко:
– Все, что я только что вам сказал, весьма любопытно, как вы сами поняли и как доказывают ваши возгласы, но все это – ничто по сравнению с тем, что мне еще осталось вам открыть.
Герцог помолчал – то ли для того, чтобы, подобно умелому оратору, хорошенько подготовить следующий эффект, то ли для того, чтобы смогла установиться тишина, ибо его предыдущие слова вызвали довольно живую реакцию среди собравшихся.
Когда тишина полностью восстановилась, он вновь заговорил:
– Человек, которого мы тщетно искали уже многие месяцы, иными словами – сын дона Карлоса, хорошо известен принцессе... она обещает, что приведет его к нам.
Здесь оратору пришлось остановиться, ибо его прервали самые разнообразные возгласы, топот ног, всяческие проявления шумной и искренней радости. Все дружно кричали: «Да здравствует дон Карлос! Да здравствует наш король!»
Эти крики непроизвольно рвались из уст людей, чьи сердца бились в едином ритме.
Герцог повелительно взмахнул рукой – и тотчас все стихли и со вниманием взглянули на говорившего.
– Да, сеньоры, – повторил герцог. – Принцесса знает сына дона Карлоса, и она приведет его к нам. Но я могу сообщить вам нечто еще более важное: пройдет совсем немного времени и принцесса станет законной супругой того, кого мы хотим сделать нашим королем. Став супругой нашего правителя, она поставит на службу ему свою власть, которая очень велика, свое состояние и, главное, свой могучий гений. Она сделает из своего супруга не короля Андалузии, как мы того желаем, но – смею надеяться, с нашей помощью – сделает его королем всей Испании. Вот почему я был прав, говоря, что только она может возглавить наше общество, мало того, я утверждаю, что она уже наша властительница. И я, дон Рюи Гомес, герцог де Кастрана, граф де Майальда, маркиз де Альгавар, сеньор множества других владений, лишенный гнусным трибуналом, именующим себя «инквизиция», всех моих титулов и всего имущества, – я воздаю ей здесь должные почести и восклицаю: «Да здравствует наша королева!»
Герцог де Кастрана опустился на колени. А поскольку строжайший этикет испанского двора запрещал притрагиваться к королеве под страхом смертной казни, то он не стал целовать ей руку или край платья, но склонился перед Фаустой так низко, что почти коснулся лицом пола.
Раздались громкие крики:
– Да здравствует королева!
Как всегда бесстрастная, Фауста приняла эти почести не шелохнувшись. Очевидно, такого рода изъявлениями преданности она пресытилась еще в те времена, когда могла считать себя папессой; тогда ей поклонялись как воплощению Бога на земле, так что эти немногочисленные «ура», как бы искренни и непосредственны они ни были, не могли взволновать ее. Однако же она соблаговолила улыбнуться.
Эта необыкновенная женщина прекрасно владела искусством покорять и околдовывать толпу и всегда интуитивно догадывалась, каков должен быть следующий шаг.
Она быстро встала и, с чарующей грацией поднимая герцога, произнесла:
– Избави Бог, чтобы я дозволила одному из наших верных подданных простираться во прахе.
Истинно королевским жестом Фауста протянула ему руку для поцелуя, после чего вернулась в свое кресло и сказала:
– Герцог, когда наш супруг взойдет на трон своих предков, то правила неукоснительного, жесткого и мелочного этикета будут тут же изменены – таково наше желание. Я – властительница и не забываю этого, но прежде всего я – женщина и хочу ею оставаться. Как женщина я хочу, чтобы наши подданные могли приближаться к нам и чтобы это не было вменено им в преступление.
Жестом, исполненным надменной грации, она указала на людей, только что приветствовавших ее:
– Вы станете первыми из наших приближенных. Вы всегда будете дороги нашему сердцу.
Засим вновь последовал взрыв исступленного восторга. В зале долго звучало самое неистовое «ура», после чего все ринулись к возвышению: каждый стремился добиться высочайшей чести – прикоснуться к своей будущей королеве. Кто-то целовал кончик ее туфли, кто-то – подол платья, другие припадали губами к тому месту, где ступала ее нога, третьи – самые удачливые и самые счастливые – чуть касались губами кончиков ее пальцев: она протягивала их с небрежным изяществом, с неизъяснимой улыбкой на устах, в которой, конечно же, было больше презрения, нежели благодарности.
Однако кто стал бы сейчас вглядываться в улыбку королевы?
Не забудьте при этом, что все эти фанатики принадлежали к высшей испанской знати и каждый имел важную придворную должность.
Пардальян, не упускавший ни жеста, ни взгляда, восхищался Фаустой, поистине блистательной в своей высокомерной непринужденности.
– Великолепная, божественная актриса! – прошептал он.
В то же время он жалел несчастных, обезумевших от одной улыбки Фаусты.
– Бедняги! Кто знает, в какие чудовищные авантюры вовлечет их эта дьявольская колдунья!
Наконец его мысль обратилась к дону Сезару: «Ну-ка, ну-ка, что-то я ничего не понимаю. Сервантес уверял меня, что Тореро – сын дона Карлоса. Господин Эспиноза совершенно недвусмысленно просил меня убить этого юношу. Стало быть, он тоже считает его сыном дона Карлоса. А уж славный господин Эспиноза наверняка выведал все до тонкостей. Но ведь Тореро страстно влюблен в Жиральду – самую очаровательную цыганочку из всех, каких я когда-либо знал (правда, за исключением некоей Виолетты, ставшей герцогиней Ангулемской). Тореро не знаком с Фаустой – по крайней мере, насколько мне известно. Он полон решимости жениться на своей невесте-цыганке. Следовательно, госпожа Фауста не может стать его супругой... если только она не собирается сделать из него двоеженца. Подобный поступок в глазах такого язычника, как я, не имел бы существенного значения, но в глазах священного трибунала, именуемого инквизицией, – это тяжелейшее преступление, каковое может привести человека на костер.
Быть может, дон Сезар, узнавший от благородной Фаусты о своем августейшем происхождении, оставит безродную цыганку ради владетельной принцессы, к тому же сказочно богатой, как только что сообщил герцог Кастрана? Хм, такое не раз случалось! Принц королевской крови не может иметь то же понятие о чести, что и безвестный Тореро. А может быть, дело в том, что госпожа Фауста, чью совесть ничто не смущает и чья изобретательность мне известна, отыскала какого-нибудь второго сына дона Карлоса и держит его подле себя? Очень может быть, черт подери! Мне с трудом верится в вероломство дона Сезара! Самое разумное сейчас – слушать. Думаю, госпожа Фауста сама сообщит мне обо всем.»
В зале тем временем восстановилась тишина. Каждый вернулся на свое место, счастливый и гордый честью, которой случай одарил его.
Герцог Кастрана заявил:
– Сеньоры, наша возлюбленная монархиня согласна все вам объяснить.
Сказав это, он поклонился Фаусте и вновь встал за ее креслом. После слов герцога все буквально затаили дыхание.
Секунду Фауста глядела в зал своими колдовскими очами, а потом заговорила мелодичным, завораживающих голосом:
– Вы принадлежите к числу избранных. Не столько даже благодаря своему рождению, сколько благодаря сердцу и уму, благодаря независимости взглядов и, я бы даже сказала – благодаря вашей учености.
Независимо от того, католики вы или же, как принято говорить, еретики – все вы люди искренне верующие и посему уважаемые. Но вам также свойственен дух благородной терпимости. В этом и состоит ваше преступление. В самом деле: при честном, здравом, независимом правлении эта терпимость, эта независимость взглядов сделала бы из вас, ко всеобщему благу, видных людей. Под гнетом мрачного деспотизма, по праву преданного анафеме папами, которые заплатили за это мужество своими жизнями, инквизиция сделала из вас изгнанников, лишенных титулов и званий, разоренных, преследуемых, затравленных, словно животные; перед вами вечно маячит угроза костра – и так будет продолжаться до того дня, когда рука палача опустится на ваше плечо и подтолкнет к позорному помосту.
По залу пробежал одобрительный шумок. Фауста продолжала:
– Вы вспомнили, что союз составляет силу, и, устав от чудовищной тирании, властвующей над телами и душами, принялись искать, обрели друг друга и в конце концов сплотились. Вы решили сбросить с себя ненавистное ярмо. Вы принесли себя в жертву, соединили ваши усилия и мужественно взялись за дело. Сегодня все вы – тайные вожди. Каждый из вас представляет силу в несколько сотен бойцов, ждущих лишь приказа. Народное восстание, которым вы готовы руководить, вот-вот поднимется, и оно приведет к отделению Андалузии. Вы мечтали сделать из этой провинции независимое государство, где вы сможете жить свободными людьми, где всякий, кто почитает свободу другого, почитает законы, которые вы пересмотрите в сторону большей человечности и справедливости, почитает вождей, которым он по собственной воле дал власть, – всякий будет свободен исповедовать веру, преподанную ему отцами или же продиктованную ему разумом. Само собой разумеется, при вашем правлении ненасытный минотавр, именуемый инквизицией, навеки исчезнет.
– Да, – крикнуло несколько голосов, – пусть эта проклятая инквизиция сгинет навеки!
– Это будет государство, где наука станет уважаема и обладание знаниями будет приравнено к благородному происхождению, где ученость станет доступна всем, а не одной только ничтожной горстке церковников и монахов, стремящихся удержать народ во мраке невежества, чтобы полностью распоряжаться им; наконец, государство, где общественные должности будут поровну распределены между достоинством, если даже оно родом из низших слоев общества, и происхождением.
– Честь, отвага, ученость, порядочность, искусства, поэзия значат не меньше, чем знатность! – провозгласил чей-то голос, в котором звенело воодушевление.
– Мы все придерживаемся того же мнения, – строго отозвалась Фауста.
Она помолчала, словно желая оставить собравшимся время для выражения чувств по поводу этой реплики. Никто не откликнулся. Никто не шевельнулся. Все лица по-прежнему были непроницаемы.
Фауста чуть заметно улыбнулась и продолжала:
– Вы уже знаете о таинственном рождении сына дона Карлоса и, следовательно, внука кровожадного деспота, в чьем железном кулаке медленно агонизирует Испания. Вы собирались сделать этого сына инфанта Карлоса вашим предводителем, надеясь, что Филипп согласится на раздел своего государства в пользу внука. Ведь так, не правда ли?
Спрошенные напрямую, присутствующие ответили утвердительно.
– Ну так вот, – решительно отрезала Фауста, – вы ошиблись, и жестоко ошиблись!
Со всех сторон послышались протестующие возгласы.
– Почему? – воскликнуло несколько голосов посреди этого шума.
Фауста невозмутимо ждала, не пошевелив рукой, не пытаясь прекратить шум. Когда он утих сам по себе, она холодно проговорила:
– Никогда – вы слышите – никогда гордость Филиппа не позволит ему согласиться на такой раздел.
– Но никто и не будет спрашивать его согласия, – пояснил кто-то. – В нужный момент у нас хватит сил, чтобы навязать нашу волю.
– Филипп уступит только силе, в этом мы все согласны. Охотно допускаю, что у вас будет эта сила. Но что вы станете делать потом?
– Мы будем свободны у себя дома!
– Не надолго, – отчеканила Фауста. – Ваше заблуждение чрезвычайно опасно для будущего вашей затеи, для вашей личной безопасности. Даже если вы окажетесь победителями, ваши дни будут сочтены – это касается всех вас, известных и признанных главарей движения.
Она продолжала еще более убежденно:
– Надо очень плохо знать неуступчивый характер короля, чтобы предположить, будто он, даже побежденный, смиренно примет свое поражение. Да, будучи побежденным, король уступит. Это понятно. Но можете быть уверены – с первого же дня он начнет втайне подготавливать свой реванш, и тут уж он будет беспощаден. Ваша победа окажется всего лишь следствием неожиданности. Ведь у короля останется еще много войск, и ему не понадобятся несколько лет, чтобы собрать их. Тогда он вторгнется в ваше нарождающееся государство и покорит Андалузию огнем и мечом. На этом клочке земли, едва ли десятой части того, что вы оставите Филиппу, на этом клочке земли, окруженном со всех сторон, он раздавит вас без особого труда. Какое серьезное сопротивление вы сможете оказать врагу, чьи силы вдесятеро превосходят ваши? Вам не останется даже крайнего выхода – искать спасения на море, ибо путь вам закроет флот Филиппа: он уничтожит вашу торговлю, обречет вас на голод и наконец, если вы попытаетесь бежать, перекроет вам дорогу пушечными залпами. Ваш успех будет мимолетным. Ваше предприятие окажется мертворожденным.
Пардальян, стоя перед своим отверстием и следя за происходящим, думал: «Фауста по-прежнему очень сильна! Какая жалость, что она вся проникнута злобой! Все эти наивные заговорщики, вместе взятые, не обладают и сотой долей той трезвости мысли, какая присуща этой женщине! Черт подери! Ей хватило нескольких слов, чтобы напрочь разрушить все их иллюзии! Глядите-ка, какие они сидят ошарашенные!» Шевалье не смог скрыть улыбки. «Для человека, знавшего Фаусту-папессу, тайную главу Лиги, которая с неослабным пылом боролась за истребление ереси, странно видеть Фаусту, которая вступает в сговор с еретиками, и слышать, как она с возмущением разоблачает ужасы инквизиции и ратует за терпимость, свободу, независимость, равенство и Бог весть за что еще. Да, честолюбие – прекрасная вещь! Нельзя не восхищаться той непринужденностью, с какой она заставляет человека сжечь то, чему он поклонялся, и начать поклоняться тому, что он сжег.» А тем временем заговорщики в зале, как верно отметил шевалье, удрученно переглядывались.
С необычайной зоркостью, с чисто мужской откровенностью и отвагой эта женщина указала все слабые места их плана (весьма многочисленные). Своим мягким певучим голосом она доказала им, сколь безрассуден их замысел и до какой степени неизбежно, фатально он обречен на провал; она высказала им очевидные истины.
По правде говоря, многие из них, с самого начала предугадывая эти истины, предпочитали не задумываться о них. А если и задумывались, то остерегались сообщать результаты своих размышлений тем своим соратникам, кто был твердо уверен в успехе. Уверенность одних заглушила страхи других. Кроме того, если среди них и встречались люди без совести, то другие, надо отдать им справедливость, были искренними и убежденными борцами, исполненными решимости победить или умереть. Эти и в самом деле мечтали об освобождении, их терпение было исчерпано. Все, даже поражение и неизбежная гибель, казалось им лучше, чем жестокий режим, который медленно и исподволь душил их.
Эти люди добровольно надели на свои глаза повязку, в то время как другие были твердо уверены: уж какую-нибудь рыбку в этой мутной воде они наверняка выловят. Таким образом, даже самые проницательные упорно отказывались думать о неудаче – то ли от отчаяния, то ли уподобляясь азартному игроку, который бросает игральную кость, и предавались мечте о счастье, не говоря уже о тех, чья вера в успех была полной и безоговорочной.
Понятно, что при таких обстоятельствах, слова Фаусты странным образом нарушили их безмятежность – настоящую или мнимую. Это было мучительное и горькое пробуждение.
Кто-то выразил общее чувство, спросив нерешительным голосом:
– Значит ли это, что мы должны отказаться от нашего плана?
– Ни в коем случае, ради всего святого! – исступленно выкрикнула Фауста. – Но вы должны расширить ваш горизонт, вы должны взглянуть выше и дальше. Пусть у вас хватит честолюбия мгновенно перенестись к вершинам... или же пусть у вас не будет его вовсе!
Это было сказано резко, жестко, с надменно-монаршим видом, с едва скрытым презрением.
– Вам надо поднимать не Андалузию, – продолжала Фауста взволнованно, – а всю Испанию. Поймите же – с королем и его правительством никакое соглашение невозможно. Пока вы будете оставлять им хоть малейшую частицу власти, вы будете в опасности. Полумеры здесь неприемлемы. Если вы не хотите, чтобы вас уничтожили, надо перевернуть и взбудоражить всю страну.
Она замолчала на мгновение, желая увидеть, какое впечатление произвели ее слова. Оно, по-видимому, вполне соответствовало ее желаниям, ибо на ее лице появилась слабая улыбка, и она заговорила вновь:
– Никогда еще момент не был столь благоприятным. Угнетение порождает бунт. Голод гонит волка из леса. Это общеизвестные истины. Но видел ли кто-нибудь угнетение, сравнимое с тем, под которым стонет эта несчастная страна? Видел ли кто-нибудь большие страдания? Пусть самые мужественные осмелятся сказать вслух то, о чем множество людей думают про себя: народ поднимется огромными массами. Пусть энергичные и отважные встанут во главе их и поведут на тex, на кого им будет угодно, и толпа все сметет в своей ярости – и угнетателя-короля, и его приспешников.
И с циничной улыбкой Фауста добавила: – Толпа доверчива и к тому же жестока... Остается лишь найти слова, которые убедили бы ее – и тогда горе тем, на кого ее спустили! Но есть ли необходимость прибегать к таким методам? Разумеется, нет. Все сводится к очень простой вещи: исчезновению одного человека. Без него вся эта гнусная система рухнет в одночасье. Так есть ли нужда прибегать к столь сложным хитросплетениям, когда достаточно проявить лишь немного храбрости? Пусть несколько самых отважных из вас захватят того, от кого исходит зло, и вся Испания, как один человек, вздохнет с облегчением и будет почитать их как своих освободителей.
Заслышав эти слова, предельно ясные, все заговорщики содрогнулись от ужаса. Они никогда не рассматривали положение под таким углом зрения. О, как далеки они внезапно оказались от того робкого плана, который они намечали ранее! И выдвинуть подобные идеи осмелилась женщина! В едва завуалированных выражениях она предложила им посягнуть на короля, причем не на какого-нибудь мелкого властителя, а на одного из самых могущественных монархов на земле! Присутствующие оцепенели.
Однако воздействие этой необычайной женщины было такого, что большая часть из них была расположена попытать удачи. Они смутно ощущали, что, имея во главе столь недюжинную личность, всякий, чье мужество сравнялось бы с его честолюбием, мог надеяться на осуществление своих самых безумных мечтаний.
Красота этой женщины поначалу смутила и увлекла их; теперь же их приводила в восторг сила ее мужского, дерзновенного ума; они смотрели на принцессу с уважением, к которому примешивался страх.
Какой бы странной ни казалась им эта авантюра, они решились на нее, и один, самый отважный, без обиняков задал главный вопрос:
– А когда король будет захвачен, что с ним сделают?
Фауста подавила улыбку.
Теперь, когда заговорщики были готовы вникать в детали плана, она была уверена в успехе.
– На короля, – произнесла она своим низким голосом, – на короля снизойдет благодать, и он, по примеру своего прославленного отца, императора Карла, изъявит желание удалиться в монастырь.
– Из монастыря можно выйти.
– Монастырь – своего рода могила. Надо лишь понадежнее закрыть ее плитой... Мертвые не покидают своей могилы.
Это прозвучало совершенно недвусмысленно. Только один человек отважился высказать нечто, слегка похожее на сомнение. Раздался чей-то робкий голос:
– Убийство!..
– Кто произнес это слово? – прогремела Фауста, испепеляя взором неосторожного, осмелившегося ей противоречить.
Но тот, очевидно, исчерпал всю свою храбрость, ибо тотчас притих.
Фауста страстно продолжала:
– Я, говорящая с вами, вы все, слушающие меня, другие, те, кто последуют за нами, что мы предпринимаем? Нас сотни и сотни, и мы ставим все наши головы против одной-единственной – против головы короля. Кто осмелится сказать, что это равная борьба? Кто осмелится отрицать, что перевес все-таки на нашей стороне? Если мы проиграем эту схватку, наши головы падут. Мы заранее, добровольно соглашаемся принести эту жертву. Если мы победим в этой борьбе, то будет справедливо, законно, чтобы заплатил проигравший, и тогда уже его голова покатится с плеч. Кто смеет сказать, что это убийство? Если этот человек боится, он может уйти отсюда.
«Да-а-а... – подумал Пардальян. – Надо полагать, у меня, как и у того малого, что сейчас осторожно помалкивает, тоже мозги набекрень, потому что, черт подери, я бы тоже сказал, что это убийство».
Однако аргумент Фаусты возымел свое действие. Было совершенно очевидно – люди, к которым она обращается, принимают ее точку зрения.
– Я пойду еще дальше, – вновь заговорила Фауста со все возрастающей страстностью, – я подхватываю это слово, я принимаю его, но обращаю его к тому, чьей горькой участью нас пытались разжалобить; я говорю вам: король Филипп, который мог отдать приказ схватить, судить, приговорить к смерти и казнить сына дона Карлоса, то есть своего внука (а ведь это не что иное, как узаконенное убийство) – король Филипп завлек своего внука в ловушку и послезавтра, в понедельник, на корриде сын дона Карлоса будет по приказу короля предательски убит, и у меня есть доказательства этому. А теперь я спрашиваю вас: неужели вы позволите подло погубить того, кого вы выбрали своим главой, кого вы хотите сделать своим королем?
За этими внезапными словами последовал настоящий взрыв.
В течение какого-то времени слышались лишь ругательства, проклятия и страшные угрозы в адрес короля Испании. Наконец Фауста простерла руку, желая восстановить тишину. Шум сразу же стих.
– Теперь вы видите, что нам надо нанести удар первыми, чтобы самим не пасть под ударами. Мы защищаемся, и это, думается мне, справедливо и законно.
– Да, – прервал ее герцог Кастрана. – Довольно сентиментов. Или мы женщины, только на то и годные, чтобы сидеть за прялкой?.. Ох! Говоря о женщинах, я совершил сейчас непростительную оплошность и прошу прощения у нашей любезной властительницы. Я был весьма непоследователен и на какое-то мгновение совсем забыл: та, кто освещает нам путь своей гордой мыслью, та, кто старается пробудить нашу мужественность, заражая нас своей неукротимой энергией, есть женщина. Да обрушится позор на головы тех, кто допустит, чтобы женщина первой бросилась в схватку! События развиваются стремительно, сеньоры, теперь не время спорить и колебаться. Пробил час действия. Неужели вы упустите его?
– Нет! Нет! Мы готовы! Смерть тирану! Да славится вовеки наша возрожденная Испания! Долой инквизицию! Спасем прежде всего нашего будущего короля! Умрем за него! Приказывайте!
Все эти возгласы, казалось, сталкивались, смешивались, отскакивали друг от друга и метались в воздухе дикие, яростные, полные исступленной решимости. На сей раз присутствующие в зале по-настоящему разбушевались – Фауста чувствовала, что они готовы на все. Один только знак – и они устремятся по тому пути, какой она им укажет.
– Я принимаю это как вашу торжественную клятву] – сурово сказала она, когда вновь воцарилась тишина. – Итак, перед нами два факта первостепенной важности. Во-первых, предполагаемое убийство вашего главы. Если, ради величия этой страны, мы желаем, чтобы он взошел на трон, то ему нужно непременно сохранить жизнь. Значит, он будет жить. Мы спасем его, ибо – запомните это хорошенько – только он может законно наследовать нынешнему королю; и хотя бы нам пришлось погибнуть всем до последнего, он будет спасен. Как? Вот это мы сейчас с вами и обсудим.
Во-вторых – исчезновение Филиппа. Здесь вступает в действие разработанный мною план (я представлю его вам в надлежащее время); я ручаюсь за успех этого плана; к тому же, его выполнение потребует участия очень небольшого количества людей. Если вы, как я полагаю, люди доблестные и мужественные, то десятерых из вас будет вполне достаточно, чтобы, похитить короля. Пусть только он окажется в нашей власти, а остальное уж касается только меня.
Ее прервали многочисленные заверения в преданности и крики добровольцев, в порыве энтузиазма решившихся взять на себя эту задачу.
Фауста поблагодарила их улыбкой и продолжала:
– Теперь, когда два этих наиважнейших дела названы, остается лишь облегчить восхождение на трон избранному вами королю. И прежде всего, во избежание всяческих недоразумений, я клянусь здесь от его и от моего собственного имени точно и ревностно выполнять условия, которые вы выдвинете. Изложите ваши требования письменно, сеньоры, изложите их, как полагается, ради всеобщего блага. Но затем от всеобщего, не стесняясь, переходите к частному. Не бойтесь просить слишком много для вас самих и для ваших друзей. Мы заранее согласны с вашими просьбами.
Слова эти, естественно, вызвали у присутствующих прилив радости и неистовое «ура».
Когда вы бросаете кость собаке, она ворчит от радости, но если вы попытаетесь эту кость у нее отнять, то она может зарычать и ощериться.
Фауста разумно ограничилась одними только обещаниями. Она понимала, что собака, которая есть всего лишь животное, ждет, пока ей дадут кость, и только тогда выражает свою радость. Человек же, который является высшим существом, довольствуется обещаниями, а его радость не делается от этого менее шумной.
Итак, слова Фаусты были встречены радостным и дружным «Да здравствует королева! Да здравствует король!»
Хотя Фауста и не сулила своим сторонникам ничего определенного, она тем не менее знала, что существует один коренной вопрос, при обсуждении которого все будут непреклонны до свирепости: вопрос этот – уничтожение инквизиции. Избежать разговоров о сем предмете было бы просто опасным. Такой могучий ум, как ум Фаусты, не мог не понимать все значение этого вопроса.
Посему принцесса высказалась крайне решительно.
– Мы даем клятву, – сказала она, – что с этого мгновения первым долгом вашего короля будет уничтожение трибуналов инквизиции.
Теперь, подготовив почву и посеяв радость среди собравшихся в зале, она могла вернуться к тому, что ее непосредственно интересовало, к осуществлению ее личных планов, причем будучи твердо уверенной, что ее ждет всеобщее одобрение и поддержка.
Поэтому она уверенно сказала:
– Вы искали главу, который бы разделил ваши убеждения, и вы нашли его. Я непременно желаю доказать вам, что только тот, кого вы избрали, может стать королем и быть признанным и знатью, и духовенством, и народом. Его признают без споров, без обсуждений, без борьбы, признают с радостью, все станут приветствовать его. И это, господа, имеет первостепенную важность. Не думайте, что борьба пугает меня. Да и похожа ли я на женщину, которая отступает? Нет! Но навязывать короля силой – это всегда рискованная затея. Не говоря уж о том, что в подобных случаях не всегда торжествует правый.
Она передохнула секунду и продолжала еще более убежденно, с какой-то мистической экзальтацией, пророческим тоном, произведшим глубокое впечатление на уже покоренных слушателей:
– В сделанном вами выборе я вижу руку Господа. Я свято верю: наше дело победит; ведь речь идет не о том, чтобы свергнуть династию, и не о том, чтобы поддерживать и укреплять власть узурпатора. Нет, и еще раз нет! Мы с вами говорим об обычном наследовании, о наследовании по всем правилам и, как я уже отмечала, наследовании законном. Законность его безусловна и оспариваться ни кем не будет, за это я ручаюсь.
Чувство, владевшее теперь всеми, было любопытство, достигшее высшей точки.
Даже Пардальян говорил себе: «Занятная штука. С какой же стороны эта гениальная интриганка подойдет к делу, чтобы оправдать и, как она говорит, узаконить то, что в глазах любого разумного и непредубежденного человека предстанет как узурпация в ее самом чистом виде?»
Фауста меж тем продолжала посреди благоговейной тишины:
– Итак, наш будущий король спасен. Нынешний же король – с вашей помощью, разумеется, – схвачен. Схваченный король исчезает – это я беру на себя... Но, господа, давайте наберемся мужества и назовем вещи своими именами: нынешний король умрет, король уже умер. Встает вопрос о королевском наследнике. Кто же наследует корону Филиппа? Кто наследует ее по праву?
– Инфант Филипп! – выкрикнул кто-то.
– Нет! – торжествующе воскликнула Фауста. – Вот в чем заключается ваша ошибка: вы путаете человека, имя и монархический принцип. Наследник по праву, законный наследник – это старший сын покойного короля. Но старший сын короля – это не тот ребенок, которого священники уже давно мнут, словно глину, в своих руках, чтобы превратить его в свой послушный инструмент. Истинный инфант – это тот, кого вы избрали своим повелителем, кто был взращен в школе несчастий и бед, тот, кто думает так же, как вы, потому что он страдал не менее, а, может быть, даже более вас, тот, кто станет для вас идеальным королем. Это тот, кого вы называете сыном покойного инфанта Карлоса, а я называю старшим сыном и прямым наследником его отца Филиппа II. Вот он-то, под именем Карла VI, и будет по праву королем всей Испании, королем Португалии, правителем Нидерландов, императором Индии.
«Уф, – усмехнулся Пардальян, – сколько титулов! Теперь я понимаю, почему госпожа Фауста вдруг воспылала любовью к человеку настолько удачливому или несчастливому, это как посмотреть, что он соединил в своем лице столько пышных титулов! Принцесса, правительница, королева, императрица... Черт побери! Правда, недостает папской тиары, но все-таки букет вполне приличный. Однако если я и понимаю, почему она отказалась от своих прежних непримиримых взглядом и заделалась такой поборницей свободомыслия – ведь эта перемена приносит ей столько корон сразу! – то я совсем не могу взять в толк, как это ей удастся превратить дедушку в отца. Хотя, в сущности, речь идет всего-то об изменении одного слова.»
Именно этот вопрос занимал и умы всех заговорщиков.
Уверенность, с какой говорила эта таинственная женщина, странным образом волновала и смущала их. Они не сомневались, что итальянская принцесса с помощью своих удивительно логичных доводов сможет предоставить нужные доказательства, и не терпелось увидеть, как она возьмется за это, не терпелось узнать, окажутся ли эти доводы настолько весомыми, что убедят недоверчивых и строптивых.
Вот почему многие поспешили задать этот вопрос вслух.
Фауста, очень уверенная в себе, отвечала без колебаний:
– Среди вас есть дворяне, занимавшие при дворе важные должности. Именно к ним я обращаюсь прежде всего и спрашиваю их: слышали ли вы, чтобы королева Изабелла, умершая более двадцати лет назад, была с позором изгнана своим супругом-королем? Ничего подобного, не так ли? Знакомы ли вы хоть с каким-нибудь документом, объявляющим ее недостойной быть королевой? Нет, и еще раз нет! Было ли против нее выдвинуто когда-нибудь обвинение в супружеской измене? Нет, опять-таки нет! Елизавета Валуа, супруга Филиппа, королева Испании, под именем донны Изабеллы жила и умерла испанской королевой и была похоронена с королевскими почестями. Никогда король Филипп не порицал ее. Напротив, он всегда публично воздавал должное добродетели той, кого он называл верной и преданной супругой. Это известно всем. Множество людей, чье прямодушие не может быть поставлено под сомнение, засвидетельствуют это, если в том возникнет надобность. Король никогда не посмеет опровергнуть то, что он сам же утверждал в течение многих лет, при самых разных обстоятельствах, перед всем двором – я имею в виду верность ему его супруги. Правильно ли все сказанное мною?
– Правильно, и мы подтверждаем это! – произнесли, не сговариваясь, несколько сеньоров.
Фауста одобрительно кивнула и продолжала:
– Итак, прямодушие, супружеская верность и честь покойной королевы безупречны. Это общеизвестно, и, поверьте мне, никто не посмеет это оспаривать. А теперь я вас спрашиваю: чей сын тот, кого мы хотим провозгласить королем под именем Карла?
– Инфанта Карлоса и королевы Изабеллы, – выкрикнул чей-то голос из толпы.
– Гнусная, святотатственная ложь! Оскорбление величества! – возмущенно заявила Фауста.
Она приподнялась; руки ее судорожно сжимали подлокотники кресла, взор сверкал, и с неистовством, от которого у многих по спине пробежал смертельный холод, она бросила в зал:
– Богохульник, который под действием какой-то сатанинской силы посмел бы осквернить таким гнусным и низким оскорблением светлую память покойной королевы, заслуживал бы, чтобы ему вырвали язык, отсекли руки и ноги, содрали кожу, а его тело, недостойное погребения, было брошено на съедение свиньям!
Пардальян улыбнулся.
– Ну вот, – пробурчал он, – я опять вижу тигрицу. Мягкость, терпимость, доброта – эти чувства не могли долго уживаться с ее природной кровожадностью.
Ошеломленные заговорщики переглядывались. Что это означало? Было ли это предательство? Говорила ли она серьезно, и к чему, наконец, она клонит?
Фауста, словно не замечая, какое впечатление производит ее неистовство, продолжала:
– Мы располагаем документами, чья подлинность неоспорима. На этих документах – подписи и печати многих и многих придворных сановников. Я перечислю лишь часть из этих документов: свидетельство врачей и первой придворной дамы королевы, что Ее Величество была беременна в 1568 году, то есть в год ее смерти; во-вторых, свидетельство вышеуказанных врачей и вышеуказанной дамы, помогавших разрешению королевы от бремени; в-третьих, свидетельство о рождении инфанта; в-четвертых, свидетельство некоего князя церкви, каковой окрестил указанного младенца при его рождении. Я называю только самые важные документы. Все они, равно как и многие другие, неопровержимо доказывают, что тот, кого мы выбрали, является законным сыном королевы Изабеллы, законной супруги Его Величества Филиппа, короля Испании. Отец ребенка не назван. Но совершенно очевидно, что отцом ребенка может быть только супруг его матери, каковой супруг всегда публично выражал свое уважение к покойной супруге. Стало быть, ребенок, о котором идет речь, является именно старшим сыном короля и в этом своем качестве – единственным наследником его земель и его корон. Всякий, кто осмелится утверждать обратное, будет казнен за оскорбление королевского величества. Вот, господа, ясная, ослепительная истина, неопровержимые доказательства которой мы сможем открыто представить народу. Именно эту истину вам, господа, и надо, начиная с сегодняшнего же дня, распространять в толпе: «Ребенок, брошенный или украденный – сын короля и королевы Изабеллы.»
– Но король будет отрицать свое отцовство.
– Слишком поздно! – произнесла Фауста жестким тоном. – Доказательств более чем достаточно, и они убедят самых недоверчивых. Толпа мыслит упрощенно. Она не поймет, она просто не примет того, что король ждал двадцать лет, чтобы обвинить в неверности (а его отказ от отцовства будет означать именно это) супругу, чью добродетель он всегда восхвалял.
– Он может заупрямиться вопреки всякой очевидности.
– Мы не оставим ему на это времени, – заявила Фауста, сопровождая свои слова красноречивым жестом. – Да и вообще: ученые юристы, изощреннейшие казуисты, призвав на помощь тексты законов, докажут кому угодно, всю силу и значение этой первоосновы римского права: «Is pater est quern nuptiae demonstrant», что в переводе означает: «Ребенок, зачатый в браке, может иметь отцом только супруга».
«О, дьявол! – подумал Пардальян. – Мне бы никогда до такого не додуматься. Умна и сильна! Решительно, очень сильна!»
Таково же было и общее мнение заговорщиков – они наконец поняли, куда клонит их предводительница и приветствовали ее слова криками безумной радости.
Фауста невозмутимо и настойчиво говорила все о том же:
– Отныне вам надлежит всеми силами бороться с легендой о сыне дона Карлоса и королевы Изабеллы и в конце концов разрушить эту легенду. Речь может идти только об одном – о сыне короля Филиппа, каковой сын, по праву старшинства, наследует своему отцу. И если эта истина будет всеми осознана и принята, то в тот день, когда будущий наследник поднимется на престол, оставшийся свободным после отца, не будет ни возражений, ни сопротивления.
Надо отдать должное слушателям Фаусты: никто из них не протестовал, никто не возмущался. Все без колебаний согласились с этими указаниями и сделались, таким образом, соучастниками государственного заговора.
План будущей королевы Испании был принят с трогательным единодушием. Каждый обязывался распространять в народе мысли, только что изложенные ею.
Было условлено, что если король станет вдруг протестовать – что было маловероятно, так как ему не оставили бы для этого времени, – то заговорщики объявят, будто нынешний инфант вследствие некоего помрачения рассудка у короля был еще ранее отстранен отцом от наследования – подобно тому, как однажды точно так же он отстранил первого инфанта, дона Карлоса, которого он в конце концов приказал арестовать и осудить на смерть.
Ловко обыгрывая эти два факта, настолько же необъяснимые, насколько и неопределенные, можно уже было говорить о безумии короля.
Если же Филиппа потихоньку отправят к праотцам прежде, чем он сможет высказаться, то будет объявлено, что будущий король Карл VI был еще в колыбели похищен преступниками (в случае надобности их даже можно отыскать). Король, конечно же, никогда не прекращал поисков украденного ребенка. Наконец чудесным образом престолонаследник нашелся, но волнение и радость оказались роковыми для монарха, чье здоровье, как всем известно, было подорвано болезнью и многочисленными увечьями.
Когда эти разнообразные вопросы были обговорены, Фауста сказала:
– Господа, подготовить восшествие на престол того, кого в память о его деде, прославленном императоре, мы называем Карлом, очень важно. Но при этом необходимо обеспечить его безопасность. Нам надо предотвратить его возможную гибель. Я, кажется, уже сообщила вам, что убийство должно совершиться во время корриды, которая состоится в понедельник, а ведь сегодня уже воскресенье. Это преступление готовилось умело и исподволь. Король прибыл в Севилью только для того, чтобы присутствовать при его осуществлении. Таким образом, вы все должны быть на корриде, Чтобы защитить своими телами человека, на которого я вам укажу и которого все вы знаете и любите, хотя и не догадываетесь о его монаршем происхождении. Вам придется без всяких колебаний поставить на карту свои жизни, дабы спасти его. Приведите с собой самых надежных и решительны сподвижников. Я созываю вас на настоящую битву; необходимо, чтобы вокруг принца находилась отборная гвардия, всецело посвятившая себя его охране. Кроме того, нужно, чтобы на площади святого Франциска, на прилегающих к ней улицах, на местах, отведенных для простонародья, и на самой арене находилось как можно больше наших сторонников. Окончательные приказания вы получите прямо в день нашего решающего, не побоюсь этого слова, боя. От быстрого и умного исполнения этих приказаний будет зависеть спасение принца и, следовательно, судьба задуманного нами.
Эти приготовления сильно удивили заговорщиков. Им стало ясно, что речь идет не о пустяковой стычке, не о безобидной драке, но, как и сказала принцесса, о самом настоящем бое.
Такая перспектива уже не казалась им особо притягательной. С другой стороны, разве можно чего-нибудь добиться, вовсе не рискуя и не подвергаясь опасности?
К этому надо добавить, что если большинство собравшихся и были честолюбцами без совести, то все-таки они были людьми действия, людьми безусловно храбрыми.
Теперь, когда первое удивление прошло, их воинственные инстинкты пробудились. Шпаги будто сами собой вырвались из ножен, словно в атаку предстояло идти немедленно. Двадцать голосов пылко закричали:
– В бой! В бой!
Фауста поняла: если она позволит им действовать, то в своем воинственном порыве они совершенно позабудут, что должны достичь вполне определенной цели. Потому она поспешила остудить их пыл:
– Речь идет не о том, чтобы бездумно обмениваться ударами. Сейчас мы должны думать лишь о том, чтобы спасти принца, только об этом, вы слышите?
И добавила торжественно:
– Поклянитесь, что, если понадобится, вы умрете все до единого, но любой ценой спасете наследника престола. Поклянитесь!
Заговорщики поняли, что слишком увлеклись.
– Клянемся! – дружно воскликнули они, воздев шпаги.
– Хорошо! – строго сказала Фауста. – Итак, до понедельника, до королевской корриды.
Она чувствовала, что сомневаться в их искренности и честности не приходится: если понадобится, они все храбро пойдут на смерть. Но Фауста не пренебрегала никакими предосторожностями. Кроме того, она знала, что как бы ни велика была преданность, малая толика вовремя подсыпанного золота не только не уменьшит ее, а, напротив, увеличит.
С равнодушным видом она объявила о решении, которое должно было привлечь к ней колеблющихся, если таковые имелись среди присутствующих, и удвоить рвение и пыл тех, кто был уже всецело ей предан.
– В таком деле, как наше, – сказала она, – золото – необходимое вспомогательное средство. Среди подчиненных вам людей наверняка найдется некоторое количество тех, чьи храбрость и отвага неизмеримо вырастут, когда они обнаружат, что их кошельки пополнились несколькими дублонами. Разбрасывайте золото пригоршнями. Не бойтесь показаться слишком щедрыми. Вам ведь было только что объявлено – я сказочно богата. Пусть каждый из вас сообщит герцогу Кастрана, в какой сумме он нуждается. Эта сумма будет принесена ему завтра утром на дом. Та раздача денег, которую вы сейчас произведете, относится исключительно к завтрашней битве. Впоследствии мы подумаем и о других щедрых дарах. Необходимые суммы будут вам вручаться по мере того, как в них возникнет нужда. А теперь, господа, ступайте, и да хранит вас Господь.
Фауста сознательно избегала говорить с этими людьми о них самих. Она отлично знала, что себя они не забудут – пословица, гласящая, что любое благодеяние разумно начинать с самого себя, была справедлива во все времена. Поступая таким образом, она могла быть уверена, что не заденет ничью пугливую обидчивость. И действительно: она с легкостью прочла на внезапно просиявших лицах, что ее щедрость была оценена по достоинству.
Итак, сказав это, принцесса отпустила всех королевским жестом и подала незаметный знак герцогу Кастрана; тот сразу же встал у проема, через который заговорщики были вынуждены выходить, потому что никакой другой двери – по крайней мере, видимой – не было.
На прощальный жест властной и более чем щедрой и мудрой правительницы заговорщики ответили приветственными возгласами, и каждый, выходя, говорил: – До встречи завтра, на корриде. Расходились медленно, по одному – группы людей, идущие по улицам еще не проснувшегося города, привлекли бы к себе внимание.
Прежде чем удалиться, каждый отдавал герцогу Кастране маленькую дощечку с написанным на ней номером, и тот отмечал его на своих табличках. Герцог обменивался краткими репликами с одним, давал совет другому, пожимал руку третьему, и всякий уходил, восхищенный его учтивостью; никто не сомневался, что при новом правлении Кастрана станет могущественной личностью, и все заранее стремились заручиться его благосклонностью.
Фауста же, которая так и не покинула возвышения и даже не встала со своего кресла, внимательно и изучающе следила за теми, кто только что согласился участвовать в заговоре против законного короля Испании: эта замечательная женщина хитростью и щедростью легко подчинила всех своему влиянию.
Пардальян не сводил с нее глаз; по-видимому, он. научился читать по этому непроницаемому лицу, а может быть, его изумительная интуиция что-то подсказала ему, ибо он прошептал:
– Или я сильно ошибаюсь, или комедия еще не окончена. По-моему, это просто передышка, и я буду сильно удивлен, если вскоре не последует второе действие. Подождем-ка еще.
Приняв это решение, шевалье обратился к Чико, стараясь с толком использовать время, довольно долгое, пока заговорщики один за другим покидали зал.
В течение всей этой сцены карлик терпеливо ждал шевалье, не двигаясь с места. Все происходившее за стеной оставляло его полностью безразличным; он даже спрашивал себя, что интересного нашел для себя его спутник в бессмысленной, как ему казалось, болтовне заговорщиков.
Уж сам-то Чико, будь он не он, а французский сеньор, давным-давно убежал бы подальше от темной и страшной ямы, которая должна была стать его могилой.
Однако Пардальян приобрел над Чико огромную власть, и потому карлик не позволил себе ни малейшего замечания. Если французский сеньор оставался тут, значит, он считал это полезным, и карлик вынужден был ждать того момента, когда Пардальян соблаговолит отсюда уйти.
Так он и делал, и пока шевалье смотрел и слушал, он вновь погрузился в свои любовные мечты, так что Пардальян, решив, что карлик просто-напросто заснул, вынужден был хорошенько встряхнуть его.
Итак, ожидая, пока удалится последний заговорщик, Пардальян беседовал с Чико.
Беседа получилась весьма оживленной. Очевидно, шевалье вздумалось просить карлика о чем-то необычном, ибо тот сначала пришел в совершенное недоумение, а затем стал яростно спорить, как человек, пытающийся помешать совершиться глупости.
Однако, надо думать, Пардальяну удалось убедить его и добиться желаемого: во всяком случае, когда он вновь стал смотреть через отверстие, он выглядел удовлетворенным, а глаза его блестели лукавством.
Теперь Фауста была одна. Последний заговорщик покинул зал, но она по-прежнему спокойно и величество сидела в своем кресле, словно ожидая чего-то или кого-то.
Внезапно откуда ни возьмись перед принцессой появился человек. Молча поклонившись, он остановился в ожидании. Вслед за ним в зале возникли еще пятеро; все они последовали примеру первого и недвижно застыли перед возвышением.
Среди них Пардальян узнал герцога Кастрана, а также человека, которого он вышвырнул с трактирного двора и имя которого ему теперь было известно: Христофор Центурион.
Улыбка Пардальяна стала еще более широкой.
– Черт возьми, – прошептал он, – я же знал, что это еще не конец!
– Господа, – начала Фауста своим низких голосом, – я попросила герцога Кастрана указать мне четверых самых энергичных и самых решительных из наших сторонников. Он всех вас знает. И если он сделал именно этот выбор, значит он счел вас достойными выпавшей вам чести. Мне остается только одобрить его решение.
Четверо избранных отвесили глубокий поклон и стали ждать.
Фауста продолжала, указывая на Центуриона:
– Этот человек был избран непосредственно мной, потому что я его знаю. Он предан мне душой и телом.
Поклон Центуриона весьма походил на коленопреклонение.
– Все вы, присутствующие здесь, станете начальствовать над теми командирами отрядов, кто только что отсюда вышел. Все вы, кроме дона Центуриона – он будет по-прежнему состоять при мне, – будете получать приказы от герцога Кастрана; он же станет и высшим главой.
Герцог почтительно поклонился.
– Вы будете составлять наш совет; каждый из вас получит под свое начало десять командиров с их отрядами. С этого момента вы принадлежите к моему дому, и я буду обеспечивать все ваши нужды. Впрочем, эти второстепенные вопросы мы обсудим потом. Сейчас же я хочу непременно сказать вам следующее: я полагаюсь на вас, господа; ваши люди не должны ни на мгновение забывать, что самое главное – спасти принца, которого мы вскоре сделаем королем. И вот что я хочу вам теперь сообщить: вы знаете этого принца. Он славится по всей Андалузии. Его зовут дон Сезар.
– Тореро! – воскликнули все пятеро.
– Он самый. Как видите, вам знаком этот человек. Вы полагаете, он будет соответствовать той роли, которую мы хотим заставить его играть?
– Да, клянусь Христом! То, что именно он является сыном дона Карлоса – это настоящее благословение небес. Мы даже не могли и мечтать о более благородном, более великодушном, более храбром вожде! – воскликнул герцог Кастрана в порыве воодушевления.
– Хорошо, герцог. Ваши слова успокаивают меня, ибо я привыкла к вашей обычной сдержанности в изъявлении восторгов. Признаюсь, я мало знаю принца. Да, о нем говорят почти как о Сиде, им гордятся. Однако я с тревогой спрашивала себя – будет ли он достаточно умен, чтобы понять меня, достаточно честолюбив, чтобы принять мои идеи и сделать их своими, одним словом – легко ли нам удастся поладить. Что же касается его отваги, то она не может быть подвергнута сомнению.
Будь герцог и пятеро окружавших его людей чуточку более проницательными, они могли бы спросить себя – как же это принцесса столь уверенно говорила о своем браке с человеком, которого она даже толком не знала?
Но они не подумали об этом, А если и подумали, то, очевидно (ибо принцесса не производила впечатление женщины, действующей единственно по наитию) предположили, что она располагает ей одной известными средствами, чтобы вынудить его согласиться на этот союз.
Как бы то ни было, герцог сказал лишь:
– Широко известно, что воззрения Эль Тореро весьма близки к нашим. Если нас что-то и удивляет, то как раз то, почему он еще не пришел к нам. Что до ваших тревог, я думаю, они рассеются, как только вы побеседуете с принцем. Не может быть, чтобы при его характере у него не было честолюбия. У меня нет ни малейшего сомнения – вы прекрасно поймете друг друга.
– С удовольствием принимаю ваше предсказание. Но только, дорогой герцог, не забывайте – нет и не может быть сына дона Карлоса. Может быть лишь законный сын короля! Дон Сезар, поскольку его так называют, и есть этот сын... Главное, чтобы вы все прониклись этой истиной, если вы хотите успешно распространить ее в народе.
Чтобы убеждать неверующих, чтобы говорить с ними с необходимой убедительностью, надо прежде всего самому казаться искренним и убежденным. Вы добьетесь этой искренности, приучив себя рассматривать как совершенную истину то, что вы хотите внушить другим людям.
– Это верно, сударыня. Вы можете не сомневаться – мы не забудем ваших наставлений.
Фауста одобрительно кивнула и продолжала:
– Для осуществления моих обширных замыслов мне понадобятся люди, лучшие из лучших, вот почему я выделила вам. Надо, чтобы эти люди были твердыми военачальниками в отрядах, которыми им предстоит командовать, и отважными и решительными при исполнении полученных ими приказаний.
– На сей счет, сударыня, я, полагаю, могу утверждать, что вы будете удовлетворены нами, – заверил герцог от имени всех.
– Я верю, – отвечала Фауста. – Но одновременно этим храбрецам придется согласиться на то, чтобы оставаться послушными орудиями в моих руках.
Центурион не шелохнулся. Он знал, с каким грозным противником все они имеют дело. Он был уже укрощен.
Однако другие сконфуженно переглянулись. Разумеется, они не ожидали подобного требования. А жесткий тон, каким все это было сказано, выдавал решимость, которую ничто не может сломить.
Фауста угадала их мысли.
– Конечно, это тяжело, – сказала она, – особенно для людей ваших достоинств. И все-таки необходимо, чтобы все обстояло именно так. Я намереваюсь остаться мозгом, который думает. Вы же станете руками, которые выполняют. Ваша роль, однако, будет достаточно значительна, чтобы принести вам почести и славу – не забывайте об этом. Если вы согласитесь, то судьба, ожидающая вас, превзойдет своим блеском все, что вы могли себе представить в самых безумных своих мечтах. Дабы вы не оставались в неведении, я должна сразу же добавить, что вы найдете во мне требовательного и сурового хозяина, не допускающего никаких пререканий, но также хозяина справедливого, беспристрастного и щедрого сверх всякой меры. Если среди вас есть колеблющиеся, они могут удалиться, пока не поздно.
Более жесткую откровенность трудно было себе представить. Равно как и большую властность, и тон, и поведение принцессы указывали: заговорщики и впрямь видят перед собой исключительную женщину, которая станет их хозяйкой в самом полном смысле этого слова. Эта белая надушенная ручка с розовыми ноготками обладает необыкновенной силой, так что вырваться будет невозможно, не стоит и пытаться.
Но зато какое ослепительное будущее приоткрывалось перед ними!
Сомневаться не приходилось: эта итальянка выполнит намного больше того, что она обещает. Что же касается возможности бороться с нею, то достаточно было взглянуть на это лицо, излучающее силу и отвагу, достаточно было увидеть решительное выражение этого проницательного взгляда, чтобы понять – смельчака неизбежно ожидает поражение.
Герцог и его друзья подпали под ее влияние – как и Центурион, как и вообще все, кто приближались к этой незаурядной женщине.
Герцог выразил мысли всех присутствующих:
– Мы согласны, сударыня. Вы можете всецело располагать нами!
– Отлично, господа, – произнесла Фауста низким голосом. – Будьте спокойны, вы подниметесь так высоко, что, быть может, сами будете удивлены. Я рассчитываю на вас. Вы поможете мне установить строжайшую дисциплину и удерживать наших людей от всяческих необдуманных поступков. Сейчас это важнее всего. Я не буду терзать ваш слух и повторять уже слышанные вами слова о веротерпимости и свободомыслии. Вы в них не поверите, да я и сама так не думаю. Однако будет полезно, чтобы до поры до времени эти идеи распространялись в народе. Позднее все встанет на свои места. Проявите терпение. Мы мечтаем о великих свершениях. Воссоздать империю Карла Великого вполне возможно. Я чувствую в себе достаточно сил, чтобы успешно осуществить этот грандиозный замысел. И тот, кого мы выбрали, будет править едва ли не целым миром только благодаря вам. Итак, запомните – те, кто помогут мне построить самую могущественную на земле державу, смогут утолить все свои честолюбивые устремления.
Она говорила скорее для себя, ибо чувствовала, что их она уже завоевала. Они слушали, завороженные, онемев от восторга, спрашивая себя – не видят ли они все это в чудесном сне и не разрушит ли грубо жизнь этот сон.
Впрочем, к Фаусте очень быстро вернулось чувство реальности.
– Эти мечты о могуществе и величии, – сказала она, – могут осуществиться лишь в том случае, если будет в безопасности жизнь того человека, о котором мы сегодня только и говорим. Завтра его попытаются уничтожить. Коли злодейский замысел осуществится, эти мечты никогда не станут реальностью.
– С головы принца не упадет ни единого волоска. Он будет спасен, если даже всем нам суждено погибнуть. Порукой тому – наша дворянская честь.
– Я рассчитываю на это, господа. Дон Центурион передаст вам завтра мои точные инструкции. А теперь ступайте.
Герцог и четверо его друзей преклонили колена перед той, кто обещал им блистательное будущее; завернувшись в плащи, они собрались уходить.
Тогда Пардальян выпрямился и подал знак Чико. Карлик сразу же направился вперед, указывая путь шевалье; так как собрание заговорщиков окончилось, тот, очевидно, решил покинуть подземелье дома у кипарисов.
Если бы Пардальян так не заторопился, он бы услышал еще один разговор, который непременно заинтересовал бы его.
Фауста по-прежнему сидела в своем кресле. Однако, увидев, что герцог и его друзья ушли, она спустилась с возвышения и, обращаясь к Центуриону, стоявшему рядом с ней, сказала отрывисто:
– Эта цыганка, эта Жиральда, может стать препятствием для наших планов. Она мешает мне. Надо, чтобы в завтрашней потасовке она исчезла.
Минуту она, казалось, размышляла, наблюдая исподтишка за Центурионом, а затем добавила:
– Предупредите вашего родственника, Красную бороду. Думаю, ему удастся избавить меня от нее.
– Как, сударыня, – произнес Центурион сдавленным голосом, – неужели вы хотите?..
– Да, хочу! – ответила Фауста с едва заметной улыбкой.
Наемный убийца вымолвил слабым голосом:
– Но ведь вы мне обещали...
Фауста коротко и презрительно глянула на него, а затем пожала плечами.
– Когда же, наконец, – сказала она спокойно, – когда же, наконец, вы прекратите ломать эту комедию? Что мне еще надо сделать, чтобы окончательно убедить вас – меня обмануть невозможно!
– Сударыня, – озадаченный Центурион запинался, – я не понимаю...
– Сейчас поймете. Вы мне говорили, что влюблены в эту малышку Жиральду?
– Увы, да!
– Влюблены до такой степени, что даже собирались жениться на ней? Ну что ж, я согласна, женитесь.
– Ах, сударыня! Я буду обязан вам и состоянием, и счастьем! – сияя, воскликнул Центурион; он был в восторге.
– Женитесь на ней, – небрежно повторила Фауста. – Правда, есть одно «но», сущий пустяк, мелочь, которая никак не может омрачить вашу любовь – такую страстную, такую бескорыстную.
Она сделала ударение на последнем слове и замолчала.
– Что такое, сударыня? – спросил Центурион, обуреваемый смутной тревогой.
Она продолжала, и в ее речах нельзя было различить на малейшей иронии:
– В нашем новом государстве вы, конечно же, займете видное положение. Возможно, люди будут удивляться, что у такого важного лица супруга – простая цыганка.
– Моим извинением послужит любовь. Никто не посмеет злословить по поводу моей жены. Хотя Жиральда – всего лишь цыганка, она весьма и весьма добродетельна, и это знает вся Андалузия. Что же касается сплетен о том, что она недостойна меня, то я найду, что ответить своим недоброжелателям, – заверил Центурион с многозначительной улыбкой.
Фауста усмехнулась и, словно не слыша, продолжала:
– Особенно люди будут удивляться тому, что, женившись на девушке из народа, важный сановник совершенно пренебрег своими честью и достоинством. Ведь семья Жиральды теперь известна. Эта малышка, оказывается, самого низкого происхождения, а ее родители, как меня уверили, всегда жили случайными подачками и умерли чуть ли не от голода.
Центурион покачнулся. Удар был жестоким, чудовищным. Любовь к Жиральде, выставляемая им напоказ, была, разумеется, всего лишь комедией. Он почему-то вообразил, будто Жиральда происходит из знатной семьи. В его голове созрел следующий план: с помощью Фаусты, чье всемогущество он уже смог оценить, устранить Красную бороду с его пылкой страстью к цыганке и удалить от Жиральды Тореро – тот, правда, был влюблен вполне искренне, но его любовь, конечно же, не сможет устоять, когда надо будет выбирать между испанской короной и девицей без рода и племени. Избавившись от этих двух соперников, он, Центурион, ставший недавно богачом, так и быть, согласится жениться на безвестной девушке.
После того, как брак будет заключен, счастливый случай преподнесет ему в нужный момент сведения о знатном происхождении его супруги, и он сразу же войдет в одну из самых богатых, самых могущественных и самых известных семей в королевстве. Если же позже, став королем, Тореро вздумает разыскивать свою бывшую возлюбленную, то уж ему-то, Центуриону, будет вполне по силам угодить государю: мало того, он еще и извлечет из монаршего каприза немалую для себя выгоду. Пример дона Рюи Гомеса де Сильва, ставшего герцогом, принцем Эболи, государственным советником, одним словом, могущественной личностью, и все потому, что он любезно умел закрывать глаза на широко известную связь его жены с королем Филиппом – этот пример вдохновлял дона Центуриона и придавал ему уверенности в себе.
А поскольку Христофор отнюдь не принадлежал к тем глупцам, которые постоянно терзаются ненужными угрызениями совести, то он был исполнен решимости извлечь всю возможную выгоду из такой неслыханной удачи, если бы Небу было угодно, чтобы она ему выпала.
Таков был план Центуриона. Но именно в тот момент, когда, как ему казалось, его дела шли как нельзя лучше, в полном соответствии с его желаниями, он вдруг узнает, что жестоко ошибся, что Жиральда, на которую он поставил ради достижения своих целей, оказалась всего лишь бедной девушкой низкого происхождения.
Этот удар сразил его.
И еще одно, самое ужасное: уверенный, будто никто на свете не сможет проникнуть в его мысли, он решил, что сумеет перехитрить Фаусту. Но теперь он видел, что эта женщина, научаемая Господом (иначе как же объяснить ее способность угадывать его самые тайные замыслы?), знает все; и он с тревогой спрашивал себя, как она воспримет все случившееся и не сбросит ли его обратно в ту пропасть, откуда только недавно вытащила.
Видя, что он онемел от испуга и удивления, Фауста добавила:
– Как? Разве вы ничего этого не знали? Неужели вы совершили непростительную для человека вашего ума ошибку и доверчиво внимали речам этой девушки, считающей, что она происходит из семьи принцесс? Да, то был прекрасный сон... Но – всего лишь сон.
Да, сомневаться не приходилось – насмешка была очевидной и жестокой; стало быть, принцесса и впрямь разгадала его план.
В очередной раз он был беспощадно разоблачен той, кою он так упорно пытался обмануть.
Пристыженный и смущенный, Центурион пробормотал:
– Пощадите, сударыня!
Какое-то время Фауста пристально смотрела на него, а затем, презрительно пожав плечами, как уже не раз в разговоре с ним, решительно сказала:
– Ну, вы наконец убедились, что со мной бесполезно хитрить?
Центурион прикинул, что бы такое он мог сказать, дабы исправить свою глупость, и, решив, что самым лучшим будет сбросить маску, спросил с нарочитой циничностью:
– Что передать от вашего имени Красной бороде?
– От моего имени, – ответила Фауста с царственным презрением, – ничего. А от вашего – скажите ему: цыганка обязательно явится на корриду, потому что в этой корриде должен принять участие ее любовник. Дону Альмарану, почти неотлучно находящемуся при особе короля, наверняка известно, что замышляется какое-то злодейство, которое будет осуществлено во время корриды. Он также должен знать, что это происшествие, тщательно подготовленное господином Эспинозой и задуманное Филиппом, не обойдется без суматохи. А уж его дело – воспользоваться случаем (или же при необходимости – создать его) и завладеть той, которая так для него желанна. Теперь о вас: я желаю знать все, что затевают мои противники, а посему вам ни в коем случае нельзя заронить в них ни одного зернышка сомнения. Следовательно, вы целиком предоставите себя в распоряжение Красной бороды и поможете ему в этом деле, которое должно непременно увенчаться успехом. Все остальное касается уже только вас. Для меня важны только два обстоятельства: Жиральда должна быть навеки потеряна для дона Сезара, а я никак не буду в это замешана. Вы понимаете?
Счастливый, что так легко отделался, наемный убийца поспешил ответить:
– Понимаю, сударыня. Я буду действовать, как вы прикажете.
Принцесса холодно отозвалась:
– Советую принять все возможные меры, чтобы это дело завершилось удачно. Вам надо многое искупить, сеньор Центурион.
Дон Христофор содрогнулся. Он понял смысл этой угрозы, понял, что его жизнь зависела теперь от успеха завтрашнего предприятия.
Значит, он добьется успеха любой ценой. И злодей уверенно заявил:
– Цыганка исчезнет, хотя бы мне и пришлось для этого заколоть ее своими собственными руками.
Произнося эти слова, он вглядывался в лицо Фаусты, желая узнать, как далеко она позволяет ему зайти.
Фауста махнула рукой с видом полного безразличия.
Итак, главное, чтобы Жиральда исчезла, а как именно это произойдет – принцессу не интересует. Именно так истолковал ее жест Центурион.
Давая понять, что не собирается возвращаться к этой теме, Фауста невозмутимо произнесла:
– Нам пора.
Центурион отправился за факелом, спрятанным под возвышением, и зажег его.
Казалось, в этом зале была лишь одна дверь – именно через нее скрылись заговорщики; дверь эта открывалась в подземную галерею, которая выводила за пределы стены, окружавшей дом с кипарисами.
Однако герцог Кастрана и его друзья удалились через какой-то невидимый выход.
Сама Фауста вошла через третью дверь, тоже тщательно замаскированную.
Центурион, стоявший с зажженным факелом в руке, спросил:
– Какой дорогой вы пойдете, сударыня?
– По той же, что и герцог.
Возвышение располагалось на некотором расстоянии от стены. Услышав ответ Фаусты, Центурион обогнул его и открыл находившуюся тут маленькую потайную дверку.
Затем, не оборачиваясь, уверенный, что принцесса следует за ним, он вступил под своды тесной галереи, начинавшейся от этой двери, и подождал, пока Фауста окажется рядом с ним.
Он уже слышал шаги принцессы.
Фауста обогнула возвышение и уже собиралась исчезнуть в галерее, но неожиданно застыла на месте.
Звонкий голос, слишком хорошо ей известный, насмешливо произнес:
– Соблаговолит ли принцесса, стремящаяся возродить империю Карла Великого, уделить минутку своего драгоценного времени такому бедному страннику, как я?
Фауста остановилась как вкопанная, она не смогла даже сразу обернуться.
В глазах ее сверкал мрачный огонь, мысли метались, сердце бешено колотилось.
«Пардальян! Проклятый Пардальян!.. Значит, как он и предвидел, яд оказался бессилен против него! Пардальян вышел из могилы – а ведь я была уверена, что замуровала его туда навсегда! И каждый раз повторяется одно и то же! Как только я решаю, что убила его, он появляется вновь, живее и насмешливее прежнего. В довершение ко всему, он еще и проник в мои замыслы: недаром же он иронически сравнивает меня с Карлом Великим. И как назло никого нет рядом! Он вдоволь может насмехаться надо мной, а потом спокойно уйти – и некому будет его остановить! Некому будет нанести ему удар!.. А здесь это было бы так легко сделать!..»
Заметим, принцесса вовсе не боялась за свою жизнь, хотя она и могла бы предположить, что шевалье, доведенный ее бесчисленными злодеяниями до крайности, накинется на нее и задушит голыми руками. (Он имел бы на это полное право, заметим в скобках.) Но, может, она полагала, что ее час еще не пробил?
А может, она лучше самого Пардальяна знала бесконечное великодушие этого человека, который ограничивался тем, что защищал свою жизнь, постоянно оказывавшуюся в опасности, и не давал себе труда отвечать ей ударом на удар, потому что она была женщиной? Скорее всего, дело обстояло именно так. Как бы то ни было, она не испытывала никакого страха за саму себя.
Но ее терзало собственное бессилие: ведь она никому не может отдать приказ убить его, раз и навсегда покончить с ним; а он настолько обезумел, что, имея полную возможность спокойно уйти из своей темницы, вместо этого – безоружный! – пришел сюда, к ней, чтобы бросить вызов!
Это чувство бессилия было столь мучительным, что Фауста подняла к потолку исступленный взгляд, словно желая испепелить им самого Господа Бога, который с таким упорством вновь и вновь возвращал на ее неизменный путь это живое препятствие – и каждый раз именно тогда, когда она считала, что окончательно устранила его; впрочем, возможно, что, будучи верующей, она требовала, чтобы Бог немедленно пришел ей на помощь.
Но вот она опустила глаза и в полутьме подземелья заметила Центуриона – он разыгрывал бешеную пантомиму, значение которой было ей вполне ясно:
– Задержите его ненадолго, – говорили жесты Центуриона, – а я побегу за подмогой, и уж на этот-то раз он от нас не скроется!
Принцесса легонько кивнула, показывая, что поняла, и только тогда обернулась к своему врагу.
Вся эта сцена потребовала довольно долгого описания, однако на самом деле она произошла в одно короткое мгновение.
Фауста очень надеялась, что Пардальян ничего не заметил. Она по обыкновению замечательно владела собой, а если и чуть помедлила, прежде чем обернуться, то это можно было списать на счет удивления. Зато, когда она взглянула на шевалье, ее лицо было столь невозмутимым, взор столь безмятежным, а жесты столь спокойными, что Пардальян, который отлично ее знал, все же невольно залюбовался.
Фауста повернулась и приблизилась к шевалье с гибкой и гордой грацией знатной дамы, которая, желая оказать честь знатному гостю, сама поведет его к предназначенному ему месту.
И Пардальян вынужден был отступить перед ней, обойти скамьи и сесть там, где ей было угодно его посадить.
А между тем – и это обстоятельство доказывает неукротимость характера сей необычной женщины – и лестный прием, и надменное изящество, и благожелательная улыбка, и изысканные движения – все, все было лишь искусно выполненным маневром.
А теперь любезный читатель, позвольте нам кратко, но достаточно подробно, описать эту искусственную пещеру.
Мы уже говорили, что в ней была лишь одна видимая дверь, и находилась она справа. В центре возвышался помост.
Позади возвышения располагалась потайная дверь, куда только что ушел Центурион, поспешивший за подмогой. Перед помостом имелось пустое пространство, а за ним, прямо напротив помоста, высилась стена.
В этой стене были проделаны многочисленные отверстия (которыми столь успешно воспользовался Пардальян), а также та невидимая дверь, через которую вошел Пардальян; по крайней мере, Фауста имела все основания полагать, что он вошел именно там.
Направо и налево от возвышения находились тяжелые, массивные скамьи – на них еще недавно сидели заговорщики.
Маневр Фаусты, заставившей Пардальяна сесть на последнюю из скамей, размещенных слева от возвышения, имел своей целью приблизить его к той единственной стене, где не было никакой, видимой или невидимой, двери – в этом Фауста была уверена.
Таким образом, когда на Пардальяна нападут, тот, вооруженный одним кинжалом (Фауста сразу же отметила это про себя), окажется в углу, откуда никакое бегство невозможно. В поисках спасения ему придется броситься на нападающих и обогнуть все скамейки (или перепрыгнуть через них), чтобы добраться до свободного пространства и, следовательно, до одной из двух замаскированных дверей, расположенных позади и впереди возвышения.
Можно было предположить, что ему это не удастся.
Что же касается видимой двери, сделанной из цельного дуба и снабженной огромными гвоздями и петлями, то никогда Пардальян, несмотря на всю свою силу и отвагу, не сумеет пробиться к ней через ряды убийц.
Но даже если бы ему удалось совершить такое чудо, он бы не смог отворить ее – дверь была заперта на три оборота ключа.
Да, на сей раз Пардальяну не уйти.
Что может поделать его короткий кинжал с длинными шпагами людей Фаусты, которые вот-вот окажутся здесь?
Да почти ничего.
Итак, Пардальян с готовностью, на которую в подобные моменты был способен только он, поддался на незамысловатую хитрость Фаусты.
Было бы, разумеется, легкомысленным утверждать, будто он совсем не заметил ее зловещих уловок. Но Фауста отлично знала своего противника.
Она знала, что шевалье был не из тех, кто отступает, независимо от обстоятельств. Раз ей было угодно вести себя в этом подвале так, словно дело происходило в парадном зале, раз ей было угодно осыпать его знаками уважения и одарять ухищрениями самой утонченной вежливости, он счет был себя обесчещенным в своих собственных глазах, если бы попытался уйти – все равно, из страха или же из осторожности.
Фаусте это было известно, и она ловко, без малейшего смущения и без угрызений совести пользовалась тем, что рассматривала как слабость шевалье.
Короче говоря, Пардальян сел на последнюю скамью, на то самое место, которое она указала. Сама она села на другую скамью, напротив него.
Они посмотрели друг на друга и улыбнулись.
Можно было подумать, что эти люди радуются встрече.
Однако в улыбке шевалье было нечто ехидное, неуловимое ни для кого, кроме нее.
Фауста инстинктивно бросила быстрый взгляд вокруг себя, словно не была знакома с тем местом, где она принимала его – мы не можем найти другого выражения, потому что и в самом деле у нее были манеры женщины, принимающей гостя. Она ничего не увидела, ничего не почувствовала, ничего не угадала, ничего не ощутила – ничего подозрительного.
Ибо двух этих замечательных во многих отношениях противников объединяло одно выдающееся качество: иногда казалось, что они обладают неким шестым чувством, позволяющим им видеть то, что скрыто от взоров простых смертных.
Однако, не почувствовав ничего странного, Фауста совершенно успокоилась.
Очень ровным, мягким и певучим голосом, устремив на шевалье взгляд серьезных глаз, с улыбкой на устах, она спросила так, как осведомляются о здоровье дорого человека:
– Значит, вы смогли не поддаться воздействию яда, которым был насыщен воздух вашей темницы?
Фауста произнесла это очень просто, словно бы и не она принесла в подземную камеру отравленную облатку, будучи уверена в том, что отрава эта смертельна, словно бы и не она была отравительницей, а шевалье – жертвой.
А он, также улыбаясь, выдержал ее взгляд – без высокомерия, без вызова, но твердо и уверенно.
Приняв тот удивленно-простодушный вид, что делал его физиономию непроницаемой, шевалье сказал:
– Разве я вас не предупреждал?
Она задумчиво ответила, тихо покачав головой:
– Это верно. Вы видели все это своим внутренним зрением?
Значит, в ее представлении Пардальян заранее мог увидеть, что он избежит смерти, уготованной ею для него. Поскольку у нее самой частенько бывали видения, она искренне верила, что по натуре своей совершенно отлична от стада заурядных людишек; и точно так же была убеждена, что и он тоже существо исключительное – поэтому и все, что показалось бы сверхъестественным у любого другого, для них обоих было нормальным.
Принцесса долго смотрела на него молча, а затем вновь заговорила:
– Этот яд был всего лишь одурманивающим средством. По правде говоря, я это подозревала. И однако меня весьма удивляет, что вам удалось покинуть подземную темницу, где вы были замурованы, словно в гробнице. Как это вы смогли?
– Вас это действительно интересует?
– Поверьте, все, что касается вас, мне небезразлично.
Она произнесла это серьезно и была при этом искренна. Взгляд ее черных глаз, устремленных на него, не выражал ни досады, ни гнева. Он был мягким, почти ласковым.
Можно было подумать, что она радуется, видя его живым и здоровым. Возможно, в той сумятице мыслей, что обуревали ее, и в самом деле нашлось место для радости.
Он ответил с изящным поклоном:
– Право, вы слишком добры ко мне! Будьте осторожны! Так вы сделаете из меня заносчивого зазнайку. Поверьте, я весьма смущен тем интересом, который вам угодно проявлять к моей особе. Однако у меня достаточно причин, по которым я не хотел бы докучать вам подробностями, не представляющими, поверьте, ровно никакого интереса.
В его голосе не было никакой насмешки, а во взгляде читалось некоторое удивление.
Хотя он отлично знал ее, она по-прежнему озадачивала его.
Фауста казалась столь искренне взволнованной, что он совсем позабыл, что речь шла о его собственной смерти. Он совсем позабыл, что именно Фауста, неустанно используя любые обстоятельства, замышляла его гибель, заранее подготавливала ее, и если он еще и был жив, то уж, конечно, вопреки ее воле.
Добавим, что оба они были равно искренни.
Они почти убедили друг друга, что говорят не о себе самих, а о ком-то другом, чья судьба их очень и очень интересует.
Они говорили друг другу ужасные, чудовищные вещи со спокойным видом, улыбаясь, с мягкими, размеренными жестами; сами их позы и поведение, казалось, указывали: вот двое счастливых влюбленных мирно шепчутся вдали от назойливых глаз, Фауста сказала:
– То, что кажется вам простым и лишенным всякого интереса, другим кажется чудесным. Не все обладают вашими редкими достоинствами и вашей еще более редкой скромностью.
– Помилуйте, сударыня, пощадите эту скромность! Так вы непременно хотите знать, как это случилось?
Она, подтверждая, чуть кивнула головой.
– Извольте. Вам известно, что часть потолка в моей камере опускается с помощью механизма.
– Известно.
– Вы, очевидно, не знаете, что спрятанная в этой же самой камере пружина позволяет опустить этот потолок, после чего тот сам сразу же поднимается обратно?
– Я и вправду этого не знала.
– Ну вот, именно так я и вышел. Благодаря счастливой случайности я нашел эту пружину и нажал на неё совершенно наудачу. К моему величайшему изумлению, потолок вдруг опустился, вернее, опустилась маленькая площадка, на которую я и встал. Потолок, поднявшись, возвратил меня в комнату, откуда я ранее провалился в подземелье.
– В самом деле, все очень просто.
– Вы, может быть, желаете знать, где спрятана пружина, позволившая мне бежать?
– Если вы ничего не имеете против...
– Ничуть. Я понимаю движущий вами интерес. Да будет вам известно, что эта пружина находится на самом верху последней из мраморных плит, облицовывающих нижнюю часть стен, как раз напротив той железной двери, ключ от которой был по вашему приказу выброшен в Гвадалквивир. Вы увидите, эта плита расколота. Там есть маленький кусочек – он выглядит так, будто его закрепили позже остальных. Если нажать на этот маленький кусочек плитки, то механизм приходит в действие. Теперь вы можете отдать приказ, чтобы этот механизм был сломан, и если мне по случайности выпадет снова очутиться в этой камере, то на сей раз у меня уже не будет никакой возможности выбраться оттуда.
– Так я и сделаю.
Пардальян улыбкой одобрил ее решение.
– Теперь я знаю, как вы выбрались. Но почему вам пришло в голову спуститься в подвалы?
– Случайности, сплошные случайности, – сказал шевалье с самым простодушным видом. – Я обнаружил, что все двери открыты; дом мне не знаком, и я сам не понимаю, как очутился в подвалах. Вы же знаете, я довольно наблюдателен.
– Да, вы необычайно наблюдательны.
Он поклонился в знак благодарности и продолжал:
– Я подумал, что избранный вами дом должен иметь еще несколько потайных выходов – вроде того, которым я воспользовался. Я стал искать; судьба по-прежнему мне благоприятствовала – я набрел на коридор, где мое внимание привлекли какие-то огоньки, мерцающие как будто в толще стены. Надо ли говорить что-то еще?
– Ни к чему. Теперь я все понимаю.
– Но чего не понимаю я – так это каким образом столь умная женщина, как вы, могли совершить столь непростительную ошибку и оставили свой дом пустым, да еще с распахнутыми настежь дверями.
И он продолжал с ехидной улыбкой:
– Теперь оцените все последствия сей неосторожности. Пока вы спокойно занимались вашими делами, уверенная, что я никак не смогу избегнуть смерти, на которую вы меня обрекли, я без труда вышел из подобия могилы, где вы вознамерились меня похоронить. В каком бы положении я очутился, найдя все двери крепко запертыми? Что бы я стал делать, окажись я один и без оружия в хорошо охраняемом доме?.. Вместо этого я обнаруживаю, что все словно нарочно устроено так, дабы облегчить мне бегство – и вот я перед вами, в полном здравии и свободный.
Когда Пардальян задал вопрос: «Что бы я стал делать, окажись я один и без оружия в хорошо охраняемом доме?», Фауста невольно вздрогнула. Ей почудилось, будто в тоне, каким были сказаны эти слова, она различила что-то вроде иронии.
Когда же он произнес: «И вот я свободен!», она слегка улыбнулась. Но если принцесса вглядывалась в лицо шевалье с напряженным вниманием, то и он не спускал с нее глаз. А коли уж Пардальян смотрел внимательно, сбить его с толку оказывалось в высшей степени непросто, и посему волнение Фаусты, равно как и ее улыбка, были им отмечены.
Шевалье ничем не обнаружил, что заметил, как Фауста вздрогнула, а об улыбке ее сказал:
– Я вас понимаю, сударыня. Вы, очевидно, говорите себе, что я еще не вышел отсюда. Но я уже настолько близок к этому, что, клянусь честью, готов повторять снова и снова: «И вот я свободен!»
Диалог между двумя грозными противниками постепенно стал смахивать на дуэль. До сих пор они лишь изучали друг друга. Теперь же они уже наносили друг другу удары. И как всегда, первым пошел в наступление Пардальян.
Фауста, внешне не придавая ни малейшего значения угрозе, прозвучавшей в его словах, ограничилась тем, что отвергла упрек в своей неосторожности. Она объяснила:
– Если я и оставила все двери открытыми настежь, то у меня были на то веские причины. Вы в этом и сами не сомневаетесь – ведь вы меня знаете... То, что вы появились здесь так вовремя, чтобы воспользоваться этой кажущейся небрежностью, – это несчастье... впрочем, поправимое. Что же касается секретного глазка, который позволил вам незримым присутствовать при моей встрече с испанскими дворянами, то здесь я согласна с вами – упрек заслужен. Мне и впрямь следовало закрыть его. Я оказалась недостаточно предусмотрительной, мне следовало остерегаться всего, даже невозможного. Это послужит мне уроком. Можете быть уверены – он будет усвоен.
Она произнесла это совершенно спокойно, словно речь шла о малозначащем пустяке. Она просто констатировала, что совершила ошибку, вот и все.
Но признавшись в этой оплошности, она снова вернулась к тому, что казалось ей гораздо более важным, и сказала с ехидной улыбкой, весьма напоминавшей улыбку шевалье, когда тот разъяснял ей последствия ее неосторожности:
– А вы сами? Неужто вы полагаете, будто мысль прийти сюда была такой уж удачной? Вы, кажется, только что говорили о неосторожности и о непоправимой ошибке? И почему только вы не убрались отсюда подобру-поздорову?
– Но, сударыня, – ответил Пардальян со своим самым простодушным видом, – вы, кажется, слышали: я имел честь сказать вам, что мне совершенно необходимо побеседовать с вами.
– Надо полагать, вы и впрямь имеете сообщить мне нечто чрезвычайно важное, коли, чудесным образом избегнув смерти, вновь подвергли свою жизнь опасности.
– Однако, сударыня, откуда вы взяли, что я подвергаю свою жизнь опасности? Да и чего мне опасаться, когда мы с вами столь мирно беседуем?
Фауста быстро взглянула на него. Неужели он говорил серьезно? Неужели он был до такой степени слеп? Или же уверенность в своих силах делала шевалье столь самонадеянным, что он даже забыл, что еще не покинул ее владений?
Но Пардальян принял тот наивно-простодушный вид, который делал его лицо непроницаемым. Фаусте не удалось прочитать в его взгляде ровным счетом ничего. Какое-то время она колебалась – что же именно сказать ему, но внезапно решилась:
– Так вы полагаете, что я позволю вам выйти отсюда так же легко, как вы сюда вошли? – спросила она.
Пардальян улыбнулся.
– Теперь моя очередь сказать вам: я вас понимаю, – продолжала она. – Вы, должно быть, говорите себе, что я, женщина, не смогу преградить вам дорогу... Вы правы. Но знайте: через мгновение на вас нападут. Вы окажетесь один и без оружия в этом надежно запертом зале.
Почему она говорила это, пока еще была с ним наедине? Она отлично знала – если Пардальяну заблагорассудится воспользоваться полученным от нее предупреждением, то ему надо для этого сделать лишь несколько шагов. Или же она думала, что он не найдет пружину, которая приводит в действие потайную дверь? А вероятнее всего, она считала, что, даже получив предупреждение, он сочтет себя обязанным остаться.
Возможно, она и сама не могла бы объяснить, почему вдруг заговорила об опасности, грозящей ее собеседнику. Шевалье же невозмутимо ответил:
– Вы имеете в виду тех храбрецов, за которыми со всех ног побежал это негодяй – агент инквизиции?
– Так вы знали...
– Разумеется! И точно так же я отлично заметил вашу маленькую уловку – она заключалась в том, чтобы завести меня именно в этот угол зала.
Каково бы ни было Фаусте услышать эти слова, она невольно восхитилась Пардальяном. Но вместе с восхищением ею овладело беспокойство. Она говорила себе: хотя Пардальян необычайно силен, он не может так рисковать собой, не будучи уверен, что выберется отсюда невредимым.
Она еще раз подозрительно огляделась и не обнаружила ничего нового.
Она еще раз пристально взглянула в лицо шевалье и увидела: он абсолютно уверен в своих силах, совершенно спокоен и полностью владеет собой: ее подозрения рассеялись, и она сказал себе: «В своей удали он доходит до крайности!»
А вслух произнесла:
– Вы знаете, что на вас сейчас нападут, а я предупреждаю вас, что против вас будет обращено десятка два шпаг; вы знаете это и все-таки остаетесь здесь. Вы по доброй воле пошли в расставленную мною ловушку. Значит, имея дело с двадцатью нападающими, вы рассчитываете уложить их всех?
– Ну, уложить – это слишком сильно сказано. Но одно я знаю твердо: я уйду отсюда целым и невредимым и даже без единой царапины.
Это было сказано без хвастовства, с такой уверенностью, что она почувствовала, как ее охватывает тревога, как ею вновь овладевает сомнение. Он выказал ту же уверенность, как и тогда, когда говорил с ней через потолок своей камеры. Ведь он же вышел оттуда! Кто знает – может, он и на сей раз выберется без помех из этой наспех устроенной западни?
Фауста попыталась успокоиться, но невольно мысленно повторяла, задыхаясь от ярости: «Да, он спасется, опять спасется!»
И она вновь спросила – как и тогда, когда считала, что надежно заперла его в могиле:
– Но почему?
Пардальян ответил очень холодно:
– Я же говорил вам: потому что мой час еще не пробил... Потому что судьбой определено, что я должен убить вас.
– Почему же, в таком случае, вы не убиваете меня прямо сейчас?
Она произнесла эти слова с вызовом, словно предлагая ему привести в исполнение свою угрозу. Шевалье ответил без раздумий:
– Ваш час тоже еще не пробил.
– Значит, по-вашему, все мои замыслы, направленные против вас, обречены на неудачу?
– Да, я так думаю, – ответил он очень искренне. – Давайте-ка вспомним все то, что вы пускали в ход против меня: железо, вода, огонь, яд, голод и жажда... и вот я перед вами, слава Богу, вполне живой! Знаете, что я вам скажу? Вы встали на неверный путь, когда решили убить меня. Откажитесь от вашей затеи. Это трудно? Вам непременно хочется отправить меня в мир иной, который считается лучшим? Да, но ведь вам это никак не удается! Так какого же черта? Чтобы избавиться от человека, вовсе нет необходимости убивать его. Надо хорошенько подумать. Существует немало способов сделать так, чтобы человек, еще живой, перестал существовать для тех, кому он мешает.
Пардальян шутил.
К несчастью, в том состоянии духа, в каком находилась Фауста под действием суеверия, внушавшего ей, что он и впрямь неуязвим, она не могла себе представить, что шевалье осмеливается шутить по такому мрачному, загробному поводу.
Но даже если бы она отбросила движущее ею суеверие, даже при всей ее проницательности, даже если учесть, сколь сильной была она сама и сколь сильным она считала его – даже и в таком случае ей не могла прийти в голову мысль, что его храбрость может зайти так далеко.
Он шутил, а она приняла его слова всерьез.
Дело в том, что принцесса давно убедила себя: Пардальян словно новый Самсон, быть может, сам выдаст секрет своей силы, сам укажет, каким именно способом ей удастся с ним справиться.
Машинально она задала ему наивный вопрос:
– Каких способов?
На его губах появилась чуть заметная улыбка жалости. Да, жалости. Надо полагать, она была очень подавлена, если до такой степени потеряла самообладание, что спросила его – его самого! – как можно уничтожить его, не убивая.
И он продолжил свою шутку словами:
– Да почем мне знать? – В глазах его сверкнул лукавый огонек, и, приложив палец ко лбу, он сообщил:
– Моя сила здесь... Постарайтесь нанести удар сюда.
Фауста долго смотрела на него. Он выглядел совершенно серьезным.
Если бы он мог прочесть, что происходило в ее уме и какую адскую мысль он зародил в ней своей нехитрой шуткой, он бы содрогнулся.
Секунду она оставалась в задумчивости, стараясь понять смысл его слов и выгоду, которую она могла бы из них извлечь, и в ее голове наконец-то мелькнула спасительная, как ей показалось, мысль.
Фауста решила: «Мозг!.. Надо поразить его мозг!.. Заставить его окунуться в безумие!.. Или... ну, конечно же! Он сам указывает мне этот способ... значит, этот способ должен быть удачным... Он прав, это в тысячу раз лучше, чем смерть... И как только я не поняла это прежде?»
Вслух же она произнесла со зловещей улыбкой:
– Вы правы. Если вы выйдете отсюда живым, я больше не буду пытаться вас убить. Я попробую что-нибудь другое.
Несмотря на все свое мужество, Пардальян не мог сдержать невольной дрожи. Его замечательная интуиция, интуиция, которой он всегда руководствовался, подсказывала ему, что она придумала нечто ужасное, причем это «нечто» было продиктовано ей его неуместной шуткой.
И он пробурчал себе под нос:
– Разрази меня чума! И надо же мне было острить! А теперь тигрица бросилась по новому следу, и Бог знает, что еще она мне приготовит!
Однако он был не из тех, кто долго остается в дурном расположении духа; решительно тряхнув головой, он насмешливо сказал:
– Помилуйте, да стоит ли все затевать сначала? Шевалье показался принцессе таким спокойным, таким невозмутимым, так превосходно владеющим собой, что она вновь залюбовалась им; ее решимость была сильнейшим образом поколеблена, и прежде чем броситься в новую авантюру, изобилующую трудностями, она решила в последний раз попытаться привязать его к себе. Ее голос дрожал:
– Вы слышали, что я сказала этим испанцам? Впрочем, я не полностью раскрыла им свои мысли. Вы в насмешку титуловали меня женщиной, мечтающей возродить империю Карла Великого. Но империя Карла Великого покажется крошкой по сравнению с тем, что я могла бы создать, опираясь на такого человека, как вы. Неужели это ослепительное будущее не прельщает вас? Сколько мы могли бы свершить, будь мы вдвоем! Вся вселенная оказалась бы у наших ног. Одно ваше слово, только одно слово – и этот испанский принц исчезнет, а вы станете единственным повелителем той, кто никогда не знала иного повелителя кроме Бога. Мы сможем покорить мир, обещаю вам это. Так скажете ли вы долгожданное слово?
Пардальян ответил ледяным тоном:
– Мне кажется, я раз и навсегда выразил свое отношение к этим честолюбивым мечтам. Извините меня, сударыня, это не моя вина, но мы с вами никогда не сможем понять друг друга.
Фаусте стало ясно: он непоколебим. Она не стала настаивать и лишь одобрительно кивнула.
Пардальян же продолжал насмешливым голосом:
– Однако это вынуждает меня, сударыня, сказать вам то, что я хотел сказать уже давно, когда еще только вошел сюда. И если я не сделал этого раньше, то лишь потому, что внимательно слушал вас.
– Я жду, – сказала она холодно.
Пардальян посмотрел ей прямо в глаза и с расстановкой произнес:
– Если вы подстроите убийство короля Филиппа, как несколько месяцев назад подстроили убийство Генриха Валуа, то это касается только вас и его. Я не собираюсь брать Филиппа под защиту, тем более, что он, как мне кажется, вполне способен защитить себя сам. Если вы, в своих личных честолюбивых целях, предадите эту страну огню и мечу, если вы развяжете в ней кровавую гражданскую войну, как вы сделали это во Франции, это опять-таки касается вас и Филиппа или его народа. Действуй вы законными методами, я бы даже сказал, что ничего не имею против, ибо, поднимая Испанию на борьбу с ее королем, вы доставляете тем самым этому последнему множество хлопот, так что ему явно придется отказаться от планов касательно Франции. И это уже само по себе поможет моей несчастной стране – под водительством хитрого короля и славного человека (я имею в виду Беарнца) у нее окажется достаточно времени, чтобы залечить большинство ран, нанесенных вами. В этих двух пунктах, сударыня, я хоть и не одобряю ваших идей и методов, но, по крайней мере, не стану на вашем пути.
– Это уже очень много, шевалье, – откровенно сказала принцесса, – и если в обмен на ваш нейтралитет, для меня поистине неоценимый, вы не потребуете чего-то неприемлемого, то я заранее уверена в своем успехе.
Пардальян сдержанно улыбнулся:
– Здесь вы можете предпринимать все, что вам угодно, это ваше дело. Но не смейте более обращать взоры к моей стране. Я уже говорил вам – Франция нуждается в покое и мире. Не пытайтесь разжечь там ненависть и раздоры, как вы уже пытались когда-то – в противном случае на вашем пути встану я. Я не желаю унизить вас, равно как не желаю и хвастать, но вы уже знаете, как дорого обходится иметь меня своим врагом.
– Я знаю, – ответила она строго. – Это все, что вы хотели мне сказать?
– Нет, тысяча чертей! Я должен вам сказать еще следующее: ваш новый замысел, который вы пытаетесь осуществить здесь, обречен на верную неудачу. Его постигнет та же участь, что постигла ваши замыслы во Франции: вы потерпите поражение.
– Почему?
– Я мог бы ответить вам: потому что эти замысли строятся на насилии, предательстве и убийстве. Но я скажу проще: потому что ваши честолюбивые мечтания неразрывно связаны с добрым и честным человеком, по прозвищу Эль Тореро, а он никогда не примет тех предложений, которые вы собираетесь ему сделать. Потому что дон Сезар – это человек, которого я уважаю и люблю, и я запрещаю – вы слышите – запрещаю вам избирать его своей мишенью, если вы не хотите иметь меня на своем пути! А теперь, когда я сказал вам все, что намеревался, вы можете впускать сюда ваших убийц.
С этими словами он поднялся со скамьи; лицо его светилось отвагой.
И в тот же миг, словно услышав его приказ, в зал ворвались люди Фаусты; в их криках звенела ярость.
Принцесса тоже встала.
Она не ответила ни слова. Не торопясь, она повернулась, величественно сделала несколько шагов и остановилась на другом конце зала: ей хотелось присутствовать при схватке.
Если бы Пардальян пожелал, ему достаточно было еще минуту назад протянуть руку и схватить Фаусту за плечо – в этом случае столкновение закончилось бы, еще не начавшись. Женщина стала бы ему великолепной защитой. Ни один человек из тех, кто ворвался в зал, не осмелился бы поднять шпагу, видя, что их госпожа находится во власти того, кого им было поручено убить без всякой жалости.
Однако Пардальян не принадлежал к числу людей, способных прибегать к подобным методам. Он поглядел вслед Фаусте, но даже не подумал остановить ее.
Центурион все сделал на славу. Он, правда, несколько задержался, но он знал, что может рассчитывать на Фаусту, которая будет удерживать шевалье столько, сколько необходимо. Он привел с собой полтора десятка негодяев – своих обычных подручных; они следовали за ним во всех его совместных вылазках с Красной бородой и повиновались ему с истинно военной четкостью, будучи твердо уверены в своей безнаказанности и, конечно, в получении приличного вознаграждения.
Помимо этого отряда дон Христофор привел с собой трех охранников Фаусты: Сен-Малина, Монсери и Шалабра – те охотно согласились следовать за Центурионом, говорившим с ними от имени принцессы, но решили действовать по собственному усмотрению; возможность оказаться в подчинении человека, не внушавшего им никакой симпатии, их ничуть не прельщала.
Оба отряда – охранники подчеркнуто держались отдельно от своих случайных товарищей, – оба отряда вместе образовали группу человек в двадцать (такую цифру и называла Фауста, говоря с Пардальяном); все были вооружены прочными и длинными шпагами и надежными короткими кинжалами.
Нападающие, как мы уже сказали, ворвались в зал с криками, в которых звучали ярость и ненависть. Но если принятая Фаустой предосторожность – отвести Пардальяна вглубь зала – была хороша в том отношении, что загоняла его в угол и вынуждала на пути к двери миновать множество препятствий и пройти по трупам всего отряда, то эта же предосторожность оборачивалась неудобством, потому что люди Центуриона, желавшие достичь свой жертвы, также должны были сначала миновать те же самые препятствия, а это значительно ослабило их первоначальный натиск.
Пардальян с насмешливой улыбкой, присущей ему в подобные мгновения, смотрел, как они приближаются к нему.
Шевалье не соизволил даже вынуть свой кинжал – единственное оружие, бывшее в его распоряжении. Он предпринял лишь одно – встал позади скамейки, на которой сидел минуту назад. Пардальян оперся о нее левым коленом – она была, как мы уже отмечали, последней в ряду, – и так, скрестив руки на груди, с улыбкой на губах, с лукавством и настороженностью, сверкающими во взгляде, стал ждать, когда подручные Фаусты окажутся в пределах его досягаемости.
Что он замышлял? Какой дерзновенный ответ, внезапный и сокрушительный, готовил им? Это очень занимало Фаусту, которая со своего места следила за ним и которая, ощущая, как сомнения все более и более завладевают ею, говорила себе: «Сейчас он одолеет их всех! Это ясно! И выйдет отсюда без единой царапины!»
Тем временем Пардальян узнал среди нападавших троих французов и бросил им насмешливым тоном:
– Доброе утро, господа!
– Доброе утро, господин де Пардальян, – вежливо ответили трое приятелей.
– За последние сутки вы нападаете на меня уже второй раз, господа. Как вижу, вы честно отрабатываете деньги, выдаваемые вам госпожой Фаустой. Право, мне неудобно причинять вам столько хлопот.
– Об этом не заботьтесь, сударь. Нам бы лишь победить вас – это все, чего мы хотим, – сказал Сен-Малин.
– Надеюсь, на сей раз нам повезет больше, – добавил Шалабр.
– Возможно, – спокойно заявил Пардальян, – тем более, как видите, я без оружия!
– Это верно! – подтвердил Монсери, останавливаясь. – Господин де Пардальян безоружен!
– А, черт! – воскликнули два других охранника, тоже останавливаясь.
– Но мы не можем атаковать его, если он не может защищаться, – произнес чуть слышно Монсери.
– Совершенно справедливо, – согласился Шалабр.
– Тем более, что их и без того вполне достаточно, чтобы справиться с поручением, – добавил Сен-Малин, кивая в сторону людей Центуриона.
После чего он громко обратился к Пардальяну:
– Поскольку у вас нет оружия и вы не можете защищаться, мы воздерживаемся от вмешательства, сударь. Какого черта! Мы все-таки не убийцы!
Пардальян улыбнулся; все трое, прежде чем вложить оружие в ножны, приветствовали его одинаковым изящным движением шпаг, и потому шевалье отвесил им изысканный поклон и по-прежнему невозмутимо сказал:
– В таком случае, господа, отойдите в сторонку и смотрите... если вас это интересует.
К этому моменту семь или восемь наиболее смелых бандитов уже приблизились к Пардальяну настолько, что им оставалось преодолеть лишь два ряда скамеек.
Неторопливо и спокойно Пардальян нагнулся и обеими руками схватил скамейку, на которую он до того опирался коленом.
Эта скамейка, длиной более чем в туаз и из массивного дуба, обладала, надо полагать, огромным весом.
Пардальян приподнял ее без всякого видимого усилия, и, когда первые нападающие оказались рядом с ним, он скамьей, зажатой в его вытянутых руках, широким стремительным жестом, сокрушительным по своей силе, жестом косца на ниве, очертил в воздухе дугу.
Один человек рухнул на пол, трое отскочили с жалобными стонами, другие остановились в замешательстве.
Пардальян тихонько засмеялся; он получил секундную передышку.
Однако оставшаяся часть шайки, подоспев, напирала на первые ряды, и тем невольно пришлось двинуться вперед.
Пардальян хладнокровно, методично повторил свое смертоносное движение, в результате чего пришлось худо еще троим негодяям.
Теперь их осталось только тринадцать, не считая французов; онемев от восторга, те наблюдали за этой сказочной битвой одного человека с двадцатью.
Люди Центуриона остановились, некоторые даже поспешно ретировались, стараясь как можно более увеличить расстояние между собой и грозной скамьей.
Пардальян еще чуточку передохнул и, воспользовавшись тем, что его противники держались плотной группой, вновь приподнял свое чудовищное оружие – только он, наверное, и мог управляться с ним с подобной легкостью: раскачав скамью, он со всего размаха бросил ее в оцепеневшую от изумления небольшую толпу.
Последовало паническое бегство. Люди Центуриона бежали в беспорядке и остановились, только достигнув свободного пространства перед возвышением.
Теперь вместе с Центурионом – ему повезло, и он отделался несколькими незначительными ушибами, хотя и не берег себя, – в строю оставалось всего десять человек.
Пятерых шевалье уложил на месте – они были убиты или же так тяжело ранены, что не имели сил подняться. Другие, получив более-менее тяжелые увечья, жалобно стонали и продолжать борьбу были явно не в состоянии.
Пардальян утер со лба лившийся градом пот и засмеялся, почти не разжимая губ:
– Ну что же, храбрецы, чего вы ждете? Нападайте, черт побери! Вы ведь знаете, что я один и без оружия!
Но так как, произнося сии слова, он поставил ногу на ближайшую к нему скамью, то, невзирая на понукания Центуриона, никто из бандитов не шелохнулся.
Тогда Пардальян засмеялся громче и, заметив, что несколько шпаг валяются у него под ногами, спокойно нагнулся, подобрал ту, что показалась ему самой длинной и надежной, угрожающе взмахнул ею и с насмешливым видом бросил:
– Ступайте, мерзавцы! Шевалье де Пардальян прощает вас!
Не обращая на них больше никакого внимания, он обернулся к Фаусте и крикнул ей:
– До следующей встречи, принцесса!
Затем медленно, не оглядываясь, словно он был вполне уверен, что никто не посмеет помешать его уходу, шевалье направился к стене в глубине зала – той самой, где, как предполагала Фауста, не было никакой потайной двери.
Дойдя до стены, шевалье трижды постучал в нее эфесом только что поднятой шпаги.
Каменные плиты послушно раздвинулись.
Прежде чем выйти, он обернулся. Центурион и его люди, придя в себя от изумления, бросились за ним вдогонку. И даже трое охранников, увидев, что он вооружен, кинулись в атаку.
Раздался звонкий смех Пардальяна – более ироничный, чем когда-либо. Шевалье бросил:
– Слишком поздно, голубчики!
И вышел, не торопясь, с высоко поднятой головой.
Когда нападавшие с угрожающими воплями подбежали к стене, они наткнулись только на непроницаемые камни.
Охваченные стыдом, яростью, неистовством, они принялись стучать в стену с удвоенной энергией. Трое из людей Центуриона с трудом приподняли одну из тех скамеек, которыми с такой кажущейся легкостью орудовал шевалье, и воспользовались ею как тараном, пытаясь сокрушить стену, – впрочем, без всякого успеха.
Выбившись из сил, они были вынуждены отказаться от преследования и, понурясь, собрались вокруг Фаусты.
Особенно был встревожен Центурион. Негодяй ожидал суровых упреков, и хотя лично он вел себя храбро, все-таки он спрашивал себя, как воспримет принцесса эту позорную неудачу.
Сен-Малин, Шалабр и Монсери также чувствовали себя не очень уверенно. Конечно, они поступили по-рыцарски и не жалели об этом, но, в конце концов, Фауста платила им за то, чтобы они убили Пардальяна, а не за то, чтобы они состязались с ним в галантности и благородстве.
Посему с грустным смирением они стояли, застыв, как на параде, в ожидании упреков.
К величайшему и всеобщему удивлению Фауста не стала никого и ни в чем упрекать. Она-то знала, что Пардальян должен был выйти победителем из схватки. Вот почему поражение этих людей не могло ни удивить, ни возмутить ее. Они сделали, что могли – она сама видела все их действия. Если они и оказались побежденными, то только потому, что столкнулись со сверхъестественной силой. Будь их даже в три раза больше, их все равно ожидала бы та же участь – то была неизбежность. А раз так, то к чему негодовать?
И Фауста лишь сказал:
– Подберите раненых, и пусть им будет оказана помощь, необходимая в их состоянии. Выдайте каждому по сто ливров в качестве вознаграждения. Они сделали все, что могли, мне не в чем их упрекнуть.
Ее слова были встречены радостными криками. Мертвецов и покалеченных в мгновение ока унесли, и в зале остались лишь Центурион и трое охранников.
– Господа, – обратилась к ним Фауста, – благоволите подождать меня минуту в галерее.
Все четверо безмолвно поклонились и вышли. Принцесса долго сидела на скамье, задумавшись, что-то прикидывая, составляя планы, напрягая весь свой ум, столь изобретательный на затеи всякого рода.
Чего она хотела? Быть может, она и сама этого толком не знала. Но так или иначе, время от времени она повторяла одно-единственное жуткое слово:
– Безумие...
И произнеся его в очередной раз, она вновь погружалась в размышления.
Наконец, найдя, по-видимому, столь нужное ей решение, она встала, вышла к своим охранникам и поднялась к себе в апартаменты.
Охранники по ее знаку остались в передней, а она прошла в свой кабинет; за нею последовал Центурион, которому она дала ясные и подробные инструкции, получив кои, наемный убийца покинул дом у кипарисов и торопливо вернулся в Севилью.
Фауста ждала в кабинете. Ее ожидание, впрочем, оказалось недолгим – не прошло и получаса после ухода Центуриона, как носилки принцессы уже стояли перед крыльцом, а по дому сновало несколько озабоченных слуг.
Взошло солнце, Фауста села в носилки, и те тотчас тронулись в путь – ей даже не потребовалось отдавать приказания.
Вокруг носилок гарцевали трое французов: Монсери, Шалабр, Сен-Малин, а позади двигался солидный эскорт из вооруженных до зубов всадников.
Они въехали в Алькасар и остановились перед покоями, отведенными его преосвященству великому инквизитору.
Несколько мгновений спустя Фаусту провели к Эспинозе, и она имела с ним долгую и секретную беседу.
Очевидно, эти две могущественные особы смогли договориться, очевидно, Фауста добилась того, чего она хотела, ибо когда она вышла, то сам Эспиноза проводил ее до носилок; на губах принцессы играла торжествующая улыбка, а радостный блеск делал ее глаза еще ярче.
Любой, кто знал Фаусту, понял бы: удовлетворение, сиявшее на ее лице, никак не было связано с той великой честью, что оказал ей великий инквизитор – Фауста была привычна к почестям, воздаваемым ей сильнейшими из сильнейших мира сего.
Примечания
1
У древних греков – северный ветер.
(обратно)2
Старинная французская мера длины равная 1 м 949 мм.
(обратно)3
Первоначальное оглашение, а впоследствии и приведение в исполнение приговоров инквизиции, в частности публичное сожжение осужденных на костре.
(обратно)4
Стражники, полицейские.
(обратно)5
Requiescat im расе! (лат.) – Покойся с миром!
(обратно)

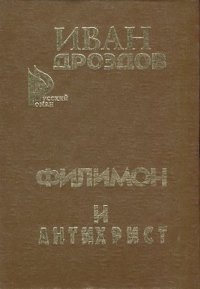



Комментарии к книге «Смертельные враги», Мишель Зевако
Всего 0 комментариев