Оксана Духова Хозяйка тайги
ОТ АВТОРА
Всему виной та уборка грандиозных масштабов, когда захотелось залезть на чердак старого-престарого дома и стряхнуть многовековые слои пыли с кучи коробок, сундучков и ящиков. Один из таких коробов развалился прямо у меня в руках. И высыпало из него энное количество связок пожелтевших бумаг, документов с печатями старинными и писем, часть из которых была написана на изысканном французском языке с завитушечками.
В этих письмах рассказывались странные вещи. Вещи, ну никак не вязавшиеся с официальными историческими фактами, подернутыми академической плесенью. В них женщина-изгнанница изливала душу, вторил ей муж ее. А еще упоминался странный и загадочный старец Федор Кузьмич. Тот самый, что взволновал когда-то великого искателя убегающей истины графа Льва Николаевича Толстого. Тот самый, о котором скажет в застенках двадцатого серпастого и молоткастого века духовидец Даниил Андреев: «С легким дыханием, едва касаясь земли тех миров, взошел он через слои Просветления в Небесную Россию…
…Архистратиг Небесного Кремля, он ныне еще там, в Святой России».
Эти письма последних русских романтиков волновали, предательски дрожала в зачерствевшей от бытовухи душе какая-то тоненькая струна. Не могла не дрожать она, потому что возрождалась память о стертом современным материализмом духовном подвиге далеких людей, испросивших сибирской каторгой прощение у Бога не только себе за романтические ошибки свои, но и всему русскому народу. Бежали взволнованные строчки старых писем, свидетельств вечной любви, и вставали перед глазами каре на замерзшей декабрьским утром Сенатской площади, казематы Петропавловки, слышался звон погребальный кандалов и вставала черная громадина тайги.
Слышался зов Сибири. Как зов памяти.
ПРЕЛЮДИЯ ТАЙГИ
…Его придавило стволом упавшего дерева.
В среду, где-то часов в семь утра, ну, может, в половину восьмого. Дело-то, собственно говоря, вполне обыденное под Нерчинском, государевы людишки мрут на вырубках как мухи, дело заурядное, яйца выеденного не стоит, и чтобы описать его смерть, понадобилось всего три слова: «Вишь, Петр умер».
И больше ничего. Да и к чему. Каждый день люди умирают в тайге или, на худой конец, стенают от полученных увечий. Пора бы уже, пора научиться жить, искоса поглядывая на окружающих, сдерживая рвущееся наружу возмущение да вкалывая и дальше на благо государя императора и собственного отечества. Патриотизм российский куда важнее вечной печали, сильнее подлой, трусливой мыслишки, что, вот, мол, жаль как-никак человека-то.
Вот только лежит он сейчас между поваленных столетних сосен да кедров, бросили его там, и он лежит себе тихо да спокойно, словно уснул только что. Тоненькая струйка крови и струиться-то совсем перестала.
– Убрать его отсюда! – деловито осмотрев работягу и обнаружив, что череп бедняги почти надвое расколот, приказал унтер-офицер, дуя на замерзшие пальцы. – Да уберите же вы его куда подальше!
Два каторжанина подхватили тело погибшего за руки и за ноги, да и отволокли в сторонку, где аккуратно свалили на землю. Там и пролежит бедолага до конца работ, покуда колонну не отправят обратно в рудники Нерчинские. Он лежал, глядя в небо застывшими, широко распахнутыми голубыми глазами, и тихо замерзал на сорокаградусном морозе. Вечером его тело с трудом отдерут от земли, загрузят в сани вместе с инструментом поломанным и отвезут в острог.
Только Петр Суханов, позабытый мятежник декабрьского дела против царя и отечества, оказался тем самым инструментом, что вряд ли уже отремонтируешь, подточишь да отладишь. Он был материей нежной, впрочем, если слово «нежность» вообще применимо к человеку. Худенькое существо среднего росточка с огромными голубыми глазами, нежным голоском и абсолютно правильной французской речью, от которой не отказался и на каторге.
И вот теперь парень лежал между смерзшихся веток, окоченевший, неживой. Выступившие в самых уголках глаз за миг до нежданной кончины слезы давным-давно превратились в блестящие кристаллы, в которых тускло отражался свет слабого сибирского зимнего неба. И почему-то казалось, что его голубые, широко распахнутые глаза все еще живут. Сквозь туманную предутреннюю дымку вдруг проглянуло солнце, день обещал быть преотличным. Земля зазолотилась под яркими солнечными лучами; и сосны, и сибирские кедры, и дубы, и березы, ели и пихты, – все, все сомлело во власти солнечного волшебства. Даже бесконечная змея людишек, вся ненужная человеческая возня вмиг померкла под всепоглощающей властью природы. Великолепный, ясный, золотисто-солнечный, холодный, такой безветренный день!
Не объять ни глазом, ни сердцем человеческим всю эту красоту земную.
В глазах Петра Суханова плескалось солнце, мерцало в кристаллах невыплаканных слез, и, казалось, что оживает застывшее лицо. Тайга замерла в морозе боли.
Ждала тайгу и такая картина.
Бледная полоска нарождающегося утра только-только появится на востоке, а молодая женщина в сопровождении могучего великана в крестьянском опрятном армяке оставит далеко позади свое ночное убежище – острог Нерчинский. Предвещая дождь, затянут мохнатые черные тучи небо-небушко. Внизу под небом этим шуметь будет, покачивая вершинами деревьев, тайга многовековая. Ветер притянет за собой серые неприятные клочья тумана. Он то стыдливо прикроет отроги, то спустится в ущелье и укроет наконец серой папахой вершины далеких гор.
– Дело тут нехитрое, – бубнил спутник молодой охотницы. – Так оно получается: ежели в ясную ночь подует ветер снизу, будь это в долине, на реке или ключе, – добра не жди, непременно погода испортится, и обязательно к дождю. Скажем, барышня, ежели туман к верху лезет, по вершинам хребтов кучится – тоже к дождю, тут без ошибки. К непогоде тайга шумит по-другому, глухо, птицы поют вяло, а то и вовсе замолкают: даже эхо под корягу прячется, в лесу не отзывается…
В десятке шагов от звериной тропы в глубоком узком ущелье бьется в порогах река. Отвесные скалы зажали речонку в каменные тиски, чему она бешено сопротивляется, исходит пеной и брызгами в тщетном порыве освободиться, вырваться на свободу к свету и теплу. «Вот так же и мы, – грустно думает молодая женщина, поправляя ружье за плечом, – вырваться стремимся, а силенок не хватает».
Она ложится на живот, заглядывает вниз. Эх, далеко ж она сегодня забралась вместе с верным своим спутником. Из ущелья веет тяжелым запахом сырого погреба в избе курной. Черные утесы, влажные от постоянной сырости, тянутся вверх, словно уродливые костлявые пальцы Кащея Бессмертного. С противоположного берега тут и там свисают длинные серебристые пряди многочисленных водных потоков, срывающихся в пропасть, чтобы, соединившись в единое целое, впасть в буйное неистовство и мчаться дальше вниз, подтачивая и разрушая многочисленные преграды.
Пошел дождь. Молодая женщина и ее спутник не боялись вымокнуть, на ходу они почти не чувствовали холода, но по мокрой тайге гораздо труднее пробираться. Влажные камни и стволы деревьев, невесть откуда взявшиеся ручьи и топкие бочажки замедляют передвижение, превращаются в нешуточные препятствия, которые по сухой погоде и незаметны вовсе.
Дождь идет все гуще и холоднее. Намокнув, печально обвисают ветки деревьев, поникли травы, мох напитался водой, и при каждом шаге вода пузырится и сердито ворчит под ногами. Ладно, что сапоги у них справные, авось не промокнут. Кочковатая земля покрывается лужами, а кочки упорно норовят выскользнуть из-под ног, словно задались одной-единственной целью: извести человека, посмевшего нарушить их покой. В такую погоду дремлет в тайге зверь, забившись в чащу, или, спрятавшись в скалах, спит притихшая птица таежная в густых хвойных кронах.
Холодные струи стекают по их лицам, путники смахивают их рукой, не замечая.
Внезапно расступаются деревья, и на небольшой поляне видят они низкую избушку-келейку. Дверь в избушку подперта колом, а подступы к ней закрывают густые заросли чемерицы и дягиля.
– Мы пришли, Мирон.
Поправив ружья, они осторожно приближаются к келейке. Пусто внутри. Пахнет свежим сосновым деревом, мрачные ели окружают ее со всех сторон, а невдалеке течет ручеек с темной лесной прозрачной водой, цветут у завалинки невесть как выросшие тут невзрачные цветочки.
Тихо, покойно внутри келейки. На бревенчатой стене висят картинки для тайги странные – гравюра, изображающая икону Почаевской Божьей Матери в чудесах с едва видимыми инициалами А I на престольных облачениях, да вид Петербурга со шпилем Адмиралтейства.
– Кто ж здесь обитает-то, а, Мирон?
Все это предстояло пережить Сибири, запомнить и впитать в себя навеки. А пока…
Шел 1825 год.
Высокий красивый мужчина средних лет устало прикрыл яркие голубые глаза. Его отцу было сорок семь, когда заговорщики подло и низко задушили его шарфом. Ему теперь тоже сорок семь. Чего ждет судьба от него? Почему затаилась? Что он должен сделать? Он так устал от всего земного – войн и переговоров, европейской грязной политики, от бесконечных доносов о существовании тайных обществ и союзов неведомого благоденствия. Он знал обо всем этом, но вот уже четыре года лежали запечатанные в особые пакеты доносы, и не давал он им никакого хода. Что толку проводить аресты и бросать людей в узилища, ведь ход истории все равно предопределен, и он не в силах бороться с Провидением. Никакой его мирской власти на это не хватит. Он так устал, ему так хочется уйти, ему претит все общество, все дела, ему смертельно опротивели все его придворные… Он презирал их и видел все их корыстолюбие и чванство.
Противно управлять дикой страной! Он устал. Устал от всего, а потому часами готов выстаивать на коленях перед ликами святых. Хотя, что толку. Покоя-то и мира в душе все равно не найти. Так что же он должен сделать? Как искупить свой страшный грех? Грех отцеубийства?!
Он шел по улицам небольшого городка Таганрога, шел к главной его достопримечательности – собору. Поскорее бы зайти в полутемное, только слегка подсвеченное синими огоньками лампад нутро его, наскоро помолиться и выйти на паперть…
– Христа ради, помилуйте, подайте бедолаге несчастному на пропитание…
Экий странный нищий. В справном армяке, опорках на босу ногу и облезлой шапке с торчащими во все стороны клоками ваты.
На груди у нищего висела жестяная кружка, а сам он забился в самый угол паперти.
Государь упрямой и полудикой державы остановился перед ним, сунул в кружку монету и встретился вдруг со взглядом слишком умных для простого нищего пронзительных голубых глаз. Глянул и мгновенно испытал странный ужас и безумное изумление.
Какое странное стеснение в груди… Лицо нищего хорошо было знакомо ему, знакомо до ужаса, до дрожи. Та же круглая маленькая родинка, тот же изгиб подбородка, те же короткие, слегка поседевшие волосы. Лицо было таким знакомым, что он с усилием рылся в памяти. Где видел? Где?!
Зеркало! Да, зеркало… Конечно же, он узнал его. Это было его собственное лицо.
– Жалобы есть? – как-то по-глупому спросил он нищего.
– Копытом лошадь зашибла…
Ему хотелось закричать – меня тоже, тоже, два года назад…
– Пойдешь в военный госпиталь, – приказал сурово. – Хоть знаешь, где?
Нищий молча кивнул головой…
Отойдя от церкви, не удержался, оглянулся ненароком.
– Узнай, кто такой, – приказал флигель-адъютанту. И постоял, ожидая, когда адъютант вернется…
– Родства не помнит, зовут Федор Кузьмич.
Государь огромной, странной и непредсказуемой державы вздрогнул. Федор Кузьмич!..
ПРОЛОГ
…Первым известие о кончине императора Александра Павловича получил великий князь Константин. Он прочитал пакеты, всем своим видом выразил суровое отчуждение, заперся с младшим братом Михаилом и приказал никого не допускать к нему.
– Они задушат меня, как задушили отца, – только и повторял Константин. – И почему прислали мне все пакеты – я ведь давно объявил, что не желаю торчать на их сраном троне…
Михаил утешал, как мог, брата, выражал непритворную скорбь и по поводу смерти старшего в их семье и повторял:
– Вы должны прислать в Петербург официальное отречение или поехать туда, чтобы по всей форме сделать абдикацию…
Но Константин только грубо ругался, отправляя милого брата туда, куда Макар телят не гонял, и не желал ничего ни слышать, ни писать, ни делать…
24 ноября 1825 года курьер привез запечатанные пакеты и в Петербург. Великий князь Николай проводил в это время веселый праздник – у его детей собрались гости, и он радовался, как ребенок, заставляя их играть в фанты и ручейки, а потом и в военные игры, которые так любил сам, будучи ребенком.
Камердинер тихо вошел в комнату и неслышно приблизился к Николаю Павловичу:
– Граф Милорадович, ваше высочество, – тихонько шепнул он. – Просят срочно принять.
Николай выпрямился, одернул свой военный мундир без всяких различий и выскочил в приемную.
Милорадович большими шагами расхаживал по громадному приемному залу. Высокая фигура генерал-губернатора столицы в громадном зале казалась совсем маленькой…
Николай молча подошел к Милорадовичу.
Тот ходил по приемной с платком в руке, а на глазах его блестели слезы.
– Михаил Андреевич, что случилось-то? – спросил Николай, внезапно взволновавшись и почувствовав, что известие не из приятных.
– Ужасные новости, ваше высочество, – подтвердил Милорадович, прикладывая к глазам почти мокрый платок.
Серые глаза Николая сделались стальными, тревога и скорбь заполнили их.
– Император умирает, лишь слабая надежда остается…
Николай Павлович почувствовал, что ноги его словно бы сделались ватными. Рукой сзади себя он нащупал ручки кресла и тяжело опустился на сиденье.
– Что же делать, коли придет страшное известие?
Милорадович пожал плечами.
…Константин все продолжал сидеть запершись, не впуская к себе никого, кроме жены Иоанны и брата Михаила. С Михаилом давал себе волю, ругательски поносил Россию, дикие нравы помещиков, то и дело зловеще спохватывался, не идут ли убивать его, Константина, то и дело заставлял пробовать еду и кофе то Иоанну, то Михаила, даже камердинеров отправил в дальние покои, и ходил по комнатам, крепко-накрепко запертым, бледный и дрожащий.
– Нет, они отравят меня или, хуже того, задушат моим же собственным шарфом, как задушили батюшку, – бормотал великий князь. – Я спал, я ничего не знал в ту ночь, а оказывается, все уже было сговорено, сам брат дал согласие… Он дал согласие и теперь царствует, переступил через батюшку, добился-таки трона… Нет, мне ваш такой трон без надобности, я желаю жить частным человеком и не бояться, что каждую минуту могут убить, отравить, задушить…
Он все бормотал и бормотал, и жене пришлось усадить его в кресло, положить руки ему на голову и успокоительно говорить ласковые слова…
Николай, стиснув зубы, белея губами и глазами, ждал известий. Чертов братец Константин, даже не объявил никому об известиях, полученных из Таганрога, где умирал государь император, выжидал все – либо и в самом деле не хотел царствовать, либо ждал известий из Петербурга.
Злоба душила Николая. Чертов братец!
Константин молчал…
Никто не горел великой любовью к Николаю – не было у великих князей дара привлекать к себе сердца. Далеко им было до императора Александра! Особенно не любили Николая военные – мелочные придирки, ругательства и крики, палки и наказания за малейшее упущение в амуниции, строе – все это ставилось ему в вину.
Насмешки над властью, над неразберихой на троне облетели все гостиные столицы. Ставили на Николая, ставили на Константина, заключали пари, посмеивались. Но втихомолку…
А Константин молчал…
Думал ли он, что престол свалится к нему по мановению руки Всевышнего, или специально затягивал свое молчание, чтобы убедиться – вся Россия присягнула ему и остается только надеть корону и воссесть на отцовский престол? Он трепетал, постоянно повторяя: они задушат меня, как задушили отца…
Николай молчал тоже. Ждал и кипел от возмущения. А Константин молчал.
Ноги всегда отказывали Николаю в самые трудные моменты жизни. Отказали они и тогда, когда великому князю передали письмо подметное. «Умоляю, заклинаю вас, не принимайте престола… Против вас должно таиться возмущение, оно вспыхнет при новой присяге…»
Серые глаза Николая как будто побелели. Тревога, опасность, возмущение – он отступит? Никогда…
Он бросился к матери:
– Матушка, благослови меня, я иду на тяжелое дело…
Она сняла со стены образ Богородицы, осенила вставшего на колени Николая крестным знамением, дала поцеловать ему образ Богоматери, потом поцеловала его в голову и заплакала:
– Благословляю тебя, сын мой! Царствуй с Богом!
Глубоко тронутый, он поднялся с колен, приложился к ее все еще твердой полной руке и отправился царствовать…
…В крохотной палате воинского госпиталя Таганрога лежал калика перехожий – Федор Кузьмич.
Зачастил к нему в комнатушку флигель-адъютант покойного императора князь Петр Михайлович Волконский. Притворно-равнодушно расспрашивал о состоянии здоровья этого нищего, помещенного в госпиталь по настоянию покойного императора.
– Каково живется? – тихонько спрашивал он обросшего молодой бородкой и такими же усами калику.
– Славно, ваше превосходительство, премного благодарны, – лукаво отвечал калика.
– Так и не помнишь все родства своего, – снова интересовался Волконский. – А кой год знаешь? А слыхал, что наш-то царь-государь император Александр в бозе почил? Небось и не слыхал…
Калика смотрел на Волконского как будто из какого-то далека, говорил скупо и осторожно, а однажды даже добавил резковато:
– Зачастил ты ко мне, ваше превосходительство, видно, святость моя покорила тебя…
Волконский смутился, покраснел внезапно и прошептал:
– Да свидиться приведет ли еще Бог, – едва не плача, проговорил он. – Уезжаю я со гробом императора…
– Доброго тебе пути и удачи, – так же тихо пожелал Федор Кузьмич.
Рвалась последняя ниточка…
ГЛАВА 1
Нина Павловна Кошина – ах, родные, знакомые и даже прислуга чаще всего нежно называли ее «Ниночкой Павловной», – была занята преответственнейшим делом: примеряла подвенечное платье. Из нее получилась чудо какая прелестная невеста, высоконькая, с длинными черными волосами, темно-синими глазищами и нежным личиком куколки мейсеновского фарфора.
Кому довелось видеть ее в длинном белом платье французского шелка, увешанную драгоценными каменьями, тот человек ни за что не поверил бы, что с лошадьми она управляется, что твой казак времен Отечественной войны из Платовского отряда, и с легкостью стреляет из тяжелых пистолей, как будто выросла в семействе охотника из бескрайних и диких сибирских лесов.
– Ты, как мальчишка, право слово, – любил говаривать Павел Михайлович Кошин.
А ведь сам ужас как гордился своей единственной дочерью. О, с каким бы удовольствием он оградил ее от любых происков злокозненного мира! При ней и так всегда находились четверо дворовых, бдивших над каждым шагом Ниночки, да помимо прочего держал граф при доме собственного врача, ежедневно осматривавшего дочурку и только того и ждавшего, когда же Ниночка закашляет, щечки ее раскраснеются, или израсходует она платочков носовых поболее обычного, дабы показать полезность свою графскому двору.
Кошин вполне мог позволить себе пороскошествовать. Наравне с Трубецкими, Голицыными да Строгановыми он считался одним из богатейших представителей родов русских. Ему принадлежали огромные земельные угодья меж Москвой и Новгородом Великим, он был владыкой двух тысяч душ с семью деревеньками, на его землях стоял монастырь, в Санкт-Петербурге он жил в собственном дворце у Невы с видом на Зимний дворец государей и Адмиралтейство. А кроме того, был граф Павел Михайлович сенатором, камергером императорского двора и одним из командующих пажеского корпуса.
И так уж случилось в 1824 году, что в Ниночкину жизнь вошел конногвардеец Боря Тугай. Произошло это летом. Они всем семейством графским как раз вышли в Финский залив на большом боте – веселая прогулка под рвущимися к солнцу и ветру парусами и обслугой из пары дюжин лакеев. Весь денек жаркий на воде провели, желая полюбоваться величественными силуэтами Петербурга, как вдруг некое досадное происшествие прервало до сей поры столь спокойную воскресную прогулку.
Маленькая лодчонка под парусами уже изрядное время преследовала великолепный бот графа Кошина, перегоняла временами, а затем подсекала бег ботика по волнам. А молодой человек с развевающимися на ветру белокурыми волосами задорно подмигивал Ниночке.
– Экий тип-то наглицкий! – проворчал граф Кошин. – Нам дороги не дает! Поднять паруса, всем на весла! Мы ему сейчас покажем!
Не надобно долго гадать, чем закончилось дело. Бот графа Кошина налетел на маленькую лодчонку, и молодой человек вынужден был прыгнуть в морскую водицу, дабы не попасть под киль широкого бота, а дворня графа выловила бедолагу из волн.
– Конногвардеец, лейтенант Борис Степанович Тугай, – представился графу Кошину весьма промокший незнакомец. – Почту за честь быть потопленным вашим высокопревосходительством.
– Кавалерист принадлежит коню и конюшням, а не лодкам-с, – хмыкнул Кошин. За его спиной раздался звонкий смех Ниночки, и смех сей показался столь мил отцовскому сердцу графа, что неведомо куда весь гнев на нахального конногвардейца улетучился. – Если вы так же отвратительно держитесь в седле, как с парусами управляетесь, нам всем стоит посочувствовать русскому государю!
И тут выяснилось, что лейтенант Тугай никогда и не был знатным мореплавателем. Собственно говоря, звался он до крещения по православному обряду бароном Бертольдом фон Торгау, а его батюшке принадлежал в Риге большой торговый дом. Как и многие иные остзейские немцы, Бертольд фон Торгау поступил на службу в царскую армию, принял православие, а фамилию его тут же переиначили на русский лад.
Сие объяснение еще более сладило с гневом Кошина. Торговые суда дома Торгау и Кошина постоянно встречались в портах Балтийского моря, пару раз граф даже держал с бароном фон Торгау деловую корреспонденцию, и вот теперь сын барона, промокший до последней нитки, стоял на палубе и любезно целовал Ниночкину ручку.
– Я так хотел познакомиться с вами, – негромко признался он. – А иной возможности быть представленным вам у меня вовсе не было. Легче взять неприступную крепость штурмом, нежели проникнуть во дворец графа Кошина. Простите ли вы мне мою дерзкую выходку?
И барон был прощен.
Вот так и познакомилась Ниночка с весельчаком Борисом. А на Пасху они уж были обручены, и вот теперь к новому, 1826-му, году намечалась свадьба. Весь Петербург с нетерпением ждал сего события. В соборе Казанской Божьей Матери хоры разучивали торжественные песнопения, а сто тридцать шесть коринфских колонн должны были украситься родовыми стягами дома Кошиных.
И вот сегодня, 14 декабря 1825 года, портниха Прасковья Филипповна склонилась над подолом Ниночкиного подвенечного платья, разглаживая несуществующие складочки, прилаживая кружева, да восхищаясь без конца прелестной невестой.
Прасковья была уже в летах, ширококостная, с добродушным морщинистым лицом. Носила всегда самое простое одеяние городских ремесленников, опрятное и достойное. А ведь ее пошивочная считалась лучшей в Петербурге, несмотря на модные французские лавки.
– Нет, ну, что за времечко такое, – болтала сейчас без умолку Прасковья. – Добрый государь Александр – царствие ему небесное! – помре вот в Таганроге так не вовремя, так не вовремя. Должен ныне царем-то великий князь Константин сделаться, а тут поперед братец его меньший Николай и пролез, эко их разносит – и этот царем быть хочет.
Она положила на ковер игольницу и глянула на Ниночку, что крутилась перед золоченым зеркалом. Беззаботная графинюшка, восхищенная подвенечным нарядом и без конца думающая о своем «Бореньке», о нежных его словечках, ласковых руках и страстных поцелуях.
– Будет бунт, как пить дать, будет, – вынесла свой политический вердикт Прасковья. – Сущая рех-во-люция, так это теперь называется. Ой, чего только не наслушаешься, людям платья пошивая. Заговор тайный составлен против царя, а заговорщики-то все люди знатные, известные, князья да генералы. И, знаете, милая, что говорят-то они? Дескать, настало время с царем расквитаться, мол, да здравствует свобода, равенство, братство, как хранцуз какой-то окаянный Руссо прописал. Вот ведь как. Вы только представьте, ваше сиятельство, барынька моя милая, что сотни тысяч холопьев чумазых вольную получат, от крепости освободятся?
Ниночка юлой крутнулась перед зеркалом. Широкая юбка ее почти готового уж платья колоколом взлетела.
– Я ничего не понимаю в политиках, Прасковья. Я вот замуж выхожу…
– Говаривают, что бунтовать-то еще в декабре нынешнем зачнут. Это вам, барынька, не шутки. – Прасковья с кряхтением поднялась с колен и поправила седые волосы. – А ведь декабрь-то уже на дворе… Во имя всех святых угодников, ох и кровушки в эти дни прольется! Вы б поспрашивали его милость Бориса-то Степановича, он же, чай, лейтенант, он многое, небось, слышал.
– Борис Степанович ничего не знает ни о каких заговорах, – Ниночка бросилась в широкое, обитое дамаскими шелками кресло. – Он бы мне все сразу обсказал и батюшке моему тож. Все лишь болтовня пустая, Прасковья. Склока великих князей за трон есть хорошая кормушка для сплетен и домыслов лукавых. Будет ли царем Николай, Константин ли – все едино, в России ничего не изменится!
– Константин-то слабак, а Николай – государь строгий. Но никто из них с покойным братцем своим Александром Павловичем таки не сравнится.
– Тебя сие волнует, Прасковья? – Ниночка поудобнее откинулась в кресле и рассмеялась звонко. – Лично я замуж выхожу. А второго января я с Боренькой в Ригу отъезжаю…
Во всю свою жизнь не было у Николая I дня страшнее и тягостнее 14 декабря. Он решил пойти навстречу опасности. Мятеж, бунт, что ж, он не струсит. Как-никак наследник престола! С самого раннего утра он был уже на ногах. Сжав зубы, с побелевшими губами и глазами ждал он событий этого дня. А что события сии не замедлят себя ждать, он нисколько не сомневался.
К семи прибыли во дворец почти все полковые генералы и командиры гвардейского корпуса. Все в золоте, эполетах и аксельбантах, подтянутые и торжественные…
Твердым, хорошо поставленным голосом Николай громко зачитал манифест от собственного лица о восшествии на престол. Оглядев присутствующих генералов, развернул бумагу с духовным завещанием Александра Павловича и так же громко и четко зачитал и его. А затем отречение от престола братца-слабака, Константина.
– Есть ли у кого сомнения в законности моих притязаний на русский трон?
Генералы переглянулись, но ни один из них не осмелился в этой обстановке возразить хоть словом единым.
– Если я хоть час буду императором, я покажу, что этого достоин…
Солнце спряталось за пелену клочковатых туч, спускался над площадью и Сенатом синеватый туман, все происходящее казалось нереальным, как будто совершалось в странном сне. В Петербурге внезапно стало просто пронзительно холодно. Трупно-серое небо давило на город. Да тут еще и колокола раззвонились заполошно. То примкнувшие к мятежникам захватили церкви и заставили звонарей взяться за веревки на колокольнях. Еще никогда – разве что на коронации царей, в дни тезоименитства сиятельнейших особ да по великим праздникам – не звонили все разом колокола петербургские. И этот звон дружный был словно провозвестие конца света, как приветствие… совершенно нового дня. Иного. Но не было в сей час пророков в Отечестве своем.
На Сенатской площади Московский полк выстроился в каре в ожидании других бунташных частей. Небольшое количество заговорщиков собралось группкой и принялось жарко совещаться. Может, пора уж ударить, броситься на штурм Зимнего? В здании Сената не было никого, кого можно было б принудить подписаться под их собственным манифестом, Адмиралтейство вообще как вымерло. А колокольный звон все несся и несся над Петербургом.
– …Приготовить карету для императорской семьи, – бросил Николай Павлович подбежавшему адъютанту. В случае атаки можно было ускакать в Царское Село и оттуда руководить подавлением мятежа.
А мятежное каре на площади все стояло. Солдаты мерзли в одних мундирах, блистая четким построением и не двигаясь с места. Чего они ждали, чего они ждут?
По дорожкам бежал в беспорядке лейб-гренадерский полк.
– Стой! – закричал Николай, обрадовавшись подкреплению.
Солдаты в беспорядке закричали:
– Мы за Константина!
Он сжал зубы и едва процедил:
– Ну, коли так, то вот вам дорога, – и махнул рукой в сторону Сенатской площади.
Миновало уж два часа стояния на Сенатской. Были разосланы агитаторы в казармы других полков. Ждали подкрепления, а оно все не приходило. Не было и полков противника, с коими можно было б потягаться силой, чтобы хоть что-то стало ясно. Устали уж от запутанности-то.
Ниночка стояла у окна, зашторенного неплотно, и в незаметную щелочку поглядывала на здание Адмиралтейства. Прасковья крестилась мелко, едва заслыша конский топот. Мимо дворца пронесся эскадрон. На Адмиралтействе пробило уж два часа пополудни.
– Ты узнала? Узнала? – взволнованно воскликнула Ниночка и прижалась лицом к холодному оконному стеклу. – Это ж… Борин полк? Ведь так? – голос девушки внезапно задрожал. – Прасковья, они же не посходили все с ума, они ж не перестреляют друг друга? А? Ты что-нибудь понимаешь, Прасковья?
– Нет, ваше сиятельство, барышня моя милая, – портниха еще плотнее закрыла шторы на окне. – Может, то перед присягой царю войска натаскивают. Его сиятельство, граф-батюшка придет и все нам обскажет. – И Прасковья вновь занялась Ниночкиным платьем, хоть ее руки и дрожали столь сильно, что она и иголку держать не могла.
Прасковья узнала Бориса Тугая. Он прогалопировал во главе своего эскадрона к заговорщикам.
А потом – едва часы пробили два, – к Адмиралтейству промаршировали новые полки. Вот только шли они за царя. Все они обступили Сенатскую площадь. Финляндский полк встал вдоль берега Невы. Знаменитые измайловцы защищали Адмиралтейство. Конногвардейцы – все, кроме эскадрона лейтенанта Тугая, – сомкнули кольцо.
Коротенький зимний день угасал. Спряталось за тучи неяркое северное солнце, начали тускнеть очертания зданий, посерел лед на Неве.
Одного за другим отправлял Николай парламентеров к восставшим. Старенького и дрожащего от страха Петербургского митрополита Серафима с Сенатской прогнали криками и улюлюканьем. Взбешенный великий князь Михаил Павлович сам вызвался объяснить восставшим всю нелепость их требований, но в него стреляли, и Михаилу пришлось ни с чем вернуться назад.
После его ухода мятежники переглянулись.
– Кровь все-таки прольется, – шепнул князь Оболенский Рылееву.
Рылеев, один из самых ревностных и пламенных вожаков восстания, страшно устал за последние часы, он все искал Трубецкого, переговаривался с офицерами в казармах, пытался убедить в своей правоте все еще сомневающихся.
– Мы все погибнем. Господи, нас предали, предали!
Лейтенант Тугай спешился и бросился к Оболенскому.
– Это все, кого я смог убедить! – крикнул он. – Всего лишь эскадрон. – Он заткнул за пояс тяжелый пистолет. – В казармах все передают слова Николая: «Кто взбунтуется, получит восемьсот ударов шпицрутенами и отправится в Сибирь до конца дней своих». Это как-то не возбуждает в людях геройство.
– А вы? – спросил Оболенский. – Вы-то все же примкнули к нам?
– А я всегда держу слово, эксцеленче! Я вам не трус какой-нибудь.
– А как же ваша невеста? Через семнадцать дней свадьба, я уж для вас и подарок купил.
Тугай угрюмо воззрился на землю у себя под ногами.
– Прошу вас, эксцеленче, не будем сейчас говорить о Ниночке. Она непременно поймет меня – или же я любил не ту женщину, – он резко развернулся и пошел к своим спешившимся конногвардейцам.
Сумерки спускались все ниже, и Николай понимал, что в темноте мятежники соединятся с народом, и тогда быть ему казненным на манер французских королей или воевать со всем своим народом.
Генерал-адъютант Васильчиков подъехал к императору:
– Ваше величество! Больше нельзя терять ни минуты! Ничего не поделаешь – нужна картечь!
– Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый же день моего царствования? – резко переспросил Николай.
– Да, – отвечал Васильчиков, – чтобы спасти вашу империю…
Больше Николай не колебался.
Князь Оболенский положил руку на плечо Тугая.
– Там ваши товарищи, Борис Степанович. И сейчас они пойдут в атаку. Ваши друзья, с которыми вы так славно кутили по ночам. Уводите свой эскадрон. Давайте же, уходите! Вы еще можете спастись.
Тугай молча и отчаянно помотал головой. Он вытащил пистолет из-за пояса и взвел курок. Сабли блеснули на льдистом воздухе, всадники дали шпоры коням.
Все запланировано было неверно, их ждала гибель.
Николай Павлович подъехал к батарее и скомандовал:
– Пальба орудиями по порядку! Правый фланг, начинай! Первая!
Но выстрела не последовало. Солдат затоптал запал в снег.
– Свои же, – с ужасом сказал он Бакунину, командиру артиллерии.
Бакунин соскочил с лошади, вырвал у солдата запал, мигом поднес его к пушке. Солдат успел приподнять дуло, и выстрел пришелся в карниз Сената. Посыпались с крыши и карниза зеваки, подкошенные картечью. Второй выстрел пришелся в самую середину каре.
Отстреливаясь, мятежники пытались скрыться. Лейтенант Тугай, его денщик Руслан Колкий и его приятель, лейтенант Алексей Плиский пытались подняться в жалкое подобие атаки. С саблями наголо прогалопировали в нелепом мужестве против рядов бывших своих товарищей.
Граф Алексей Орлов махнул рукой, увидев трех мятежников:
– Отставить! – рявкнул он. – Пропустите их! – И добавил негромко: – Вот ведь горячая голова, этот Тугай! Надо бы помочь ему сохранить эту голову на плечах…
С криками пронеслись Тугай, Колкий и Плиский, не встречая сопротивления, меж рядов своих товарищей. Те расступились, пропуская храбрецов.
Тугай остановил коня, его друзья последовали примеру лейтенанта-конногвардейца. Медленно сомкнулись ряды солдат, медленно подъехал к мятежникам граф Орлов. Остановился перед Тугаем.
– Вашу саблю, Борис Степанович. Эх, вы, глупец… Столь молод и уже прошляпил свою жизнь!
Борис опустил голову и протянул полковнику оружие. Выскользнул из седла и упал на затоптанный снег. Только сейчас все увидели, что Тугай истекает кровью – пять пулевых ранений.
Пушки били и били по отступавшим, внося в их ряды панику и хаос.
В короткий срок на Сенатской площади не осталось ни одного человека. На льду Невы зачернело от толп народа и солдат. Пушки повернули против них. Треск льда, крики утопающих, залпы пушек – все слилось в один ужасающий шум.
Скоро перед дворцом и на площади не осталось уже ни одного человека, только чернели на снегу трупы. Смерчи воды накрывали оставшихся в живых и уносили за собой в море…
Бунт был подавлен.
Только поздно вечером граф Кошин вернулся домой. Ниночка испуганной птахой порхнула к нему. На ней все еще было недошитое подвенечное платье. Следом с жалобными причитаниями семенила Прасковья.
– Ваша светлость, она не хочет его снимать! Ваша светлость! Она не хочет его снимать!
Павел Михайлович Кошин подхватил дочь на руки. Прижал к себе ее головку, брезгливо прошелся пальцами по тяжелому французскому шелку подвенечного наряда.
– Снимай-ка это тряпье! Не будет никакой свадьбы!
– Что… что с Борей? – прошептала Ниночка. – Где он?
– Не знаю я никакого Бори! – рявкнул Кошин. – В моем доме имени сего Тугая и не произносилось никогда. Снимай платье!
– Что с Борей? – дико закричала Ниночка. Вырвалась из отцовских объятий, ударила его по рукам и отскочила от отца разъяренной кошкой. Столь немыслимо было сие, что Кошин язык проглотил от неслыханной дерзости дочери.
Ниночка ж схватила его за обшлага камзола.
– Где Боря?
– В крепости! – Павел Михайлович опустил голову понуро. То, что дочь ударила единокровного родителя своего по пальцам, было пострашней всех новомодных революций. Это было катастрофой, гибелью всех устоев, морали, любви. – Скорей всего, его расстреляют за мятеж…
ГЛАВА 2
В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое декабря Николай и вовсе не ложился спать. Он переходил из залы в залу Зимнего дворца, не ведая покоя. Нервы были вздыблены при восстании, он еще не пришел в себя после мятежа и требовал арестов…
Призвал Сперанского и приказал ему заготовить манифест с объяснением событий 14 декабря. Немедленно, в двадцать четыре часа хотел Николай Павлович расстрелять всех, кто был замешан в мятеже, но старенький седенький Сперанский коварно заметил государю:
– Не спешите с расстрелами, ваше императорское величество, всему нужна форма законности, да к тому же допросы откроют много важного, ибо, я полагаю, не одни военные замешаны в деле сем…
Николай пристально посмотрел на Сперанского. Старик, он когда-то был в чести у братца Александра, законы готовил, даже конституцию писал, а потом за оплошность малую оказался в ссылке.
– Вы правы, – ответил император.
Манифест объяснительный, столь поспешно Сперанским писанный, гласил на другой день после мятежа:
«Тогда как все государственные сословия, все чины военные и гражданские, народ и войска единодушно приносили нам присягу и в храмах Божиих призывали на царствование наше благословение небесное, горсть непокорных дерзнула противостать общей присяге, закону, власти и убеждениям. Надлежало употребить силу, чтоб рассеять и образумить сие скопище. В сем кратко состоит все происшествие, маловажное в самом себе, но весьма важное по его началу и последствиям».
– Я не брат Александр, – бормотал про себя Николай. – Я с бунтовщиками миндальничать не стану. Я им покажу, как революции в России устраивать…
Но в душе он ужасался содеянному и, вернувшись во дворец, тут же написал брату Константину:
«Дорогой, дорогой Константин! Ваша воля исполнена. Я – император, но какой ценой! Боже мой, ценой крови моих подданных…»
Все солдаты, схваченные на месте побоища, были сразу же водворены в Петропавловскую крепость. Николай приказал к утру следующего дня стереть все, следы происшествия, и убитых бросали в проруби на Неве, пятна крови присыпали снегом. К утру только поврежденный карниз Сената да огромные полыньи на реке напоминали о вчерашних событиях.
Все знатные люди, участвовавшие в заговоре, были доставлены во дворец, и Николай сам допрашивал их. Ругательствами и презрением были встречены эти люди. Князь Оболенский стоял перед императором со связанными руками, и теперь Николай мог излить на него всю ненависть и злобу – князь был старшим адъютантом в дежурстве Гвардейской пехоты, а Николай командовал одной из дивизий этой пехоты и потому Оболенский строго взыскивал с Николая еще в бытность его великим князем за упущения по службе. Не мог пройти мимо своего бывшего начальника Николай, чтобы не напомнить ему старых взысканий.
Князя Трубецкого привезли во дворец после полуночи. Николай в полной парадной форме и андреевской ленте вышел к нему навстречу и закричал, приставив указательный палец ко лбу князя:
– Что было в вашей голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник! Князь Трубецкой! Как вам не стыдно быть с такой дрянью? Ваша участь будет ужасна. Вы погубили жену! Погубили! Вы знаете, что я могу вас сейчас расстрелять?
Трубецкой внезапно тоже закричал:
– Расстреляйте, государь, вы имеете право!
– Не хочу! – взвизгнул вдруг Николай. – Я хочу, чтобы участь ваша была ужасна!
Десять дней осаждала Ниночка Павловна Кошина коменданта Петропавловской крепости, в казематы которой поместили мятежных офицеров и где они ждали царского приговора своей участи.
Осада Ниночкой крепости была делом тайным, она приходила сюда в сопровождении бывшей своей нянюшки Катерины Ивановны, уверяя отца, что наведывалась в церковь да бегала за покупками намедни, иначе родительский дворец покинуть беда сущая. Кучер Мирон Федорович, коему граф Кошин велел пистолью вооружиться, головой своей отвечал за Ниночкину безопасность, а посему был посвящен во все тайны бедной девушки. Нелегкое дело агитирования Мирона взяла на себя Катерина Ивановна.
– Слушай-ка, медведище драный, – заявила она ему. – Ты ж знаешь жениха барышненого, барина Бориса Степановича. В мятежники его нелегкая утянула, вот сидит ноне в крепости. Сказнить его хотят, бедняженьку, Господи Боже ж ты мой всемогущий, а барышня-то наша извелась сердечком. Поезжай-ка в крепость, да рот, смотри, на замке держи.
И Мирон Федорович степенно так ответствовал:
– Ты гляди-ко, и барин молодой туда же! Ох, и глупые они люди, скажу я тебе, Катерина. Такие неумехи бестолковые… как будто вся тина невская у них вместо мозгов в голове собралась. А мы-то все надеялись, что у них все получится.
– И ты – тоже? – Катерина Ивановна в изумлении вскинула глаза на кучера.
– А что я, по-твоему, за печкой уродился? – Мирон сплюнул презрительно и прочистил нос в рукав своего армяка. – Сейчас все замрет равно во сне смертном. Царь поцарствует, суд неправедный засудит. Бедный конногвардеец…
– Так поедешь с нами в крепость?
– Ну, поеду, хотя что в том проку? Дальше караульни барышню нашу Ниночку Павловну все равно не пустют. Заговорщиков, поди, охраняют почище каменьев драгоценных.
– У нашего хозяина имя знатное, авось…
– Кто сейчас со знатными именами считается? Царь вообще никому не верит. Трубецкой был среди мятежных, граф Муравьев, Волконский… Царь-то наш один, почитай, в чащобине дикой остался. Так что ему Кошин какой-то?
И все же они попытались.
Пока государь Николай Павлович держал графа Кошина в списке подозреваемых, – ибо у кого зятек во главе мятежников гарцует, у того все белые манжеты унавожены, – и пока сыскари тайной полиции прочесывали дворцы петербургской знати, в крепости Петропавловской чуть не выл от отчаяния комендант, генерал граф Луков, когда верный его ординарец докладывал:
– Нина Павловна Кошина снова в приемной.
– Выгони ты ее, – чуть не плакал Луков. – Нет у меня сейчас почитай никакой возможности по-человечному с барышнями обходиться. Царев приказ, не мой!
Из тоненькой фарфоровой чашечки он сделал махонький глоток горяченного кофию, а за сим начинал метаться по большой да мрачной комнате.
– Ну, а другие дамочки где? – осторожно спрашивал.
– Да все там же, у ворот, – молоденький ординарец нервозно закусил губу. – Княгиня Трубецкая даже угрожать-с изволили, что палатку перед входом поставят-с.
– И ведь поставит, как пить дать, поставит! Знаю я эту Трубецкую! Железная женщина, ей-ей, железная! То, что она еще не попробовала ворота крепостные головушкой пробить, сущее чудо!
После обеда генерал Луков велел запрягать сани, чтобы объехать с осмотром Петропавловскую крепость. Граф осторожненько выглянул за ворота. Группа из тридцати знатных дам собралась неподалеку, жгли костры на трескучем морозе да варили суп в больших чугунных котлах. И каждому солдатику, появлявшемуся у ворот, кричали:
– Митеньке моему привет передавай!
– Коли графа Блошинского увидишь, передай, что Наталья его здесь, с ним рядом!
– Эй, ты, да ты, длинный такой унтер! Меня Марией Никитичной зовут. Поцелуй-ка за меня Михаила моего!
– Кто из них Нина Павловна? – спросил генерал Луков у солдат в караульной.
Начальник караула махнул в сторону одной из женщин.
– Да вон та, что в шубке песцовой.
– Вот эта юная пташка?
– Она венчаться в Новый год собиралась!
– А сей идиот атаки супротив государя устраивает?! Ха, а почему, собственно, мы должны жалеть их? Гони бабье прочь.
– Они ж только того и ждут, ваше благородие. Только мы к ним приближаемся, сразу за факелы хватаются.
Генерал Луков кивнул в сторону статной красивой женщины в длинной собольей шубе.
– Это – княгиня Трубецкая. Дома она держит семьдесят лакеев, а здесь сама суп варить удумала. Выйдите к ним, капитан, и объясните дамам, что бесполезно томиться здесь ожиданием. Только государь может решить хоть что-то.
– Я им это каждый день объясняю. А они даже не слушают. Утром, пополудни да вечером горланят песнопения божественные да молятся. Даже священника с собой как-то раз притащили, чтоб их тут благословлял.
– Знаю, то – домашний священник Трубецких, – генерал Луков накинул подбитый мехом плащ и вздохнул тяжко. – Открывайте ворота. Я сам поговорю с ними.
Он крепко сжал в руках плеть, аж костяшки пальцев побелели, и вышел из душной караульной.
Декабрьский мятеж мало что изменил в России. Народ он мало коснулся, а вот в кругах военных и знати оставил по себе следы идей вольнодумных. Новая философия, кою недобрым ветром надуло в Россию из Франции, проникла глубоко в сердца. Раньше бы Луков что сделал? Да разогнал бы бабье избалованное ротой солдат. А теперь вот, лично генерал к воротам выходить должен, да здороваться со сдуревшими вежливо, по полному политесу, когда тридцать дур-баб за факелы горящие хватаются.
Княгиня Трубецкая и Ниночка вышли вперед. Их лица раскраснелись на морозе, брови и ресницы заиндевели, дыхание становилось маленьким белым облачком.
– Дамы, – вздохнул генерал Луков и замер в трех шагах от них. – Сударыни, да не смотрите вы на меня, как на врага злейшего, право! Княгинюшка, милая, мы ж танцевали с вами на прошлогоднем балу рождественском. Ниночка Павловна, дорогая вы моя, ваш батюшка – друг мне. Я стою пред вами, чтоб показать, как сочувствую вам. Как человек, конечно же, не как генерал.
– Пустите нас к нашим мужьям! – княгиня Трубецкая опустила факел. – Только пара минут. Только б руку им пожать. Они должны знать, что их жены с ними, вместе готовы бороться за справедливость.
– Да знают они, знают, – поневоле генерал Луков в восхищении косился на стоявших пред ним женщин.
«Наша Россия пребудет бессмертна, – подумал он почти счастливо. – С такими людьми жить ей вечно».
– У меня нет приказа выпускать заключенных из казематов, – заявил он. – У меня вообще нет никаких распоряжений государя. Возможно, вы знаете много больше меня.
– Царь Николай не принимает нас! – княгиня Трубецкая бросила в досаде погасший факел. – Да я готова на коленях ползти к Зимнему…
– Когда наши мужья дождутся хотя бы приговора? – спросила Ниночка. Ее звонкий голосок дрогнул, словно замерзшие на морозе слова разбились, как сбитая сосулька с крыши.
– Сие еще не решено. Судья-дознаватель Авдей Ильич Саборов все еще допрашивает их.
– Саборов сущая свинья! – сказано было не по-княжески, зато княгиней Трубецкой, которая и в собольей шубе оставалась одной из тысяч русских баб, мужей которых с легкостью приговаривали на казнь или гнали по этапу в Сибирь на бессрочную каторгу.
– То есть вы собираетесь и далее здесь осаду держать, милые мои дамы? – спросил Луков, заранее предвидя ответ. Он знал, что в таком случае царь быстренько отдаст приказ открыть на этих женщин охоту. Что тогда? Кому препоручат сию «доблестную» акцию? Ему, Лукову? Эх, было время, когда на такие случаи всегда находилась вполне подходящая болезнь – ну, почечуй расшалится, – чтоб отговориться нездоровьем. А теперь все не то. Неужто воротились времена, когда царский трон был ни чем иным, как эшафотом палаческим? Россия богата на царей, прорвавшихся к власти с помощью клинка да яда. Все они тащили на хвосте своей мантии иных людей. Может, и Лукову к таковским присоединиться?
– Мы будем сидеть здесь до тех пор, пока не свидимся со своими мужьями, – сказала Ниночка. – А если на нас пустят солдат… Пусть только появятся! Мы ведь тоже умеем умирать с гордо поднятой головой.
Луков вздохнул, развернулся и понуро побрел в крепость.
Чуть погодя из ворот Петропавловки выехал курьер и растворился в тумане, медленно наползавшем на Петербург. Солдаты часто покидали крепость, и на курьера никто не обратил ни малейшего внимания. Но сей посланец был последней отчаянной попыткой генерала Лукова предотвратить катастрофу.
Граф Кошин ничего хорошего и не ждал, получив из рук тайного секретаря царя письмо его императорского величества. Ниночка вновь уехала в город, к какой-то там белошвейке, а ее маменька, графиня Марина Ивановна, сидела у себя в салоне с парой подружек и вышивала большой плат для стоявшего пока еще в лесах собора святого Исаакия. Во время освящения собора плат предполагалось торжественно пронести вкруг алтаря, как подарок от знатнейшего семейства Санкт-Петербурга заместителям господа Бога на земле.
Кошин сломал императорскую печать на конверте и пробежался глазами по нескольким строчкам. Всего лишь пара слов – приказ незамедлительно прибыть во дворец к государю.
– Я только платье сменю, – суетливо обратился Кошин к тайному секретарю, безропотно ожидавшему у дверей. Бесцветный тон письма императора не предвещал ничего хорошего. – Я последую за вами в своем экипаже.
Он позвал прислугу, велел достать свой старый потрепанный мундир, а затем поехал, укрывшись дохой, в своем собственном возке к Зимнему дворцу. Секретарь государя приказал открыть все ворота и пропускать тройку Кошина без досмотра. Во внутреннем дворике два пажа помогли графу Кошину выбраться из возка и провели его во дворец.
Император Николай Павлович принял Кошина в библиотеке. Он сидел за огромным письменным столом в гвардейском мундире, который нашивал еще в великих князьях. Государь поднялся, по-военному приветствуя Кошина, да так и остался стоять, сесть графу не предлагая.
– Подойдите, Павел Михайлович. Вовсе не стоило надевать мундир столетней давности, чтобы напомнить мне о своих заслугах перед отечеством. Еще батенька мой много говаривать изволил о кораблях дома вашего, поддерживающих торговые дела России на Балтийском море. Но за кораблями, граф, вы о семье-то и позабыли.
– Любовь дочери моей Ниночки к лейтенанту Борису Степановичу Тугаю начиналась под счастливой звездой, ваше величество. Но ныне… – Кошин медленно подошел ближе и остановился в пяти метрах подле государя. – Я более не знаком ни с каким лейтенантом Тугаем. Сие в дому моем законом стало.
– А вы не замечали, что вас обманывают, Павел Михайлович? Или обманываться вы рады?
Кошин почувствовал, как мурашки побежали у него по коже. Что может быть такого ведомо царю, что неизвестно ему, Кошину? Что такое у него за спиной сотворилось?
– Я не знаю ни о каком обмане, ваше величество…
Николай I улыбнулся сочувственно. Он подошел к письменному столу и кивнул Кошину на какую-то бумагу. Письмо от генерала Лукова.
– Знаете ли вы, граф мой милейший, где проводит время свое дочка ваша Нина Павловна?
Кошин кивнул головой, немного успокаиваясь.
– Чего ж не знать? Она поехала-с к своей белошвейке. С горничной и кучером.
– Да? И эта белошвейка бельецо ей на улице пошивает? У крепости Петропавловской?
– Я не понимаю вас, ваше величество…
Николай I улыбнулся еще жалостливей.
– Вы ведь на тройке на зов мой примчаться изволили, а, Павел Михайлович? Вот и поезжайте к крепости-то. Сейчас же! А через час жду вас назад. У стражи есть приказ, она вас немедленно ко мне пропустит.
Кошин поклонился и вышел из государевой библиотеки. Во дворе вскочил в возок, закутался в полог из волчьей шкуры и рыкнул на кучера:
– К Петропавловке! Летать учись! В крепость!
Тройка взяла рысью с огромной площади перед Зимним дворцом. Кучер гнал по мосту через Неву прямо к крепости Петра-и-Павла.
Издалека завидел Кошин пламя костров и понял, что среди этих закутанных в мех женщин была и его Ниночка. Княгиня Трубецкая мгновенно узнала графа, а за ней и Волконская, и графиня Блинова. И тут он увидел у костра песцовую шубку Ниночки. Кошин подарил эту шубку ей на двадцатилетие, меховая сия накидка была самой красивой в целом Петербурге.
Граф, кряхтя, вылез из возка и по сугробам, напрямую, направился к группе женщин. У одной из них, – он даже не знал ее имени, хотя видал на придворных балах, – ему пришлось выхватить из рук горящий факел, когда она вознамерилась было задержать его.
– Сколько ж знатных семейств в Петербурге! – воскликнул Кошин на всю площадь. – И такая толпа безмозглого бабья! – голос графа все крепчал, его невозможно было не услышать. Ниночка метнулась в сторону, хотела убежать, скрыться от отца, но княгиня Трубецкая заслонила ее собой и ответила Кошину:
– Старым людям надобно играть с воспоминаниями у камелька, а не в политику новых времен соваться да с бабами безмозглыми воевать! Павел Михайлович, вы все еще рядитесь в старые обноски былого – так оставьте нас в покое!
– Коли новые ваши времена допускают подобное безумие, я рад, что мое место у печки! Мятеж мужей ваших – да есть ли что глупее? Али то революция на манер французской была?
– Да, глупо! – Трубецкая все еще прикрывала собой Ниночку, словно медведица своего детеныша. – А посему не вышло ничего. Наши мужья оказались там, по другую сторону жизни. Так относитесь к ним, как к людям, а не как к зверью дикому! – Княгиня вскинула предостерегающе руки, едва Кошин собрался приблизиться к ней. – Стойте там, где стоите, Павел Михайлович. У вас за спиной десять безмозглых баб только того и ждут, что вы сдвинетесь с места, дабы поджечь ваш такой красивый мундир времен Очакова и покоренья Крыма.
Кошин оцепенел. Ему не было нужды оглядываться, сие было ниже его достоинства, он и так знал, что княгиня Трубецкая говорит сущую правду.
– Мне надобно поговорить с Ниночкой, – поспешно произнес он.
– Зачем?
– Али я ей не отец?
– Да ей рыбы в Неве поболее близки, чем вы.
Кошин шумно выдохнул воздух.
– А это пусть она сама мне скажет, княгиня. Или ей для переговоров уже и парламентарии надобны? Я точно помню, что родилась она у меня не безъязыкой. До сего дня щебетать могла, что твоя птичка.
– Уж больше никогда не буду! – громко выкрикнула Ниночка и сделала пару неуверенных шажков к отцу. – Я больше уж никогда не смогу смеяться, папенька.
– А лгать? Лгать-то ты еще как можешь!
– Если то надобно во имя Бореньки, то даже ложь не во грех, а во счастье.
– Вот что сталось из тебя! Господи, и за что так караешь меня, грешного? – Кошин глядел на дочь и понимал, что теряет, теряет безвозвратно единственное свое дитя. Коли и стоит сейчас перед ним Ниночка, статная, красивая, в шубке своей песцовой, то только потому, что Царь пока не приговорил Бориса Степановича ни на казнь, ни к Сибири. А оттуда никто еще не ворочался.
Кто в дебрях таежных исчезал, тот переставал существовать для остального человечества.
– А почему вы здесь? – едва шевеля языком, так тяжко было ему говорить в момент сей, спросил Кошин. – Что с того изменится? Неужто царя заставить вас слушаться хотите? О, господи ты боже мой, экие вы неразумехи! Вас же погонят отсюда, как котенок бродячих!
– А мы только того и ждем! – выкрикнула Волконская. – Пусть вся Россия видит то и слышит!
– А что потом? Жизнь-то на сем не кончится! Парочкой знатных дам больше, парочкой меньше, что с того России? Ниночка…
– Папенька?
– Возвращайся домой.
– Нет, – Ниночка сжалась, как от удара. Ее худенькое, прелестное личико окаменело. И лишь глаза жили, а в уголках их трепетали слезы, превращавшиеся в льдинки на холодном ветру.
– Я велю привести тебя домой со взводом солдат! – закричал Кошин.
– Вы не посмеете, даже если сам царь посмеет! – горделиво вскинулась Трубецкая. – Уходите, Павел Михайлович. Что ведомо вам о женской любви? Да, вы женились, вы зачали ребенка, ибо так велит природа. Но задавались ли вы хотя бы раз вопросом, а счастлива ли графиня Марина Ивановна с вами?
– Моя жена? Конечно, счастлива!
– Вы как будто приказ на счастье отдаете! Она счастлива, потому что обязана быть счастливой! – И Трубецкая хохотнула коротко и мрачно. – Бедный Павел Михайлович, вы промаршировали в параде мнимостей мимо реальной жизни. Оглянитесь вокруг – эти женщины любят своих избранников и в радости, и в горе! Даже если те сгоряча и понаделали глупостей.
– А в Сибири? Тоже любить будут?
– И в Сибири тоже, папенька, – в гробовой тишине прошептала Ниночка.
– Да мы повиснем на тех телегах, что увезут от нас наших мужей, – Трубецкая устало потерла замерзшее лицо. – И коли надобно, сами впряжемся в те сани, в те телеги. Поймете ли вы меня, граф?
– Нет, – бесстрастно отозвался Кошин. – Нет.
– Вот я и говорю, Павел Михайлович: бедный вы, бедный. Вы не знаете, что такое любовь. Уезжайте-ка вы в свой дворец, вы нам без надобности, мы и так знаем, что нам делать.
Кошин в бессильной ярости и отчаянии сжал кулаки. Он замерз; тонкая материя мундира не держала тепла. Мундир был старым, во многих местах пробитым уж молью. За старой формой не следили, ибо сам Кошин и в мыслях не держал, что одеяние сие когда-нибудь еще сумеет ему пригодиться.
– Пойдем домой, ласточка моя, – попросил он, и голос его предательски дрогнул.
Ниночка устало покачала головой.
– Нет, папенька. Пожалуйста, уходи…
– Маменька твоя умрет с горя, когда узнает…
– И Боря умрет, если меня с ним не будет, – Ниночка отвернулась и медленно пошла к костру. За ней сомкнулась стена из онемевших от горя женщин, как будто двери узилища сырого захлопнулись. Навсегда. Сердце Кошина пропустило удар.
«Царь, – подумал он. – Здесь может помочь лишь он один! Я буду валяться у него в ногах, как пред иконостасом со всеми святыми угодниками. Ниночка, дитя мое любимое… Что знает Трубецкая о любви! Она фанатична не в меру, она сгорает в пламени сердца. Но когда прогорит сей огонь, что от нее останется. Господи, Ниночка, неужто и ты хочешь золой ненужной сделаться?»
Он пошатнулся, как от удара, а потом бросился к возку.
– Гони! К государю! – крикнул он. – Гони, сукин ты сын! Я отправлю тебя на съезжую, если твои лошади не окажутся самыми быстрыми в Петербурге.
Кучер из графской челяди, чьи прадеды еще принадлежали Кошиным, весь сжался от угроз и оходил плеткой лошадей. Те с места взяли в карьер. Кошина мотнуло с силой, едва не вылетел из собственных саней-то. Еще никогда доселе не мчались по ночному Петербургу тройки с безумной такой скоростью.
Что тогда было говорено меж Кошиным и императором Николаем Павловичем, мы никогда уж не узнаем. Караул, стоявший у дверей, рассказывал позднее лишь о том, что граф Кошин вышел из государева кабинета – без орденов и эполет, – так, как будто царь дрался с ним на кулаках.
Все было не так. То Кошин бросил царю под ноги ордена свои и аксельбанты, моля о том, чтобы сослал его император в Сибирь, потому что он сейчас ему всю правду в глаза скажет. А царь брезгливо раздавил сорванные символы чести и доблести сапогом, а затем заметил спокойным, совершенно бесцветным голосом:
– Я все припомню вам, любезный мой Павел Михайлович, когда будет на то время.
Что было сказано до того и после, покрыто тайной.
Зато почти каждый вскоре мог увидеть, как гнался чрез весь дворец – на улицу – Кошин, вооружась длинной плеткой, за кучером Мироном Федоровичем. И бил Мирона, бил, пока тот не свалился без сознания, а снег не стал красным от крови. После чего Кошин пнул с силой кучера под ребра и ушел, оставив того валяться на улице.
Качаясь, в изорванной одежде, весь окровавленный появился Мирон перед Петропавловской крепостью, был усажен у костра нянюшкой Катериной Ивановной и отдан на попечение графинь и княгинь, как будто был он не грязным холопом, а господином высокого происхождения. А когда началась у него лихорадка, те к нему даже доктора позвали.
Воистину в России наступали новые времена, пусть даже тихо и робко.
Три недели «осаждали» крепость жены заговорщиков, и каждый день из этих трех недель кружил в санях граф Кошин неподалеку от костров, издали наблюдая за дочерью любимой, Ниночкой.
Внезапно, на четвертую неделю стояния, когда Петербург потонул в снегах, женщины исчезли.
Кошин велел доложить о себе генералу Лукову. Он дрожал как в лихорадке, когда Луков, наконец, принял его.
– Что вы сделали с моей дочерью? – набросился на коменданта Кошин. – Где она? Прохор Григорьевич, родной вы мой, имейте ж сострадание к медленно умирающему от горя отцу! Где моя Ниночка?
– В конюшнях. Они все там! Сидят, греются. Нет, смотреть на них не надобно, Павел Михайлович. Но я клянусь вам, что с женщинами ничего не случится. Царь решил наконец проявить великодушие. Завтра они свидятся со своими мужьями.
Кошин привалился к стене. Ноги отказывались служить ему.
– Это правда? Царь так распорядился?
Луков кивнул.
– Ну, не я же. Не почитайте меня за архангела, который все может. Конечно, то была воля царя. Все дамы свидятся со своими мужьями. Одноразовый знак милости его величества.
На следующее утро, ровно в девять, капитан вывел тридцать женщин из конюшен и повел к казематам, где дожидались своей участи заключенные. Вновь шел снег, снежинки напоминали жемчуга, которыми небеса украшали волосы женщин.
Великий час их любви свершился.
ГЛАВА 3
Внутренний дворик крепости. Две высокие чугунные ограды прорезали его напополам. Коридор меж ними патрулировался пятью караульными солдатами, укутанными в шинели.
Часовые не прервали своего движения, когда во внутреннем дворике появились жены арестованных и спешно устремились к ограде. По другую ее сторону медленно открылись четыре двери в высокой, мрачной, унизанной зарешеченными окошками стене крепости.
Сначала появился офицер, быстро проверил, все ли предписания безопасности соблюдаются, а затем сделал караульным знак выводить арестованных. У каждой двери стало по два солдата. А затем из темноты вышли узники, многие в мундирах, изодранных, покрытых пятнами крови, с наспех перевязанными ранами, простоголовые и небритые. Они смотрели в свинцово-серые небеса, на тихо падающий снег, веря и не веря в то, что есть еще хоть что-то в мире, кроме сырых и холодных стен крепостного узилища.
И только когда женщины начали выкрикивать их по именам, они увидели высокую ограду и поняли, наконец, для чего извлекли их из темных зарешеченных нор на свет божий. И бросились к решетке, пытаясь дотянуться руками до рук своих любимых.
– Маша!
– Катерина!
– Полина!
Крики, что способны разорвать сердце. А по ту сторону чугунных ограждений неслись ответные крики радости и отчаяния.
– Николенька!
– Андрей!
– Григорий!
Вся боль, вся тоска, вся любовь рвалась из сердца, из груди, в отчаянной попытке дотянуться сквозь решетки до родных, таких близких и таких далеких. Но коридор меж чугунными оградами был широк, и руки заключенных наталкивались лишь на безмолвных стражей, что каменели лицами, безмолвные, не видящие ничего, что творится вокруг.
Солдатам надобно приказы исполнять, они не дураки, они знают, что за ними наблюдают, вынюхивая едва ощутимый запашок жалости и сочувствия в сердцах, что бились под сукном шинелей, согласно уставу воинскому. Многие из офицеров, что оказались ныне в узилище крепостном, были когда-то их командирами, а уж имена знати, князей да графов всяк в Санкт-Петербурге знает. Эти господа привыкли, что все пред ними кланяются да ручки их барские верноподданически целуют. А сейчас эвон стоят драные да грязные за оградой, тянут ручонки сквозь решетки, плачут. Плачут, ей же богу, плачут!
Братцы, что с миром-то содеялось? Все ж вверх тормашками перекувыркнулось! Ей-ей!
Борис Степанович Тугай медленно брел вдоль ограды, как вдруг увидел Ниночку. Ее не должно было быть здесь, но она… Она стояла последней в длинном ряду страдалиц, без вины виноватых, махала ему рукой и плакала, прижималась худеньким прелестным личиком к решетке и выкрикивала:
– Боря, Боренька! Любимый мой! Дорогой мой…
Тугай замер. Сон или явь? Он бросился к забору, не отрывая взгляда от Ниночки. Голова его была перевязана широким бинтом с запекшейся кровью, мундир изорван, рейтузы конногвардейца свисали клочьями. Одно колено тоже было перевязано, и Борис слегка хромал при ходьбе. Молодое, когда-то сияющее радостью и юношеским задором лицо стало бледно-серым, осунулось. Теперь он казался чужым, совершенно незнакомым Ниночке.
– Ниночка, – прошептал он. – Ниночка, зачем ты пришла? Ты должна позабыть меня.
– Я обещалась тебе! – выкрикнула она. Выкрикнула сквозь слезы, что душили ее, выкрикнула что есть мочи, иначе он не понял бы, не понял ее! – Я всегда буду с тобой.
– В этом более нет уж никакого смысла, Ниночка, – Тугай вжался лицом в чугунную решетку ограды. Караульный прошел мимо, украдкой покосился на арестованного. – Завтра начнется судебное разбирательство. Они прикажут казнить нас. Царю не ведомо сострадание. Мы все погибнем с честью. Мы ведь хотели добра России. Добра! Только добра!
Они смотрели друг на друга, тянули руки, еще, еще немного. Еще… смехотворное расстояние, вершков десять, не более, а кажется, что переговариваются друг с другом, стремясь дотянуться, с двух далеких, нестерпимо далеких звезд.
Бориса и Ниночку поглотило молчание, безысходное, безвыходное, отчаянное, и лишь глаза говорили, превратившись в крик, лишь губы дрожали, но молчали, а глаза выплакивали всю немую боль сердца.
В четырех метрах от них стояла княгиня Трубецкая в длинной своей собольей шубе и беседовала с мужем тем тоном, коим принято разговаривать на балах в Зимнем дворце.
– Я горжусь тобой, – громко, прекрасно артикулируя слова, говорила она. – Трубецкие всегда были героями. Что бы ни случилось, любимый, уповай на небеса и Господа Бога. Когда-нибудь Россия обретет свободу, и тогда уж она вспомнит о тебе.
– Никаких вольнодумных речей на свидании не дозволено! – рявкнул офицер караула. Он ходил за спинами женщин и внимательно прислушивался к беседам. – Я велю прекратить свидание! Дозволен только личный разговор, милостивые государи!
– Нет, нет, государь не позволит казнить вас! – расплакалась Ниночка. – Папенька был у него. Император хочет стать добрым государем своему отечеству.
– В России еще никогда не было доброго государя, – мрачно возразил Борис. – Так с чего бы вдруг Николаю Первому меняться в лучшую сторону?
– Он планирует реформы в обществе.
– Реформы в России всегда кровью пишутся. Но мы рады, что в сих чернилах есть и капелька нашей крови.
– Никаких вольнодумных речей! – вновь выкрикнул капитан.
– Да оставь ты нас в покое! – огрызнулся один из узников. – Перед смертью мы вольны говорить все, что захотим! Да здравствует свобода!
Над крепостью повисла гробовая тишина. И тут княгиня Трубецкая повторила во весь голос:
– Да здравствует свобода!
Капитан в ужасе взглянул на нее. Все замерли, ожидая, что вот оно, прозвучит сейчас страшный приказ прекратить свидание, очистить крепостной двор. Караульные взяли ружья на изготовку. Но капитан молчал. Он торопливо отвернулся от княгини и, подойдя к крепостной стене, закурил сигаретку. Снег все валил и валил, капитан поднял воротник шинели повыше, как будто хотел укрыться то ли от колких пощечин ветра, то ли от слов Трубецкой схорониться.
– Мы ведь все время в крепости были, – торопливо рассказывала Ниночка. – Живем в пустых конюшнях. Там так тепло, мы получаем еду, все относятся к нам с большим решпектом.
– После вынесения приговора от решпекта и следа не останется – они погонят вас, как шелудивых бродячих псов.
– Не смогут. Весь мир сейчас смотрит на нас.
– Весь мир? – Борис рассмеялся с горечью. – С каких-таких пор Россию заботит мнение света? Раньше, коли посланник западной державы не ломал перед царем шапку, шапку ту к головушке и прибивали. И что? Да ничего! Мир тихонечко так, вполголоса протестовал, а у нас при дворе лишь похохатывали.
– Те времена давно уж миновали, Боря. Пару веков назад.
– Что такое несколько веков для России? Здесь другое понятие времени. Ниночка… – Борис еще сильнее вжался в чугунную решетку. – Возвращайся к отцу. Посмотри на меня… меня уже нет, нет.
– Я сожгла все мосты к отступлению, Боренька, у меня больше нет отца. Я сбежала от него.
– Это безумие, Ниночка!
– Моя нянюшка Катерина Ивановна и кучер наш Мирон Федорович со мной. Мы ждем тебя, Боренька.
– Мое продырявленное при расстреле тело точно дождетесь!
– Царь не посмеет казнить вас. Мы бы пронесли по улицам Петербурга тела наших убиенных мужей и положили бы у ступеней Зимнего дворца. Для царя ваша казнь означала бы конец.
– На его стороне армия, глупышка.
– В России куда больше ремесленников и крестьян, чем солдат! – и Ниночка ухватила за рукав шинели проходившего мимо караульного. – Что скажешь? Ты сможешь стрелять в собственных братьев? Или в мать, если она выйдет на улицы вместе с нами? Сможешь?
Солдат молча смотрел на Ниночку и не видел ее.
– Оставьте меня, ваши высокоблагородия, – наконец, тихо попросил он. – Я всего лишь бедный солдат, мне думать не полагается. Отпустите меня! – Он вырвался из цепких ручек Ниночки и продолжил свой обход.
– Ну, и что ты будешь делать, когда нас казнят? – с трудом прошептал Борис.
– Еще не знаю. Наверное, нас тоже придется тогда расстрелять, потому что мы все равно не успокоимся.
– Царь сошлет вас в Сибирь, коли вы не угомонитесь.
– Тогда через пару-тройку лет вся Сибирь восстанет против государя.
Капитан отделился от стены и поднял руку. Было видно, насколько тяжко ему выполнять ныне свою службу.
– Конец свидания! – крикнул он. – Прощайтесь, господа! Еще пять минут.
Князь Трубецкой прижался лицом к ограде.
– Прощай, любовь моя, – прошептал он. – Все, что произошло, моя ошибка. Я думал, что настало уж время. Слабак в наследниках, соперник – далеко от Петербурга, народ, наконец-то, готов подумать о себе. Но народ не понял меня. В нем все еще живет страх вековечный. Офицеры предали меня. С пригоршней идеалистов в России революции не сделаешь. Моя вина… И мне за нее до конца жизни каяться. Жаль только, что столько достойных людей погибнут вместе со мной. Прощай, Катенька, более уж не свидимся.
– Мы обязательно свидимся! – гордо вскинулась княгиня Трубецкая. – Даже если не здесь, то в вечности уж наверняка.
Она намертво вцепилась в чугунную решетку, изо всех сил стараясь не разрыдаться в голос. Сигнал трубы возвестил о конце свидания. Больше у них не осталось ни одной минутки лишней.
– Возвращайся к отцу! – выкрикнул Борис. Солдат ухватил его за плечи, оттаскивая от забора. – Я люблю тебя, Ниночка, я люблю тебя! Будь счастлива…
– Только с тобой… – отозвалась она. Затрясла в отчаянии ограду и зарыдала беззвучно. – Только с тобой! Я всегда буду рядом. Я молюсь за тебя, слышишь?! Мужайся, Боренька, мужайся! Я с тобой!
– Отвести заключенных в камеры! – закричал капитан. – Сударыни, ступайте по домам.
Молоденький трубач, только что давший сигнал прощания, вновь поднес трубу к губам. Мужчины ругались не по чину, женщины плакали в голос – в крепости царил адский шум.
Князь Трубецкой в последний раз кинул взгляд на жену. Во взгляде читалось неприкрытое ничем страдание и осознание поражения.
– Я хотел лишь добра, – повторил он.
– Я знаю, любимый, – отозвалась княгиня. – Но в России никогда не поймешь, что есть зло, а что – добро.
Солдаты вытеснили узников со двора. Вторая группа караульных окружила плачущих женщин. Ниночка оглянулась в последний раз, приподнимаясь на цыпочки и выглядывая Бориса.
Высокого, стройного конногвардейца четверо солдат тащили к дверям каземата. Он тоже все оглядывался, искал глазами Ниночку. Хотя бы разок еще увидеть милое лицо, а потом уж уйти окончательно.
Подле собора ждал генерал Луков. Женщины уже слегка поуспокоились, растерли снегом заплаканные лица и теперь приближались к нему с высоко поднятыми головами. Впереди всех, как обычно, шла княгиня Трубецкая. За ней – Нина Павловна Кошина, закутанная в длинную песцовую шубку.
Луков приветствовал их по-военному сухо.
– Вот и все, что я мог сделать для вас, сударыни, – сказал он. – Царь добр. Я прошу вас покинуть крепость. Если вы и впредь будете манифестировать у ворот, указом царя велено применить силу и поступить бесчестно.
– Вот и пусть велит расстрелять нас, – огрызнулась княгиня Трубецкая. – Чай, у него картечи много.
– Расстреливать вас было бы глупо, мадам, – генерал Луков взглянул на толпу женщин. Снег укутывал их белым саваном. – При дворе говорят, что вам дозволят видеться с заключенными все дни, что будет идти суд. Если прогневаете царя, вряд ли такое чудо случится.
– Идемте, сестренки, – княгиня Трубецкая повернулась к пустым конюшням, где они обитали на матрасах под старыми одеялами. – Мы видели наших мужей и теперь знаем, что нам делать.
Спустя два часа женщины покинули Петропавловскую крепость. Они решили ждать дома конца процесса и милосердия от государя.
Прежде, чем покинуть крепость святых Петра и Павла, Ниночка двинулась к темной громаде собора. В усыпальнице русских государей было темно, – лишь три свечечки горели, поставленные в высоком серебряном шандале подле самого аналоя.
Ниночка трепетно закрыла дверь, скрипнувшую тяжело и медленно, тихонько двинулась к аналою. Отец Ефтимий в черной ризе и черном клобуке взглянул на нее добрыми подслеповатыми глазами.
Дочка прославленного графа Кошина упала на колени, вскинув глаза к образу пресвятой Богородицы. Темный лик ее глядел сумрачно и тоскливо, а протянутые руки младенца словно несли в мир свет и тепло. И от этого в сердце Ниночки полыхнуло желание уйти, уйти от мира в этот сияющий, сверкающий Божий свет. «Если казнят Бореньку, уйду…» – мелькнула в голове страшная мысль.
Внезапно ей показалось, что по темному скорбному лику Богоматери прошла тень и слезинка выкатилась из мудрых глаз.
– Отец Ефтимий, – вскрикнула Ниночка, – Богородица плачет!
Старенький священник оглянулся на лик иконы.
– Да нет, дочь моя, – изумленно произнес он. – Бог с тобой, ничего такого нет, это тебе показалось…
– Да вот же, вот слеза ее, – возбужденно воскликнула Ниночка. – Вон, глядите, где упала…
Девушка подбежала к самому иконостасу и припала губами к тому месту, где, как ей почудилось, упала слезинка. Место было слегка влажное и соленое.
– Нельзя там, барышня, – строго сказал отец Ефтимий. – Нельзя там женщинам находиться, грех это…
– Прости, святой отец, – отползла на коленях Ниночка. – Прости, Господи, невольный мой грех. Но слеза соленая, я это почувствовала…
– Сколь много придумываешь, – строго закачал головой священник. – Отделяй страхи и воображения твои от реальной жизни, не позволяй осилить надуманному. А то эвон как у энтих заговорщиков конец суровым будет…
Ниночка поникла головой. Ей много раз приходилось слышать такие слова. Действительно, богатое воображение ее иногда подшучивало над ней, но теперь, тут в глубине собора, не почудилось же ей, упала слезинка на пол из глаз Богородицы. Нет, теперь она знала, что ей делать…
Спустя неделю Ниночке удалось без ведома отца добиться у государя-императора Николая Павловича личной аудиенции.
Первый камергер императора граф Подманский, кузен Ниночки, изо всех сил старался ей помочь.
В добрый, как видно, час, когда Николай Павлович сидел у камина с бокалом вина, Подманский пал ниц пред коронованной особой и сказал:
– Ваше величество, я никогда не злоупотреблял… но помнит ли ваше величество о том дне, когда на его величество напал некий безумец? И я еще разнес тому мерзавцу голову?
– Мне было тогда девятнадцать, – царь знаком приказал Подманскому подняться. – Конечно же, я помню о том дне, Гаврила Кондратьевич. Я еще сказал тогда: за сие спасение проси, что пожелаешь.
– Вот я и пожелал, ваше величество.
– И каково же твое желание?
– Примите Нину Павловну Кошину. Лишь на пару минут, но примите.
Царь внимательно посмотрел на графа Подманского, резко поднялся и вышел торопливо, почти выбежал, из салона. И все-таки исполнил желание своего камергера. Паж доставил Ниночке письмо, оповещавшее о дозволении увидеться с царем.
Все эти дни Ниночка провела в доме своей портнихи Прасковьи Филипповны. Лишь пара посвященных в ее дела знала сей секрет. Граф Кошин велел разыскивать дочь по всему Петербургу. Он поднял на ноги полицию, самолично объездил весь город, разыскивая женщин, чьи мужья сидели в крепости и ожидали процесса.
Но никто ничем не мог помочь безутешному отцу. Княгиня Трубецкая вообще считала, что Ниночка ночует под мостами через Неву. Графиня Муравьева просто-напросто высмеяла Кошина, а княгиня Волконская вызвалась вместе с ним проехаться по Петербургу, выкрикивая тут и там Ниночкино имя.
Все поиски, затеянные графом, остались безрезультатными. Однажды, впрочем, заметили кучера Мирона. Взялись было преследовать его, но тот смог скрыться в проулках старого города.
Через одни из многочисленных ворот Зимнего вошла Ниночка во дворец. Николай I, стоя, ожидал ее у камина в своей библиотеке. Он был один, в мундире измайловцев. Государь даже не шелохнулся, когда Ниночка опустилась пред ним на колени, уткнулась лицом в мягкий ворс ковра – жест служанки бесправной, холопки барской.
Молча, нестерпимо долго вглядывался Николай в распростершуюся у его ног девушку. А потом произнес грубо:
– Встаньте, мадмуазель. Или вам нравятся красивые жесты? Вы и ваш болван-лейтенант слишком явно поклоняетесь французскому стилю.
– Я лишь прошу ваше величество о милости, – Ниночка приподнялась с ковра, но с колен не встала. Глядела снизу вверх на царя пристально, и взгляд ее был столь детски невинен, столь доверчив, что ледяной панцирь на сердце Николая начал таять, таять… Государь сделал пару торопливых шагов, склонился над девушкой и поднял за плечи.
– Ваш лейтенант хотел меня убить, Нина Павловна! Это трудно простить.
– Он никогда не боролся лично с вами, ваше величество. Он выступал супротив духа, царившего в правительственных кругах. Я знаю, какое наказание ожидает бунтовщиков в России… Поэтому молю не о справедливости, а о милосердии. Борис любит Россию, как любите ее и вы, ваше императорское величество. И он еще так молод…
– Не столь уж молод, чтобы скакать, обнаживши саблю, против моих солдат.
– Да, но он слишком молод, чтобы умереть.
– Если я помилую одного, мне придется помиловать и остальных. Я ведь, как-никак, хочу быть справедливым государем! – Николай отвернулся от девушки и медленно двинулся к камину. Замер, глядя на огоньки, вслушиваясь в веселое потрескивание дров. – И к тому же, у меня нет никакого влияния на исход процесса. Судьи вольны и независимы в своем решении.
– Но вы можете стать высшим судией России, отвергающим смерть и дарующим жизнь, – Ниночка заломила руки от отчаяния. Она вновь вспомнила свою последнюю встречу с Борисом, словно воочию его увидела, в разорванном мундире, в повязках с засохшими пятнами крови, увидела его бледное, заросшее щетиной лицо, ввалившиеся глаза, в коих ясно читалось, что он уж простился с жизнью.
– Ваше величество, – тихо сказала она. – Все, кого ныне именуют бунтовщиками, могли бы считаться изменниками вашего величества. Да они и есть изменники, конечно. А еще они – грешные сыны России, совершившие все то, что они совершили, веруя, что тем самым смогут послужить своей земле. Ни один из них не искал личной выгоды для себя.
– Я знаю, – Николай все еще стоял спиной к Ниночке. – Они и изменники, и патриоты своего отечества одновременно… Именно поэтому так тяжко выносить им приговор. Я люблю великую русскую душу нашу, но я не собираюсь сделаться жертвой сей души. – Он обернулся к девушке. Его красивое, точеное лицо скрывалось в тени, огня в камине не доставало, чтоб разглядеть игру мысли императора. – Благодарю вас, Нина Павловна, за то, что смог поговорить с вами.
То был конец аудиенции. Только пара слов, один-единственный дружеский взгляд… И возвращение в неизвестность, в волнение о Бориной судьбе.
Ниночка застыла на месте, хотя царь демонстративно уж более не замечал ее, отвернулся и устало направился к окну, на Неву глянул. Сани неслись по замерзшей реке, влекомые маленькими, лохматыми лошадками, копытца их были обмотаны дерюжкой и соломой, дабы не скользила по льду животинка-то.
– Смилуйтесь, ваше величество, – негромко взмолилась Ниночка. – Пощадите их…
– Убирайтесь! – Николай стоял у окна и упрямо смотрел на реку. – На милосердие тоже нужно время. Время все обдумать.
– Только вы можете спасти Россию, ваше величество. Народ-то бессилен.
– Знаю, Нина Павловна. Я, чай, не на далекой звезде живу, среди вас обитаю. И именно сие обстоятельство обязывает меня быть суровым. Царь, заискивающий пред подданными своими, будет осмеян в веках как глупец последний. А вот государей с железными кулаками у нас всегда почему-то уважали. Человек вообще странное существо, мадмуазель. Уходите же.
Это было уже окончательно, это был приказ. Ниночка поклонилась и выскользнула из библиотеки. Оглохнув и ослепнув от горя, шла она длинными коридорами по великолепным комнатам и залам, не помня себя добралась до маленького дворика, где поджидал ее в санях Мирон. Кучер нацепил на себя длинную бороду из мочала, пытаясь быть неузнанным. Сани со старым костлявым мерином тоже казались экипажем человека незнатного, безвестного, в котором никто уж точно не узнает молоденькую комтессу Кошину.
Ниночка устало села в сани, запахнула меховой полог, накинула на голову капюшон и дала Мирону знак уезжать.
И только когда уж скрылся Зимний дворец из виду, когда уж ехали они вдоль берегов невских, она сорвалась. Девушка спрятала лицо в руках и горько зарыдала.
– Ты бы, горлинка-барышня, не рыдала, а к Ксении на Смоленское съездила, – заговорил вдруг Мирон. – Она – заступница, она поможет…
А он все шел к Саровскому монастырю. Своими глазами увидел нужду и лишения крепостных крестьян, беспросветное унижение великого народа.
А потом перед ним внезапно открылась просека в густом лиственном лесу, дорога, заросшая голубенькими вьюнками. С высоких дубов и тополей свешивались к дороге плети хмеля с молоденькими завязями будущей листвы, норовя оплести и хилый подлесок, и медовые стволы сосен, изредка поблескивающие среди стройных осинок. Видно ему было, что по дороге той прошли многие ноги, колеса бесчисленных повозок пробили в ее мягкой плоти глубокие колеи, но лес тоже не дремал, наступал и наступал, заплетал и захватывал каждую песчинку и ронял семена в незаросшую еще плешину дороги. Просека, словно стрела, упиралась в высокий столб, с темневшего образа на котором глядел на людей святой апостол Иоанн Богослов.
Ближе к обители увидел он огромные, почти белоствольные тополя. И улыбнулся. Кажется, добрался.
Старец Серафим как будто ждал его. Вышел к самым воротам с целой толпой чернорясных монахов, отвесил земной поклон к босым его ногам, разбитым в кровь колдобиной дороги, его непокрытой голове с голым лысым теменем, его загрубевшим рукам.
Он смутился, рухнул в ноги старцу, поднял голову, заглянул в его сияющие глаза и словно утонул, растворился в их голубой глубине и ласковости.
– Проходи, послушник Феодор, – зашелестел над его головой ласковый голос старца. – Ждали мы тебя, ждали…
Невесомой рукой взял он его за загрубевшую руку и повел к источнику. Сам омыл в канаве возле источника его босые ноги, побрызгал святой водой на его голову, пошептал молитву.
– Ищу, – прошептал он святому старцу.
– Знаю, – вздохнул тот. – Все знаю, Феодор, родства не помнящий…
На следующее утро Ниночка поднялась слабая, бледная, но глаза ее горели огнем силы и твердости. Ее путь лежал на Смоленское кладбище.
Оно находилось на Васильевском острове – самой нищей окраине города. Вокруг него и маленькой Смоленской церквушки ютилась самая беспросветная голь и нищета, домишки тут были самые разнокалиберные. Наводнение прошлого года смыло почти все строения, но голытьба слепила себе жилища из разного рода досок и палок, понастроила неимоверной пестроты хижины и избушки. Болотистая эта сторона была мрачной и унылой, а из-под снега даже в самые сильные морозы то и дело проступала вода. Казалось, сама земля оплакивает голь перекатную, ютившуюся на этой стороне.
Но красная кирпичная церквушка устояла во время наводнения, спасла многие тысячи людей и ныне, словно маяк в ночи, светила всем отчаявшимся.
Рядом с церковью был и небольшой погост. Некоторые могилы после наводнения оказались изрытыми сильной волной, гробы выплеснуты, а кресты погнулись, стояли покореженные.
Теперь, правда, кладбище прикрылось скромно мягкой пеленой снега, пустые могилы доверху засыпало, мягкий саван закрывал до лета всю гниль и грязь, нанесенные взбунтовавшейся рекой.
Рядом с церковью стояла крохотная часовенка, устроенная властями над могилой блаженной Ксении. Из уст Катерины Ивановны слышала Ниночка рассказ об этой юродивой, проскитавшейся всю свою жизнь по улицам города, не имея крова над головой и пищи про запас.
И после смерти помогала она богомольцам, являлась в снах, пророчила, советы давала. Люди шли и шли сюда каждый день со своими бедами и горем, и не было среди поклоняющихся Ксении людей с богатством и достатком.
Каменное надгробие слегка возвышалось над полом, а перед иконой висела лампада, дававшая синий огонек, в подсвечниках, высоких и серебряных, теплилось много свечей. В часовенку было практически не протиснуться.
Переждав молившихся, Ниночка опустилась на колени перед самым каменным надгробием. Она молча стояла, не в силах молиться и просить, только стояла на коленях и глядела на синий огонек лампады и образ Христа на распятии.
Ничего не просила Ниночка – давно уже решила в душе, что покорна воле Бога, что будет, то и будет, – только сердце заходилось от мысли о Бореньке.
Она долго стояла так, не молясь, ничего не испрашивая, только изредка осеняя себя крестом и припадая к истоптанному полу.
Но внезапно Ниночке показалось, что в часовенке стало светлее, как будто лучи синего нездешнего света облили ее всю с ног до головы. И этот конус света словно пробивал каменный свод часовни и заливал ее всю.
Девушка стояла пораженная, не в силах сойти с места, удивленная и обрадованная спустившейся к ней благодатью.
– Пусти, – толкнула ее нищенка в разноцветных лохмотьях. – Пора и честь знать и другим место дать…
– Благодарю тебя, Ксения блаженная, – громко выговорила Ниночка и вышла из часовни, все еще облитая голубым нездешним светом.
После кладбища Смоленского велела Ниночка выбраться к Неве. Со страхом смотрела девушка на шпиль собора Петропавловской крепости. Они стояли друг напротив друга: Зимний, приземистый, вытянувшийся вдоль набережной Невы дворец и словно бы стремящийся ввысь остров с крепостью и этим вонзающимся в низкое серое небо шпилем, поблескивающим в сырых туманных тяжелых облаках.
Она стояла и смотрела на ледяные поля Невы, на черные фигурки горожан, перебиравшихся на другую сторону Невы, на черные черточки деревьев и ровную линию набережной, словно вмерзшей в лед.
Ниночка не думала о себе, она знала, что вынесет все, что бы ни послала ей судьба. Она всматривалась и всматривалась в синеющий сумрак над холодным северным городом, видела только белый полог, укрывший его, мрачный и унылый, видела присыпанные мелкой снежной крупой черные проплешины домов и деревьев, выдернутых из земли страшным наводнением прошлого года. Она стояла и смотрела на этот город и ни о чем не думала. Только человеку с розовыми очками романтика на глазах мог бы он показаться прекрасным, этот город, выросший на болотистых берегах, замерзающий под холодным низким небом, прикрытый шапками снежных сугробов и прикатанный людскими ногами и лошадиными копытами.
Ниночка подняла взгляд к небу и не узнала его. Словно гигантские волны заходили по всему небосводу. Белесые столбы мертвенного цвета переливались и переходили один в другой, растворяясь неслышно в сумраке холодного неба. Они были равнодушны ко всему – к людям, к этому городу, над которым источали свое великолепное сияние, расходились кругами и снова поднимались в высь неба гигантскими белесоватыми столбами.
Ниночка почувствовала себя вдруг такой жалкой и ничтожной под этими гигантскими свечами мироздания, от изумления у нее захватило дух, и она упала на притоптанный снег и вздернула руки к небу.
– Господи, прости нас, прости меня, прости весь род человеческий… Что мы такое в этом гигантском мире, как не ничтожные муравьи, отравляющие землю и дела твои, Господи? Прости, Господи, прости…
Она стояла на коленях и воздевала руки к небу, и слова рвались из ее груди, и грудь разрывалась от жалости и просила милости к себе и всем людям…
ГЛАВА 4
Вплоть до самого конца весны 1826 года длилось следствие и велись допросы мятежников. Сабуров, судья-дознаватель, и без того почитался опаснейшим человеком в России. Он грубо обращался с арестантами, кричал на них ругательски-непотребно. Ему, в общем-то, все равно было, князья ли перед ним, генералы ли, со всеми вел себя Сабуров так, как будто бес в него вселился.
Коли с вечера узнавали, что наутро допрос у Сабурова намечается, скрипели узники зубами от гнева бессильного да молили Господа горячо, чтоб Сабурова удар еще с ночи хватил.
Тайная следственная комиссия, составленная из угодливых царедворцев, действовала в инквизиционном духе. Обвиняемые содержались в самом строгом заточении, в беспрестанном ожидании и страхе быть подвергнутыми пыткам, если будут упорствовать в запирательстве… Царским именем обещали подсудимому помилование за чистосердечное признание, не принимали никаких оправданий, выдумывали небывалые показания, будто бы сделанные товарищами, и часто даже отказывали в очных ставках.
Кандалы, пытки, темные и серые казематы, хлеб и вода, унижение человеческого достоинства, телесные истязания. Пестеля, сразу после того, как доставили в Петропавловскую крепость, подвергли мучительным пыткам, сжимая голову железным обручем.
В комендантский домик Петропавловской крепости арестованных вводили в кандалах и с завязанными глазами. Из-за бесконечных очных ставок, из-за неточных фактов, которых и сами арестованные порою не помнили, из-за пустяков, которым часто придавалось большое значение, чаще всего бывало так, что арестованные наговаривали на себя, сознавались в намерении совершать преступления, о которых никогда и не помышляли. Впоследствии на каторгу попадут люди, ни словом, ни делом не виновные в тех преступлениях, в которых их обвинили.
– Только не надо крови, – умоляла вдовствующая императрица-мать Мария Федоровна сына. – Будь милосерд, прояви великодушие…
Но все не вечно, кончилось судебное дознание 30 мая 1826 года. Раздувшиеся от бумаг опросных папки «декабрьского дела» были преподнесены государю, однако Николай Павлович даже и заглянуть в них не изволил. К чему так утруждаться верховному судье Руси? Все, что довелось ему прежде по допросам узнать – и среди прочего далеко идущие планы своих супротивников, готовых пойти даже на цареубийство, – не позволяло императору вершить «нормальное правосудие» над мятежниками, «всю эту грязь», как говорил теперь государь, следовало в особых бадьях отстирывать.
1 июня 1826 года 120 узников узнали от генерала Лукова, что участь их будет решаться на тайном совете государевом. Луков зачитал постановление суда голосом равнодушным да твердым. А когда философ и поэт Вильгельм Кюхельбекер сплюнул презрительно и выкрикнул: «Да что известно может быть царю о милосердии божьем?», комендант велел четырем солдатам поступить с узником как с голытьбою поступают, и даже не дрогнул, чувства волнения не проявил. Тайный совет составился изо всех министров, сенаторов да членов коллегий с синодскими. Собирались они секретно, за дверьми закрытыми. Здесь не было дано слово ни пострадавшему от мятежа государю, ни обвиняемым, – и только бумаги из «декабрьского дела» говорили, – все то, что понаписал Сабуров на тысячах страниц.
– Я желаю, чтоб вынесен был особый приговор! – велел Николай I. – Приговор справедливый и для виновников праведный.
Ну, и что сие значит-то? Офицеров расстрелять, а цивильных, гражданских то бишь, повесить? Или следует офицеров бесчестно на виселицу вздернуть, пусть-де до гражданского чина деградируют, низвергнутся? Что значит сие – особого приговора вынесение?
За долгие месяцы ожидания не раз были явлены доказательства государевой милосердной справедливости: жены узников действительно дважды в месяц могли навещать своих мужей. Да, за ними по-прежнему неотрывно следили караульные, да только вот не было более слышно ни плача, ни криков. Просто стояли друг против друга, вжимаясь всем телом в решетку чугунных оград, и говорили, говорили обо всем лишь возможном только на свете. Даже о такой малости, как о полетевшем колесе экипажа, что застрял в весенней грязище, когда пришлось всю ночь на дороге в имение прождать, потому что у кучера – черт бы его побрал, мон шер! – запасного колеса не оказалось.
Борис Тугай еще более в эти месяцы исхудал и осунулся. Раны его затянулись совершенно, а на память о роковых событиях остался изорванный мундир. Эполеты и аксельбанты пока с него никто не срывал, солдаты по-прежнему величали «вашим благородием барином», так же как и взятых в узилище генералов именовали «вашими превосходительствами», и уж потом только начинали бранить, как и положено, «по матери», сопровождая на допросы.
А вот Ниночка, казалось, еще больше прежнего расцвела. Когда сошел с рек лед и первые лебеди вновь показались на Неве с первыми теплыми лучами весеннего солнышка, она надела самое красивое свое платье с белыми кружевами и шелком вышитыми по подолу цветами и отправилась в компании многих иных дам в крепость.
Граф Кошин уже дожидался ее там. Вышел из-за будки караульной и медленно двинулся к дочери. Он постарел и сдал заметно, волосы убелила безжалостная седина, осанка графа не была уже прежней. Не было больше обычного сильного да крепкого, весело бранившегося с дворней Павла Михайловича. Тихим дрожащим голосом заговорил он на этот раз с дочерью.
– Возвращайся, ласточка.
– Нет.
– Ты можешь дожидаться решения участи Бориса и в дому отчем. Почто прячешься? Разобьешь ты сердце матушке, да и мне, старому.
– А как же Мирон Федорович, папенька? А Катерина Ивановна?
– Никто и не думает наказывать их. Все должно быть позабыто. Взгляни на меня, я стал совсем уж стариком от печали беспросветной.
Ниночка молча кивнула головой. А затем прижалась щекой к отцовскому плечу. Обнимала его сгорбленную фигуру, тормошила нежно.
– Я поеду с тобой, – всхлипнула негромко. – Но я все равно умру, коли царь велит расстрелять Бориса.
12 июля 1826 года тайный государев совет вынес свой собственный приговор по «декабрьскому делу». В крепость были посланы курьеры, приговор следовало огласить мятежникам. Не только Россия – весь мир затаил дыхание. Какова-то будет она, месть царская?
А потом надолго над огромной страной воцарилось молчание параличное. Потому что месть царя и в самом деле была ужасна.
Борис Степанович Тугай ранним утром был разбужен позвякиванием связки тяжелых ключей: надсмотрщик открывал дверь его камеры. Проснувшись, Борис не стал тотчас же вскакивать с деревянных нар, лишь натянул себе на голову шинель и притворился крепко спящим.
По каземату протопали солдатские сапоги, дверь шумно стукнула о стену, заскрипела, как будто возмущаясь вторжением огромного количества народа.
– Лейтенант Тугай, извольте встать! – произнес не терпящий возражений голос. Борис узнал его. Голос сей принадлежал майору Булганову, замещавшему по временам коменданта крепости. Булганов был полным добродушным человеком, с которым можно было при случае поговорить, в глубине его души теплилась искра симпатии и жалости к заговорщикам. И то, что теперь он говорил столь резким тоном, сообщало о незавидных переменах их участи.
Тугай отбросил шинель в сторону и прищурился, глядя на пробивающийся в маленькое окошко яркий утренний свет. Там, за непроницаемыми стенами, рождался просто замечательный денек. Солнечные лучи веселым потоком струились сквозь зарешеченное окно. В парках сейчас уже вовсю бьют фонтаны, по Неве скользят парусные лодки, взрезают носом глубокую синеву воды, над Петербургом ангелы небесные уже натянули полог радостного шелкового неба.
Майор Булганов стоял перед нарами и смотрел на Тугая долгим, печальным взглядом. За спиной его топтался дознаватель Сабуров с радостно-презрительной ухмылкой на лице. Он протянул папку длинному, истощенно-мрачному человеку, тот открыл ее и тяжело вздохнул.
В представлении сей человек не нуждался, Тугай и так знал, что это был курьер тайного государева совета. Итак, приговор вынесен без слушания обвиняемых. Царь показал зубки.
– Встаньте же, Борис Степанович, – мягко произнес Булганов.
Тугай поднялся. Одернул разорванный, грязный мундир, провел руками по взлохмаченным волосам. На Сабурова, эту мерзкую крысу, глянул, как на пустое место. Его взгляд с деланным безразличием скользнул по стенам, на которых узники прошедших лет ногтями подчас выцарапывали свои имена, проклятья и молитвы. «Да пребудет с Россией Господь, – написал какой-то незнакомец. – Да только где он?»
– Государь желает известить вас о вынесении приговора, – курьер говорил с одышкой, как будто с трудом перемалывал слова-камни, многозначительно поглядывая на Тугая поверх очков. – Борис Степанович Тугай, конногвардеец первого эскадрона…
– Так точно! – по-военному громко отозвался Тугай.
– Его императорское величество, государь всея Руси Николай Павлович постановил, что измена Господу, Отечеству и государю есть мерзейшее из всех земных преступлений. Тайный совет государев единодушно постановил приговорить лейтенанта Тугая к смерти.
Молчание, воцарившееся в каземате, было абсолютным. Такую тишину можно слышать, такую тишину можно взрезать ударом сабли, кабы только эта сабля в руках была… Булганов задышал тяжело, с хрипом выталкивая воздух из легких, Сабуров молча усмехался, десять солдат угрюмо уставились в землю.
Борис кивнул. Он и не ждал иного приговора.
– Что ж, и на том спасибо государю, – стараясь сохранять хладнокровие, проговорил Тугай.
Тощий курьер поправил очки на носу и вновь взглянул в лежавшую в папке бумагу.
– Но его императорское величество по доброте своей великой, – зачитал он далее, – превыше закона ставит именно милосердие. И повелевает заменить казнь смертную на каторжные работы в Сибири сроком в двадцать лет.
Как будто над горячим летним днем надругалась ледяная буря бескрайней тайги. Дрожь пробрала всех, кто слышал тот приговор. Майор Булганов закусил губу. Борис Тугай непонимающим взглядом воззрился на царского курьера.
– Двадцать лет Сибири… – проговорил он тихо.
– Его императорское величество по доброте своей великой…
– По доброте? – срывающимся голосом внезапно выкрикнул Тугай. – По доброте?
Все вздрогнули от неожиданности. Видение покрытых льдом глубоких рек, завывающей снежной бури, голодных волчьих стай и непроходимых лесных чащ отступило.
– По доброте? Тогда почему ж он не убьет меня сразу? Почему хочет убивать долгих двадцать лет? Ни с чем не сравнимая жестокость! Майор Булганов, дайте мне перо и бумагу. Я буду писать государю. Я попрошу его расстрелять меня! Двадцать лет Сибири! Никогда, никогда! Да я скорее проломлю себе голову о стену!
– Успокойтесь, Борис Степанович! – Булганов провел дрожащей рукой по лицу. – И в Сибири можно жить.
– Да знаете ли вы, что такое жить в Сибири двадцать лет?
Булганов молчал. Еще никого он не видел воротившимся из тайги, за исключением нескольких монахов, торговых караванов и солдат. Сосланные же в Сибирь исчезали в бездонном омуте сибирском, как будто были они лишь каплями дождя.
– Я требую, чтобы меня расстреляли! – вновь выкрикнул Борис. – Это не милосердие, это изощренная дьявольщина какая-то! Будь проклят этот убийца!
– Я передам эти слова его величеству, – с тихой угрозой в голосе промолвил Сабуров. – Какая черная неблагодарность! Вам даруют жизнь, а вы проклинаете государя за его доброту.
– Коли уж есть Господь на небесах, – дрожащим голосом произнес Тугай, – он непременно в один прекрасный день, Сабуров, отправит вас гнить в Сибири.
Дознаватель побледнел от гнева, повернулся к Тугаю спиной и торопливо покинул камеру. Майор Булганов кивнул солдатам. И они, и курьер были рады поскорее покинуть каземат. Им и так еще предстояли два невеселых часа обхода. Курьер обязан был зачитать приговор всем содержавшимся под арестом заговорщикам, а лейтенант Тугай попался ему первым по счету.
– А что другие? – спросил Тугай, оставшись наедине с Булгановым. – Трубецкой?
– Сибирь.
– Волконский?
– Сибирь.
– Муравьев?
– Сибирь.
– Лунин?
– Сибирь.
– Бестужев-Рюмин? Каховский? Пестель? Рылеев?
– Приговорены к смерти через повешение.
– Счастливцы! – Тугай привалился к стене. – Но… повешение… – едва слышно прошептал он через минуту.
– Да…
– А кого ж расстреляют?
– Никого. Пятеро лишь будет повешено.
– И этот царь еще в церковь ходит, не боится, что купол ему на голову обвалится вместе с гневом Господним!
– Разве вы тоже не замышляли убить его?
– Нет. Мы лишь хотели сместить его и провозгласить конституцию. Ну, как французы… Свобода, равенство, братство. Неужели же это преступление?
– Это – утопия, Борис Степанович.
– О, Господи, но мы же все, все – люди! А человеку свойственно ошибаться!
– Но что такое человек в России? Вы собирались оседлать слепую, глухую и параличную конягу по кличке Свобода. За это вас и наказали.
– Дайте же мне перо и бумагу, майор, – Тугай присел за маленький деревянный стол. – Я должен написать царю. Плевал я на его милосердие медленного умирания! Я не хочу в тайгу. Уж лучше быть повешенным с теми…
Булганов молча кивнул головой и ушел. Впрочем, минут через десять вернулся с бумагой.
Приговор тайного совета государя озадачил все европейские державы. Так мало приговоренных к казни, – придворные политики, знавшие толк в мести, были на этот раз здорово удивлены. Их восхитило великодушие императора российского, помиловавшего большую часть мятежников и пославшего их «всего лишь» на каторгу. Дипломатическая игра Николая I в шахматы политики пожинала свои плоды. Столь благородный царь был желанным партнером для всей Европы. Неужто в России и впрямь повеяло современным, вольнолюбивым ветерком? Приговор от 12 июля 1826 года казался лишним доказательством этого.
Двадцать лет каторжных работ в Сибири… Оно, конечно, таежные земли – дичь ужасная. Летом там под сорок градусов жары, а зимой – и все семьдесят градусов мороза будет. Немыслимо, но и это вытерпеть можно. Да ладно, живут же в гигантских лесах, в торговых факториях, возведенных еще Строгановыми, богатейшими предпринимателями мира, открывают же солдаты и казаки все новые области. Вот и пускай сотня горячих головушек из заговорщиков там поживет. Остынут, небось. Воистину, царь-батюшка великодушен без меры, одно слово, отец своему народу!
И только сами приговоренные знали, что их в действительности ожидает в Сибири. Все они, князь Трубецкой, Волконский, да и остальные, повели себя подобно Тугаю, написав прошения государю и потребовав себе смертной казни.
Во дворце графа Кошина, казалось, навсегда поселился леденящий душу ужас. Марина Ивановна, мать Ниночки, без конца плакала в своих комнатах. Павел Михайлович заперся в библиотеке, не желая никого видеть, не желая ни с кем говорить. А Ниночка… Ниночка велела закладывать экипаж, распорядилась, чтоб нянюшка Катерина Ивановна готовилась паковать кофры, а кучеру Мирону сказала:
– Если есть у тебя кто из близких, простись с ними. Нам дорога длинная вскоре предстоит, и вряд ли мы вернемся.
– Да один я, один в целом свете, барышня! Куда позовете, туда и пойду.
– Возможно, уж более не увидим Петербурга-то.
– А в России везде жить можно, даже без Питербурха вашего, на то она и Россия. – Мирон помог Ниночке сесть в экипаж и протянул ей зонтик, чтоб солнцем не прихватило. Выглядела девушка на редкость прекрасно под шелковым зонтиком, в светло-голубых шелковых подушках. Белое, расшитое цветами платье, широкополая шляпка, худенькое личико, волна черных волос – иллюстрация к сказке да и только. Но какая ж сила скрывалась за сей нежной наружностью, сколько мужества и великой любви!
– Сибирь, ваше сиятельство, – с запинкой произнес Мирон, – что твой зверь дикий. Есть у меня кум, Кузьма Петрович. Вернее, был. Крепкий мужик, не такой, конечно, как я, но все же… Был он управляющим при торговом доме Фифьева-купца. Обозов много водил, возил меха и соль, древесину переправлял да прочие сокровища сибирские, возил, короче, в Новгород и Москву. Кузьма всегда при тех обозах был, и зимой, и летом. Три года хвалы Сибири пел, до чего, мол, тайга хороша. А на четвертый год утих, на пятый тощать начал, на седьмой же воротился больной совсем. Мог лишь на костылях передвигаться и говорил только: «Тайга – что преисподняя, братец, ад сущий; Господь наш сотворил Сибирь, дабы покарать люд грешный. Коли надоумит кто в Сибирь тебя посылать, лучше удавись, а в тайгу ни ногой».
Ниночка долго, пристально смотрела на кучера. А потом произнесла негромко:
– Мирон Федорович, тогда тебе надобно прямо сейчас удавиться.
– И не думал вовсе, барышня милая, ваше сиятельство! Разве ж я не говорил – Кузьма Петрович не такой крепкий был, как я. – Мирон похлопал по крупу лошадку, взобрался на облучок и прищелкнул языком. Лошадки неторопливо потрусили на улицу.
На этот раз государь категорически отказался принимать Ниночку. Придворный лакей вернул ее прошение назад и молча пожал плечами. Для государя глава истории под названием «декабрьский мятеж» была пролистана, горячеголовые политические дилетанты получили свое, спокойствие в России было восстановлено – по крайней мере, именно так казалось тогда императору.
Пять часов прождала Ниночка перед Зимним дворцом. Сидела под палящим солнцем в экипаже, четырежды еще отправляя лакея к государю со своим прошением. На пятый раз тот взбунтовался:
– Я ведь могу добраться только до второй приемной, ваше сиятельство. В последний раз мне вкатили пощечину. Будьте благоразумны, езжайте домой, государь не принимает более никаких прошений по этому делу.
Ниночка замерла, все это сильно напоминало ей ужасную зиму, когда довелось ждать, ждать, ждать перед крепостью, ждать, пока упрямство женское не взяло на измор даже такого генерала, как Луков. Но зимой можно было укутаться, упрятаться в меха, сжаться в комочек на прелой соломе, одеялом укрыться. Против летней жары ничто не помогало. На таком пекле можно было только жариться, как на сковороде в преисподней.
После полудня подъехало еще девять экипажей. Княгини Трубецкая и Волконская еще не сумели смириться с царским приговором. Их прошения не были приняты точно так же. На сей раз из дверей показался более высокий чин и оповестил дам, что вынужден будет очистить площадь с помощью солдат, ежели милые дамы сей же час не исчезнут по доброй воле.
– Ага, граф Драгович! – крикнула Трубецкая. Она поднялась в открытом экипаже в полный рост, поправила шляпку в волосах и выкрикнула на всю площадь. – На Пасху 1825-го он со мной перед самим митрополитом христосывался. А теперь собирается прогнать палками, как шелудивую собачонку!
Граф опустил голову, резко развернулся и побежал во дворец. И почти сразу же из ворот вышла рота гвардейцев.
– Боже, храни государя! – выкрикнула Трубецкая, нервно рассмеявшись. – Ему твоя помощь, Боже, ой как скоро понадобится! – Она шлепнула зонтиком своего кучера и откинулась на сиденья. Экипаж княгини тронулся с места, за ним последовали остальные.
Мирон Федорович вскинул глаза на Ниночку.
– А мы? – спросил он.
– Следуй за ними, Мирон! – приказала она.
Когда показались гвардейцы, Ниночка даже подскочила на подушках. Теперь она, правда, немного успокоилась. Девушка заметила, что другие экипажи ждут ее на берегу Невы. Вокруг них уже собралась небольшая кучка народа, и княгиня Трубецкая уже вовсю держала речь о судьбе приговоренных декабристов.
– Ныне мы должны держаться друг друга. Надобно быть с ними, когда пойдут по этапу мужья наши, – сказала она в заключение.
Мирон покачал головой.
– Кто ж допустит, чтоб ваши сиятельства их сопровождали?
– А кто ж нам помешает?
– Армия. Указ царев никто нарушать не посмеет.
– Имеет ли право император запрещать путешествовать по стране?
– Царь все может, вы и сами про то ведаете, ваше сиятельство.
– Поживем – увидим, Мирон. Невозможно ж Сибирь от людей запереть.
– Сибирь, оно конечно, не запрешь, а вот дороги, по которым поведут каторжан, перекрыть можно!
– Думаешь? – Ниночка устроилась в экипаже поудобнее и повертела в руках зонтик. Как здорово трепетали на ветру кружевные воланы. И точно так же трепетало сейчас ее сердечко, только трепетало, исходя болью. – А еще за каторжниками пойдут стаи волчьи. Всех не отгонишь. Ладно, придется и нам в волков обратиться. Готовься, Мирон.
– Считайте, что я уже по Сибири еду! – кучер залихватски прищелкнул языком. – Да я уже вижу вокруг себя леса таежные, барышня моя милая.
Ниночке принесли письмо. Грязный клочок бумажонки, исчирканный торопливыми каракулями. Девушка взглянула на него, прижала к губам и зарыдала счастливо. Письмо от Борюшки!
«Милая, милая моя Ниночка! Чем более я размышляю о своем горестном положении, тем более я убеждаюсь, что время иллюзий для меня миновало и что счастье на земле – лишь пустая мечта. Ниночка, спасибо тебе за все, я благословляю тебя за это каждое мгновение моей жизни. Я думал, милая моя Ниночка, о великодушной твоей преданности мне и сознаюсь, что было бы недостойно и эгоистично с моей стороны воспользоваться ею. Жертвы, которые ты желаешь мне принести, следуя за мной в эти ужасные пустыни, огромны! Ты хочешь ради меня покинуть родителей, подруг, родину, словом, все, что может привязывать к жизни, а что я могу предложить тебе взамен? Любовь заключенного – оковы и нищету. Нет, милая моя Ниночка, я слишком люблю тебя, чтобы согласиться на это. Твое доброе сердце слишком возбуждено великодушием и сочувствием к моему несчастью, и я был бы последним из негодяев, если бы не остановил тебя на краю пропасти, в которую ты хочешь броситься.
Любя тебя больше своей жизни и своего счастья, я отказываю тебе и прошу тебя, милая моя Ниночка, во имя всего того, что дорого тебе на свете, не следовать за мной. Все убеждает меня, дорогой мой друг, что наша разлука – воля Провидения. Покоримся же безропотно его велениям.
Прощай, моя возлюбленная. Молю нашего Спасителя не оставить тебя своими молитвами. Господи, молю Тебя из глубины души, спаси, сохрани мою Ниночку, избави ее ото всяких зол и пребуди всегда с нею! Поручаю Тебе, Господи, мою милую.
Вечно твой Борис».
Ниночка внимательно перечла послание Бориса, сжала кулачки так, что костяшки побелели и тихо прошептала:
– Как бы не так, Борюшка, как бы не так…
«В кронверке занять караул. Войскам быть в три часа. Сначала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом, против знамен… Сорвать мундир, кресты и преломить шпаги, что потом и бросить в приготовленный костер. Когда приговор исполнится, то вести их тем же порядком в кронверк, тогда взвести присужденных к смерти на вал, при коих быть священнику с крестом. Тогда ударить тот же бой, как для гонения сквозь строй, пока все не кончится…»
ГЛАВА 5
В рассветных сумерках 14 июля, когда всю ночь не смеркалось, а теперь небо начинало розоветь на востоке, вновь заскрежетали ключи в дверях каземата Бориса. Дверь распахнулась, и в узилище вошел молодой, неизвестный Тугаю офицер.
Борис, не спавший с тех пор, как вынесли ему приговор, и беспокойно метавшийся по душной камере, все еще надеявшийся, что государь заменит ссылку в Сибирь на смертный приговор, подскочил на нарах. За офицером следовал фельдфебель, неся на вытянутых руках новенький мундир и офицерскую шпагу Тугая. Безумная надежда заполошно заплескалась в сердце Бориса.
– Вы принесли мне мой мундир, товарищ? – дрожащим от волнения голосом спросил он.
Молодой лейтенант глядел на Тугая как на пустое место.
– Примерьте, – сухо бросил он. – Через час за вами придут.
– Государь… помиловал нас?
– Я только выполняю приказы. Примерьте.
Борис взял мундир у фельдфебеля. Скинул изорванную одежду и скользнул в новое белье. Оно подходило, словно сделано было у лучших портных Петербурга.
– Я что-то не замечал, чтобы с меня снимали мерку, – весело заметил Борис. – Но к чему такая прекрасная форма на таком чумазом теле! Это ж сущее святотатство, друг мой.
– Фельдфебелю дан приказ помочь вам с купанием, побрить вас и привести волосы в порядок. – Молоденький лейтенант устал любоваться кусочком неба в зарешеченном окне и повернулся к дверям.
– Значит, все-таки помилование! – ахнул Борис. – Для того, чтобы вздернуть человека на виселице или погнать в Сибирь, мундиров новых не надобно, и бриться тоже не обязательно… Скажите же мне хоть что-нибудь, друг мой… только слова достанет!
– Поторопитесь! – и лейтенант торопливо покинул каземат. Фельдфебель, приземистый и широколицый мужчина, отодвинулся в сторонку.
– Мыться извольте, – говорил он на ломанном русском, не иначе как был из северных провинций империи.
В тесном помещении стояли четыре большие деревянные бадьи с горячей водой. Пар окутал Тугая, у Бориса буквально перехватило дыхание. И только потом он увидел, что три бадьи заняты и рядом с каждой стоит по солдату. Борис узнал Муравьева, вечного философа Вилли Кюхельбекера и истощенного прапорщика Жабинского, который рыдал при вынесении приговора, словно малое дитя.
– Добро пожаловать! – увидев Бориса, закричал Кюхля. – Раздевайся, друг мой, и давай-ка в баню! В России начинают эстетствовать. Только начисто отмытые от тюремной грязи люди должны раскачиваться на виселицах! Что за приговор у тебя, а, Борис Степанович?
– Двадцать лет каторжных работ.
– У Трубецкого так вообще пожизненное! Какие ж идиоты, эти судейские! У меня – пятнадцать лет. Зачем сие? Да я и этапа-то не переживу. А малыш Жабинский должен целых десять лет в Сибири мерзнуть…
Тугай молчал. Разделся, взобрался в большую деревянную бадью и аж задохнулся, настолько горячей была вода. Солдат взялся растирать его намыленной мочалкой, облил водой и напоследок сказал:
– Вылезайте, ваше благородие, – а потом окатил из ведра ледяной водой разгоряченное, покрасневшее тело конногвардейца. То был сущий шок! Тугай стиснул зубы, но уже спустя мгновение понял, до чего же хорошо-то. Он чувствовал, как весело разгоняется кровь по жилам.
В камере он натянул на себя новый мундир, фельдфебель побрил его, окоротал как мог волосы. После сих процедур Тугай взял в дрожащие руки шпагу. С улицы, откуда-то издалека, раздавалась барабанная дробь, мрачно гудели трубы.
– Да что все это значит, фельдфебель? – не выдержал Борис. В горле внезапно пересохло. Фельдфебель молча собрал разбросанную по камере старую одежду.
– Парад какой, что ли? – продолжал расспрашивать Тугай.
– Все войска в Санкт-Петербурге подняты по тревоге. Даже артиллерия. А больше мне ничего неведомо, – и фельдфебель, прижимая к груди старые вещи, покинул камеру, громко хлопнула дверь. Никто и не думал на сей раз запирать его.
Борис толкнул дверь и выглянул в коридор. Надсмотрщики старательно отворачивались в сторону, когда он заглядывал им в лицо. В коридор равелина вышел князь Волконский в своем генеральском мундире. Отросшая за время заключения борода была обрита, волосы аккуратно зачесаны. У него тоже была шпага, белые перчатки и начищенные сапоги.
– Вы что-нибудь понимаете, Борис Степанович? – воскликнул он, завидев Тугая. – Или мы парадным маршем двинемся прямо в Сибирь? Ведь все гарнизоны на ноги подняли…
В конце длинного коридора появились тюремный лекарь, доктор Болобков, и священник, отец Ефтимий.
Они вошли в ближайшую камеру. На улице раздалось лошадиное ржание, топот солдатских сапог, шум подъезжающих экипажей. Затем послышались слова команды. Волконский подмигнул Борису.
– Могли ли вы ожидать, что ради вас поднимут под ружье все войсковые части? Мой дорогой юный друг, хотел бы я все-таки знать, что значит вся эта чертовщина!
Доктор Болобков и отец Ефтимий невозмутимо переходили от камеры к камере. И вот они подошли к Тугаю, эти первые попечители тела и души на земле.
– Мне ничего не нужно, – торопливо сказал он, когда доктор спросил его о самочувствии. – И пред Богом я чист. Но если вы скажете мне правду… – и, дико блеснув глазами, уставился на священника. – Если вы мне скажете, что там затевается… тогда вы подарите мне нечто большее, чем просто благословение, отче.
– Да мы и сами ничего не знаем, – отец Ефтимий всплеснул руками, огладил длинную белую бороду. – Со всех сторон войска стягивают, вот и все, что мы видели. А на площади перед Петровскими воротами виселицы возвели.
– А как же мы? А наши новые мундиры? Или нам надобно представляться кулисами убийственного народного гулянья? Что за фарс! Такое мог изобрести только очень больной разумом человек!
Среди заключенных пронесся ропот. Приговоренные к смерти были единственными, кто все еще не верил в близкий свой конец.
– Смотрите-ка! – воскликнул молоденький Бестужев-Рюмин, возвращаясь из «бани» в свою камеру. – Царь собирается разыграть нам новенький спектакль. А на виселице велит помиловать нас.
Через час по коридорам равелина разнеслась команда выводить заключенных. Сто двадцать приговоренных встретились во дворе, приветствуя друг друга и отвешивая шутливые комплименты новехоньким своим мундирам. У Пущина так и вообще был фрак, словно из крепости он на бал собрался.
Солдаты окружили приговоренных плотным кольцом. Генерал Луков появился во дворе равелина на коне, он тоже был в парадном мундире и развевающемся белом плюмаже на шлеме. Капитан провел меж осужденных перекличку, а потом понеслась по крепости команда:
– По местам!
Генерал Луков рыкнул, ворота отворились, и во двор прогарцевали всадники, окружили декабристов.
– Вперед! Марш! – крикнул кто-то, и толпа узников пришла в движение. Их вывели через Петровские ворота. За воротами переминались с ноги на ногу немногие из зрителей, несколько родственников, генералов, правительственных чиновников, послов иноземных держав, да наблюдателей из ближайшего окружения государя. Пара экипажей стояла в отдалении за высоким валом, на коем была возведена виселица.
Четыре ряда солдат окружали небольшую площадку перед крепостью. В нескольких местах пылали костры. Дым взлетал к небесам, солдаты длинными железными крючьями ворошили угли. В длиннополом красном сюртуке расхаживал палач.
В центре небольшой площадки их остановили. Неторопливо стали разделять осужденных на группы – сверкали эполеты офицеров гвардейской дивизии и Генерального штаба, собирались гвардейцы другой дивизии, группа из армейских офицеров, более скромных по мундирам.
Окруженные многочисленным своим конвоем, вышли эти группы на гласис перед Петропавловской крепостью – небольшая площадка эта едва вмещала осужденных и конвой. Только сейчас осужденные мятежники заметили, что неподалеку от крепости собраны части всех петербургских полков, расставлены четыре пушки, словно для торжественного салюта. Из крепости вышла рота барабанщиков. Они встали вдоль крепостных стен, ожидая команды ударить верными палочками по дубленой шкуре своих барабанов.
– Я все еще не понимаю, что все это значит, – прошептал князь Волконский. – До сих пор казнь через повешение никто не считал актом из итальянской оперы.
Грянула барабанная дробь. А затем оборвалась резко. Генерал Луков выехал на площадь, за ним следовал адъютант с черной папкой из тисненной кожи.
– Именем государя императора мы еще раз зачитываем приговор! – выкрикнул Луков. – Названные мною должны сделать шаг вперед, – и кивнул адъютанту.
Тот начал читать высоким, звенящим от волнения голосом. Они слушали, выходили послушно из строя; представители старейших, знаменитейших и блистательнейших семейств России выслушивали приговор – и смертная казнь, и каторжные работы в равной степени означали только одно: конец их жизни.
Генерал Луков устало вздохнул. Глянул на графа Муравьева, генеральский мундир которого с золотыми эполетами и аксельбантами ярко сиял в лучах восходящего солнца, и понуро отвел глаза в сторону.
– Его императорское величество соизволением своим лишает вас чести быть российскими офицерами! – хрипло выкрикнул Луков. Как же мучительно было отдавать сей приказ, Муравьев был ему другом, другом! Но солдат должен повиноваться. Повиноваться слепо.
– На колени! – выкрикнул Луков. Его голос дрогнул. Одетый в длиннополый красный сюртук палач встал за спиной Муравьева, надавил тому на плечи, принуждая опуститься в пыль, вытащил шпагу из ножен, сорвал и бросил в пыль ордена, сдернул с мундира эполеты. Муравьев даже не шелохнулся; казалось, что он превратился в камень. В один из камней этой крепости, возведенной на людских костях.
– Что ты творишь, Прохор Григорьевич? – спросил он только дрожащим голосом, когда палач рванул с него генеральский мундир и бросил в огонь.
Генерал Луков отвернулся. Слезы подступали к глазам. Только адъютант молча топтался на месте, глядел все на коленопреклоненного Муравьева, а затем закричал срывающимся голосом:
– Все на колени!
Словно кто их дернул за невидимую веревку, и осужденные рухнули на колени в крепостную пыль. Палач поднял над головою боевого генерала Муравьева шпагу, перехватил поудобнее. А потом плашмя ударил клинком по голове графа и преломил шпагу офицера. Из ранки на лбу графа потекла кровь.
В толпе зрителей белая как мел жена Муравьева, Александра Григорьевна, крепко вцепилась в руку Ниночки:
– Как они смеют, как они смеют, – глухо шептала она, – как они смеют…
Занавес над спектаклем величайшего унижения пополз в стороны, акт начала изгнания из человеческого сообщества разыгрывался на подмостках российской истории.
Каждому из приговоренных было суждено пережить эти минуты глубочайшего унижения, и это были минуты, выжигавшие сердца, оставлявшие там никогда не заживающие страшные язвы.
Трубецкой и Волконский зажмурили глаза, когда палач рванул с них мундиры и бросил в жадно пылающий костер. Вечный поэт Кюхля – Кюхельбекер – скинул с себя фрак без посторонней помощи, самолично прошел с ним к костру и сплюнул.
Над площадью плыл едкий дым, душил зрителей, глаза посланников и генералов, верно, от него слезились. Молча, широким каре стояли полки и смотрели на разворачивавшийся перед ними спектакль. Еще были живы все заговорщики, еще предстояла казнь пяти приговоренных на следующее утро, и уж на том зрелище посторонние не предполагались. Сегодня ж каждый мог задаться вопросом, какую б участь выбрал он себе сам, коли б была на то его воля – тех, кто должен умереть, или же тех, кому была дарована жизнь на погибель в далекой Сибири.
Догорали дымные костры, сжигавшие мундиры осужденных, дымили и чадили, заволакивая весь Кронверкский вал, и среди дыма стояла виселица, ждущая своей жертвы…
– Я не могу, – внезапно сказала Александра Григорьевна Ниночке. – Поехали домой, мне дурно, я не могу видеть эти столбы…
Подле той виселицы, совсем близко стояла стройная женщина в черном платье и черной шляпке. Неподвижная и безмолвная. Маленькая девочка держалась за ее руку…
– Рылеева… – догадалась Ниночка.
И внезапно обрадованно подумала, что ее Бореньку ждет Сибирь.
Сибирь… Это было иное. Иное название геенны огненной.
Сибирь… Бескрайняя земля, покрытая лишаями гигантских болот и буйных рек. Это – леса, несть которым ни начала, ни конца. Это – обрывок третьего дня Творения, когда сказал Господь: да порастет земля деревьями и травами, да будут реки питать изжаждавшееся чрево земное.
Сибирь… Последнее великое молчание мира сего.
Свыше часа длилась процедура, преламывались шпаги, сжигались мундиры, золотые аксельбанты и эполеты. А затем на простых телегах подвезли груду серых роб каторжан. Палачи бросали их без разбора приговоренным. Борису досталась роба, в которой он мог утонуть с головой. А вот длинному нескладному Кюхле попалось одеяние, явно сшитое на карлика. Да и Трубецкому его новый наряд был тесноват, та ж беда ожидала и Волконского.
– Стройся! – раздалась команда.
Военный оркестр заиграл марш, вновь понеслась над кронверком барабанная дробь, и осужденные строем, с гордо поднятыми головами отправились назад в крепость. И когда на пути их попадались обломки шпаг, они намеренно наступали на них, на осколки своей попранной в одночасье чести. Муравьев же пинком ноги отбросил клинок.
Медленно закрылись за декабрьскими мятежниками створки ворот. В последний раз им было дано почувствовать себя свободными людьми – с сегодняшнего дня начиналась каторга, жизнь мертвых душ.
Зрители на площади устроились поудобнее среди подушек экипажей и дали знак кучерам трогаться. Все! Финита ля комедия! Офицеры вскочили на коней, полки молча маршировали по казармам. И только французский посланник, так и не оправившийся от пережитого потрясения, сказал своему шведскому гостю:
– Мон шер, по сравнению с этим гильотина истинно гуманное наказание!
О спектакле в крепости святых Петра-и-Павла недолго говорили в Петербурге, у столицы империи память была короткая.
Столица империи даже не заметила, что после наказания заговорщиков знатных да сановитых, пришел черед простых солдат. Генерал Луков с содроганием писал в своем дневнике: «Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что когда одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первым положили того, которому 101 удар плетьми назначили. Палач наш отошел шагов на пятнадцать от кобылы, а потом медленным шагом начал приближаться к наказываемому. Кнут тащился по пыльной земле меж ног палача. И когда палач подскакивал на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар… Первые удары делались крест накрест, с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Во время самого дела, отсчитавши ударов двадцать или тридцать, наш палач, мастер работы своей изуверской, подходил к стоявшему тут же полуштофу, выпивал стакан водки и опять принимался за работу. Коли наказываемый солдатик не издавал ни стона, никакого звука, и не замечалось даже признаков жизни, ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Коли при этом находили, что человек еще жив, его снова привязывали к кобыле и продолжали наказание… Страдания несчастных были ужасные. Я сам смотреть долго на сие действо не смог, покинул плац. Забыть, забыть все это скорее, как страшный сон, не мне приснившийся…»
Они забыли все – солдат и декабристов, расстрел пушками сенатского восстания, они кричали ура ему, новому государю, и благословляли. Но его все время беспокоила мысль о молве, слухах, слухах, будто бы брат Александр не умер, а скрылся. Мысли эти тревожили и беспокоили Николая. Несколько завуалированных фраз донесений и почему-то название Саровской обители…
Николай призадумался. Никому нельзя довериться в таком деле, никто не должен ничего знать.
А что если он в самом деле жив?
Николай даже вздрогнул. Решено, он поедет в Саровскую пустынь, он сам все исследует. Никого не брать с собой. Свита самая минимальная. Из тех, кто не знал брата живым…
…Небольшая дверь из простых деревянных плах закрывала келью.
Николай Павлович, император всероссийский, робко и боязливо приотворил дверь. Затянутая черной тканью комнатка казалась поначалу пустой, но вот перед распятием из черного дерева, висевшего в углу, он заметил коленопреклоненного человека.
Николай осторожно приблизился.
– Рад тебя видеть, государь, – тихо проговорил монах ли, нет ли…
Николай непроизвольно шагнул вперед и стиснул человека в простой одежонке в объятиях.
– Зачем ты это сделал, брат? Зачем?
– Разве что плохое? – тихо ответил монах, слегка наклоняя голову к плечу.
– Но ведь ты мог уйти открыто, жить частным человеком, и тогда не было бы всей этой смуты, не заставил бы меня Бог палить из пушек по собственным солдатам.
– А тебя Бог заставлял, государь? – все так же тихо прошелестел голос монаха. – Что ты ко мне пожаловал? Я – никто и ничто – так мне на роду было написано. Из первых стал последним…
Николай все смотрел и смотрел в до боли знакомое лицо.
– Но ведь ты понимаешь, как ты опасен, – просто заметил он.
– Я – никто и не помеха царскому трону… – упрямо повторил монашек.
– Я не знаю твоих мотивов, я не понимаю твоего стремления уйти, – Николай Павлович начал раздражаться. Он вынул из нагрудного кармана военного мундира маленькую коробочку.
– Здесь всего две пилюли. Хотя и одной хватит за глаза. Молниеносно и без боли. Прости, но ты сам все понимаешь…
Он подошел к монаху.
– Обнимемся, – тихо попросил император. – Прощай и пойми меня…
Император прослезился и выскочил из кельи…
Монах тяжело опустился на скамью. Значит, не место ему здесь, значит, он должен уйти… Монах собрал свой скудный скарб, повесил на шею ладанку, сунул в карман ряски толстую пачку денег. Хватит, чтобы переодеться в крестьянское платье, купить лошадь, а там ищи его, государь-батюшка, велика Россия. А Сибирь и того больше…
Он бодро шагал по прохладной от ночной росы дороге, окруженный темными стенами леса.
Скоро взошла луна, идти стало светлее, и он все шагал и шагал, опираясь на толстую палку, которую подобрал где-то по дороге. Теплая пыль дороги словно бы успокаивала натертые сапогами ноги, и он шел, иногда оступаясь на колдобинах и цепляясь за выступавшие корни деревьев.
Луна высветляла ему путь, заливала все вокруг мертвенным хрустальным светом, дорогу было хорошо видно, и он, читая молитвы, отмахал от Саровской обители много верст, сам поражаясь своей легкости.
Скоро все вокруг посерело, легонький туманец начал подниматься от полей, луна зашла за горизонт, а серый воздух все светлел и светлел. Занялась над горизонтом розовая заря, он еще подивился ее нежной розоватости, потом краешек солнца показался прямо над дорогой, в просвете двух темных стен.
И сразу занялся птичий хор, – трещали сороки, каркали вороны, заливались трясогузки, шум крыльев и шелест слились в стройный многоголосый хор.
Он прошел еще с версту, остановился у красивого куста рябины, уже отошедшей беленьким мелким цветом, пристроил котомку с едой под голову, запахнул потуже армяк и надвинул шапку на самые глаза. Заснул он сразу, как только щека его коснулась грубой ткани котомки.
Его разбудили пчелы, жужжавшие и трудившиеся над неяркими лесными цветами. Он добрел до ручейка с темной коричневой водой, плеснул в лицо холодной чистой влагой и снова зашагал по дороге.
Солнце стояло высоко над головой, когда он уселся под громадную, в три обхвата сосну и, глядя в синеющее сквозь ветви небо, принялся за скудный завтрак. Кусок хлеба да крошка творога – все, что нашлось в котомке, он съел с невиданным наслаждением и снова отправился в путь.
Повстречался ему старик, ехавший на старой черной телеге, запряженной ленивой худущей клячей, везущей груду хвороста. Низко поклонившись, попросился подвезти, и старик, не говоря ни слова, выпростал ему место возле сухих веток. Он болтал босыми ногами, подпрыгивая и переваливаясь с боку на бок в такт всем движениям старой расхлестанной телеги, и поднялся, едва завидев деревню. Поклонившись старику, снова зашагал по избитой наезженной колее дороги, упрямо стараясь не обращать внимания на гудевшие ноги и разбитые в кровь пальцы…
Вторую ночь пути он почти всю проспал, пристроившись на меже ржаного поля, а едой ему послужили незрелые еще колосья ржи. Он жевал их, и прохладное молочко еще совсем не налившейся ржи приятно согревало его язык.
– Благодарю тебя, Господи, за благодать эдакую, – шепнул он. – За благословенность…
Дождь никак не кончался. Капли все стучали и стучали о жестяной подоконник комнаты и брызгали в стекла мельчайшими брызгами, и оттого окно казалось рябым. А тоненькие струйки дождевой воды все сбегали и сбегали к подоконнику и текли, текли по стеклу. Будто плакали.
Нина собирала разбродившиеся мысли, обрывки каких-то воспоминаний. Внезапно девушка закашлялась, зашлась в кашле истово. Запах, до чего же резкий, неприятный. Ниночка повернулась к столику. Так и есть. Стоят в вазе величавые, гордые лилии, вонючки новомодные французские. К чему, зачем? Она так не любит их. А вот ведь стоят в огромной дорогой вазе, равнодушные и величественные в своей царственной красоте. Внезапно девушка почувствовала к ним вражду и отвращение.
«И что ставят? – подумала в крайней степени раздражения. – Будто не знают, что я их ненавижу».
В комнату величаво вплыла графиня Кошина. Все такая же элегантная, все так же изящно убраны волосы. Вот только руки беспокойство выдают, платье перебирают, а на коже их когда-то белой да гладкой появились темные пятна.
Она присела на стул рядом с диванчиком, на котором куталась в теплый плед Нина, и загадочно протянула:
– Ах, до чего же лилии хороши…
– И зачем вы мне их ставите, маман, знаете же, что я их не люблю, – устало отозвалась Ниночка.
– Ах, моя дорогая, да знаешь ли ты, кто привозит их сюда каждый второй день, кто справляется о тебе постоянно?
Ниночка удивленно вскинула на мать глаза.
– Ты даже не спрашиваешь, кто, – полутаинственно, полуобиженно проговорила графиня Кошина.
– Да я и знать не хочу, – девушка повернулась лицом к камину, и жаркие язычки пламени околдовали ее взгляд. Синие струйки облизывали толстые поленья, потом занимались золотистым жаром, и пламя весело гудело в трубе.
– А я так думаю, что тебе очень даже интересно будет узнать, кто так о тебе справлялся. И такой любезный, такой обходительный, так вежлив и благороден.
– Оставьте, маман, – небрежно пожала плечами Ниночка, страшно раздосадованная так неприятно закрутившимся разговором. – Мне сейчас вовсе ни до кого.
– Ах, Ниночка, ты никогда не думала о нас с папенькой, ты всегда делаешь все по-своему, – сокрушенно вздохнула мать. – Боренька, нет-нет, я о нем ничего плохого сказать не могу, но ведь он погубил тебя. Что ты с ним будешь делать? Ехать в Сибирь и быть женой каторжника? И отцом будущим детям твоим каторжник будет? И как он смел выступить против государя, как смел он так погубить всю твою будущность…
Ниночка в ужасе и изумлении неприкрытом смотрела на мать – с чего это она вдруг так говорит?
– Я не понимаю, маман, – нахмурилась девушка. – Вы, что, меня уже второй раз просватали? И за кого, позвольте-ка узнать?
– Да за самого флигель-адъютанта нового государя!
Так вот чьи лилии так раздражали ее, так вот о ком говорит мать…
Графиня Кошина удалилась, шелестя нарядными юбками, а Ниночка торопливо позвала верную нянюшку.
– Миленькая, отнеси записочку Трубецкой, примет ли она меня…
…Во дворцах, где семьи приговоренных были оглушены свершившейся жестокостью, царила беспокойная суета.
Вот и к графу Кошину объявился кучер Мирон Федорович и попросил о том, чтоб его благородие граф велели дать еще пару больших деревянных чемоданов, а то одежду барышни помещать куда-нибудь да надобно. Чай, и в Сибири без одежонки-то никуда.
Кошин велел провести Мирона в библиотеку. Впервые в жизни бородач кучер топтал благородные персидские ковры своими грубыми сапожищами. «Эх, – подумал он. – Надо было б скинуть обувку-то. К подошвам наверняка грязища конюшенная пристала. А теперь его сиятельство свиньей обзываться вздумает и взашей из хором своих как пить дать вытолкает».
– Где Ниночка? – спросил Кошин, вплотную подойдя к Мирону. – Мирон Федорович, я тебе сто рублев дам…
– Да у царя небось денег не хватит, чтоб я предателем подлым заделался, ваше сиятельство, – и кучер упрямо склонил лобастую кудлатую голову. – Велите бить меня, коли хотите…
– Да почему ж она опять от меня скрываться вздумала? Почему после приговора над заговорщиками вдругорядь в ночь и туман из дома родительского убежала? Чего ж не верит-то мне? Али я не был ей добрым родителем?
Кошин заметался по уставленной книжными шкафами комнате. На улице в маленьком скверике, сбегавшем к гранитным берегам Невы, к цветам ластились солнечные зайчики. В мраморном фонтанчике, как венком обрамленном кустами роз, тихо плескалась вода.
– Ты за ее одежкой явился? – спросил граф.
– Так точно, ваше сиятельство…
– Она что ж и впрямь вслед за Борисом в Сибирь собралась?
– Про то мне неведомо, барин.
– Брось ты, все тебе ведомо, рожа каторжная, – Кошин замер, как вкопанный. – Я ведь могу и в порубе тебя запереть, сам знаешь! Ты ж моя собственность, как-никак! С потрохами мне принадлежишь, с потрохами! Ты ведь Ничто!
– Знаю, барин. Но где найдется еще один такой кучер, чтоб с конягами так управлялся?
– Вот и отправляйся в Сибирь! Один! – Кошин сжал кулаки. Все лицо графа мелко дрожало. – Я у царя в ногах валяться буду, чтоб пресек он это безумие… Силой чтоб баб осатаневших здесь придержал! Ниночка и в Сибири… Я ж под вашу карету брошусь, Мирон! Неужто по мне проедешь? Неужто?
– Да, ваше сиятельство, – Мирон Федорович ни секунды не сомневался в своем ответе. Это самое «да» могло стоить ему головы, оно могло быть расценено как угроза смертоубийства барина. И то, что Мирон произнес-таки это самое «да», лишний раз подтвердило Кошину, сколь глубоко укоренилась в кучере любовь к юной его хозяйке.
– Я хотел бы еще раз поговорить с Ниночкой, – прошептал Кошин и двинулся к высоким дверям, ведущим на террасу. – Мирон, о том тебя не барин просит, а старый, заботами согбенный отец. Я клянусь тебе, коли увижу еще раз Ниночку, вольную тебе дам. Вольную!
Лицо Мирона жалобно задрожало и сморщилось.
– Я более не холоп, ваше сиятельство? – хрипло спросил он.
– Нет. Ты так же свободен, как и я.
– Но Платовы уж два столетия Кошиным принадлежали… Завсегда так было.
– А с завтрашнего дня ты волен идти, куда пожелаешь. Только отведи меня к дочери моей. Скажи ей, что ничего я от нее не хочу, разве что обнять крепко-накрепко. Пусть то будет последнее объятие, Мирон Федорович, но будет.
– Я попытаюсь, барин, – и кучер развернулся, чтоб идти. Он старался ступать на цыпочках, чтоб не запачкать еще сильнее дорогой ковер. – Я вернусь, коли согласится она.
– В любое время, – Кошин отвернулся. В его глазах блеснули слезы, но он не стыдился плакать перед холопом. – Даже ночью. Когда Ниночка захочет…
– Я уговорю ее, клянусь, – взволнованно пообещал Мирон. – Только вот что, барин, не стоит за мной слежку пускать. Время только зря потратите, а толку – чуть. Я ведь, сами ведаете, могу с конями управляться, как Охотник Серый…
Кошин молча кивнул головой. Серый Охотник – сибирское сказание о человеке, приговоренном Богом к бесконечной скачке навстречу вечности.
– Я просто буду ждать, когда ты вернешься, – прошептал Кошин. – Ждать…
ГЛАВА 6
Так же, как и во дворце графов Кошиных, великие сборы начались в домах Трубецких, Волконских и Муравьевых. Сорок две женщины были уж готовы последовать за своими мужьями в Сибирь. Они набирали с собой все, что смогло бы пригодиться до конца их жизни: начиная с белья постельного и посуды и заканчивая чайными чашками и подбитыми мехом одеялами. Но прежде всего собирались они везти в экипажах своих инструмент ремесленный: пилы и топоры, клещи и гвозди, молотки и зажимы.
Княгиня Трубецкая запаслась целой коллекцией всевозможного оружия из шкафов своего супруга. А Ниночка велела Мирону прикупить три хорошо пристрелянных ружья, четыре тысячи патронов и два больших дуэльных пистолета, какие раньше она видала у Бориса. В полной готовности ждали женщины отъезда осужденных.
Но никто толком не знал, когда должен отправиться в путь этап. Женщины поочередно дежурили день и ночь перед крепостными воротами. Экипажи и кареты стояли в полной боевой готовности, лошадям задавались только самые лучшие корма.
А так, в общем-то, никто в Петербурге и не замечал даже, что открыта в истории России, писанной кровью и слезами, новая глава – глава любви, какой еще никогда не бывало доныне. О декабрьских мятежниках практически никто не осмеливался заговаривать. Новый император старался показаться добрым государем всему народу. Заграница пыталась поддерживать торговые отношения с Россией. У ремесленного люда, купцов дел было хоть отбавляй, и только на земле холопьей ничего не менялось. Крестьяне батрачили на износ за жалкую полушку хлеба, стонотьем стонали под непосильным налогом да кормили утонченных своих господ, что играли, пили и познавали самое себя.
Многое случилось за прошедшее время. 14 июля повесили приговоренных к смерти заговорщиков. Затем царь официально короновался на царство и целый месяц Петербург праздновал и восхвалял нового помазанника Божьего. День за днем военные оркестры играли на улицах веселые марши, столица империи была украшена флагами и штандартами, а в газетах то и дело мелькали верноподданнические статейки о великодушии и милосердии государя. А посему пять повешенных мятежников были с легкостью позабыты. Позабыты те, что умерли на виселице перед крепостью с криком: «Боже, храни Россию!».
Отныне жизнь текла по своим прежним, устоявшимся законам. Родилась на дворе осень, исчезли рои мошкары, докучавшие петербуржцам жаркими летними месяцами, природа готовилась к зиме. Император старался договориться со всем просвещенным и не очень миром. Ибо Россия открыта всем державам, гласил его девиз.
Только об одном крае он старался не думать: об Азии. О Сибири…
Кто ж о ней подумает добровольно? Да, конечно ж, никто!
Граф Кошин не собирался сдаваться. И написал письмо к вдовствующей императрице Марии Федоровне, просил слезно принять его, просил облегчить участь жениха дочери, писал, что это честнейший человек, ныне раненый и больной.
Вечером его известили, что Мария Федоровна примет его поутру в Зимнем дворце.
Кошина провели по длинным переходам и коридорам, где было полно гвардейцев и на каждом шагу встречались солдаты и генералы в золоченых мундирах и эполетах, подвели к затянутой портьерой двери и попросили подождать…
В большой приемной зале, куда ввели графа, было мрачно и тихо. Стены, затянутые черным сукном, закрытые черной кисеей огромные окна, пышные полосы черных штор – все здесь было в трауре. Мария Федоровна, вышедшая навстречу Павлу Михайловичу, тоже была в трауре по смерти сына Александра. Черная наколка на голове отличалась кокетливостью и модой, словно на черном блюде лежала ее голова. Руки в черных перчатках держали ослепительной белизны кружевной платочек.
Она поманила графа жестом руки, и тот упал перед вдовствующей императрицей, распростерся на полу, и слезы закапали на роскошные плиты мрамора.
– Я приняла вас, сударь вы мой, – медленно заговорила Мария Федоровна, – потому что мне нестерпимо видеть ваши страдания.
– Заступница, милостивая государыня, – прорыдал Кошин. – Я один, некому заступиться за меня. Помилуйте, заступитесь за дочь мою, век буду Господа за вас молить…
– Встаньте, граф, – мягко продолжила Мария Федоровна. – Вы же видите, я тоже в горе. Мой сын скончался, и я надеюсь, вы поймете всю глубину моего горя.
– Простите, государыня, – встал с колен Павел Михайлович. – Вся Россия и по сей день плачет по ушедшему государю…
Не иначе, как императрица вздрогнула как-то слишком резко? А что он такого сказал неверного, что ушел государь, отошел…
– И моего второго сына хотели убить, и в числе заговорщиков был жених вашей дочери.
– Помилуйте, ваше величество, да у Бориса и в мыслях никогда не было цареубийства…
– С чего вы решили, граф, что был он с вами искренен? – ласково прервала его вдовствующая императрица. – Но вы поймете мои чувства, вы, отец, поймете чувства матери. Наш император великодушен и добр, он дал вашему предполагаемому зятю всего лишь двадцать лет каторги. Поищите иного жениха для дочери, граф.
Она махнула рукой, и Павел Михайлович Кошин понял, что аудиенция окончена. Еще раз склонившись до земли, он вышел, и слезы затопили его глаза.
Семь недель пришлось прождать графу Кошину, когда вновь объявится Мирон Федорович и скажет:
– Ваше благородие, Ниночка хочет поговорить с вами.
Все это время граф пытался разведать, где скрывается Ниночка. Он готов был пожертвовать целым состоянием тому, кто откроет тайное убежище дочери, но все его старания были безрезультатны. Все это время Ниночка на самом деле прожила во дворце княгини Трубецкой, а там умели держать языки за зубами, и скорей уж откусили бы их себе, нежели б выдали юную графиню.
– Где? – сухо спросил Кошин. Волосы его окончательно посеребрила седина, лицо сделалось мрачным, покрылось сеткой мелких морщинок; теперь граф передвигался, опираясь на трость из слоновой кости, которой ранее – о, Господи, ведь еще совсем недавно! – пользовался только для сиятельного форса.
– Сегодня вечером, ваша светлость, – вздохнул Мирон. – На кладбище лавры.
– Где? – Кошин в ужасе взглянул на кучера. – Моя дочь ныне живет подле мертвецов?
– Мертвецы-то все тихие и безобидные. От них вреда ждать не следует…
– Я буду в восемь вечера на кладбище.
– Когда стемнеет, барин, – Мирон низко поклонился. – Вы тогда еще одно мне обещали…
– И я сдержу свое слово, Мирон Федорович. С сегодняшнего вечера ты – свободный человек, – Кошин брезгливо отдернул руку, когда Мирон склонился, чтоб поцеловать барскую длань. – Как Ниночка?
– Каждую неделю барышня Бориса Степановича в крепости навещают-с и все ждут дозволения императорского в Сибирь лейтенанта сопровождать.
– Верно ль то, что княгине Трубецкой такое дозволение уже дали?
– Верно. Того же нынче и другие дамы ожидают.
– Но Ниночка ж только обручена с Борисом!
– Об этом ей тоже пришлось сообщить в секретариат императорской канцелярии. Вот почему барышня хочет так поговорить с вашим сиятельством. Она очень торопится. Поговаривают, что в Сибири несколько сотен каторжан новые остроги возводят. Государь только того и ждет, чтоб туда загнать приговоренных.
– Чем же мне-то Ниночке помочь? – Кошин устало опустился в кресло. – Государь более меня не принимает.
– Она вам все разъяснит, барин. Так что, как стемнеет, ждем-с на кладбище. – И Мирон еще раз низко поклонился графу. – Храни вас Господь за все, барин.
Павел Михайлович Кошин дождался, пока кучер уйдет. А потом поднялся со вздохом и пошел, опираясь на трость, к иконам в красном углу комнаты, где всегда горела лампадка неугасимая. С трудом опустился граф на обитую красным бархатом скамеечку и прижал руку к нервно дергающимся губам, стон сдерживая.
– Не дай ей сгинуть зазря, Господи, – прошептал затем хрипло. – Боже, Господи ты Боже мой, не дай дочери моей милой загибнуть в Сибири!
В то утро Ниночка стояла перед высокой чугунной оградой на внутреннем дворе в крепости Петропавловской и вместе с другими женщинами ждала, когда выведут арестантов. Солдаты ходили по коридору меж двойной оградой, ходили молча, как бы и не слыша, что кричали им:
– Эй ты, как там дела у Михайлы Фонвизина? Ты же знаешь его – генерал Фонвизин! У него еще борода седая лохматая отросла!
А Александра Григорьевна Муравьева тянула сквозь решетку сотенную ассигнацию и шептала солдату:
– Возьми, половина – твоя. А на пятьдесят рубликов купи мужу моему пирогов, одежды, яблок побольше. Скажи, ему очень худо?
Солдат молча пошел дальше. А сотенная – Господи еси на небеси, да то ж целое состояние для бедного солдатика! – так и осталась в руках графини. Она вжалась лицом в чугунную решетку и горько заплакала.
– У вас нет сердца! – сквозь рыдания выкрикнула она. – У вас чурки деревянные вместо сердца! Души у вас нет!
Тут, наконец, открылись двери равелина, арестантов вывели наружу, и они бросились к длинному забору, выкрикивая поименно близких своих.
Борис Степанович сразу же заметил Ниночку. Бросившись к ограде, просунул руку меж прутьями решетки. С другой стороны к нему тянула тоненькие пальчики Ниночка. На краткое мгновение – и то уже победа! – их руки соприкоснулись. Нежнейшая изо всех ласк, которой были они награждены за долгие месяцы ожидания и неизвестности, счастье, превратившее их в немые существа, безъязыкие.
Первым очнулся Тугай.
– Какая ж ты красивая, – он глядел на Ниночку, словно была та обитательницей иного мира, иных звезд. – Я никогда бы и подумать не посмел, что можно любить ангела…
Ниночка вжалась лицом в решетку. Осенний ветерок играл ее длинными черными локонами.
– Какой же ты бледный сделался, Борюшка, – прошептала она едва слышно, с трудом сдерживая подступающие рыдания. – Неужто ж вас на свежий воздух не выводят?
– Каждый день по часу гуляем. Да мы и не больно-то тоскуем по солнцу. Нам его в Сибири еще достанет. Говорят, там летом жара нестерпимая просто.
И они вновь замолчали надолго, только все глядели друг на друга, не слыша вокруг себя ни плача, ни криков, ни разговоров других арестантов – их обволакивала тишина измученной тоски, и в этой тишине не было уж места ни для кого на свете.
– Это правда? – спросил Борис вдруг спустя томительные минуты, в биении которых на часах вечности он жадно вбирал в себя волшебный образ Ниночки, чтобы навсегда схоронить его в своем сердце, чтобы жить потом в одиночестве тайги воспоминаниями о ней. – Неужто правда, что княгиня Трубецкая собралась вслед за мужем на каторгу?
– Да, Борюшка. Не она одна разрешение испрашивала, многие. Я – тоже, любимый.
– Во имя милосердия Божьего, нет! – Тугай намертво стиснул прутья ограды. – Ниночка, ты жить должна, а не хоронить себя заживо!
– Я принадлежу тебе, Боря!
– Только до той поры, пока я еще человек. Все и так уж миновало, Ниночка. Завтра или – самое позднее – послезавтра, когда царь пожелает, я превращусь в одну из мертвых душ. – Тугай прикрыл глаза. Голос его предательски дрогнул. – Давай уж попрощаемся сегодня. Постарайся забыть меня. Уговори себя, что и не было-то меня никогда… Ниночка, ты не приходи ко мне больше. Ты принадлежишь жизни…
Она умоляюще вскинула на него глаза.
– Позволь мне обвенчаться с тобой, Борюшка. Я хочу носить твое имя.
– Имя преданного анафеме! Да тебе вослед плевать все будут, кому не лень, если ты назовешься им! Перед твоим носом захлопнутся двери всех приличных домов!
– И все же я буду носить его с не меньшей гордостью, чем носила бы великокняжескую фамилию, – Ниночка в отчаянии тряхнула решетку.
И этого уж было достаточно, чтобы на стене крепостной трубач вскинул трубу и проиграл страшный сигнал. Несколько караульных офицеров выросли, словно из-под земли, за спинами женщин. И как бы ни тяготила их служба, они вынуждены были строго взять княгинь и графинь под локотки.
– Конец свидания! – пронеслось над крепостью.
– Ниночка, – даже задохнулся от боли Борис. А потом выкрикнул: – Ниночка! Прощай! Храни тебя Господи! Более уж не свидимся! Забудь меня! Прости уж мне все слезы, тобой выплаканные… Прокляни меня! Скажи, скажи же: я тебя прокляну… и тогда этап в Сибирь покажется мне легче!
– Я люблю тебя! – пронзительно вскрикнула девушка. Солдат с трудом оттащил ее от ограды. – Борюшка, я люблю тебя и буду любить, пока дышу! Боря…
Солдат грубо, за воротник отшвырнул ее в толпу других женщин.
– Ах ты, собака! – взревел Борис и в бессильной ярости тряхнул решетку. – Мерзкая собака! Не трогай ее! Не смей!
Тут к нему подошел князь Трубецкой.
– Идем, Борис Степанович, – спокойно произнёс он. В голосе князя звучала почти отеческая нежность. – Не трать понапрасну силы, друг мой. Они еще пригодятся в тайге.
В каждом кладбище есть что-то серьезное, беспокойное, даже если надгробные памятники еще не обветшали и цветы не увяли. Незримо присутствие покойников подобно беззвучному предупреждению – все проходит, ничто не вечно, помните об этом, люди! Время ничтожно, ничтожно мало дано провести человеку на земле, и как же мало ему нужно, а он, человече, все дергается, все нервничает по пустякам, отравляет себе жизнь. Но как же все ничтожно пред неумолимостью того часа, когда ляжет человек в лоно земное.
Но в кладбище ночном есть нечто еще более неприятное. Или то старое суеверие, что по ночам кружат там души ушедших?
Новый кучер доставил графа Кошина к железным кладбищенским вратам. Дальше он пошел один. Дорожки между могилками были широки – в России для умерших простора много. Ночь была по-осеннему холодна, луна, выныривая из моря облаков, освещала все слабым, трупным светом. Мраморные ангелы и скульптуры святых, железные кресты и маленькие деревянные таблички казались призраками – подобными армии замерших, скрюченных покойников. Только здесь сделалось понятным Кошину, почему Иван Грозный в последние месяцы своего безумия тайком бродил по московским погостам и испрашивал прощения у каждого креста, у каждого склепа.
Где Ниночка будет ждать его, Кошин не знал. Мирон лишь сказал: «Ступайте все прямо от главного входа, ваше благородие, а потом на четвертом перекрестке налево. Там с вами заговорят».
Кошин старательно считал. На четвертом повороте он вышел на поле древних, уже обвалившихся, поросших травой гробниц.
Никого. Кошин замер, повыше поднял воротник плаща и огляделся.
– Ниночка, – позвал негромко.
Тишина в ответ. Граф обождал, а потом медленно двинулся дальше, крепко сжимая под плащом рукоять длинноствольного пистолета. «Все это могло быть западней, ловушкой, – мелькнуло в голове. – Но кому вздумалось убивать меня? Врагов у меня нет. Я всегда старался быть справедливым человеком; к холопьям относился как к людям, а не как к рабочей животине. У них довольно еды, они живут в чистоте. Я никого не предавал, к мятежникам не примыкал, хотя о многом догадывался наперед, политических друзей не заводил. Я любил моего государя. Я всегда был за сильную монархическую власть в России – а ничему другому и не научен.
А что если сам царь? Способен ли он на такую подлость? Убить на кладбище человека, дочь которого полюбила патриота?»
Кошин вновь настороженно замер на месте. Ему показалось, что он услышал какой-то шорох, и вытащил осторожно пистолет из-за пояса. Луна вынырнула из-под перины облаков. Внезапно стало очень светло. Словно из чрева могилы появился Мирон в кучерском армяке, глубоко надвинув на уши шапку.
– Мирон Федорович, где ж она? – дрожащим голосом спросил Кошин.
– Я за тобой, папенька!
Кошин резко развернулся. Ниночка прижималась к большому покосившемуся деревянному кресту. Ее голубой шелковый плащ слабо поблескивал в лунном свете.
– Ниночка… – прошептал Кошин. – Доченька, могу ли я обнять тебя?
Он сделал к ней шаг, незряче вытянув вперед руки. Негромко вскрикнув, словно маленькая птаха, выпавшая из гнезда, бросилась Ниночка на отцовскую грудь.
Мирон сел в сторонке на поваленную колонну, порылся в кармане своего армяка и выгреб целую пригоршню семечек. Бросил сразу несколько зернышек в рот и начал неторопливо щелкать.
Час целый провели вместе Ниночка и ее отец, сидели на старом каменном саркофаге, держась за руки, прощались друг с другом навсегда. Кошин даже не пытался убедить Ниночку в безумии совершаемой ею поездки в Сибирь. Его настолько потрясла эта любовь, что у графа не поднялась бы рука подбрасывать дочери камни на ее пути.
– Попытайся еще раз поговорить с государем, папенька, – взмолилась Ниночка. – Умоляй его, пади перед ним на колени, проси его разрешить нашу свадьбу с Борисом прежде, чем пойдет он по этапу. Папенька, только жены имеют право разделить участь своих мужей в Сибири. Я должна выйти замуж за Бориса, если хочу остаться с ним навеки.
– А если государь не дозволит?
– Тогда я в одиночку последую по следам этапа. Я не оставлю Бореньку в беде.
Кошин поднялся. Его сердце обжигала нестерпимая боль.
– Я предложу государю мою голову взамен на царское великодушие, – устало произнес он. – Я отдам в его руки мою жизнь, – граф прижал к себе Ниночку и тихо заплакал. – Неужто никогда не свидимся больше, доченька?
– Про то только Бог скажет…
– А не слишком ли часто он молчит в России…
– Может, на сей раз он и заговорит, а, папенька? – они поцеловались, обнялись, прекрасно зная, что им остаются только эти минуты, а потом судьба разделит их.
Мирон Федорович проводил Кошина до ворот кладбища. Там граф вцепился в широкие плечи кучера и отчаянно встряхнул его.
– Береги ее, Мирон, – захлебнулся он слезами. – Не оставляй ее одну. Бог проклянет тебя, если ты ее покинешь! Я дам вам с собой деньги. Заберешь их, когда точно будешь знать, позволят ли вам ехать вослед за каторжниками. Мирон, поклянись мне, что ты никогда не оставишь Ниночку!
– Клянусь, барин, – глухо прошептал Мирон.
– Ты теперь вольный человек, Мирон Федорович, и я тебе никакой не барин, – Кошин достал из кармана бумагу, которой официально давал кучеру вольную.
Мирон взял вольную дрожащими руками, поцеловал сначала письмо, а потом, изловчившись, и руку Кошина.
– Храни, Господи, весь род ваш, барин, – выдохнул он. – Барин, клянусь всем, что есть святого у меня, буду жить только ради Ниночки.
ГЛАВА 7
Туманным утром 11 ноября, когда островки на Неве и не разглядишь за завесой и мелкий бесконечно тоскливый дождичек все барабанит по крышам без перебою, в камере Бориса объявился генерал Луков. За ним следовали два ординарца с мундиром в руках.
– Лейтенант Борис Степанович Тугай, – громко и торжественно произнес Луков. – Я называю вас так, хотя вы и разжалованы. И я принес вам мундир ваш, хотя вы более и не достойны носить его. Одевайтесь. Через полчаса вы обвенчаетесь с комтессой Ниной Павловной Кошиной.
Церковь в Петропавловской крепости была пуста, промерзла и, несмотря на золоченое великолепие иконостаса, поражала всяк сюда входящего абсолютной своей безутешностью. Перед алтарем Лукова и Тугая уже поджидали несуразный поэт-философ Кюхельбекер и молоденький лейтенантик Алексей Плисский. Даже бывший тугаевский денщик Руслан Колкий был тут. Он стоял чуть поодаль у колонны и утирал растроганно глаза. И хотя на Тугае был мундир, все остальные по-прежнему были в одежке каторжан. Перед иконостасом отец Ефтимий хлопотливо зажигал свечи. Заслышав шаги пришедших, обернулся, вскинул руку приветливо.
– Алексей Борисович? – воскликнул Тугай, протягивая руки навстречу другу. – Живой, живой, чертеняка! Тебя не расстреляли? – он кинулся к Плисскому, они обнялись и расцеловались. – Почему ж тебя оставили в живых, друг мой?
– Радоваться-то нечему, Борис Степанович. Я даже Сибири вместе с вами и то оказался не достоин. Буду на Соловках у монахов каторгу свою отбывать.
– Так почему ж ты руки на себя не наложил? – Тугай крепко обнял товарища. – Алексей, там ты будешь умирать каждый день, каждый день понемножку, пока, наконец, не свалишься, как подкошенный.
– У меня хватает смелости верить, что мы выкарабкаемся, Боря, – и Плисский криво усмехнулся. – Ты тоже выкарабкаешься. Мы ведь еще молоды.
– В Сибири за год стариками делаются, – и Тугай повернулся к своему денщику. Руслан Колкий хотел было пасть барину в ноги, да Тугай вовремя подхватил его и обнял.
– Ваше благородие, – простонал Руслан. – Я так счастлив… так уж счастлив. Я уж думал, что вы… – он всхлипнул, уткнувшись лицом в плечо Тугая.
– Тебя тоже в Соловки, друг мой? – негромко спросил Борис.
– Нет. Я в Петербурге остаюсь. Буду казармы вместе с ремесленниками строить. И каждый день на ужин по десять шпицрутенов в течение трех месяцев.
– Какие скоты! Нет, какие ж мерзавцы! – скрипнул зубами Тугай. Он обернулся к генералу Лукову, смерил его взглядом и повторил: – Скоты!
Генерал Луков укоризненно покачал головой.
– А почему вы кричите на меня, Тугай? Не я ж приговоры людям выношу.
– Но вы способствуете их исполнению.
– Все мы в той или иной степени служим беззаконию, ибо нет на земле никакой справедливости. Что для одного означает осанну, то для другого крестом мученическим оборачивается. И это правило никогда не изменится.
– Мы здесь, чтобы венчаться али браниться? – вмешался отец Ефтимий. – Что бы там ни было… а мы должны быть благодарны нашему государю императору, дозволившему состояться свадьбе сей.
– Да эта свадьба насмешка сущая! – Борис жалобно огляделся по сторонам. Ниночка еще не появилась, и внезапно его охватил безумный страх, что царь передумал, и венчание не состоится. – Что Ниночка-то вашему императору сделала? Почему ему вздумалось ее, такую юную и невинную, вдовой сделать? Или ему все мало, что нас гнить в Сибирь посылает?
– Прошение на брак сей исходило от самой Нины Павловны, а не от царя, – вздохнул генерал Луков. – И, несмотря на все разочарования, что принесли ему его офицеры… он подписал разрешение на сей брак. За внешней ожесточенностью императора скрывается добрая душа. Должно быть, он плакал, подписывая вам приговор.
Тугай хотел что-то ответить, но шаги, гулким эхом отдавшиеся в нутре собора, заставили его примолкнуть. Дверь распахнулась, появился кучер Мирон Федорович, отныне человек свободный, уже забывший о холопской доле. На нем были высокие кирзовые сапоги и новехонький темно-синий кафтан, своей элегантностью как-то даже и не вязавшийся с лохматой головой Мирона.
– Они все уже здесь, ваши сиятельства! – густым басом крикнул он. – Можно уже, пожалуй, и в колокола звонить.
Отец Ефтимий дал знак своему помощнику. Одиноко-пронзительно, жалобно запел колокол, самый маленький из четырех колоколов собора, ибо полногласие было позволено только по праздникам и дням тезоименитств государей.
Под жалобный колокольный звон отец Ефтимий запел красивым мощным басом, заполнившим собой все чрево собора.
Борис прижал кулаки к сердцу, дыхание его сделалось сбивчивым от волнения. Плисский и Колкий стояли у него за спиной, генерал Луков замер чуть поодаль, нервно сжимая руками эфес шпаги.
И тут в соборе появилась Ниночка. На ней было белое венчальное одеяние, терпеливо дожидавшееся сего дня на безголовом манекене у портнихи, на худенькие плечики девушки был накинут длинный плащ из серебристой норки. Старая нянюшка Катерина Ивановна вела Ниночку за руку. Портниха Прасковья Филипповна несла шлейф подвенечного платья. Медленно приближались они к жениху под пение отца Ефтимия.
– Ангел, – прошептал Плисский на ухо Тугаю. – Как есть, ангел. Ты женишься на ангеле, Борис.
Тугай с трудом сглотнул вставший поперек горла комок. А потом двинулся навстречу Ниночке. Она замерла, и в ее огромных глазищах читалось столько счастья, что сердце Бориса на мгновение пропустило удар, заходясь от нестерпимой боли и такой же нестерпимой радости.
– Я люблю тебя, Борюшка, – прошептала она, протягивая жениху руку. – Ты так красив в новом своем мундире.
Борис глубоко вздохнул.
– Это всего лишь театральный костюм и более ничего, Ниночка. Через час я вновь обряжусь в каторжанскую робу.
Он взял ее за руку и глянул на мерцающий золотом в огоньках свечей иконостас. Казалось, что святые внезапно ожили, их глаза были более красноречивы, чем любой язык человеческий, их вскинутые для благословения руки молили Бога о милосердии к павшим. Отец Ефтимий затянул осанну.
– Экое безумство мы совершаем сейчас, Ниночка, – обжег словами свою невесту Борис. Медленно они двинулись дальше вдоль алтаря.
«Как же хорошо, что мы здесь одни, – подумал вдруг генерал Луков. – Никто меня на смех не поднимет и не назовет старым дураком за то лишь, что я верю – эта любовь дорогого стоит». Он схватил у ординарца огромный букет белых роз и двинулся вслед за парой новобрачных.
Никто из них так и не услыхал, как хлопнула дверь собора. В храм вошел человек, закутавшийся в длинный, подбитый мехом плащ, и укрылся за одной из колонн, тайно наблюдая за венчанием.
Когда Борис и Ниночка замерли перед алтарем, оборвалось пение отца Ефтимия. Луков протянул невесте букет. Плисский и Колкий замерли чуть поодаль. Только Кюхельбекер подошел к жениху и низко поклонился Ниночке.
– Во всех моих стихах я утверждал, что нет в мире этом места для счастья, есть, мол, только иллюзия его. Но ныне я готов опровергнуть самое себя. Видеть вас, дорогая Нина Павловна, и есть величайшее счастье. А уж венчаться с вами – дар Божий. Честное слово, именно так я и думаю.
– Аминь! – громко возвестил отец Ефтимий. – Замечательная проповедь вышла. И ведь ни слова из нее не убавишь! Преклоните ж главу вашу, дети мои, и протяните друг другу руки.
Венчальный обряд начался.
Отец Ефтимий благословил новобрачных, протянул им для поцелуя крест, хлеб, вино и щепоть соли…
После венчания им было дано лишь десять минут наедине. Они стояли у одной из колонн, сжимая друг другу руки. Генерал Луков и все остальные отошли на почтительное расстояние. Незнакомец, по-прежнему так ими и не замеченный, вжался лицом в холодный камень колонны и негромко всхлипнул.
– Что нового на воле, Ниночка? – спросил Тугай и нежно провел ладонью по ее лицу.
– Ничего, Борюшка. Все молчат.
– Когда нас отправят по этапу в Сибирь?
– Про то никто не знает. Княгиня Трубецкая думает, что в правительстве боятся высылать вас на глазах у всех. Если вас и вздумают гнать по этапу, то тайком, в ночи. Дабы избежать ненужных манифестаций.
Тугай притянул Ниночку к себе. «Моя жена! – подумал он. – Красивейшая женщина России… Вот сейчас подаст Луков знак, и минуют мгновения сладкого сновидения».
– Тогда нам еще долго куковать в Санкт-Петербурге, – сказал Борис вслух. – Скоро уж зима. Вряд ли уж пошлют нас в дорогу до снега. На такой этап даже казаков не посылают. О, Ниночка… – он поцеловал ее, прижал к себе еще сильнее и глянул поверх ее головки на генерала Лукова. Тот кивнул.
– Пора, друг мой. Время прощаться…
– Увидимся ль еще? – спросил Борис дрожащим голосом.
– Я буду приходить, – Ниночка погладила Тугая по щеке и, стараясь не разреветься, нервически хихикнула. – Мой муж! Мой муж, Борис Тугай! Как же здорово это звучит! О, Борюшка, нас теперь и в Сибири не разлучат.
Луков махнул рукой, и Тугай кивнул ему в ответ. Взял в ладони Ниночкино лицо, вгляделся в глаза внимательно.
– Прощай же… Я люблю тебя…
– Можно мне проводить Бориса до дверей? – спросила Ниночка. Провела пальчиком по лбу своего супруга, торопливо смахнула слезы в уголках его глаз.
– Да, но только быстро, – Луков изо всех сил старался, чтобы голос его звучал сурово. – Мы и так уже опаздываем. Идемте же.
Он знал, что на площади перед собором поджидает взвод солдат, чтобы развести арестантов по казематам равелина.
Борис выпустил Ниночку из объятий и повернулся к товарищам.
– Благодарю вас, друзья мои, – твердо произнес он. – Коли переживем мы нашу беду и доведется свидеться вновь, мы отпразднуем свадьбу мою. Если ж не суждено, знайте: то, что сегодня свершилось, подарило мне силы. Это – та самая краюха хлеба для сердца моего, с которой и тайга не страшна.
Поклонившись отцу Ефтимию, медленно двинулись они к дверям, и чудилось им, что поет вослед хор дивный, словно рождество Христово на дворе…
Из-за колонны выступил им навстречу одинокий наблюдатель.
Генерал Луков схватился за шпагу.
– Как вы попали сюда? Я приказал…
– Согбенный старик и пара рублей могут еще на Руси творить чудеса.
– Папенька, – устало прошептала Ниночка. – Почему ты пришел?
– Я хотел видеть все это, – граф Кошин измученно потер глаза платком. – Единственное мое дитя свадьбу играет… а я бы и не пришел? Да благословение родительское не менее бесценно, что и благословение церковное. Я просто стоял тихонько за колонной, за тебя, доченька, молился и плакал.
Он глянул на Тугая.
– Борис, сын мой, – дрожащим голосом обратился к арестанту Кошин. – Мужайся! Пред тобой дорога, коей сам черт испугается. Не буду уж более спрашивать, сколь необходимо было все это. Отныне ты – муж моей Ниночки. Возвратись же оттуда… а большего тому, кто в Сибирь по этапу идет, и пожелать нельзя.
С этими словами граф вынул из-под плаща кожаный мешок.
– Это – мой подарок свадебный, доченька. Я его тебе здесь прямо дам, ибо домой ты возвращаться не желаешь. Это тебе пригодится. Здесь тридцать тысяч рублей.
– Тридцать тысяч рублей, – восторженно протянул Кюхля. – Господи, вот это деньжищи. Борис, открой-ка ты эту калиту, я еще никогда за раз такой суммы не видел.
– Если об этом узнают, – мрачно заметил Луков, – все беглые и разбойнички сибирские всполошатся.
– А у нас на них ружьев хватит! – проворчал Мирон. – Да я по ночам на мешке с деньжищами этими спать буду.
– Возьми же, Ниночка, – Кошин умоляюще склонил седую голову. – Деньги… вот и все, что осталось от тех грез, что были у меня, когда я думал о твоей свадьбе. Деньги, чтобы купить кусочек счастья. Бог с тобой, доченька!
Ниночка всплеснула руками и прижалась к отцу. Они поцеловались, твердо уверенные в том, что на этот уж раз прощаются навсегда.
– Их скоро вышлют, – шепнул Кошин на ухо дочери. – Я узнал сие от первого камергера императора, где-то в начале декабря. Это пока держится в тайне.
И Ниночка шепнула в ответ, еще крепче стискивая отца в объятиях:
– Спаси тебя Господи, папенька. Это – самый лучший подарок свадебный. Маменьку за меня поцелуй…
А потом все пришло в страшное волнение. На дворе солдаты окружили арестантов, Ниночка и ее спутницы сели в карету, Мирон запрыгнул на облучок и погнал лошадей. И только генерал Луков и граф Кошин остались. Они стояли у входа в собор и молча смотрели на брусчатку мостовой. За спиной их отец Ефтимий шумно хлопнул дверью, запирая святая святых крепости Петра-и-Павла.
Вечером того же дня служка отца Ефтимия принес Ниночке письмецо.
– От Бориса Степановича передать велено, – пробормотал смущенный служка и торопливо убежал.
Ниночка бросилась наверх, в отведенные ей покои и в волнении развернула письмецо:
«Возлюбленная моя! О, как я сегодня счастлив, Ниночка! С каким сердечным восхищением вспоминаю сегодняшний день, и сладостное чувство блаженства разливает сие воспоминание в душе моей. Кто бы мог подумать, что в этой крепости, в совершенном подобии католицкого чистилища, человек, осужденный на заточение, мог иметь столь блаженные минуты, столь восхитительные ощущения – но так как и в чистилище нисходят иногда ангелы небесные утешать и укреплять страждущих, так и ты, мой земной прелестнейший ангел, пришла рассеять горе мое – и узилище мое показалось мне прекрасным раем.
Я пишу тебе, как думаю, как чувствую, и все же мое письмо слабо выражает мои чувства к тебе, моя возлюбленная. Если бы мой талант писать соответствовал необычайной любви, которую ты внушаешь мне, мое письмо было бы образцом красноречия. И так я иногда досадую, что я не поэт, не наш Кюхля непутевый, который лучше меня мог бы воспеть твои прелести и мою любовь, – ибо я твердо уверен, что редко любили так, как я люблю тебя, моя Ниночка. Ты из числа тех избранных существ, которые могут внушать только большие страсти, любя тебя, невозможно любить слабо и лишь однажды в жизни можно любить, как я люблю тебя».
Ниночка тихо всхлипнула и крепко прижала кулачок к губам.
– Господи, что же ты с нами делаешь, а, Господи? – прошептала сквозь слезы…
…Богомольцев было мало, проходили мимо какие-то старушонки, торопливо крестясь, бросали мелкие медные монетки в кружку высокому величественному страннику. Монеты легко звякали, а он даже не благодарил прихожанок, лишь шепча словно про себя:
– Господь вознаградит…
А потом вышел за ворота Саровской обители.
Он всегда любил ходить пешком. Длинные его ноги шагали размашисто и в день отмеряли едва не по сорок верст. Длинная суковатая палка да небольшой заплечный мешок составляли всю его поклажу, и дорога сама стелилась ему под ноги. Кусок хлеба да глоток чистой воды составляли весь дневной рацион странника с величественной, истинно императорской осанкой, и он радостно оглаживал себя, видя и чувствуя, как здоровеет и наливается силой его худеющее тело.
Рубаха и порты его скоро износились и протерлись. За копейки купил домотканное рядно у деревенских ткачих и менял белье, выбрасывая пропотевшее и прогнившее. Армяк и сапоги были добротными и, хотя не давал им странник спуску, служили исправно.
Утрами и вечерами становился он на колени лицом к востоку и, вперив глаза в небо, розовеющее утренней или вечерней зарей, шептал сипловато и страстно:
– Господи, прости и вразуми…
Странник шел и шел, останавливаясь лишь в случае крайней необходимости да на свои пять часов крепкого, без всяких видений сна. Странник шел своим собственным этапом в Сибирь, в угодья таежные.
9 декабря 1826 года ровно в полночь двадцать широких саней покинули крепость Петра-и-Павла. В соломе, укрывшись одеялами, лежали ссыльные мятежники. Взвод казаков окружил мрачный санный обоз, галопируя на своих быстрых, лохматых лошаденках.
Уже несколько дней мело по всей земле русской, тяжелые хлопья снега укрыли землицу саваном, немотствовал зимой мир.
За Петербургом деревеньки и поля превратились в белую пустыню, ветер играл пылинками снега. Леса превратились в полки заколдованных, блестящих серебряными латами великанов. Морозец пока еще стоял небольшой, еще ижил в холоде деревья. Но и над ними уже накинула зима саван, пригибая ветви к земле, принижая в лютости своей все живое. Обещала старушка седая в этот год быть небывало суровой.
Выставленные женами арестантов наблюдатели, день и ночь следившие за крепостью, подняли тревогу. Меж домами и дворцами декабристов заметались посыльные:
– Их увозят! Да-да, прямо в полночь увозят! Чтоб никто их не увидел! У них посты до Москвы выставлены! На двадцати санях отправят! Нет, имен еще не называли. Неизвестно, кто в путь отправится, но на ближайшем же почтовом яме станционный смотритель будет знать весь список.
Уже через час со всех сторон начали выезжать крытые возки, чтобы собраться перед Петровскими воротами крепости. Снег превратился в кашу, виднелись следы саней. Узников уже отвезли.
Караульные на вопросы не отвечали, мзды не брали. Они прекрасно знали, что за ними сейчас наблюдают офицеры.
– Все напрасно! – воскликнула, в конце концов, княгиня Трубецкая. Она стояла в санях, выпрямившись во весь рост. Огромный возок был доверху забит ящиками и кофрами, фыркали в упряжи три лучших коня с конюшен Трубецких. – От этих идиотов мы ничего не узнаем! Надо ехать на ближайшую почтовую станцию! Лошади у нас быстрые. Возможно, мы их еще нагоним.
Она откинулась в подушки, запахнула меховой полог, укуталась в меха чуть ли не с головой, и кучер, громко свистнув, погнал лошадей из города. Словно обоз призраков промчался в ту ночь по Петербургу, и только снег клубился под копытами.
Обоз из тридцати четырех саней, сорок две женщины решились поехать вслед за своими мужьями.
Сорок две женщины добровольно ехали в Сибирь, для них их мужья-каторжане были никогда не заходящим солнцем любви, коему не страшны ни лед со снегом, ни мороз с одиночеством, ни голод со страданиями.
Генерал Луков, наблюдавший из окна караульной за кавалькадой саней-призраков, одернул мундир. Ему вдруг стало нестерпимо жарко. Он сел за письменный стол и записал в дневнике:
«Девятого декабря – день любви, непостижимой и чудесной. Господи, сколько ж сил может быть сокрыто в одной лишь женщине…»
Они добрались до ближайшей почтовой станции, старенького деревянного домика с большими конюшнями, крытой верандой, большой комнатой для проезжих и несколькими фонарями, раскачивающимися на ветру. На землю было не ступить, снег был превращен в кашу копытами лошадей и полозьями возков. Здесь следовало побыстрее дать отдых лошадям, чтобы как можно больше верст затем отделяло их от Петербурга.
А вот дальше можно будет и помедленнее ехать. На бескрайних просторах, что раскинутся впереди, где до конечной цели не версты, а месяцы обозначены, никто уж не спросит: «Кто эти каторжники? Что, и князь Трубецкой меж ними? И Волконский? И Муравьев? И бабы, что ль, тоже с ними?».
Кто ж из бурятов, тунгусов, эвенков и киргизов знает какого-то там Трубецкого? Для них он был таким же арестанцем, как и все остальные. Мертвые души – и ничего уж более.
Станционный смотритель, толстый старик с бакенбардами и покрасневшими от недосыпанья глазами сновал по двору. И лишь шлепнул рукой по лысой голове, когда увидел новоприбывшие сани, и воскликнул в отчаянии:
– Нету у меня лошадей! Ваши сиятельства, всех свежих лошадей забрали. А другим до утра покой надобен. Утром в семь свежих коняшек взамен ваших кляч дам!
И только тут смотритель заметил, что из саней выбираются женщины, одни только женщины. Его рот приоткрылся от удивления, бедняга никак не мог понять, что ж такое творится, а потому ухватил Мирона за рукав.
– Наши лошади так же свежи, как весенний ветер! – с угрозой в голосе отозвался Мирон. – А ты… и не вздумай даже лгать, старик! Где этап?
– Уже далеко. Я же и говорю! Сменили лошадей, да так быстро, словно по волшебству. Пятьдесят два казака – да это ж пятьдесят два черта живьем! Да не трясите вы меня, старый смотритель и без того что собака побитая.
В доме разместились на постой. Пахло потом, щами и промокшей под снегом одеждой. Ниночка и княгиня Трубецкая перелистывали записи станционного смотрителя, куда всякий почтмейстер должен заносить имена проезжавших и маршрут их пути следования.
– Ага, – наконец, произнесла Трубецкая и ткнула пальчиком в последнюю запись. – Николай Борисович Лобанов командует этим этапом. Я знаю его. Очень вежливый офицер. – Она положила книгу записей на конторку смотрителя, отвернулась к окну, и внезапно в большой зале воцарилась гнетущая тишина. Женщины затаили дыхание.
– Лобанов все очень обстоятельно расписал. Имена этапируемых, ясное дело, в книгу заносить не стал. Но теперь мы знаем, как они поедут. Ярославль – Вятка – Пермь – Тобольск – Томск – Красноярск – Иркутск – Чита…
Трубецкая поежилась, зябко укуталась в меха. Ей стало холодно, очень холодно в жарко натопленной комнате у открытой раскаленной печки.
– Конец света… – раздался в тишине чей-то тихий, дрожащий голосок.
Трубецкая кивнула.
– Да, за Читой начинается Ничто. Чтоб туда добраться, год не иначе понадобится, а то и более. Многие могут и не выдержать. Если кто захочет сейчас повернуть, пусть поторопится… Я еду дальше… Сударь, – обернулась она к смотрителю. – Ставьте самовар, а лошадям распорядитесь задать овес.
Через несколько часов сани вновь выбрались в снежную бурю. Они ехали в бесконечность, что ждала их.
К полудню они добрались до следующего почтового яма, утонувшего в снегу. И здесь в записях станционного смотрителя обнаружилась отметка: «Полковник Лобанов – особый курьер его императорского величества. Цель путешествия – Чита».
До самого вечера женщины отдыхали. Лошадей отвели на конюшню, растерли соломой, задали овса, добавив пива, дали пить.
– Нам не надобно менять лошадей, – сказал Мирон Федорович, когда смотритель посетовал, что где ж ему разыскать для такого количества саней новых лошадей. – Зачем нам ваши полудохлые мухи с гривами? Ты только глянь, братец, здесь же лучшие коняжки от самого Петербурга до китайской границы. Они отдохнут пару часов, а потом вновь помчат, быстрые, как горячий степной ветер.
– Да, лошадушки у вас породистые! – смотритель со знанием дела прищелкнул языком. – Но в Сибири-то они завянут, как розы на морозе. Они ж едят только лучшие корма, а вот соломкой с крыш или мхом побрезгуют. Воду предпочитают только чистую, а лед со стен лизать ну уж никак не станут. Ты мне вот что скажи, братец, как вы дальше собираетесь до Сибири добираться на таких лошадушках?
Мирон проворчал что-то невнятное во взлохмаченную бороду, лег в сено и подумал, засыпая: «А смотритель-то, каналья, прав. Нам нужны маленькие, выносливые клячи. Вот только где их взять-то? Куда ни приедем – до нас везли этап и всех отдохнувших лошадей забрали. Эх, Нина Павловна, Нина Павловна, стало быть, нас путешествие в геенну огненную ожидает…».
Наступил вечер.
– Это наш шанс, – сказала Ниночка, расталкивая спящих дам. – Пока наши мужья спят, мы будем в пути. У них отрыв от нас небольшой. Разве что в семь часов.
Сестрицы, вставайте, мы их нагоним. Что такое семь часов на пять-то тысяч верст?
Но это были часы в саване снежной бури, это были часы поломанных саней и волнения за трех больных женщин, оставленных метаться в горячке в маленьком городишке. Но все равно вперед, только вперед, сестрицы! Мы должны догнать наших мужей.
На шестой день, где-то уже под вечер, следы этапа, за которым столь упрямо следовали они, стали заметней. День был ясным, морозным, снежная буря прекратилась так же внезапно, как и началась. Зато поднялся ледяной ветер. Женщины ежились под меховыми одеялами, когда Волконская громко закричала:
– Они – здесь!
Мария Николаевна привстала в санях, торжествующе замахала руками. Вдалеке покрытые снегом поля прочертила тонкая линия: колонна идущих на каторгу!
Возки с женщинами остановились кругом. Из лошадиных ноздрей валил пар, мгновенно превращаясь на звенящем морозце в маленькие кристаллики льда. Кучеры накидывали на лошадей попонки из старых одежек.
– Ваши сиятельства, по глоточку бы только. Дозволяете? Столько времени в пути, заколели уже, для сугреву надобно бы.
– Поедем за ними следом, – предложила княгиня Трубецкая. – Да только на глаза караулу не объявляясь. Нечего с казаками допреж времени встречаться. Но сегодня все равно на той же станции почтовой придется. Ну и что? Ямы почтовые для всех существуют. Никто нас оттуда выгнать никакого права не имеет.
И они уже неторопливо пустились в путь по следам санного обоза этапников, ведавшего только одну дорогу: в Сибирь. В бесконечные дали тайги, в забвение…
Почтовый ям Новая Шарья располагался в двадцати верстах от Вятки, города, в котором заканчиваются все большие дороги. Оттуда было уже не так-то просто добраться даже до Перми, последнего крупного города европейской России. За Пермью возвышался великий пояс Каменный, Урал. А за поясом тем лежала Сибирь, бескрайние леса, широкие реки да болота.
Санный обоз с женами декабристов незадолго до полуночи добрался до Новой Шарьи. На балках уныло раскачивались на ветру фонари. Казаки стали лагерем за воротами почтового яма. Большой костер манил призрачным теплом, а дикие всадники сидели вокруг огня, пили и весело смеялись. Пара караульных кружила на низкорослых лошаденках вокруг почтовой станции, проверяя каждого, кто приближался к ней. К саням, в которых ехали женщины, понеслось сразу шесть казаков.
– Стой! – рявкнул один из них осипшим от мороза голосом. – Стой, кому говорят! Сюда не велено.
Мирон Федорович, правивший лошадьми первого возка, даже бровью не повел. Он вытянул длинную плеть, щелкнул ею над головами лошадей и крикнул:
– А ну, пошли, залетные!
Казачий патруль в немом удивлении уставился на взявших диким темпом лошадей. Наконец, вожак их выхватил саблю из ножен и поскакал вслед санному обозу.
– Стой! – вновь прокричал он. – Именем государя, стой, кому говорят!
– А государь далеко! – весело огрызнулся Мирон. Затем в азарте крикнул другим возницам. – Давай, братушки, покажем этим шелудивым! Пущай помнят!
Внезапно щелкнули все плети разом, лошади заржали испуганно, скованная морозом земля задрожала под топотом копыт. Мирон добрался до постоялого двора намного быстрее казаков. Глянул на вожака их, бородатого рябого парня, заметил злой огонек в его черных глазах и вновь взметнулась длинная кожаная плеть. Обернулась змеей вокруг тела казачьего – мощный рывок, и тот рухнул на заснеженную землю, как подкошенный. Тут подоспел и весь санный обоз.
Перед входом на почтовый ям сани остановились. Внутри царила страшная суета. Слышались громкие крики, раздавались команды, кто-то торопливо бежал куда-то. А потом в дверях сгрудилось с десяток солдат с ружьями наизготовку. Сквозь этот заслон с трудом протиснулся на крыльцо полковник Лобанов.
Когда-то в одной из стычек на границах, стычек, что вела Россия в то время непрестанно, Николай Борисович Лобанов потерял левую ногу. И тогда молодой офицер решил, что и на протезе можно ходить ничуть не хуже, чем на своей собственной ноге. И заказал протез. Но не такой простой, как у других инвалидов, а сущее произведение искусства, что сделал ему скульптор Суслов по особому наброску. На этой деревяшке были вырезаны древние старорусские руны, что поразили бы каждого, пожелай Лобанов выставлять свою ногу напоказ на какой-нибудь выставке.
Лобанов замер на мгновение в дверях почтовой станции, окинул взглядом санный обоз, увидел княгиню Трубецкую с Ниночкой и вздохнул тяжко.
– Ну, вот, дикие бабы аж из самого города Санкт-Петербурга по нашу душу пожаловали, – промолвил он, наблюдая за вылезающей из саней Ниночкой. Та бесстрашно двинулась к Лобанову. – Поздравляю, – и офицер склонился в шутовском поклоне. – Вы победили в гонках. Но если вы думаете, сударыня, что я возьму вас с собой через Урал, то это – трагическое заблуждение, мадам. – Он еще раз холодно поклонился Ниночке, а потом указал рукоятью нагайки на флигель постоялого двора. – Там каторжане, мадам, и мой долг доставить их в Сибирь. Всех. Политические каторжники, мадам… это – особый случай. Если бы то были воришки, убийцы, шулера всех мастей… к чему бы мне тогда заботиться о них! Коли кто из них и сбежал бы где-нибудь в тайге… да и пускай бы! Кто из них там устраивается в одиночестве дебрей, среди медведей и рысей, не опасен уже для общества. Но ваши мужья, мадам, они и за Читой останутся опасными. Вряд ли, в России-матушке кого-либо еще уважают поболее политических заключенных. Сударыни, ваш героизм делает вам честь, но здесь конец вашему путешествию!
– Это вы так решили, полковник?
– Да, именем государя.
– Где же наш милейший Лобанов? – раздался в этот момент голос княгини Трубецкой.
Лобанов вздохнул еще несчастней.
– Ну, вот, княгиня Трубецкая! Мадам, разве ж я мил? На моей совести много недостатков, но этот…
– Вы собираетесь испортить нам жизнь? – Трубецкая подошла ближе. Она была чуть меньше ростом полковника, но в расстегнутой меховой шубке и шапочке сейчас казалась выше, много выше.
Женщины начали доставать короба со всем необходимым для ночевки. Возницы охраняли сани от казаков, наползших на двор со всех сторон. Им явно хотелось отомстить за проштрафившихся своих товарищей. Всем уж начинало казаться, что вот-вот начнется кровавая потасовка. Уже повисли в воздухе ругательства. Какой же «правильный» кучер и не менее «правильный» казак не захватит с собой в дорогу сундучок с народным богатством – крепким словцом, – сундучок бездонный?
Полковник Лобанов скривил недовольно красиво очерченные губы, а Трубецкая спокойно заметила:
– Разве вы не собираетесь приказать вашим воякам угомониться? Или вы допустите кровопролитие? У нас кучеры сильные, откормленные.
– Мне известно, что милые дамы подготовились к долгому путешествию. Тем легче мне будет отослать всех вас домой.
– У вас, что, есть на то указ государя императора?
– Нет, такого указа у меня нет.
– А мы послушны только воле государевой! Он сослал наших мужей, вот мы и отправились за ними вослед, – Ниночка протиснулась мимо Лобанова ко входу на постоялый двор. – Коли вернет он наших мужей по домам, мы тоже вернемся. Для нас только одна дорога существует: та, которой идут наши мужья. К тому же вы не имеете права повернуть нас вспять, государь выправил нам подорожные.
Она рванула на себя дверь, клубы чадного дыма вырвались из нутра дома, печи на почтовом яме дымили нещадно, а потом влетела внутрь, гордая и прекрасная, стащила с головы платок и встряхнула длинными черными косами.
– Ниночка Кошина, – устало промолвил Лобанов. – Я помню ее еще ребенком, и что же с ней сейчас сталось.
Он подозвал офицера, отдал приказ навести порядок меж вовсю уже бранящимися казаками и возницами. Потом вновь повернулся к Трубецкой.
– Я знаю, что есть у вас особая подорожная царя, княгиня…
– Мне-то на нее наплевать! – перебила она. – Я об этом и его величеству сообщала, когда он отклонил прошения других женщин. Мне для меня одной никакой милости не надо. Поймите же, мы все хотим быть подле наших мужей; и никто нас не вернет. Даже силой.
Лобанов ничего ей не ответил на это. Лишь предложил княгине Екатерине руку.
– Могу ли я считать вас своей гостьей? Окажете ли вы мне честь отужинать вместе?
– Мы все – все женщины без исключения – отужинаем. А не я одна. Мы – сестры по несчастью.
– Коли б только по одному несчастью! – и Лобанов в третий уж раз за сегодняшний вечер тяжко вздохнул. – Княгиня, поверьте, когда я потерял ногу, я страдал куда как меньше, чем мучаюсь ныне.
– Вы страдаете из-за нескольких женщин?
– Я страдаю из-за дня завтрашнего, – и Лобанов галантно провел Трубецкую в большое душное помещение. Здесь никого, кроме двух офицеров, не было. Всех остальных путешествующих еще до прибытия каторжан разместили в другом флигеле, дабы не столкнулись в случае чего с мятежниками. За конторкой, где лежали станционные записи, стоял мрачный смотритель Алексей, нехотя поклонившийся вошедшим.
– А что должно завтра случиться? – спросила Трубецкая настороженно, невероятно испугавшись последнего замечания Лобанова. – Новые какие неприятности?
– Да нет, все будет, как обычно, – туманно отозвался Лобанов. То, что должно было действительно произойти завтрашним утром, тяжелой каменной глыбой лежало у него на сердце. Он подумал о каторжанах, что были когда-то офицерами, героями войны и лицами благородного происхождения. На заре затушат в них распоследние искры человеческого достоинства, уподобив их зверью, имеющему лишь право на то, чтобы дышать, есть да спать.
Где-то через час жены ссыльнокаторжан собрались за длинным столом, через неохоту пожевали пережаренную, жестковатую отбивную, запили разбавленным водой вином и собрались хоть пару часов, да урвать у сна. Трубецкая вновь подошла к Лобанову: ее волновала их дальнейшая возможность добраться до далекой пока что Сибири.
– Назовите мне хотя бы один закон, запрещающий свободному человеку путешествовать по России, куда ему вздумается. Даже если вздумалось как раз в Сибирь податься.
– А ваши лошади? – негромко спросил Лобанов. – Где вы собираетесь брать для них овес? Ваши благородные рысаки откажутся и от коры деревьев, и от лебеды. А большего вы за Уралом и не сыщите. Да и об жесткую траву летом они лишь морды себе повредят.
– Всегда можно найти других лошадей, Николай Борисович.
Лобанов окинул взглядом сидевших за длинным столом женщин и опустил голову.
– Да половина из вас быстро сгинет, княгиня, – прошептал он.
– Зато сгинем-то со спокойной совестью… Иначе наша долгая и благополучная жизнь там, в Петербурге, превратится в геенну огненную… Николай Борисович, скажите, что с моим мужем?
Лобанов пожал плечами.
– Он не сдается, не пал духом, а это многого стоит. А вот когда подумаю об этом борзописце Кюхельбекере… до чего ж сложный человек! Мечется в тесной одежонке, отказывается другую, по размеру, одеть и распевает детские песенки, когда с ним заговаривают. Меня так вообще «папенькой с отрезанной ногой» величает. Сумасшедший, как есть, сумасшедший! Он видит в Сибири не гигантский мертвый дом, а будущее всей России. Будущее, построенное на костях ссыльнопоселенцев… Нет, определенно, его не в Сибирь, а в желтый дом надобно!
В тот вечер Лобанов не успевал следить за беспокойными своими гостьями. Одни из них подыскивали себе место для сна, другие писали письма или оправляли потрепавшуюся за время дороги одежду, а тут вдобавок из Перми прибыл новый возок. От новоприехавших узнали, что дорога на Пермь и далее на Урал превратилась в пустыню снега и льда.
– Вот это зима, отец родной! – сказал один из новоприбывших станционному смотрителю. – Мы чуть в снегу не потопли. Я видел деревни, в которых из сугробов только трубы едва виднеются.
В этой сутолоке никто не заметил, как Ниночка вышла из комнаты и проскользнула на улицу. Прячась за санями, подобралась к флигелю, ставни на котором были заколочены намертво, а у дверей дежурил одинокий солдат в теплом тулупе. Борясь с холодом, он навязал себе на сапоги пучки сена, стоял, перетоптывался на крыльце, ежился.
Шорох, с коим мела землю длинная Ниночкина шуба, заставил его подскочить резво и предостерегающе вскинуть ружье.
– Кто здесь? Пароль! – крикнул он.
– Двадцать пять рублей, – отозвалась Ниночка негромко. И замерла в тени дома. Солдату было никак не разглядеть ее, но, услышав женский голос, он подуспокоился и опустил ружье.
– Ступай себе, барынька.
– Двадцать пять целковых за один лишь взгляд в окошко…
– Нет. Они меня тогда тоже на каторгу сошлют. А у меня жена, детишек четверо. Я ведь еще хочу с ними свидеться.
– Вот и сделаешь им тогда большой подарок – тридцать целковых.
Солдат воровато огляделся по сторонам.
– Я еще никогда не держал тридцать рублей в руках. Где ты, барынька? Ты только в окошко на них глянуть хочешь?
– И более уж ничего!
– Тогда поторопись. Там у четвертого окна ставенки как раз отходят. Кого ищешь-то?
– Лейтенанта Бориса Тугая, – Ниночка бросилась к окну. Солдат медленно плелся за ней по пятам. Он глядел на нее, и в глазах его разгоралось недоброе пламя. «Какая цыпа-то молоденькая!»
– Ну, что, здесь тот, кого ты ищешь? Вот делают баре рехволюции по-глупому. А их все равно в живых оставляют, как же-с, они ж благородия у нас, сиятельства. А бабенки их за ними по Руси шмыргают, как будто обоз свадебный! Святый Боже, что ж со всеми нами станется, коли мы на государя-батюшку так поплевывать станем! Коли б мужик на царя поднялся, его б терзмя изорвали, спалили да пеплом с помоями смешали… А этим что ж станется, – и он со злобой ударил кулаком по стене флигеля. – А ведь государя-то порешить собирались! И все равно живехоньки, деньжищ-то, поди, много, и от смерти безносой откупятся!
– Замолчи, – потребовала Ниночка. Впрочем, она почти и не слушала, что там солдат бормочет. – Пятьдесят рублей! – с этими словами она приоткрыла ставни и заглянула в темную комнату, освещенную лишь тремя свечными огарками. На полу, закутавшись в одеяла, сидели или лежали люди в обносках, мертвецки бледные от долгого заключения. Ниночка увидела Трубецкого. Он сидел рядом с Волконским и Луниным у стены и пил из какой-то жестянки кипяток. Лунин жадно грыз сухарь.
– Видит небо, – презрительно пробормотал солдат за спиной у Ниночки, – никакие они не иерои! У меня брат был, он в лесах под Бласковиной шайку из семи лихих людей в окружение взял. А ведь был солдатом, как я, разбойничков с товарищами отлавливал. И тут остался с лихими людьми один на один. Думаешь, что сделал мой Миша? Как начал саблей махать, головы с плеч у двоих злодеев срубил долой, еще одного заколол и уж только апосля этого замертво свалился, весь израненный. Вот он был иерой, брат мой Миша! А эти… нет!
– Да смолкни же! – Ниночка изо всех сил пыталась разглядеть Бориса в битком набитой этапниками комнате. Она почти задыхалась от страха. А что если его и нет здесь? Что если часть заключенных оставили в Петербурге, чтобы отправить затем по другому этапу? Неужто она потратила столько страшных дней лишь на то, чтобы вот здесь, сейчас узнать, что Борис-то остался в Петербурге?
– Ты давно с этапом этим идешь? – нервно спросила она солдата.
– С Питербурха.
– Лейтенанта Тугая знаешь?
– Я знаю только одного Тугая – каторжника и арестанца, – с неприкрытой ненавистью отозвался солдат и отставил к стене ружье. – Все они не иерои…
– Да мой муж куда больший герой и храбрец, чем твой Миша! – выкрикнула Ниночка. От отчаяния, что не найдет Бориса, она почти уже теряла рассудок.
– А вот этого не надо было говорить, цыпа, – ухмыльнулся солдат. – Не надо Мишу мово забижать, когда мертв он. Тут тебе и деньжищи твои не помогут!
Он вплотную подошел к Ниночке и заглянул через ее плечо в комнату флигеля. Его дыхание неприятно обжигало ее затылок.
– Будут потом сказы сказывать, как черная лебедушка собиралась купить солдата Ефима. А Ефим-то не поддался. Не вышло купить русского солдата.
– Да вот же он! – Ниночка впилась пальцами в деревянную ставню, жадно вглядываясь в Бориса. Тугай перетасовывал карточную колоду. Рядом с ним на полу лежал Муравьев. На предыдущей почтовой станции какие-то путешествующие узнали генерала и подарили ему из своего багажа новехонький светло-голубой фрак с золотыми пуговицами. Полковник Лобанов позволил Муравьеву надеть фрак на арестантскую робу.
– Вот же он сидит, – счастливо прошептала Ниночка. – Мой Борюшка! Посмотри на него, Ефим! Приноси ему хоть иногда хоть что-нибудь из еды… Я дам тебе сто рублей, чтобы ты смог покупать ему все необходимое. О, Борюшка, любимый…
Она все смотрела на Тугая и даже не заметила, что солдат прижался к ней вплотную. Только когда он рванул ее от окна, кусая в затылок, Ниночка поняла, что для солдата в этот момент важнее женщина, а не какие-то там сто рублей. Она сопротивлялась, пыталась вырваться из его грубых лапищ, да какое там.
Ефим только похохатывал в ответ.
– Чего дергаешься-то, цыпа? Ты покричи. Чего ж не кричишь? Боишься! Никто тебя здесь не найдет! Подергайся, подергайся, чертовочка! Кусить вздумала? А то кусай, кусай, мне лишь слаще будет. Пошли, там сеновал, соломка там мяконькая, как постели твои шелковые.
Он сдавил Ниночке горло, подхватил на руки и понес к сеновалу. Но до дверей не добрался. Огромная тень метнулась к нему, чья-то тяжеленная ручища легла Ефиму на плечо, а густой бас пророкотал:
– Мышь слоном не станет, а туда же. Придется тебе это понять, братушка.
Ефим выронил Ниночку. Та рухнула на колени, покатилась по снегу, судорожно хватая ртом воздух. Обездвижев от ужаса, глядел Ефим на огромного Мирона. Он хотел бы бежать, да разве убежишь из лапищ Мироновых. Быстрое, едва уловимое движение рукой, и голова Ефима безвольно мотнулась в сторону…
Спустя несколько мгновений кучер исчез за дворами почтового яма. Он перебросил убитого солдата через плечо, словно чучело соломенное, и зарыл чуть погодя на задворках в большом сугробе снега. До весны, когда расплавит солнышко заносы снежные, никто не сыщет мертвого Ефима, протянувшего свои грязные руки к Ниночке.
Ниночка ждала кучера на веранде. Она мелко дрожала всем телом, с ужасом глядя на Мирона?
– Что ты наделал? – заплакала тоненько. – Он… мертв, да?
– Вшей давить надо, – мрачно отозвался Мирон. – Ступайте к вашим, барышня. Ничего не произошло, вообще ничего… Вы просто дышали свежим воздухом. Доброй вам ночи, Нина Павловна.
Она молча кивнула головой, торопливо отвернулась от Мирона и побежала в дом.
ГЛАВА 8
Ранним утром из Перми подъехали четыре санные упряжки и остановились в Новой Шарье. Все еще спали. И только станционный смотритель Алексей и полковник Лобанов бродили по почтовому яму. За воротами станции пылали казачьи костры, конвойные двигались подобно маятнику в часах, так же неумолимо, так же печально.
Лобанов прочистил курительную трубку, с которой не расставался, и вышел на веранду. Кивком головы указал на только что прибывших из Перми. Несколько закутанных в тулупы человек выбрались из них и принялись отряхивать снег с одежды.
– Это они?
Алексей отвесил полковнику низкий поклон.
– Так точно, ваше благородие, это оне-с. Точнехонько, как вы приказывали-с и прибыли.
Лобанов чертыхнулся себе под нос и пошел к саням. Мужички сдернули с голов мохнатые меховые треухи и прижали к груди.
– Довольно ль с собой взяли? – грубоватым тоном обратился к ним Лобанов. – На всех-то хватит?
Один мужик важно кивнул в ответ.
– Не извольте сумлеваться, ваш благородь! Хватит! У нас завсегда с запасом. Пермь-то как-никак воротами поясу Каменному служит… там этот товарец ходовым считается, – и хохотнул невесело.
Лобанов подошел к первым саням. Поколебавшись мгновение, откинул полог дерюжчатый в сторону. На утреннем солнышке блеснули кандалы.
Добротные новые оковы. Цепи, достаточно длинные для того, чтобы не мешать широкому мужскому шагу, и достаточно тяжелые для того, чтобы тащить их было трудом нелегким через тысячи верст, сквозь дождь и бурю, звенящий мороз, густыми хлопьями падающий снег и немилосердно палящее солнце. Через леса и болота, по горам и бескрайним просторам.
Сибирь приветствовала свои жертвы звоном железа.
Полковник Лобанов торопливо отвернулся от саней.
– Стража! – крикнул он на всю станционную площадь. – Будите заключенных! Алеша?
– Да, ваше благородие? – мрачный смотритель сложился почти вдвое.
– Можно на время запереть женщин?
– А чегой-то нельзя, ваше благородие? Еще как можно-с! Это мы запросто!
– Тогда поторапливайся! Запри их.
Алексей резво бросился запирать все двери станционные. Пермяки взялись за уздцы и завели сани в сарай. Холодное зимнее солнце равнодушно следило за творящимся на земле.
Лобанов поджал губы. «Скоро Рождество Христово, – подумал он. – А потом как доберемся до Урала, они к оковам уже подпривыкнут».
Ему было по-собачьи тоскливо, хоть в голос вой.
Из флигеля, где содержались осужденные, послышались громкие крики раздаваемых команд. Конвой кричал:
– Быстрее! А ну, быстрее! Пошевеливайтесь, сучий потрох!
Появились каторжане. У Лобанова на мгновение обмерло от боли за них сердце, когда он увидел их, в заношенных робах, с попонами на плечах, невыспавшихся, грубо вырванных из сострадательного забытья такой короткой ночи, гонимых, словно стадо на бойню.
Пермяки в сарае испуганно жались к саням. Пока что железа были прикрыты дерюгой, но генерал Муравьев внезапно почуял недоброе, крикнул отчаянно:
– Братцы, они еще какую-то пакость над нами удумали! Вы только гляньте на те рожи разбойные!
– Мы всего лишь честные ремесленники, свое дело знаем, – обиженно отозвался один из пермяков. – Наша ли вина, что вас в Сибирь погнали? Нам за работу платят, человеку деньги нужны, чтобы жить.
Заключенных согнали в сарай, ворота закрыли. Полковник Лобанов поставил у сарая группу вооруженных до зубов солдат.
– У меня для вас сообщение, господа! – крикнул Лобанов, устраиваясь на облучке первых саней. Нестерпимо болела нога. – Мы почти добрались до Урала. За ним начнется Сибирь.
– Урок географии тоже входит в наше наказание? – хмыкнул кто-то из декабристов.
Полковник Лобанов вздохнул. Он глянул на Трубецкого и Муравьева, стоявших в первом ряду, и внезапно почувствовал, как сжимается горло от болезненного спазма.
Полковник махнул головой пермским кузнецам, и те сдернули дерюгу со своего товара. В слабом свете блеснули новехонькие кандалы.
На мгновение в сарае воцарилась мертвая тишина. У заключенных перехватило дыхание, солдаты покрепче сжали приклады ружей.
Вот оно, сейчас раздадутся крики ужаса. Сейчас полетят в небо к Богу проклятия, стоны, плач людской.
Они даже не шелохнулись. Молча смотрели на груду цепей. А потом в полнейшей тишине Муравьев произнес очень тихо и спокойно:
– Я никогда не надену на себя эти украшения.
Полковник Лобанов глянул на Муравьева и с досады стукнул кулаком по деревянному своему протезу.
– Я тоже вот ношу это украшение во славу России…
– Вы потеряли ногу в бою!
– А вы заработали железа в революции.
– Но я – офицер! – сорвавшись, закричал Муравьев.
– Вы были офицером, граф. А теперь вы ссыльнокаторжанин, – Лобанову стало нестерпимо жарко. Он должен быть суров с ними! – Выходите по одному! Штанину задрать! Сесть на козлы.
Никто даже не шелохнулся.
– Люди, – устало произнес Лобанов. – Не вынуждайте меня поступать с вами бесчестно. Так должно быть. Идите же! Вы знаете, что такое приказ. Приказ не оспоришь ни сердцем, ни разумом. Приказы должно исполнять. Я прошу вас, я прошу вас всех…
– Он прав, – князь Трубецкой первым шагнул из толпы. – Нет смысла сопротивляться. Мы больше не вольны в себе. Мы должны повиноваться. Будем же благоразумны, господа.
Он сел на козлы, закатал брючину и закрыл глаза. Кузнец схватил цепь. Замки щелкнули. Трубецкой все сидел. Рот его чуть приоткрылся, как будто князю не хватало воздуха, ему казалось, что по ногам его бегут ледяные мураши, полностью парализуя все тело.
– Следующий, пожалте, – равнодушно произнес кузнец-пермяк. Он заковал в железа не одну сотню осужденных. Он пережил и ругань, и проклятия, и угрозы, слезы и молитвы… Для него эта работа была такой же обыденной, как и любая другая. То ли лошадь подковать, то ли человека упаковать в кандалы – да какая, в сущности, разница?
Трубецкой медленно поднялся. Запинаясь сделал пару шагов. Тяжелая цепь билась о землю. Князь с трудом поднимал ноги и вдруг покачнулся. Борис Тугай рванулся вперед, подхватил Трубецкого и отвел в сторону.
– Сколько ж они весят-то, – жалко улыбаясь, пробормотал Трубецкой. – Это ж на весь мир позор и отчаяние, к ногам привешенное.
Он оглянулся на Муравьева.
– Давайте, теперь вы, граф…
И Муравьев не стал сопротивляться. В своем новеньком фраке он подошел к козлам и осторожно присел на них. Кузнец равнодушно глянул на генерала.
– Штанину-то задери, барин, – сказал он.
Муравьев упрямо покачал головой.
– Давай на порты. Украшения, тем паче, такие, на одежде носить надобно. Кроме того, твои железа куда более проносятся, чем портки.
Раздался звон, словно по жизни их погребальный, и Муравьева охватило то же самое чувство, что и Трубецкого. Он поднялся с козел, подхватил цепи обеими руками, прижал к груди и, мелко семеня ногами, вернулся к товарищам.
Кто-то забарабанил в ворота сарая. Солдат чуть приоткрыл створки, и в щель пробрался станционный смотритель.
– Помогите! – закричал он. – Мне помощь надобна, ваше благородие! Женщины… Да какие ж то бабы, чертовки сущие! Я их, бесиц, запер, как вы приказали, и теперь они дом громят. В окнах стекла уж повыбили, и за мной с поленом по залу гонялись. Силу б применить надо. Идемте же, господин полковник, а то даже казачки ваши это бабье окаянное боятся! Кабы чего не вышло!
Лобанов оглянулся на декабристов. На четырех из них уже были надеты железа, на козлах как раз устраивался конногвардеец, лейтенант Тугай.
– К чему все это? – вымученно вздохнул Лобанов. – Вот к чему мне еще и бабий мятеж? Что с того изменится-то? Только силы потратят, а они им ой как надобны.
И вышел во двор вслед за станционным смотрителем.
Где-то через час все было кончено. Громкий, жутковатый перезвон зазвучал в сарае: каждое движение ноги – и оковы начинали свой поминальный перепев.
Дамы на постоялом дворе худо-бедно успокоились не без твердого вмешательства Лобанова. Они собрались у трех разбитых окошек и замерли в ожидании появления своих супругов, высоко подняв меховые воротнички шубок. Но пока что во дворе сновали одни только казаки.
Наконец, во двор согнали возки. На другом конце почтовой станции сгрудились сани жен мятежников, закутанные в теплые тулупы возницы тоже уже были готовы к спешному отъезду. Стоял ясный морозный денек; снег скрипел под ногами, словно битое стекло.
Фельдфебель Поздняков уже битый час со страшной бранью носился по двору в поисках пропавшего бог весть где солдата Ефима. Но никто его не видел. Стоял себе подлец на часах, а назад не вернулся. Как сгинул. Впрочем, Ефим в охотку прикладывался к горячительным напиткам, так что все как один были уверены в том, что негодяй спит себе где-нибудь мертвецким сном, зарывшись в прошлогоднюю солому.
– Или же в бега подался! – прорычал Поздняков. – Дурачина, ведь поймают да вздернут без разговоров, как пить дать, вздернут!
Створки ворот сарайных медленно распахнулись. Казаки схватились за сабли.
– Выходят! – раздался восклик из женской толпы. – Наши мужья выходят!
Сначала, впрочем, показался полковник Лобанов. Прохромал по забитой санями площади. Денщик набросил на него теплую, подбитую мехом шинель и подал треуголку. Потом из сарая вышли несколько солдат и встали слева и справа от ворот.
– Что все это значит? – шепотом спросила Ниночка у княгини Трубецкой. Ее худенькое личико раскраснелось от волнения и напряжения: ведь каких-то полчаса назад она вместе с двумя женщинами пыталась выбить двери постоялого двора тяжелым обеденным столом.
– Парад в преисподней! – Трубецкая прижалась лбом к заледенелой оконной раме. – А ведь я это предчувствовала, Нина Павловна. Случайно я видела однажды, как этапируют заключенных в Сибирь. Я проезжала тогда мимо. Они шли по четверо в одной связке, бесконечный такой обоз. А на ногах у них… – У княгини вдруг сорвался голос, она махнула рукой в окно и заплакала. – Смотрите сами!
Пронзительный, за душу хватающий вой раздался из толпы.
Появились осужденные. Но еще до того, как они их увидели, они услышали ужасный звон цепей. Поддерживая друг друга, декабристы выходили из сарая, волочились по снегу цепи. Словно люди, отвыкшие от яркого света дня, они щурились, вертели головами по сторонам, глядели на жен и, казалось, не узнавали их.
Муравьев прижимал железа к груди. Он понял, что так куда лучше передвигаться, чем когда кандалы всей тяжестью тянут к земле. Но тогда уставали руки, когда же цепи обледенеют на трескучем морозце, холод будет обжигать ладони, словно огнем.
Страдальцы молча брели к широким саням, с трудом залезали в них. Несколько солдат помогали им, поддерживали цепи, подсаживали, как могли.
– О, Господи, почему ж ты дозволил такое! – простонала Ниночка. Она дрожала все телом. – Пощади их, Господи, пощади…
– Господь Бог давно позабыл о Сибири, – зло отозвалась Трубецкая. – И вообще, на помощь надейся, а сам не плошай.
Они смотрели, как их мужья забираются в сани, натягивают на себя одеяла. Борис искал глазами Ниночку. Увидев ее у окна, вскинул руку, помахал почти счастливо. Из конюшен выехали тяжело груженные сани с провиантом. Было и так уж понятно, что на почтовой станции этап оставаться не будет, да скоро и не будет их, этих самых почтовых станций. Полковник Лобанов попрощался со смотрителем Алексеем, посоветовав тому на прощанье сообщить начальству своему об уроне, что причинили женщины во время постоя. Казаки уже сидели на конях.
Увязая в снегу, Лобанов подошел к окну, у которого замерли Трубецкая и Нина.
– Не проклинайте меня, сударыни, – сказал он, криво усмехаясь. – Я лишь выполняю свой долг. Меня никто не спрашивает, что я думаю, что я чувствую. А еще мой долг сказать вам, что на четыре сотни верст с гаком почтовых станций больше не будет. Провианта у меня хватит только на этап. Даже солдатам и то придется потуже затянуть пояса. Вашего появления, милые мои дамы, никто среди нас не ожидал.
– Да уж не пропадем, – гордо вскинулась Ниночка. – Я стреляю ничуть не хуже ваших солдат.
– Ну, если воздух расстреливать собрались, сыты не будете, – Лобанов отсалютовал дамам, бросил на них еще один долгий взгляд и подумал: «На сколько ж хватит их мужества? Сколько из них доберется до Читы, этой столицы каторжан в Южной Сибири?».
Он взобрался в сани, закутался в теплый меховой полог. Казаки построились, сани с солдатами уже давно ждали за воротами. К крыльцу подтянулись возки жен декабрьских мятежников.
– Колонна, марш! – крикнул Лобанов.
Сани легко заскользили по снегу. Смотритель стянул с головы треух, низко поклонился и крикнул вдогонку:
– Храни вас Господь! Возвращайтесь!
– Сколько у нас еще провианта? – спросила Трубецкая.
– Если будем экономить, то на четыре дня хватит, – вздохнула Ниночка.
– Верно ли, что вы можете стрелять?
– Я была на всех охотах вместе с моим отцом, – Ниночка, не отрываясь, смотрела на облако снега, поднятое этапом. «Борюшка, – думала она нежно. – Мы еще покорим Сибирь!»
– Мы должны помнить о том, – задумалась Трубецкая, – что в Сибирь пропустят только нас, женщин, а вот слуг вполне могут вернуть по домам.
– Ну, так сами с лошадьми управимся.
– Ни одну из нас этому не учили.
– Вот и научимся! – Ниночка запахнула шубку. – Княгиня, времени у нас много, вся земля открыта перед нами, научимся уж обращаться с поводьями да кнутом. В общем, так, садимся на облучок рядом с возницами. До Урала управлять санями как-нибудь научимся.
Пять дней пробирались они по снежным завалам на трескучем морозе. Пять ночей без передыху провели в санях, зарывшись в солому и замотавшись в одеяла. Пять одиноких дней и ночей на земле, вымершей под белой снежной периной. Ни деревни на пути, ни одинокого домишки, ни зверя, ни человека – только одичавшие дали, молчащие скорбно леса, скалы и дорога, дорога, дорога без начала и конца, ведущая в Сибирь. В девственные земли, по зиме превращающиеся в бездонную белую могилу, весной, когда Обь и Иртыш выходят из берегов – в водную пустыню, летом – в кипящую, скворчащую сковородку, а по осени же – в ночной горшок в предутренний час… Все здесь чрезмерно, все выходит за грани очевидного, все непостижимо в своей красоте и отчужденной враждебности.
Лошади, благородные животные с лучших конюшен, стали первыми, чьи силы оказались не безграничны. Они не выдерживали убийственной скорости, на которой казаки этапировали эту партию каторжан, сделались кожа да кости, словно древние одры, едва лишь тянули сани, спотыкались и жалобно ржали.
Во время остановок Мирон Федорович подсчитывал лошадей, что не смогут добраться до Уральских гор ни при каких обстоятельствах. Таких было много: четырнадцать голов, при переходе через горы они падут. Чудом было уже и то, что до сих пор им удавалось тянуть сани.
– Беда с ними, ваши сиятельства, – пожаловался кучер Ниночке. – Нам новые лошаденки надобны. Дай-то, Господи, чтоб добрались мы хоть до какой захудалой деревеньки, иначе все сгинем.
На следующий день Мирон послал нескольких кучеров на разведку. А пока сани сцепили по двое, чтоб смогли их тянуть три лошади. Тогда одна лошадка могла отдыхать. Но разве ж то было выходом из положения страшного? Лошадей они практически загнали. Безумием было эдакое путешествие. Задние сани постоянно сбивались с пути. Они теряли время и силы, пытаясь нагнать колонну этапированных.
Как и предложила тогда Ниночка, женщины теперь поочередно сидели рядом с возницами на облучке, обучаясь ремеслу править лошадьми. А Мирон начал из трех женских нарядов кроить для себя одежку и во время отдыха тайком примерял на себя всю эту «срамотишу». Случайно заставшая его за сим престранным занятием, Ниночка глянула на своего кучера, проглотив язык от удивления.
– Коли правда то, что только бабам в Сибирь дозволен проезд будет, барышня, – объяснил немного смущенный кучер, – то и я бабой стану. Я ж клятву дал с вас глаз не спускать.
– Но Мирон! – верность великана до слез растрогала Ниночку. – Сразу же поймут, что ты мужчина!
– Кто поймет-то, барышня? Кто ж это удумает мне под юбку заглядывать? – и он прошелся в почти готовом уж наряде, слегка раскачивая бедрами. Разочарованию его и обиде не было предела, когда Ниночка со смехом пошла к подругам. – И ничего-то смешного нет, барышня, вот ничуточки!
На десятый день вернулись разведчики. Чуть в стороне от дороги лежала маленькая деревенька, занесенная снегом почти до крыш. И только дымок из труб говорил о том, что там переживают зиму люди, уподобившись медведям в берлогах.
– Там наверняка коняжки имеются! – возликовал Мирон. – Далеко до деревни-то? Двадцать верст? Ладно, денек потратим, мы этап на свежих клячах быстро нагоним. Давайте, братцы, едем!
Женщины дали Мирону кожаный кисет, доверху забитый царскими червонцами, а Трубецкая даже стянула с пальца дорогое кольцо. А потом слуги ускакали. Сани согнали в круг, разожгли костры, впервые за десять дней пути они могли отдохнуть по-настоящему. Достали котелки, нагрели воды, почистились, а потом все-таки решились сделать то, чего до сих пор страшились ужасно, а в жизни своей прежней, петербуржской, и представить бы не смогли: пристрелили несчастную, едва передвигавшую ноги лошадь, для которой дальнейший переход был бы мукой мученической.
Катенька Трубецкая с головой зарылась в санях в солому, когда пристрелили ее коня. Когда-то этот конь, покрытый пурпурной попоной, гарцевал на императорских парадах. Теперь в самой глухой окраине Европы в снегу лежал тощий одр, для которого выстрел в голову означал долгожданный отдых. В вечности.
Вечером вернулись Мирон и другие слуги. Они привели четырнадцать маленьких степных лошадок, лохматых зверушек, довольных тем, что удалось им выбраться из стойла в тесных конюшнях.
И на следующее утро они двинулись дальше. Маленькие лошадки бежали, почти не касаясь земли копытцами, и казалось, что летят они по заснеженным полям.
– Хой! Хой! – весело кричал Мирон. – А ну, вперед, сладкие мои! Давайте, лапушки! С вами мне и Сибирь не страшна!
На перевале солдаты и каторжане разбивали лагерь. Полковник Лобанов взобрался на удобный выступ скалы, с которого была видна как на ладони вся долина. Рядом с ним стояли Трубецкой, Муравьев, Волконский, Тугай и молча смотрели вниз. Замерзшие реки щурились в лучах вечернего солнца. Если бы не леса, долина б просматривалась еще лучше. А так – леса, снег и молчание. И более уж ничего.
– Да, господа, это – Сибирь, – с удивившей его самого дрожью в голосе выдохнул Лобанов.
Ссыльнокаторжане молчали. Пошевелишься чуть, зазвенят тоскливо железа. А так, так они почти что привыкли к железной своей ноше, и, чтоб не тяжело было, брали пример с Муравьева. Подхватывали цепи в руки, и шагалось им тогда куда как легче.
– И что теперь? – спросил Борис.
– Нам – туда, дорогой вы мой, – Лобанов махнул рукой в сторону долины. – Там, внизу, вновь начнутся почтовые ямы, появятся дворы постоялые. Мы и так пять дней потеряли, – вздохнул полковник. – Все в обход, да в обход идти-то приходилось.
– Это к чему? – насмешливо спросил Волконский. – Чтобы показать нам красоты местного края?
– Те места, которые нам обходить пришлось, ныне неспокойны. Там вы могли бы найти сочувствующих вам и вашему делу. Возможны были б столкновения. Там поселения помилованных государем ссыльных. Да и владения Строгановых тоже там. Какой дурак поведет через те земли такой этап, как ваш?
В тот вечер полковник беспокойно метался по лагерю, все поглядывая на дорогу. Он уже успел как-то привыкнуть к тому, что на приличном расстоянии за этапом следуют сани с женами мятежников. Но на этот раз их не было видно. Пропали?!
Когда из долины подкралась ночь, Лобанов велел запрячь лошадей в сани и поехал на поиски. Но санного обоза так и не увидел, ни звука вообще не доносилось до него. А потом издалека ветер принес тоскливый вой одинокого волка.
Лобанову стало страшно. Нет, волки путницам были почти не опасны – на такой крупный обоз они нападать, вряд ли, что осмелятся. Да и возницы у дамочек хорошо вооружены. Но то, что их не видно, пугало…
Полковник вернулся в лагерь и послал на поиски пропавших казачий наряд.
– Как только вы их увидите, сразу же возвращайтесь. Им вас обнаруживать вовсе даже не обязательно. Иначе еще чего доброго удумают, что мы о них беспокоимся. С дур-баб и не такое станется!
На следующий день пополудни – этап по приказу Лобанова шел в сей день на удивление неторопливо – казаки заметили санный обоз с женами осужденных. Они сразу же повернули коней и пустили их рысью. Лобанов вздохнул с видимым облегчением.
– Ладно, теперь пойдем на обычной скорости. Давай, гони! Сибирь сонным распутехам не покорится!
Над головами маленьких лошадок свистнули плети, полозья со скрипом катили по снегу. В Сибирь…
Когда женщины достигли перевала, они велели остановиться. Выбрались из саней и, как недавно их мужья, замирая сердцем, вглядывались в бескрайние леса.
– Давайте помолимся, – прошептала Мария Волконская, женщина набожная, светящаяся изнутри потаенной неугасимой силой. – До сих пор Господь помогал нам, поддерживал в трудные минуты. Да пребудет с нами милость его до конца пути…
Они зажгли свечечки, поставили в снег и опустились на колени. А слуги на облучках сдернули лохматые треухи и перекрестились истово.
Склонив головы, тихонько молились женщины.
– Дай нам силы, Господи. Видишь, мы почти уж до Сибири добрались. Помоги нам отогреть ее силой любви нашей… Помоги растопить снег ненависти и отчуждения…
… Одинокий безымянный странник остановился на краю горного выступа. Вот он каков, Пояс Каменный!
Урал! Значит, и сюда он уже добрался. Скорбный дух не давал ему покоя. Он бросался на колени, выстаивал еще в Саровской обители долгие часы перед образами, но лики молчали. Он должен был сделать что-то, что избавило бы его от тяжелых дум и размышлений, осознания своей тяжелейшей вины и осознания неугодности Провидению…
А потому он шел в Сибирь, шел по следам двух страннейших обозов. Вся эта снежная круговерть, непогода и завывания ветра напоминали одинокому путнику иную картину, иной гнев пробужденной стихии.
Он тогда в ботике прошел по черной воде Невы до маленького домика кровавого преобразователя России. Скромный маленький домик Петра притягивал его взгляд. На старой замшелой березе возле самого домика висела икона Богоматери, висела высоко, метрах в трех от земли. Поговаривали, будто сам царь Петр решил повесить икону на отметке, до которой доходила вода в сильные наводнения.
Он в задумчивости постоял перед иконой, перекрестился на темный суровый лик Богоматери и словно бы по наитию оглянулся на воду. Черная вода как будто крутилась водоворотом. Да что там, она текла вспять.
Он не испугался тогда, как не боялся и ныне снежной стихии, снежного безграничного океана одиночества. Когда прибыл он тогда к себе, вода уже растекалась по мостовым, опоздавшие экипажи проезжали, взбивая брызги воды, словно стеклянные крылья. Волны с моря шли сплошной полосой, заливая набережные, сталкивая лодочки и суда, унося с собой деревья и вырванные с корнем кустарники. Мороз тоже валит деревья. И смерть на морозе так же страшна, как и в обезумевшей воде.
Он смотрел с балкона на разбушевавшуюся черную воду, усыпанную обломками, деревьями, телами первых погибших, и со страхом думал, что лишь из-за одного него наслал Господь бедствие на столицу страны. И искал, искал в душе своей вины.
Ударила очередная волна, вышибла двери парадного входа, и он со страхом увидел вплывавший в двери большой полусгнивший деревянный крест. Стершиеся вырезанные неумелым художником надписи на кресте резко выделяли только несколько букв – А и Р, слегка покосившиеся на сторону.
Словно само Провидение посылало ему этот символ смерти.
Отречься, уйти, если Бог так рьяно указывает на его грехи, если посылает одно за другим знамения. Уйти старцем с посохом за плечами. Уйти, как покаяться, чтобы спасти свою бессмертную душу. Уйти в Сибирь…
Поправил котомку за плечами и побрел вслед за теми, для кого его уход обернулся трагедией.
ГЛАВА 9
Переход через Каменный Пояс к низовьям реки Тобол был просто мучителен.
Сани переворачивались, еще несколько лошадей пало от истощения, одна из дам сломала руку, а Мирон Федорович без конца ссорился с другими кучерами, страшившимися продолжать этот спуск в преисподнюю. Они боялись тайги, почти теряя рассудок от недобрых предчувствий: отсюда им уж никогда не вернуться в родные края!
Теперь оба обоза ехали вплотную друг к другу. И, казалось, что все они, даже женщины, идут по этапу. Длинная цепочка саней змеилась к Тоболу в окружении конных казаков.
Они ехали по тем землям, где здорово пошаливали разбойнички. Почти каждую неделю здесь пропадал то один, то другой купеческий обоз. Полковник Лобанов волновался: ведь он перевозил в Сибирь не одних только мятежных декабристов, но и три ящика, доверху набитые царскими червонцами, назначенными на строительство новой колонии на юге сибирских земель, нового опорного пункта империи, заселенного бывшими заключенными острогов.
– Будет лучше, если мы станем держаться друг друга, сударыни, – обратился Лобанов к женщинам, пока казаки разбивали последний перед Тобольском лагерь. – Я и так превышаю данные мне государем полномочия, мне бы следовало гнать вас как можно дальше от каторжан, да что с того проку! Царь-то далеко. Я только об одном прошу вас: никаких контактов с вашими мужьями! Никаких там сближений и разговоров. Не злоупотребляйте моей добротой, сударыни. Она тоже – увы! – не безгранична.
Оказалось, что Лобанов был куда великодушнее, чем и сам хотел казаться. После Тобольска он выделил свежих лошадей на все сани, пополнил запасы провианта, кое-что добавил лично от себя, а потом позволил, чтоб на полевой их кухоньке не только солдаты хозяйничали, но и женщины. И на больших лагерных кострах зашкворчало что-то особенно вкусное, задымились котлы с супом. И даже казаки весело причмокивали губами:
– Давно мы так славно не едали! Вот ведь как вкусно! Словно на святые праздники!
На каждой стоянке солдаты и ссыльные выстраивались в длинную очередь, держа в руках котелки, ждали своего череда около божественно пахнущего котла. Во главе этой очереди становился полковник Лобанов, с усмешкой приговаривавший каждый раз одно и то же:
– Вот сия вкуснятина может меня даже с Сибирью примирить. Ниночка Павловна, а подайте мне порцию побольше этой вашей удивительной каши. Ох, пресвятые угодники, да вы ж меня на старости лет в обжору превратите!
Ну, и как в такой обстановке не переброситься парой слов с любимыми? Вот только, что, что сказать им? Просто заглянуть в глаза и спросить вечное: «Как ты? Железа не натирают? Голову выше, дорогой! Коли мы будем вместе, нам и тайга не страшна. Терпи, путь нам долгий отмеряй. Кто знает, может, прибудем на место, а там уж курьер царский дожидается, чтоб в Петербург вернуть».
Всякий раз говорилось одно и то же, но даже самые затасканные слова вдыхали в измученных людей новые силы. Потому что за занавесом слов стояла любовь, невероятная, нерушимая любовь, преодолевшая горе и страдания и не страшившаяся самой смерти.
Почти всю первую половину дороги в Сибирь князь Трубецкой ни на что не обращал внимания. Его спутники снова и снова спорили о том, стоило ли им вообще выходить на Сенатскую площадь, обвиняли его чуть ли не в измене и предательстве, говорили, что он, согласившийся стать диктатором восставших, не выдержал своей роли, испугался…
Князю Трубецкому не было дела ни до чего. Все стояло и стояло перед ним милое Катенькино лицо, ее подернутые влагой слез глаза, нежные щеки, прихваченные сейчас морозцем, ее пухлые по-детски губы и он ругал себя за то, что не успел на воле вдосталь нацеловать эти губы и щеки. Как он жалел сейчас, что был всегда немного сдержан и холодноват, что не слишком баловал свою Катеньку. Он прекрасно понимал, что вышла она за него не по страстной любви, и только теперь увидел всю ее. Увидел, какой любовью и смирением проникнуты все ее помыслы, как любит она самое несчастье свое, как стремилась она тогда проникнуть в крепость и быть вместе в самые горькие для него минуты. Вот и сейчас она, милая, рядом. Никогда и не предполагал князь Трубецкой такой преданности и верности, никогда не понимал ее души, доступной лишь глубокому искреннему чувству преданности, верности и любви.
Теперь князю казалось, что он всегда был немного эгоистом, что женился он по страстной любви, не слишком-то обращая внимания на ответное чувство, но теперь понял, что Бог соединил его с Катенькой недаром, что в горе увидел он, каким сокровищем вознаградил его Творец.
«За что милость Твоя, Господи, мне, презренному, – думал он, стоя в очереди за хлебом. – За что эта женщина может быть так верна и преданна мне, чем заслужил я благодать эту?»
Она вложила в его загрубевшие руки краюху черного хлеба, ласково сжала на мгновение пальцы и прошептала:
– Держись, друг мой…
И он не слышал ничего, кроме звуков этого голоса, не слышал, что говорили его спутники по несчастью, ржавый стук кандалов не отвлекал его от своих дум. Тих и задумчив был князь Трубецкой во все время пути…
– Держись, друг мой…
Они добрались до Томска, миновали Вашнюянские болота, ехали по бескрайним лесам, пробирались по льду богатырши Оби и, наконец, попали в те земли, где жили киргизы, дикие, с раскосыми глазами и желтоватыми широкоскулыми лицами. Дикари оказались добродушны и на редкость гостеприимны. Они обнимали ссыльнокаторжан, называя их братьями, и воровали по ночам все, что плохо лежало и просто случайно попадало им под руку. Полковник Лобанов быстро понял, что коли дело пойдет так и дальше, очень скоро им самим придется впрягаться в сани. А потому велел прихватить с собой с десяток киргизов.
– За каждую покражу я велю расстреливать одного из них! – рявкнул он на местных жителей. – А когда пристрелим десятого, велю еще новых привести, ясно?! Воруйте вон у Строгановых, хоть колбасу с бутерброда. У них всего навалом. А нас трогать не сметь, мы – бедные солдаты.
Киргизы о чем-то посовещались друг с другом. И на следующий день привезли заключенным сухое мясо, рыбу и горшочки с засоленными овощами.
– Вот видите, сударыни, – довольным тоном заметил Лобанов, когда на ужин ему подали жаркое с тушеной капустой. – Все это – тоже Сибирь. Здесь у людей душа широкая… и на добрые дела, и на злые.
В тот вечер, на переходе между Кизой и Моховской, неподалеку от великой реки Енисея, Ниночка и Борис прихотью судьбы впервые за все это долгое время свиделись наедине друг с другом. Река замерзла не вся. Лобанов разослал казачьи патрули вдоль русла ее на поиски деревни, жители которой бы показали этапу, где можно безбоязненно переправиться через Енисей.
Почтовый двор, где они остановились, был совершенно пуст и заброшен – нечто совсем уж необычное. Станционный смотритель с тоски и отчаяния записал в конторской книге:
«Девятое февраля 1827 года. Бог с ними, кто стремится в эти края. А я уж более не выдержу этого бытия. Я рыдаю от одиночества, боюсь, что скоро потеряю рассудок мой окончательно. Простите меня все – но я иду туда, где еще есть люди. С собой забираю четырех лошадей. Последних живых существ я видел четырнадцать дней назад. Кто же выдержит такое одиночество, год за годом, год за годом? Да смилуется надо мной Господь, я – человек неплохой, я просто отчаялся…»
– Отчаялся он! И вот в результате мы здесь и даже не знаем, что делать! – Лобанов, прочитав это письмо, перешел на яростный крик. – Перед нами Енисей, и никто не сможет сказать нам, как мы переберемся на другой берег. Болван сбежавший! Кто становится почтмейстером на сибирских просторах, должен уж соображать, что его здесь ожидает!
И вот сейчас, незадолго до прихода усталой ночи, Ниночка отправилась на поиски Бориса. Она разыскала его за грузовыми санями. Тугай стоял подле небольшого деревянного чурбака и колол дрова для лагерных костров. Увидев Ниночку, Борис отбросил в сторону топор и качнулся в сторону жены.
– Ниночка… – прошептал он.
– Борюшка…
Они кинулись друг к другу в объятия, они целовались, как сумасшедшие. Вечер был пронизывающе-ледяным. С севера задувал яростный ветер, бросался в лицо снегом. Если ветер усилится, им останется лишь одно средство: съежится под одеялами и ждать, ибо природу не поторопишь, она сильнее человека.
– Как же я ждал этого мгновения! – прошептал Борис. – Видеть тебя такой близкой и такой недосягаемой… вот настоящие мучения. Ниночка… – Он вновь поцеловал ее, она обхватила одной рукой его за шею, второй расстегивая шубку и запахивая ее вокруг себя и Бориса.
– Ты не замерзнешь, дорогой? – спросила она. – Твой сюртук, этот треух, старые сапоги… ох, ты, верно, замерз!
– Не так уж это и страшно, – горько усмехнулся Тугай. – Ты Кюхлю нашего видела? Ему цепи ноги до костей уж растерли. А у Бестужева с кулак детский болячки: железа к ногам примерзли, а он их отдирать вздумал, вот и… Если так и дальше пойдет, многие из нас до Читы не доберутся.
– Не думай об этом сейчас, Борюшка. Чувствуешь, твоя жена здесь…
Ветер сделался еще злее, еще неистовее, все бросал в них пригоршнями снега со всех сторон. Лохматые лошадки жались друг к другу, свесив понуро головы. Лобанов бегал по заброшенной почтовой станции и кричал, чтоб все забирались в сани, тушили костры. Его не видели, не слышали – лишь плач ветра отчаянный, несущийся из-за реки.
– Идем, – выдохнул Борис Тугай, – здесь, в санях, теплее, здесь нам никто не помешает.
Он приподнял заснеженный полог, помог Ниночке взобраться внутрь, залез следом. Запахнул полог вновь, прикрыл их сверху одеялами.
Они лежали между ящиками и мешками с картошкой, овощами, зерном и сушеной рыбой. Здесь было тепло и даже удобно, и они перестали контролировать себя. Снаружи жутко ревела буря, сильные порывы ветра раскачивали сани, словно утлую лодчонку в яростно буйствующем море.
– Я люблю тебя, Борюшка… – Ниночка распахнула шубку. Борис прижался лицом к ее груди, жадно вдыхая запах ее тела и ласково поглаживая жену. Нежность, захлестнувшая его, не поддавалась описанию, в эти мгновения Борис сделался немым, безъязыким. Они молчали, они лишь чувствовали, сходили с ума от страсти и забывали обо всем на свете.
Буря ярилась, казалось, что вот он, пришел конец света, снег заметал сани. И только два человека не видели и не слышали, что творится вокруг. Они не слышали ни рева ветра, они не чувствовали ни холода, ничего. Они ощущали только жар пылающих от любовной горячки тел.
Это была их первая брачная ночь – в сене, между мешками с луком и мороженой картошкой, ночь любви под венчальный аккомпанемент дикой мелодии – мелодии бури.
– Я люблю тебя, Борюшка! – Ниночка ласково провела рукой по лицу мужа. – А там, где двое любят друг друга, и есть рая кусок на земле.
Буря неистовствовала еще семь часов. Когда ее истерика стихла, санный обоз исчез с лица земли, осталось только огромное количество белых холмиков. Лохматые лошадки выбирались из сугробов. Трясли гривами, фыркали, оглядывались и жалобно ржали. Жизнь продолжалась.
Поутру вернулись казачьи патрули и помогли отрыть сани. Они так и не узнали, где можно безбоязненно переправиться через Енисей. Зато привезли с собой проводника, который мог показать дорогу.
В женском лагере княгиня Трубецкая испытующе взглянула на Ниночку.
– Вы очень долго отсутствовали, Нина Павловна, – холодно заметила она. И поскольку Ниночка молчала, княгиня продолжила: – Нет особой радости разродиться ребенком по дороге в изгнание.
– Это будет сын, – почти торжественно оповестила ее Ниночка. – Мальчик, который назовет эти земли своей родиной. Коли так скажут тысячи юношей, Россия станет великой и непобедимой державой.
– Для этого вам придется рожать ребенка в придорожной канаве, дорогая моя. Что за глупость, Господи! Неужто вы считаете, что у меня нет возможности уединиться где-нибудь в санях с мужем? Если мы все начнем валяться в соломе, вот будет красотища! Каторжники, эти мертвые души и их брюхатые бабы. Ниночка, неужели вы самоубийцей стать возжаждали?!
– Это была наша первая брачная ночь, княгиня, – прошептала Ниночка. – Теперь я и в самом деле настоящая жена Борюшке. Теперь-то я не боюсь Сибири… даже если нам придется странствовать к берегам Студеного моря.
– Не торопись, Ниночка, у нас еще все впереди, – Трубецкая сняла крышку с исходящего паром, жадно отфыркивающегося чайника.
– Чай готов, господа! – громко крикнула она на весь лагерь. – А ну, подъем, господа! У княгини Волконской получите хлеб… подъем!
Полковник Лобанов выбрался из своих саней. «С такими бабами чего ж не выжить, – подумал он. – Даже такому старому разбитому мерину, как я, которому ничего в жизни уж не осталось, кроме как перевозить заключенных в Сибирь».
Вскоре они добрались до Иркутска. Об этом городе подле озера Байкал в салонах Петербурга ходили всяческие легенды. Поговаривали, что тамошний губернатор царствует, словно какая коронованная особа. Он содержал свою собственную маленькую армию, жил в великолепном дворце, ни в чем не уступающем летним царским резиденциям, содержал любовницу-китаянку и милостиво разрешал называть себя в ближнем кругу своем «сибирским императором».
Его рапорты в Петербург были написаны сущим скупердяем. Никакой информации. Царские ревизоры рассказывали еще меньше – если, не дай-то Бог, пикнут, то и до дому не доберутся: дорога, чай, длинная…
И вот теперь декабристы и их супруги въезжали в сей овеянный очень разными легендами Иркутск, город, обнесенный крепостными стенами, город с прекрасными и просторными деревянными домами, изукрашенными резными наличниками, с расписными ставенками, город с широкими мощенными булыжником улицами и тремя соборами.
Удивительный город на Ангаре, раскинувшийся только в паре верст от славного моря, священного Байкала.
Губернатор был заранее оповещен о прибытии этапа и ожидал дам в собственной резиденции.
Это был, конечно, не царский дворец, как судачили в досужем Петербурге, но все ж таки берлога очень богатого человека, укрытая коврами, с дорогими креслами, диванчиками и кроватями, покрытыми одеялами из чернобурых лисиц и рысей.
Декабристы были прямиком свезены в острог при казармах. Для женщин же в доме губернатора отвели просторный флигель. Горничные и лакеи раскланивались с ними подобострастно, являя желание угодить, услужить, помочь… Была протоплена русская банька, вкусно пахнущая березовыми вениками и сосновыми иголками. А в столовой был накрыт стол: пищу предполагалось подавать на серебре.
– Вот и верь тому, кто говорит, что за Уралом жизнь кончается! – усмехнулась Катенька Трубецкая. Она только что вернулась из бани, усталая, но страшно довольная. – Ох, боюсь я, дорогие мои, что миляга губернатор сочтет страшным наказанием возвращение в Петербург. Здесь можно жить! Кто с этим не согласен, обманывается сам и обманывает других!
Губернатор Семен Ильич Абдюшев был человеком весьма примечательной наружности. Высокий, субтильный, почти что прозрачный, с обвисшими усами и желтоватым цветом лица. В выходце из крымских провинций России явно бурлила капля татарских кровей.
То, что он вообще дослужился до генерала и губернатора, казалось сущим чудом. Времена Петровских заигрываний с инородцами давно миновали. Русский гвардейский корпус был почти таким же эксклюзивным учреждением, как и прусский. Здесь не больно-то жаловали теперь инородцев и, прежде всего, людей невнятного, неясного происхождения. Абдюшев был почти единственным исключением из правил. Но как бы то ни было, служить ему доводилось только в самых отдаленных от обеих столиц провинциях. Он всего трижды за последние годы видел Петербург, сообщаясь с Северной Пальмирой лишь через курьеров. И все-таки именно он был некоронованным властителем Сибири.
Странно, как мало знал свою страну император Николай. Его правительство предполагало, что в Сибири везде рудники, потому и погнало декабристов на ее территорию. Государь не знал, что здесь в основном живут люди добрые и сердобольные. И каторжная участь декабрьских мятежников будет не такой уж ужасной. К людям, суровым, но в общем-то в высшей степени справедливым, относился и губернатор иркутский Абдюшев.
В придворных этикетах он был не очень-то силен, зато умел стрелять через плечо по мишени, глядя на цель в зеркало. Он не смог бы продержаться на придворных балах и одной кадрили, зато был непревзойденным мастером «Комаринской». А еще у Абдюшева отменно получалось удерживать на коротком поводке разный мятежный люд, поддерживая в Сибири некое подобие мира и порядка.
Сегодня ж Семену Ильичу удалось доказать самому себе, что он может быть человеком по-светски галантным. Он приветствовал дам с грацией французского кавалера, с целованием ручек и комплиментами их нарядам и духам. А затем выпалил без передыха:
– Сдается мне, вы сюда на крыльях летели, сударыни! Нормальному этапу из Петербурга до Иркутска приходится добираться четыре – пять месяцев. И это еще какая зима будет. А в нынешнем году зима у нас как назло эвон какая студеная.
– Просто нам хочется как можно быстрее добраться до цели, ваше превосходительство, – с настороженной улыбкой ответила Ниночка.
– А вы хоть знаете, какова сия цель?
– Нет. А вы, ваше превосходительство?
– Очень даже хорошо знаю, – Абдюшев дождался, пока дамы рассядутся за столом и махнул изящной ладонью лакеям. Двери распахнулись, и на больших серебряных подносах внесли суп из сибирских соловьев, фаршированные оленьи потрошка с квашеной капустой, засахаренные фрукты и пироги с начинкой из нежнейшей телятины.
Женщины замерли в растерянности, а потом Трубецкая осторожно, очень осторожно положила кружевную салфеточку на стол; И все остальные дамы так же молча повторили ее жест. Лакеи растерянно-жалобно поглядывали на губернатора.
– Как, сударыни, вы не любите соловьев? – огорченно воскликнул Абдюшев. – Ах, сударыни, вы даже не представляете, от какой вкуснятины только что отказались! Это же песня песней царя Соломона да и только! Ну, попробуйте, прошу вас…
– Дозволено ли мне будет задать хоть один вопрос, ваше высокопревосходительство? – перебила его Трубецкая. – А что сейчас едят наши мужья?
Абдюшев недовольно пожал плечами, припрятанными в парадный мундир с роскошными эполетами.
– Откуда ж мне знать. Но можно спросить. Соколик мой, пес ты смердящий, что у нас едят в казармах?
Один из лакеев низко поклонился своему хозяину.
– Чаще всего-с щи, ваше высокопревосходительство, особенно-с зимой. А что дают заключенным… да Бог его знает!
– Наверное, не оленьи потрошка! – с иронией подхватила Волконская.
– Да уж наверное, сударыня…
– Тогда почему мы должны питаться как-то иначе? – вздохнула Ниночка. – Мы ведь тоже каторжницы, как и они. У нас тоже нет никаких привилегий. Ваше высокопревосходительство, мы едим только то, что едят наши мужья.
Абдюшев пристально смотрел на Ниночку и молчал. «Ох, уж эти бабы! – горестно подумал он. – Но и я не петербургский лизоблюд, я – Семен Ильич Абдюшев, и каждый в здешних краях знает, что дорогого это имя стоит».
– Ну, эту-то ошибку легко исправить, – рассмеялся вдруг губернатор. – Соколик, пошли-ка ты десять курьеров в острог казарменный. Пусть привезут для дамочек наших дорогих провиант.
Лакей восторженно поглядел на своего господина, потом развернулся и кинулся вон из столовой. За ним следовали другие лакеи с нагруженными серебряными подносами.
Абдюшев слапал Ниночкину ручку и громко поцеловал ее.
– Сударыни, – возвестил он своим гостьям. – Чтобы привезти вам те харчишки, время понадобится. Чем же мы займем-то себя, ума не приложу?
– Расскажите нам о вашем житье-бытье, ваше высокопревосходительство, – вежливо предложила Трубецкая.
– В самом деле? – Семен Ильич откинулся на спинку своего дорогого китайского стульчика. – Гм… Ну, да как хотите. Начнем-ка мы, пожалуй, с четырнадцатого годка моей биографии. Я тогда гонялся по степям крымским. Возвращался с наших становищ в урочьях речонки одной. Все было там в полном порядке, скотина жир нагуливала. Но когда я вернулся в долину, где жила моя семья, моим глазам открылось лишь дымное пожарище. Казачий отряд напал на наш дом, порубали казачки всех до единого. Мирных граждан, знать не знавших, что где-то там в далеком-предалеком Петербурге живет себе поживает царь-государь, задумавший очередные наказания для татарского народа… Они всех зарубили, отца, мать, моих братьев и сестер. Я остался тогда один в целом свете. Но у меня был быстрый конь и острый нож. И я уехал. Я пробирался по следам казачьего того отряда, насчитывавшего двадцать четыре человека. Через пару недель я убил двадцать одного из них. Очко-с! А другим подарил жизнь, чтобы смогли рассказать о том, что с ними произошло в действительности. Но прежде, чем отпустить, я выколол им глаза…
– Замечательная застольная история, – брезгливо поморщилась Трубецкая. – У вас еще много таких быличек в запасе, ваше высокопревосходительство?
– И все одинаковые, княгиня. Сибирские, да и не только сибирские, истории пишутся кровью, и тут уж ничего не изменится, даже когда придет время новых поколений. Эта земля подобна Молоху, способному жить, кормясь только человеческими жертвами. И вас тоже бросят в его пасть, милые мои дамы. Ваше путешествие до Иркутска лишь кратенькое предисловие к страшной истории. То, что вас ждет отныне, сравнится только с Дантовым адом.
– Куда везут наших мужей? – спросила Ниночка.
– В Нерчинск, почтеннейшая, за Читинский острог.
– Господи, это где же?
– Сейчас это маленький рудничок на реке Олекме. Рядом – поселение охотников и золотоискателей. Место встречи всех авантюристов, висельников и разбойных рож Сибири от Лены до Амура. Кто-то из ученых мужей, впрочем, верит, что Чита и все ее окрестности, а также Нерчинск, будут когда-нибудь важнейшими пунктами сибирских земель от севера до юга. С севера, дескать, повезут меха, а с юга – шелка… Наверное, в Петербурге не одни дураки сидят. Но для осуществления этих прекрасных прожектов надобны люди. Люди, которых будут гнать на работы, которые проложат новые дороги, осушат болота, подрасчистят древние леса…
Абдюшев внезапно смолк и глянул на двери. С низкими поклонами появились лакеи, доставившие еду из арестантского дома.
– Ну, вот, сударыни! – Семен Ильич с довольным видом потер руки. – Меню арестантов к вашим услугам. Вы позволите поухаживать за вами, любезнейшие?
– Пожалуйста, – натянуто улыбнулась Трубецкая. И как закаменела.
– Соколики, суп сначала подавайте!
– Суп? – растерянно переспросила Ниночка. – Вы верно шутите, сударь? Вы имеете в виду горячую воду?
– Да нет, суп, моя дорогая! – Абдюшев первым протянул лакею тарелку. – Что такое? Ах, какой замечательный супец из сибирских соловьев.
– Ваше высокопревосходительство, – прошептала Трубецкая. – Ваша шутка зашла уже слишком далеко.
– А что там у нас на второе, соколики мои? – спросил губернатор, не обращая внимания на княгиню.
– Фаршированные оленьи потрошка, ваше высокопревосходительство.
Абдюшев весело рассмеялся.
– А потом пироги с нежнейшей телятинкой, засахаренные фрукты и медовушечка. Что ж вы сидите ровно статуи мраморные, сударыни? Это – еда моих заключенных. Я подчеркиваю – «моих»! Я вам не царь. Я уважаю людей, имевших мужество поторопить приход новых времен. Здесь в Сибири они и так уже наступают, эти времена, потихонечку, правда, не все заметили сие обстоятельство. Русскому человеку нужно время, чтобы привыкнуть к свободе,
– Свободе в узилище? – сквозь слезы выкрикнула Ниночка.
– А вот это – наша тайна, мадам, – Абдюшев заговорщицки подмигнул ей, и лакеи начали разливать суп по тарелкам. – Все ж таки темна и неясна душа русская, но до чего добра. Нерусскому человеку не понять того…
К стене казарменного острога метнулась смутная, неясная фигура. Рослый человек в обычном кафтане внимательно вглядывался в зарешеченное окошко. Заметил кого-то, вздохнул горестно.
– Серж… – прошептал он.
На прелой прошлогодней соломе сидел Волконский, осунувшийся, усталый. Дремал после сытного обеда, посланного с кухонь губернатора иркутского.
– Серж… – вновь прошептал незнакомец и сердце его зашлось от боли.
Ему вспоминался другой Волконский. Гарцевал тогда перед бригадой на белом коне ее командир – Сергей Волконский. Пропустив мимо себя все ряды, он приостановился неподалеку от него и уже собирался повернуть лошадь, чтобы отъехать дальше, как вдруг услышал:
– Серж, поближе!
Изумленный Волконский подъехал тогда к нему поближе. Он повернул к генералу усталое лицо и негромко сказал:
– Я очень доволен вашей бригадой…
Лицо Волконского вспыхнуло от удовольствия. Но он продолжил увещевательно-охлаждающе:
– Видны, видны следы ваших трудов, Серж… По-моему, для вас гораздо выгоднее будет продолжать оные, нежели заниматься управлением империи, в чем вы, уж простите, и толку не имеете…
Он все знал, за всем следил, но как смертельно надоело ему тогда все это…
Спустя какое-то время Серж напишет ему письмо, в котором жалобно посетует, что, дескать, оклеветали его перед высокой августейшей персоной.
Он прочтет тогда письмо Волконского дважды.
Серж не понял его, а ведь он ясно давал понять, что пора остепениться, сойти с безумного пути, им прежде принятого. Он тогда все еще думал, что одних только слов его будет довольно, чтобы прекратить деятельность заговорщиков. Как же он ошибался.
– Серж, – жалостливо шептал он ныне. – Что же ты наделал, Серж… Что же мы все наделали.
Не ему было карать их. Бог карал пока только его одного, отнимая одного за другим самых дорогих ему людей. Так кто помешает ему последовать вслед за ними путем их мученическим?..
Этап простоял в Иркутске восемь дней. Восемь дней надежды, новых планов, слабенькой искры веры в лучшее. Они почти полюбили Сибирь.
Но на девятый день с этапа сняли полковника Лобанова. Командование перешло к капитану Григорию Матвеевичу Жиревскому. И каждого арестанта он приветствовал плевком в лицо и словами:
– Это – последнее человеческое тепло, кое дано тебе еще почувствовать. Так что, запоминай, собака!
Лобанов, стоявший у оконца караульной отворотился с презрением. Подлец Жиревский напомнил ему эпизод из далекой его молодости. На том роковом смотре государь Павел Петрович подскочил к нему, безусому тогда еще юнцу. Гнев до неузнаваемости искажал его и без того уродливое курносое лицо. Император всероссийский избил бы его до смерти, да наследник Александр не выдержал тогда и бросился на колени перед отцом:
– Батюшка, – закричал он, – пощадите, простите, это я виноват!
Лобанов помнит, что произошло в дальнейшем. Наследник получил в лицо сапогом. Кровь сразу же закапала из разбитой губы, но Александр твердо устоял на коленях…
Увидев кровь, Павел сразу остыл.
– Прости, сынок, – глухо пробормотал он и, не закончив развода, спешно ушел в кордегардию…
Лобанов, ныне полковник, вздохнул судорожно. Экий подлец этот Жиревский! Никогда он еще не испытывал такой глухой ненависти, ненависти за то унижение, коему подвергал ныне капитан лучших людей России.
ГЛАВА 10
Губернатор Абдюшев устало протиснулся в низенькую дверцу потаенной комнатки. На узкой кровати лежал человек, с головой укрывшийся одеялом.
– Ты точно пойдешь за ними и далее, гос.. господине? – пресекающимся голосом спросил Семен Ильич.
Из-под одеяла прозвучал глухой голос:
– Пойду. Мне то предназначено. Предназначен затвор сибирский. Буду молиться и слушать голос Бога. Он только здесь, на просторах диких да в лесах таежных и слышен еще.
– Помолись тогда и за меня, – светло улыбнулся Абдюшев, уже примеренный с дикой такой причудой…
Лизанька, его Лизанька тоже тогда все спрашивала. Просила робко. Он ведь что ей тогда сказал:
– Я ведь не за все расплатился, Лиза… Бог карает и карает меня. Я за все в ответе. Надо уйти, Лиза.
А она, кашляющая, больная, рвалась разделить с ним его судьбу, как ныне рвутся те удивительные женщины за обозом этапным. Да он не пустил ее. Словно из далекого далека донеслись из потаенных воспоминаний слова его, к жене обращенные:
– Нет, Лиза, с тобой – это было бы счастье. Я должен пройти здесь, на земле, страдания и муки, я должен спасти свою душу.
Он много думал тогда, долго мучился. Он должен был искупить молчаливое свое согласие на убийство отца.
Она, нежная, она, светлая, гладила его по лысеющей голове и шептала:
– Я понимаю тебя, я смогу помочь тебе хотя бы в этом…
И не удержалась, все-таки взрыднула. Она ужасалась тогда.
А ныне ужасается этот некоронованный венценосец Сибири. Губернатор был подавлен. Действительно, гость его тайный благословен, коли вот так, скрытно от целого мира идет решительно искать истину, жить по-божески, из самого первого на земле становясь самым последним…
Ранним утром из Иркутска вышел высокий сутуловатый человек в добротном армяке и старой шапке, с котомкой за плечами. Он близоруко щурил большие голубые глаза на ярко играющий с солнечными лучами снег, лоб его был высок и величественен, а руки аристократически малы.
Человек, родства не помнящий, брел по дорогам сибирским, не опасаясь снежной пустыни.
Снежная хмарь заволакивала все окрестности, и ничего не виделось впереди, кроме бесконечного белого полога. Только отсветы снега сопровождали весь путь этапа до самого святого моря – Байкала. Мирон запасся в дорогу длинными и широкими досками да других кучеров заставил – здешние жители предупреждали, что Байкал даже в такие трескучие морозы изобилует трещинами и полыньями, и беда будет, коли попадет лошадь в одну из них. А доски словно мостком послужат…
Женщины равнодушно поглядывали на все эти приготовления. Мысленно они уже были за Байкалом. Им даже не любопытно было взглянуть на широченную водную гладь, укрытую льдом и снегом, и величественные синие горы, которые поутру можно было принять за туманную дымку.
Но вот величественная бескрайняя ширь Байкала открылась путницам перед самым восходом солнца. Равнина Святого моря была вся засыпана снегом и только кое-где проглядывала из-под белого полога зеленоватая гладь льда, отсверкивающая в первых лучах солнца, встающего из-за гор. Женщины высыпали из повозок и завороженно смотрели на бесконечное ровное поле Святого моря. Впрочем, радость их и восторг длились совсем недолго.
После Иркутска все изменилось, их путь превратился в настоящее адское пекло. Все началось на первой же почтовой станции по дороге в Читу.
Капитан Жиревский приказал арестантам сойти с повозок и идти пешком. Это было просто мучительно. Дорога обледенела, арестанты постоянно падали, цепи на ногах мешали им идти нормально, превращаясь уже через пару сотен метров в неподъемный груз. Задыхаясь, декабристы брели по дороге, а вдогонку им несся веселый перезвон колокольцев с тройки Жиревского.
– Лошадкам надобно отдохнуть! – счастливо улыбался Жиревский. – Лошадки наши устали. Они, кормилицы, в Сибири поважнее да подороже вас будут! Так что, ваши сиятельства, берите ножки в руки, хей-хей! Смотри, народ, какие баре! Хватит, наездились в каретах да экипажах! Вы такие же преступники, как и все остальные рожи разбойные. Больше вам в пасть запеченные в хрусточку курочки не свалятся, здесь ложку каши и то заработать надо! Давайте, двигайте мослами! Кто остановится или в снегу разляжется, плетью получит!
– Его придется убить, – простонал Кюхельбекер. – Иначе все мы сдохнем!
Они лежали пообочь дороги во время недолгого отдыха, в снегу, едва переводя дыхание. Их цепи покрылись тонким слоем льда, растирая ноги в кровь. Муравьев пожертвовал полами своего фрака, чтобы друзья могли обмотать израненные лодыжки. Волконский каждый день обматывал ноги пучками сена, а Трубецкой делал вид, что никакие кандалы он и не носит вообще. Борис же Тугай смастерил на одежде петлю, в которую продевал железа, чтоб не мешали идти по скользкой заснеженной дороге.
Другие арестанты тоже исхитрялись кто как мог, чтобы лучше передвигаться с железной обузой на ногах. Но что тут поделаешь, если приходится часами маршировать в кандалах сквозь снежную пургу по обледенелой дороге, которую и дорогой-то никак не назовешь?!
Жиревский категорически не дозволял дамам сопровождать мужей. Им запретили готовить для них еду, отныне они должны были путешествовать на значительном удалении от этапа, разбивать свой лагерь в нескольких сотнях метров от лагеря заключенных декабристов. Теперь их охранял отряд казаков, как будто они были государственными преступницами. Причем особо опасными.
Уже давно не встречали они на пути своем ни единой души русской.
Только вечно пьяные и обрюзглые содержатели ямских станций, грубо и требовательно вымогающие на водку и торопливо записывающие в станционную книгу приезжающих кривыми и корявыми буквами их имена и хамски обрывающие каждое их слово.
Словно памятники, неподвижно высились на своих низкорослых косматых лошадках кочевники-буряты, оглядывая местность, да выбегали из юрт голые ребятишки на жгучий мороз и снег, раскосые и смуглые потомки монголов, с кусками бараньего сала в грязных ручонках. Они заменяли им соску, и пронизывающий ветер и трескучий мороз, от которого немели пальцы у путниц, были им нипочем.
Но хуже любого мороза и любой бури был Жиревский. Он вынудил их послать в Иркутск к губернатору кучера с письмом-жалобой. Курьера отловили казаки и без лишних разговоров зарубили на месте.
– Нам остался только один выход, – сказала Александра Григорьевна Муравьева на одном из привалов, когда они сидели за санями, окруженные со всех сторон казаками, которых не удавалось задобрить ни звонким рублем, ни подарками. – Нам придется сделать Жиревского более сговорчивым. В конце концов, он всего лишь мужчина, кому-то из нас придется пожертвовать собой ради общего же блага и сделаться его любовницей. Даже если нас стошнит от одной лишь мысли об этом… речь идет об участи наших мужей! Сестрицы, Сибирь требует от нас жертвоприношения, и мы об этом прекрасно знали, когда отправлялись в путь. Возможно, сия жертва будет еще не последней.
Но ни одна из них не желала добровольно пойти на такое. Молчали подавленно, отводили глаза в сторону.
– Знаете, как решим? – внезапно «осенило» Ниночку. – Мы кинем жребий. Кому уж что выпадет… судьба…
Каждая написала свое имя на маленьком клочке бумаги, свернула трубочкой, и потом княгиня Трубецкая обошла подруг по кругу с шапкой в руках, собирая записочки.
Волконская завязала Ниночке глаза платком и протянула шапку. Ниночка медленно опустила в треух руку, пошуршала листочками и, наконец, вытянула одну из записок.
Воцарилась гробовая тишина, никто не смел даже дышать, пока Трубецкая разворачивала записку.
– Кто? – простонала Анненкова. – Скажите же… кто?
– Александра Васильевна Ентальцева, – едва слышно ответила Трубецкая и опустила голову.
Все молча повернулись к Ентальцевой, на которую обрушилось страшное это несчастье.
– Да пребудет с вами Господь, – прошептала Катенька Трубецкая и бессильно расплакалась.
– Я пойду! – Александра Васильевна решительно закуталась в подбитый мехом плащ. – Но если хоть кто-нибудь из вас хоть когда-нибудь проболтается об этом позоре моему мужу, я убью того человека!
– Мы клянемся, что будем немы, как могила! – расплакалась Ниночка.
Женщины по одной начали подходить к Ентальцевой, целовали ее в обе щеки и крестили.
– Она пошла на это ради наших же мужей, – задохнулась от ужаса Волконская. – Если этого сатану Жиревского не укротить, до Читы никто в живых не доберется.
– Дайте мне нож! – вскрикнула вдруг Ентальцева. – Мне нужен нож! Острый, очень острый. Кто знает, как поведет себя Жиревский. А мертвецы этапами не командуют. Сестрички, дайте же мне очень острый нож…
Такой нашелся только у Мирона Федоровича, остро наточенный с обеих сторон, на двое рассекающий подброшенный в воздух листик тонкой бумаги.
Ентальцева кивнула.
– То, что надо, Мирон, спасибо тебе, – она спрятала нож под плащом. – Как только подвернется случай, я убью его, сестренки!
Подруги проводили ее за границы санного обоза и долго смотрели вслед. Вот Александра Васильевна переговорила с казаками-патрульными, и те пропустили ее.
Через час Ентальцева вернулась, бледная и подавленная. В лагере этапированных по-прежнему все было тихо, значит, Жиревский по-прежнему все еще оставался жив…
– Я была у него в палатке, – безучастно прошептала Ентальцева. – Я все пыталась поговорить с ним, но он был пьян и только смеялся! На нашу удочку он поддаваться и не собирался, он сказал, чтобы я… чтобы я катилась ко всем чертям. Что он ничего не сделает ради какой-то там бабы.
Она прикрыла глаза рукой, отвернулась от подруг и медленно двинулась к своим саням.
Мирон пошел было за ней и, страшно опечаленный, вернулся к Ниночке.
– Когда-нибудь это все равно случится, барышня, и капитана всенепременно порешат, – тихонько шепнул он. – Александра Васильевна отдала мой нож какому-то страннику, что подле лагеря ошивался. Высокий, говорит, такой, благообразный. Она ему всю беду нашу обстоятельно обсказала.
Прошло семь томительных дней, путь в Ничто по лесным дорогам и степям продолжался с безжалостной неумолимостью. Людей теперь было и вовсе не видно,
Пару раз вдалеке показывались небольшие группы всадников, но тут же исчезали, ровно призраки ночные, едва только замечали вооруженных казаков.
На восьмой день колонна этапированных остановилась на привал на большой лесной поляне. Похоже, здесь не так давно бушевала буря, деревья-великаны лежали на земле, ветер повалил их как тоненькие невесомые спичинки. Все случилось на этой самой поляне.
…Он лежал в удобной берложинке и размышлял. Женщина вложила в руки его острый нож, женщина сквозь слезы молила его пожертвовать одной жизнью ради жизней многих. Ради жизней тех, кто был когда-то близок ему духовно. А он, воистину родства не помнящий, не мог решиться на страшное, но благое дело. Как, как поднять руку на живого человека? Как стать судией себе подобному? В темноте разливался слабый голубоватый отсвет. Сердце забилось заполошно в груди. Голубоватый свет все ярче и ярче разливался вокруг него, превращая деревья на поляне в странные, какие-то нездешние существа. А потом и вовсе в сиянии голубизны исчезло все и только тень стояла перед ним – высокая, удлиненная, голубая. Потом ровно зрение его прояснилось, и он увидел Ксению, юродивую, – все в той же красноватой кофте и зеленой юбке, какой видел он ее почти четверть века тому назад, все в том же скромном темном платочке, повязанном по самые брови. Только фигура ее была ныне чрезмерно высока, удлиненная какая-то была, и ему показалось, будто юродивая выше леса таежного, вся в голубоватом светящемся нимбе. Она словно горела и переливалась, и свет сей от нее становился все ярче и ярче.
Он хотел было вскочить, выбраться из берложинки своей, на колени повалиться, но юродивая подняла руку – широкий рукав кофты высветил голубую прозрачность пальцев.
– Должок за тобой, – не услышал он, а словно бы слова сами вошли в его уши. – Исполняй то, что женой страдающей велено было!
Он поник головой и перекреститься сил не хватило… Утром капитана Жиревского нашли в палатке с перерезанным горлом. Никаких следов борьбы. Жиревский выглядел так, словно вообще не почувствовал дыхания надвинувшейся смерти. Он лежал на спине со слегка приоткрытым ртом. Издалека казалось, что капитан спит, сладко похрапывая.
Казаки согнали арестантов в кучу. Молоденький лейтенантик взял на себя функции командира. Он приказал обыскать каждого из декабристов, он нашел все, что угодно – несколько ассигнаций, дневники, – но ножа как не бывало.
Мысль о том, что убийцей Жиревского мог быть кто-нибудь еще, молоденький лейтенантик упрямо гнал прочь.
Три казака погнали лошадей в Иркутск, чтобы оповестить губернатора о неслыханном и загадочном преступлении.
Тело Жиревского было с трудом предано промерзлой земле.
– Даже если нам придется пустить здесь корни по весне, – кричал лейтенантик заключенным, молча жавшимся поплотнее друг к другу, – мы будем ждать здесь распоряжений губернатора. Скажите спасибо тому, кто перерезал Жиревскому глотку.
Но никто не знал имени убийцы. Борис Тугай и князь Трубецкой украдкой поспрашивали своих товарищей, но никто не желал признаваться в содеянном. Их избавитель так и остался неизвестен. Как в воду канул, безымянный.
– Это опасная игра, – нервничала княгиня Трубецкая. – Кто знает, с чем вернутся посыльные из Иркутска.
– И когда! – Ниночка расстроенно глядела на костры в лагере этапированных. Отряд казаков, отделявший их от лагеря мужей, казался им живой стеной. – Когда, дорогая моя? Сколько мы здесь продержимся? Две, три, четыре недели? Да мы тут в сосульки превратимся. И где, кстати, ближайший почтовый ям?
– Прогресса без риска не бывает, – тихонько прошептала Трубецкая.
– Так значит убийство Жиревского – прогресс? – возмущенно спросила Ниночка. – И что же за ним следует, за прогрессом этим? Неужто убийство и есть выход из положения?
– Конечно же, нет, – Трубецкая сделала глоток горячего чая и поморщилась. – Но мы живем в стране, где даже сама природа отчаянно борется за выживание. Моральные бичевания равносильны самоубийству.
…Для него когда-то моральные бичевания тоже чуть ли не стали самоубийством. Но лучше бы на его месте оказался кто-то другой, теперь он не страдал бы так от своего греха – греха отцеубийства и предателя. Снова и снова вставало перед ним видение смерти отца – он не знал о подробностях, он никого не расспрашивал, страшился знать, но по мелочам, оговоркам воссоздавал всю картину страшной и далекой мартовской ночи. Он словно видел, как стоял в ужасе отец в одной ночной сорочке и колпаке на голове. А на него… на него набросились пятеро пьяных офицеров. А отец… отец звал на помощь. Его свалили на пол, и кто-то из заговорщиков сорвал с себя шарф и обвил им шею императора. Голый, в растерзанной рубашке, с лысой головой, отец его отчаянно сопротивлялся.
Вот уже свыше двадцати пяти лет он мучался угрызениями совести – не будь его согласия, никто не посмел бы убить отца, не будь его приказаний, никому бы и в голову не пришло совершить дворцовый переворот. Он один виноват в смерти отца, один виноват в клятвопреступлении, и нет ему покоя ни днем, ни ночью… И вот он убил теперь сам, собственноручно. Убил мерзавца и подлеца, который надругался над теми, кто был когда-то близок ему, кто совершал когда-то подвиги на поле брани во имя отечества.
Одно убийство смывает пятно с совести, оставленное кровью убийства давнего…
Через десять дней из Иркутска вернулись посыльные. Они везли с собой человека, который закутался в такое количество одежек, что более всего напоминал огромного сердитого медведя.
Первой его узнала Ниночка.
– Лобанов! – во весь голос закричала она. Ее крики встревожили весь лагерь. Со всех сторон к ней бежали женщины, испуганно поглядывая на лесную просеку. – Это – Лобанов! Вы поглядите, он, точно он, вон его протез! К нам вернули Лобанова!
– Господь все-таки услышал наши молитвы, – растроганно прошептала Мария Волконская. – Надо бы свечку поставить, вот только знать бы, где. Лобанов… Это значит, что мы в Сибири не пропадем.
Николай Борисович спешился подле женского лагеря. Его лицо раскраснелось на холоде, промерз до костей, и шубы не спасают. С трудом он шел по лагерю.
– Нет покоя! – ворчал Лобанов. – Вот почему, скажите вы на милость, старый старина, к тому же одноногий, не может уйти на заслуженный покой? Так нет же, бабы-кровопийцы перерезают какому-то солдафону горло, и я вновь должен сделаться их гувернером, нянькой, ей богу! Сударыни, я разочарован! Я ведь уже начал радоваться приходу мирной старости. Собирался покуривать трубку, ловить рыбешку в Байкале, книгу писать… ну и чем же я теперь обязан заниматься? Сибирь покорять!
– Давайте я вас расцелую, Николай Борисович, – счастливо засмеялась Трубецкая, обнимая Лобанова. – Вы к нам как сущий ангел с небес явились!
В следующую минуту у горемычного полковника уже не было времени и далее проклинать свою судьбу. На нем повисли и принялись целовать. Но мгновения и этого удовольствия миновали; Лобанов чуть не задохнулся, а потом, отфыркавшись, упер руки в боки.
– Ну, и где тот нож, которым прирезали Жиревского? Кому принадлежал?
– Мне, ваше благородие, – мрачно признался Мирон. – Но я его потерял…
– Конечно, потерял! Еще бы кто спорил-то?! Спрашивается, чертяка лохматый, откуда он у тебя вообще?
– А я – человек вольный, ваш благородь, я вам не холоп какой и не каторжная морда. Я в Сибирь добровольно еду! – Мирон вытянул из-за пазухи вольную, подписанную графом Кошиным, однако Лобанов отмахнулся от него.
– Дело-то грязное! – недовольно проворчал полковник. – Каким бы человеком Жиревский не был, он все-таки человек, и его убили. К вашим красивым пальчикам, сударыни, прилипла кровь, вы все убийцы, ибо вы желали ему смерти!
– От всего сердца, – спокойно парировала Ниночка. – Ибо это был единственный способ разрешить проблему.
– Ну, и когда ж вы перережете горло мне?
– Вам? Никогда, Николай Борисович, ну, или по крайней мере до тех пор, пока вы к нам относитесь по-отечески…
Лобанов велел поставить на одинокой могилке Жиревского деревянный крест. Для сей работы отрядил своих арестантов: Муравьева, Волконского, Трубецкого и Тугая.
– Вы, господа, сущие соучастники, – спокойно произнес он. – Вам доставит искреннюю радость поставить крест на могиле своего врага.
Но убийцу Лобанов так и не нашел. Да и нож, казалось, исчез навсегда, – пока Мирон не нашел его у себя в санях. Кучер припрятал подклад еще дальше и промолчал о своей находке.
В тот день Ниночка вновь увидела Бориса. Он стоял в длинной очереди арестантов, дожидавшейся чая, прижимал к груди жестяную кружку и дрожал, глядя исподтишка на Ниночку. Она как раз раздавала хлеб очереди.
– Как дела, Борюшка? – негромко спросила Ниночка, вкладывая краюшку хлеба в огрубевшую руку мужа. На две секунды их пальцы переплелись и, казалось, солнечный зайчик перебежал от Ниночки к Борису.
– Я так тоскую по тебе, Ниночка…
– Мы еще будем вместе…
– Я люблю тебя…
– Когда-нибудь мы будем вместе. Лобанов говорит, что в Сибири есть остроги, где заключенные живут вместе с женами. Так появляются новые поселения… Может, и в Нерчинске будет так же.
– Не задерживать очередь! – закричал казак, шагнув к длинной цепочке арестантов. – Не задерживать! Без разговоров!
Борис прижал к груди кусок хлеба. С трудом отвел взгляд от Ниночки и пошел прочь.
Они уже почти добрались до Читы, когда наступила весна.
Наступила внезапно. С Читы подуло теплым ветерком, деревья отряхнулись от снега, как собаки отряхиваются от воды. Громко, словно то были артиллерийские залпы, ломался лед на реках.
Дороги превратились в топкую непролазную болотину, в которой застревали повозки. Каждая пройденная ими верста была борьбой, противостоянием весне. Спереди, жалобно всхрапывая, тянули лошади, сзади сани толкали люди.
Лобанов рассылал патрули во все стороны, наказав доставить легкие повозки. Он дал понять коменданту Читы – лежавшей-то всего ничего в четырех днях пути, – что этап декабристов уже стоит у ворот, а посему им нужны телеги, лошади и летняя амуниция. А еще отписал, что им понадобятся четыре палаты в лазарете. Четыре женщины тяжело заболели. Придется уж остаться в Чите на месяц, а потом ехать дальше на север, в Нерчинск…
Зазеленели горы и луга, и стало видно, как красиво и благодатно распорядилась природа с этим захолустьем. Речка Чита слилась своими водами с рекой Ингодой и образовала плодороднейшую и удивительно красивую долину. На севере виднелось большое озеро Онинское, на берегах которого когда-то дневал Чингисхан.
Почти всегда теперь над их головами было ясное небо. Вот только невыносимая жара донимала. Мужчины поснимали верхнюю одежонку и шли, расстегнув ворот рубах, женщины отказались от высоких воротничков. А из болот налетал гнус, кружа над этапом с омерзительнейшим зудом и жадно набрасываясь на свои жертвы, словно стая голодных волков. Впрочем, если от морозов спасали шубы, а от волков – ружья, то против гнуса они были бессильны.
Лобанова гнус не кусал.
– А это мой протез во всем виноват. Он у меня сущий подарок, – отшутился он, как-то вечером подходя к женскому лагерю. – Ему укусы нипочем. Да и я этих чертей с крылышками хитрее. Все очень просто: я протез медом смазываю, гнусье слетается, а я – не ленясь – разбиваю их поганые армии. – Полковник сидел у костра, попыхивал трубкой и глядел на маленькие искорки, улетающие в черное небо. – В Чите я с вами вновь распрощаюсь, сударыни…
– Вы не сможете, Николай Борисович! – испуганно воскликнула Ниночка.
– У меня приказ сопровождать вас до Читы, но не далее.
– Ну, так похлопочите о новом приказе, чтоб доставить нас и в Нерчинск!
– Это невозможно. В Иркутске я получил письмо с известием о моей отставке, в один день с известием о чертовой гибели Жиревского!
– Вы что хотите, чтобы еще кого-то убили? – спокойно поинтересовалась Трубецкая.
Лобанов вздохнул.
– Чего-то подобного я и ожидал. Сударыни, я уже старый лошак. В один из дней я свалюсь и отдам богу душу в какой-нибудь придорожной канаве. И вы останетесь одни.
– Но к тому времени мы уж точно до Нерчинска доберемся. Поехали с нами, Николай Борисович. Мы построим там наш собственный маленький мир, в котором и проживем до конца жизни. А вы будете самым почетным гражданином нашей маленькой Вселенной, полковник.
Лобанов задумчиво смотрел на Ниночку и Трубецкую. Повертел в руках трубку, покачал головой.
– Нет, из Читы я далее ни ногой. Поймите меня правильно, сударыни. Я устал… что-то во мне разладилось. Словно внутри поселился враг, имени которого не знаешь, а посему не можешь с ним бороться. Вот так-то, сударыни, что-то мне водочки вдруг захотелось. А ведь я знаю, что у вас припасено четыре бочонка. Тащите, тащите!
Эти женщины поражали его своей духовной силой, наэлектризованностью сияющей энергии. Они казались ему Россией. Один раз он тоже чувствовал нечто, сходное с этим восхищением женщиной, когда довелось ему столкнуться с матерью. В ту страшную ночь отцеубийства.
Он ведь тогда ничего не желал знать. И даже известие страшное о смерти отца поручил передать Палену, – матушка еще ничего не знала, хотя и слышала страшный шум во дворце…
Она подскочила к Палену и, отталкивая его, рвалась к телу мужа.
– Немедленно проведите меня к нему, – громким голосом приказывала она.
– К сожалению, ваше величество, это невозможно…
– Как это невозможно, чтобы жене отказывали увидеть умершего мужа? – гневно кричала она. Все толкала и рвала мундир на генерале. А генерал невозмутимо передавал его собственный приказ матери – вернуться в старый дворец, оставив Михайловский.
И тут она вконец вызверилась – как это сын приказывает матери?
– Я прошу вас от имени императора проследовать в Зимний дворец.
– Кто это тут называет его императором? – вскинулась она. – Никогда его не признаю.
А затем повелительным тоном произнесла:
– Немедленно отведите меня к мужу!
К ней бросилась Елизавета, заговорила тихо, увещевательно, что, мол, повиноваться должно. Свекровь гневно обернулась к его жене и желчно так произнесла:
– Вам так хочется повиноваться, вот вы и повинуйтесь, но не я…
А потом прорвалась к нему все же, устроила сущий допрос и, поставив его на колени перед образом Богородицы, заставила поклясться в том, что не виновен в отцовом убийстве…
Значит, и ей он солгал, солгал подло, – он знал все, хотя и не предполагал, что время его обагрится кровью отца.
А матушка так и не успокоилась до тех пор, пока не заставила его наказать всех убийц мужа – ссылка, Сибирь, действующая армия, крепость. И вот теперь он идет и их путем мученическим тоже…
Они приехали.
Читинская долина поражала взгляд своей растительностью – нигде больше не видели декабристы таких цветов, изумительных по красоте оттенков, бесконечное разнообразие лилий украшало долину и превращало ее в настоящий цветник.
Но жители Читы при таком изобилии жили бедно, как все заводские крестьяне Сибири, – сеяли лишь хлеб да незамысловатые овощи, которые поспевали в пять недель – с июня, когда прекращались ночные заморозки, и до половины июля, когда уже начинались осенние морозы.
Промышляли здесь выжиганием угля, да ловили рыбу в озере и реках.
Был тут небольшой хлебный магазин, который содержал купец Смольянинов. Был просторный комендантский домик, по крыше которого развевался имперский флаг. Были вдали горы, черная полоска на горизонте – таежные леса. И больше ничего.
Долгий марш через всю страну измотал их всех. Женщины выглядели ненамного лучше своих мужей, и Катенька Трубецкая задумчиво протянула, глядя на серебристую воду речки Читы:
– Сестренки, неужто мы предстанем перед комендантом в таком виде? Хоть мы и многое уже потеряли, мы все-таки все еще женщины.
И пока их мужей переправляли через реку, женщины разбили маленький лагерь на берегу. Они стирали платья, несколько горничных, оставшихся с ними после Иркутска, подстригали им волосы. И когда колонна тарантасов въехала в город, в них сидели дамы, выехавшие прогуляться по Невскому, элегантные и нарядные.
Буряты и солдаты с открытыми от удивления ртами мотали головами, боясь поверить в то, что они не спят. И пока арестантов заводили в острог, колонна женских экипажей замерла перед крыльцом комендантского домика. Полковник Лобанов в этот самый момент пытался заранее подготовить коменданта к тому, что его ожидает. Но когда генерал Артем Кузьмич Шеин вышел встречать новоприбывших, у него перехватило дыхание.
– Такого Сибирь уж точно еще не видывала, – шепнул генерал Лобанову. – Они и в самом деле собрались в Нерчинск?
– Это их единственная цель.
– Да ни ж там увянут, как цветы без воды.
– Эти? Нет! Они уже пережили этап до Читы, они выдержат, – Лобанов рассеянно похлопал себя по бокам в поисках трубки. – Дорогой вы мой Артем Кузьмич, говорят же, что любви никакие преграды нипочем. Их любви уж точно.
И хотя коменданту было страшно стыдно за свою Читу, нищее гнездышко на самом краю света, генерал Шеин решил устроить в тот вечер маленький праздник в честь своих гостей.
Ели копченую рыбу, пироги и огуречный мед, засахаренные фрукты. И лобановские опасения, что может повториться история с иркутским приемом, не оправдались. Сегодня дамы были более дружелюбны, они с довольным видом ели все, что им подавали, и не спрашивали, подадут ли их мужьям взбитые сливки на десерт.
И еще была одна радость. Посреди ужина Шеин вытащил из кармана аккуратно сложенную бумагу, поцеловал ее торжественно, а затем зачитал женщинам, что государь император дозволил ему, коменданту Читинских и Нерчинских рудников, снять железа с тех государственных преступников, которых он найдет того достойными.
Прочитав бумагу, комендант оглядел всех сияющими от радости глазами и заявил, что находит всех декабристов достойными монаршей милости.
Они тогда не проронили ни слова, зато оставшись одни, дали волю своим эмоциям.
– Вот милость так милость! – воскликнула Мария Волконская.
– Лишнее доказательство того, что мы в самом деле достигли самого края земли! – Ниночка вглядывалась в ночную темень за окном. Вдали выли волки, ветер гнал пыль по улицам. – Здесь железа не нужны. Отсюда в Европу не возвращаются.
Им удалось разузнать еще кое-что. Нерчинск, цель всех их устремлений, был разбит на две части – рудники с острогом арестантов и деревню. В то время, как арестанты жили за высоким деревянным палисадом, деревенские перемещались совершенно свободно. Возможно, что им удастся видеть заключенных в острог каждый день. Нерчинск – конечная станция жизни. В этом было что-то зловеще-великолепное.
И женщины начали скупать все в лавках Читы. Только сейчас Ниночка до конца поняла, как здорово иметь много денег. Граф Кошин сделал своей дочери самый лучший свадебный подарок. Не было ничего, чего бы нельзя было достать в Чите за деньги.
Генерал Шеин не мог помешать нашествию жен декабристов на купеческие лавки, он лишь спрашивал в волнении, как они все это собираются везти в Нерчинск. Лобанов же легкомысленно отмахивался.
– Уж довезут, Артем Кузьмич. Да еще и три сотни бурятов в носильщики прихватят… эти бабы ни перед чем не остановятся.
В самом конце мая 1827 года из Иркутска прибыл покрытый с головы до ног пылью курьер. Он почти падал с лошади от усталости.
– Курьер императора, – сказал генерал Шеин Лобанову в тот вечер. – Николай Борисович, приведите наших дам ко мне… на чашечку чая.
– Плохие новости? – вмиг догадался Лобанов. – Чего еще царю надобно?
– У меня приказ зачитать это письмо в присутствии дам. Возможно, его послание касается и вас.
Через час женщины, принаряженные как на светском рауте в петербургских салонах, сидели в просторной столовой генерала и ждали. Генеральские ординарцы разливали чай, в углу играли на балалайках четыре солдатика.
Наконец-то, в столовой в сопровождении трех офицеров появился генерал Шеин. Он оглядел нарядных дам и устало прикрыл глаза.
– Сударыни, – огорченно промолвил генерал. – Государь наш – вездесущ, вот и сейчас он встал меж нами. Мой долг кое-что сообщить вам. Эту бумагу курьер его императорского величества доставил только что. Я прошу вас, сударыни, сохранить вашу достойную восхищения выдержку, кою вы являли нам до сих пор.
Мертвая тишина воцарилась в просторном зале.
Генерал Шеин с видимым трудом развернул письмо на гербовой бумаге. Княгиня Трубецкая, сидевшая ближе всех к нему, увидела ярко-алую печать царя.
– Это не обман, – прошептала она сидевшим рядом с ней Ниночке и Александре Григорьевне Муравьевой. – Это – действительно письмо из Петербурга.
Петербург… как же далек он теперь от них! На другом конце света, оставив по себе лишь воспоминания по дням счастливой юности. Широкие улицы, великолепные дворцы и парки, Нева, каналы, острова и бухты, площади и сады, фонтаны и мосты – Северная Венеция, где ты?
Все миновало, все миновало окончательно. Из Читы, из Сибири, с границ китайских нет им возврата. Петербург – теперь это только слово, что отзвенело, словно вздохи влюбленных кавалеров на балу.
Генерал начал читать. Ему страшно тяжело давалась напускная твердость.
«Его императорское величество государь всероссийский Николай Павлович повелевает взять подписку с жен осужденных о лишении их всех прав состояния, титула и нынешнего положения. Желая разделить участь своих супругов, они уравниваются в правах с арестантами и становятся такими же осужденными. Их дети, рожденные в Сибири, становятся государственными крепостными».
– Боже, да накажи ты такого царя! – во весь голос воскликнула княгиня Трубецкая. – А впрочем… я люблю своего мужа, и это куда важнее любого указа из Петербурга.
Генерал Шеин вздохнул:
«Жены, избравшие участь мужей своих, не должны ни под каким видом ни к кому писать и отправлять куда бы то ни было писем, записок и других бумаг иначе, как токмо через господина коменданта. Обязуются иметь свидание с мужем не иначе как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера…»
– Ну, этого вполне достаточно, чтобы родить Сибири новую народность! – невесело усмехнулась Муравьева. Другие дамы зааплодировали ей. Полковник Лобанов набил свою трубку табачком и пустил густое облако дыма в генерала Шеина. Табак у него был просто на редкость отвратительным, под стать сегодняшнему настроению полковника. Шеин закашлялся и осуждающе взглянул на Лобанова.
– Прекратите безобразничать в самом-то деле! – сердито пробормотал он. – Не я же этот указ издавал.
– Но вы читаете его, дорогой генерал. Да еще так подобострастно, а должны бы после каждого слова отплевываться. От эдакой-то пакости.
– Далее! – Шеин прокашлялся и поднес бумагу поближе к близоруким глазам.
«Государь повелевает, что жена, желающая разделить участь своего мужа, не вправе передавать, продавать кому или уничтожать что из числа вещей своих, при ней находящихся и которым регистр имеется у господина коменданта. Наконец, давши такое обязательство, она не должна сама никуда отлучаться от места того, где пребывание ее будет назначено, и посылать куда-либо слуг своих по произволу своему, без ведома господина коменданта. Выдано в Санкт-Петербурге, 1827 года. Его величество…»
– Величество? – ахнул в притворном ужасе Лобанов. – Величество? Да это слово как оскорбление Богу!
– Ваше мнение, Николай Борисович, здесь вообще не интересно! – раскричался, багровея лицом, Шеин. – Речь-то идет о дамах. – Он глянул на нарядных, уже отдохнувших от долгого пути женщин. И увидел побледневшие от ужаса и возмущения, но исполненные решимости лица. Собственно говоря, не было никакой нужды спрашивать их, что они думают, но согласно указу Шеин должен был это сделать.
– Я спрашиваю вас, – устало поинтересовался генерал, – готовы ли вы дать такую подписку? Кто согласен, прошу подняться.
Женщины молчали. А потом внезапно все стулья отодвинулись разом. Как по команде, женщины поднялись из-за стола, прямые, словно свечечки, с гордо вскинутыми головами – поднялись все, без исключения. Им не понадобилось и минуты на размышления.
– Браво! – закричал Лобанов. – Бра-во. Истинная любовь и Сибирь победит. Шеин, забудьте про столичных лизоблюдов. Историю делают эти женщины, не царь!
Шеин презрительно бросил на стол царское письмо. Другие офицеры с трудом удерживались от слез.
Государственные крепостные люди – Трубецкая, Кошина, Волконская, Нарышкина, Фонвизина, Муравьева. Имена, услышав которые вспоминаешь о дворцах и неисчислимых богатствах.
– Сударыни, – прошептал Шеин, с трудом оставаясь спокойным, – ступайте по квартирам. Вам еще придется подписать официальный отказ от прав и состояния.
– А когда мы сможем поговорить с нашими мужьями? – перебил его звонкий Ниночкин голосок.
– Завтра утром, мадам.
– И как долго?
– У вас будет весь день. Когда вы подпишете бумагу, у вас больше ничего, кроме мужей, не останется.
– И мы горды этим, – отозвалась Трубецкая, но голос ее предательски задрожал. Генерал Шеин хотел сказать еще что-то, но лишь махнул рукой и пошел прочь. Офицеры последовали за ним. Только Лобанов остался в зале.
– И что теперь? – спросила Волконская. Женщины окружили полковника со всех сторон, жались к нему испуганными птицами, а он задумчиво выбивал трубку о деревянный свой протез. – Что нам делать-то теперь?
– Поедем в Нерчинск, построим там себе жилье, – отозвался Лобанов. – Будет у нас деревенька женская. Царство бабье. Если вы потерпите в ней сварливого, хромого старика, сударыни…
– Дайте, я вас поцелую, Николай Борисович! – Трубецкая повисла на шее старого полковника. – Даже в богом забытом мире не так одиноко, если есть рядом такие люди, как вы!
Он уходил все дальше на север. Он был благословен на этот путь. Так когда-то сказала юродивая, Ксения Блаженная. Только здесь в тайге познает он суть этой благословенности. То, что было с ним до этого, вся эта мишура петербургская – все не настоящее, все морок. Никого там рядом не было, словно пустыня была вокруг, а те, что окружали, были лишь бесплотными хитренькими тенями. Тени улыбок, тени слов, тени людей. Вот именно что морок!
Господь даровал юродивой, направившей его благословенность, всю свою жизнь проходившей по городским улицам без крова над головой, без постоянной еды и тепла, дар предвидения, дар прозрения. Она прозрела его путь. Она одна ему его указала. Благословен, думал он о ее слове и страшился признаться себе, что еще долгий путь придется пройти ему, чтобы оправдать это ее слово. Путь по Сибири. Он поправил котомку, прищурился близоруко и двинулся к лесу.
ГЛАВА 11
Следующий день стал днем великого счастья. С девяти утра до восьми вечера женщинам позволили находиться подле их мужей. Впервые за полтора года между ними не ходило никаких часовых, впервые их не гнали прочь друг от друга, словно два разных стада скота, которых ни в коем случае нельзя смешать. Впервые за восемнадцать месяцев они лежали друг подле друга под горячим солнцем Сибири, целовались и говорили друг с другом обо всем, что накопилось за это время на душе и сердце.
…Борису хотелось броситься перед Ниночкой на колени и целовать край ее черного платья, касаться губами ее по-детски пухлых губ. Но он только смотрел на нее, не в силах вымолвить ни слова, жадно пожирая ее взглядом.
Ниночка первой подбежала к нему, обвила руками его уже седеющую голову, прижала к груди, а потом откинулась и заглянула в добрые усталые глаза.
– Мой Борюшка, – только и повторяла она.
– Моя Ниночка, – наконец, пробормотал и он.
– Господи, как же ты похудел, – шептала она и целовала его глаза и устало опущенные уголки губ и натыкалась на все те же кольца железной цепи, которые пока так и не сняли, и пыталась отвести их в сторону.
– А ты все так же прекрасна, моя любимая, – шептал он, и его губы тянулись к ее губам, и прохладная белоснежная кожа ее лица казалась ему божественной…
Шеин и Лобанов, выехавшие в полдень на прогулку, увидели в лесу под тенистыми деревьями сразу несколько парочек. Они были счастливы, несмотря на физические невзгоды, ужасные раны, разбереженные оковами, несмотря на отчаяние, пожиравшее их вместе с воспоминаниями о потерянной родине.
– Эти женщины… – вздохнул Лобанов. – Вы только поглядите на них! Два года назад они были всего лишь избалованными, воспитанными в роскоши существами. А завтра, если понадобится, они будут валить деревья в тайге. Господи, и что только любовь творит с людьми!
…Сегодня даже Трубецкой чувствовал себя счастливым, счастливым вполне. Хотя много хлопот доставляли ему кандалы. Он старался делать вид, что вообще не замечает их существования, но бесконечное звяканье и грохот желез никак не могли заставить его спать спокойно. Это и шум от разговоров и песен утомляли его. Он страдал от того, что не мог уединиться, думать о чем-то, постоянное общество хоть и своих же товарищей приводило его в уныние и тоску. Он мечтал о чистой постели, свободной от клопов, о простынях, здесь уже давно позабытых. Невозможно было читать в этапе, да и нечего было – и это удручало его больше всего. Но сегодня с ним была его Катенька, самая большая любовь его…
Вечером того же счастливого дня Борис и Ниночка возвращались в лагерь. Ворота острога были открыты, пара солдат в пропыленной, грязной форме усмехнулись понятливо. Черт побери этих арестантов! Да им лучше живется, чем нам. Вон какие пташки рядом с ними расхаживают. А мы? Нам только и остались эти воняющие прогорклым салом бурятки с широкоскулыми мордашками и раскосыми глазками…
– Я построю нам дом рядом с острогом, – заявила Ниночка и крепко сжала руку мужа. – Мы все уже решительно обговорили… Мы будем помогать друг другу. Разделимся на четыре группы и вместе построим четыре дома.
– В воскресные дни мы тоже сможем присоединяться к вам и помогать, – отозвался Тугай. И пошатнулся, долгие месяцы этапа измотали его, и только лишь иногда в глазах мелькала озорная искорка, как в былые времена, когда скакал он впереди своего эскадрона.
В Чите они получили новую амуницию – не те отвратительные дерюжные одежки, а вполне приличные костюмы, хоть и подлатанные во многих местах. Теперь у них была справная обновка, соломенные широкополые шляпы, как у бурятов, а в остроге им сказали, что зимой дадут валенки, ватные куртки и меховые штаны.
– Конечно, они делают это не из простого человеколюбия, – сказал Борис Ниночке. – Нужна рабочая сила, а кто замерзнет, значит, работал плохо. Еда тоже получше будет. А вот после Нерчинска самим придется о себе позаботиться. В тайге полно разного зверья, да и рыба в реках найдется. А овощи мы и сами вырастим. Ниночка, мы будем жить! – Он поцеловал ее, а она повисла у него на шее, прижалась крепко. Борис внимательно вгляделся в ее хорошенькое личико. И улыбнулся печально.
– А мы еще мечтали когда-то, что наши дети вырастут в доме у моря, рядом с дюнами, с видом на бесконечность…
– Зато теперь они вырастут в бесконечном лесу, и маленькая хижина будет им милее раззолоченного дворца.
– Они будут крепостными, Ниночка! Наши дети будут государственными крестьянами, рабами царя…
– Они всегда будут чувствовать себя свободными, любимый. Мы их воспитаем так, что превыше всего они будут любить свободу. – Ниночка отвернулась и, прищурившись, вгляделась в черную цепочку гор на горизонте. – Их родина, Борюшка… она здесь. Вся земля будет принадлежать им одним! У кого еще есть такое богатство? Боря, нас не наказали, нас одарили!
– Коли ты довольна этой жизнью, Ниночка, – вздохнул Тугай, и горло у него перехватило судорогой.
– Я довольна, любимый, потому что это – твоя жизнь! Чего же нам еще желать?
Вечером они вновь вернулись на свои квартиры: мужчины – в острог, женщины – домой.
Муравьев был откровенно счастлив. Его жена привезла с собой карточные игры. Он ходил по острогу в поисках партнера для игры в пульку на десять копеек. Князь Трубецкой получил шахматы, пропутешествовавшие в саквояже его жены тысячи верст. Волконский принес в острог ящик с книгами – часть его горячо любимой коллекции французских романов.
– Вот это – жизнь! – крикнул он. – Моя жена, мои книги… и никаких забот о распроклятом имуществе!
Кто-то засмеялся, но смешок вышел невеселый. Никаких забот? Но ведь они еще не добрались до Нерчинских рудников. Им открылась только малая часть Сибири. Но уже рвались тоненькие жилочки, все еще связывавшие их с цивилизацией. Нерчинск был сердцем Молоха по имени Сибирь. Молоха, который питается человеческой плотью.
Они знали об этом. Знали, что скоро станут такой жертвой – недели через четыре или через четыре месяца, или через четыре года. Лучше забыть про календарь. Что значат здесь дни или недели? Солнце всходит, солнце заходит – вечный танец безвременья. И вообще слава Богу, что это солнце можно увидеть.
Летели к папеньке, Павлу Михайловичу, письма в сановно-холодный Санкт-Петербург. Письма восторженные:
«Милый мой папенька! В Восточной Сибири природа так великолепна, так богата флорою и приятными для глаза ландшафтами, что, бывало, невольно с восторженным удивлением простоишь несколько времени, глядя на окружающие предметы и окрестности. Ах, папенька, воздух же так благотворен и так напитан ароматами душистых трав, что, дыша ими, чувствуешь какое-то особое наслаждение».
Она изо всех сил рисовала радостную, почти идиллическую картину своего странствия. Странствия по Сибири. Пусть поверит отец, пусть утешится его истерзанное болью родительское сердце.
«Ах, папенька! Милый мой! Какой же ныне выдался очаровательный вечер! Ясное небо! Звезды горят ярко, а кругом мрак. Окрест нашего стана пылают костры. В ярком пламени рисуются различные фигуры в различных положениях. Близкие деревья освещены, подобно театральным декорациям, одушевленные картины, да и только, и каждая из них носит на себе особый отпечаток. Бальзамический воздух – все, все очаровательно! Очаровательно даже и не для узника, которому после тюрьмы и затворов, без сомнения, прелестен божий мир».
Пусть поверит папенька, что она совершенно счастлива даже здесь, в далекой и странной Сибири. Пусть поверит…
Спустя четыре недели этап был готов к отправке в Нерчинск. Дни стояли нестерпимо жаркие, с Китая дул ветер, бросал в лицо пригоршнями песка. Трава стала бурой, где-то начали гореть леса, дым стелился по земле.
Генерал Шеин получил подписку с каждой из женщин и отправил документы в Иркутск. Оттуда уже новый курьер поскачет в Санкт-Петербург. Генерал решил отправить женщин вслед за этапом в повозках на высоких колесах.
– Ведь они же, – заявил он, – теперь такие же бесправные, такие же арестантки.
Полковник Лобанов повесил мундир на вешалку, отсалютовал ему, затем переоделся в гражданское, натянул высокий юхтовый сапог, купленный у бурятов. А потом попрощался с генералом Шейным.
– Вы когда-нибудь покупали всего один сапог? – спросил Лобанов. – Не пару, нет, а только один. Потому что для чего моей деревяшке сапог? А эти торгаши! «Ваше благородие, кто ж купит у меня непарный сапог?» Я отвечаю: «Поищи себе еще какого-нибудь одноногого!» А этот жулик кричит: «Так вдруг у него левой ноги не будет? Я разорен! Вы должны оплатить пару, даже если один возьмете!». Вот и не осталось мне ничего другого, как отдубасить пройдоху по шее этим самым сапогом, положить два рубля и уйти!
– Врете вы все, – добродушно отозвался Шеин. – Сапоги-то рубль стоят. Этот жулик и впрямь вас за идиота законченного держал. Хотя вы и есть такой идиот! Раз в Нерчинск собрались.
– Да, собрался. Пару лет, что мне еще остались, я вполне могу провести в лесу. И кто меня в этом обвинит? Да никто! Я пожертвовал государевой службе долгие годы… и ногу. А теперь я на покой хочу. Буду сидеть на солнышке, а зимой греться у открытой печки, покуривать трубочку и дожидаться в гости костлявой с косой в руке. Скажите честно, Шеин, разве ж это не чудесно?
– Но немного безнадежно, Николай Борисович.
– Зато покойно, – рассмеялся Лобанов. – Не так уж много мест в России, где можно жить спокойно.
Этапом в Нерчинск было поручено командовать молоденькому лейтенанту Полкаеву. Шеин выбрал его специально, прекрасно зная, что юноша пока не дорос до сего задания. И Лобанов это тоже знал.
– Полкаев, вы – зеленый юнец, – без обиняков заявил ему полковник, а лейтенант даже и не подумал обижаться на него. Для Полкаева полковник Лобанов был героем войны, а герои – они все так с обычными людьми разговаривают. – Вас назначили командиром, – продолжал полковник, – но решения принимать буду я. Надеюсь, мы поняли друг друга, лейтенант?
– Очень даже хорошо, Николай Борисович, – Полкаев вытянулся по стойке «смирно». – Я так и думал.
– А вы умны не по летам! – усмехнулся полковник. – Думаю, вам удастся сделать карьеру.
Лейтенант помог Лобанову взобраться в седло; повозки и тарантасы жен декабристов, доверху груженные всевозможным багажом, были готовы к отправке. Из острога выехали широкие телеги арестантов. Сюда же были погружены материалы и инструменты, амуниция и провиант, сами же арестанты маршировали рядом. Но очень скоро все изменится. Дорога на север была отвратительна. Довольно скоро она превратится в тропинку, а под конец и тропинки-то не будет. Сибирь еще покажет, какова она на самом-то деле: прекрасная, но опасная.
– Колонна, шагом марш! – закричал Лобанов, вскидывая руку.
Маленькие, бурые лохматые лошаденки неторопливо затрусили вперед. Кучера ругались, раздавались удары плетей, обрывки песен. Женщины оглядывались на Читу, исчезнувшую в клубах пыли. Генерал Шеин в одиночестве стоял на обочине дороги, держа в поводу лошадь. Он казался ожившим памятником, последним бастионом цивилизации.
Ниночка, а ей все не сиделось в повозке, которой правил верный Мирон, переоделась в брюки и сапоги и гарцевала на лошади во главе колонны.
– Ну прямо мальчишка, – весело улыбнулся полковник Ниночке, и в самом деле напоминавшей в этом наряде молоденького юношу. – Что дальше-то напридумываешь? Лучше скажи, когда ребеночка-то родишь?
– Коли Бог захочет, месяцев через девять, батюшка, – ответила Ниночка. Она уже привыкла величать Лобанова так, он и в самом деле казался ей чем-то незыблемым и надежным, многим напоминая отца. – Я очень молюсь об этом. Ребенок придаст Борису силы.
– А известно ли вам всем, сударыни, что в Нерчинске еще нет никакого доктора? Возможно, что таковой и не появится никогда.
– И что ж с того, Николай Борисович! Если бурятки рожают детей без докторов, почему бы и мне не попробовать?
И летела впереди этапа песня, трогательная песня, только что сочиненная неуместным в Сибири Кюхлей и подхваченная всеми без исключения. Даже Лобанов подпевал весело.
Что за кочевья чернеются Средь пылающих огней? — Идут под затворы молодцы За святую Русь. За святую Русь неволя и казни — Радость и слава! Весело ляжем живые За святую Русь. Спите, равнины угрюмые! Вы забыли, как поют. Пробудитесь!.. Песни вольные Оглашают вас. Славим нашу Русь, в неволе поем Вольность святую. Весело ляжем живьем В могилу да за святую Русь.Слушали эту песню густые заросли карликовой ивы и березы. Крапива, непременная спутница покинутых человеком дорог, тоже вслушивалась в голоса этапа. В густой траве, таясь, слушали зверьки малые.
Слушали крутые увалы. Вслушивались тропы звериные, по всей видимости медвежьи. Испуганно взлетали рябчики, разбегалась какая-то мелкая лесная живность, мелькнет по стволу белка, в кустах шумно и тяжело взлетит копалуха.
А вот песня оборвалась, уткнувшись в прибрежные кусты неширокой, но бурной и глубокой речки. От некогда деревянного моста осталась лишь длинная плаха, чудом державшаяся на двух сваях. Брод, брод придется искать. И с песней направились на поиски. Они шли, как вдруг почувствовала Ниночка странное удушье, тревога сковала сердце, и ей нестерпимо захотелось как можно быстрее покинуть это страшное, гиблое место. Впечатление усугубляли мрачные, поросшие темным лесом горы, болото в стороне, покрытое низкорослой рыжей травой. Очевидно, остальные тоже испытывали те же чувства, переглядываясь, перестали улыбаться привычно, а только отводили глаза в сторону.
В воздухе витало нечто гнетущее, давящее пронзительным холодом и ненавистью. Может быть, это духи сибирские шалят. Иначе откуда здесь такая концентрация гигантской отрицательной энергии?
– Здесь раньше лихие люди пошаливали, кровушку человеческую лили без меры, – вздохнул Лобанов и перекрестился. – Места эти много человеческих смертей, унижений да злобы насмотрелись.
Ветер посвистывал в ветвях, и Ниночка внезапно поняла, что только этот звук сиротливый нарушает странное безмолвие, поглотившее таежную местность. Здесь молчали птицы, неумолчно свиристевшие до того в тайге, здесь не шумели вершины деревьев, не шелестела трава. Только монотонный, тоскливый звук ветра бился, как память о жутком человеческом бытии.
Лобанов взглянул на помрачневший этап:
– Гиблое, страшное место, смертью пахнет и горем! Сколько же здесь бедолаг полегло, одному Богу ведомо! Давайте-ка поспешать. Нам на север надобно…
Обойдя место страшное, вздохнули свободно. Здесь царила радость, весна жизни. Пахло холодной, чистой водой, пряными травами, только-только пошедшими в рост. Тайга дышала молодой, прозрачно-зеленой листвой. В долине подле Читы уже отцвели и черемуха, и рябина, а здесь же они едва набрали цвет. Из-под ног выбивались ярко-розовые венчики бадана, острые стрелки черемши. Это время в тайге – время появления на белый свет детенышей маралов, косуль, кабарги. Медвежата уже вовсю бегают за своими косолапыми мамашами. Птичьи гнезда полны разноцветных комочков юных жизней. Резкий запах тайги будоражит все сущее. И вновь несется сочиненная только что песня:
Что за кочевья чернеются Средь пылающих огней? — Идут под затворы молодцы За святую Русь. За святую Русь неволя и казни — Радость и слава! Весело ляжем живые За святую Русь.Лошади, мерно покачивая головами, трусят на север дружно, без понуканий.
Тропа свернула вправо, пошла дорога круче. Теперь шли гуськом, изредка покрикивая на лошадей, на ходу пытавшихся ухватить пучки молодой травы. Дорога метнулась в кедровый лес. Кажется, здесь совсем недавно прошла сильная буря, уж слишком много деревьев поваленными оказались. Ветром выворотило многие кедры, при падении захватившие корнями огромные пласты земли. Повсюду лежал валежник, огромные обломки старых деревьев, а «пол» кедрового леса покрывал зеленый влажный мох. Поглощавший все, что падает на землю. Мох сей не терпел в соседях ни трав, ни цветов, не давал росту лиственным деревьям, – поэтому все в кедровом лесу показалось женщинам так однообразно, одноцветно. Разве только лучи солнца сибирского, проскользнув сквозь пушистые, густые кроны деревьев, скрашивали скучный фон причудливым узором, сотканным из света и теней.
Они уже порядком все устали. То и дело приходилось поддерживать тюки со скарбом, чтобы не заваливались они набок. Пальцы болели, вдавленные в твердые носки сапог. Привал, поскорее привал…
Ниночка почти не чувствовала усталости, но так хотелось поскорее остановиться, за подруг волновалась. Как-то они перенесут все это? Лобанов тоже тревожно оглядывался на спутниц и, хотя на ночлег останавливаться было всякий раз рановато, он приказывал отдыхать этапу.
Выпустив лошадей из тарантасов и стреножив их, отгоняли на небольшие полянки, густо поросшие молодой травой. Хлопоты вокруг костров, приготовление нехитрого обеда. Солнце вечернее украдкой поглядывало на них. От земли, камней, травы поднимался легкий пар. Красотища!
Ночи были холодные. Немая тишь звездного неба висела над ними. Все выше поднималось огненное пламя, разгоняя мрак, даря живительное тепло. Вот в огонь попадались пихтовые веточки, вспыхивали моментально, осыпая солдат, каторжан и женщин фейерверком искр.
Люди, проведя долгий день на свежем воздухе в тайге, засыпали быстро. Их не тревожила ни бессонница, ни сновидения, они не слышали ночных шорохов и звуков, не замечали кочек и шишек под собственными боками. Такова уж тайга сибирская, за день силушки человеческие измотает, но и восстановит их быстрее!
Ночью все они спали крепко. Не колыхались мохнатые вершины кедров, словно боясь нарушить тишину холодной ночи, дремали ручьи, и даже костры засыпали по ночам, прикрывшись толстым слоем пепла.
А утром их будил зычный голос полковника Лобанова:
– А ну, подъем, господа хорошие! Нам вперед надобно, на север…
Они шли на север уже двадцать дней. Двадцать дней борьбы с лесом, жарой, непрекращающимся ни на минуту дождем, вновь превратившим землю в первобытное болото.
Впервые им пришлось рыть могилу для двух мужчин, бывших «черниговцев» и их жен. Нет-нет, женщины эти ничем не болели, но, взглянув на спокойные мертвые лица мужей, они просто ушли в лес и повесились. Мужья были их жизнью, и вот теперь они были мертвы, так что же им, их супругам, ждать теперь от Сибири? Для них жизнь оборвалась.
Их похоронили рядом, помолились, а потом пошли дальше. Каждая остановка только усугубляла их плачевное положение, они и без того устали, а им еще предстояло готовиться к зиме.
– Вперед! – кричал Лобанов. – Вперед! Мы скоро уже доберемся! Не так уж и много этих верст осталось.
Версты… Вся их жизнь превратилась в отмерянные и еще не пройденные версты… И этот дождь, дождь, дождь. Тайга плакала.
Уже давно женщины шли в ногу со своими мужьями, выталкивали из непролазной грязи повозки, готовили на кострах пищу, перевязывали раны. Они были ангелами-хранителями осужденных царем и страной, один лишь их взгляд вселял в людей новые силы.
Еще немного! Всего-то несколько верст с гаком! А гак еще на полверсты потянет. Ветер становился все холоднее и холоднее, завывал угрожающе в кронах деревьев. Скоро зима! Уже совсем скоро! Быстрее, быстрее!
Четвертого августа они добрались до Нерчинска. Лобанов вздохнул облегченно: бега наперегонки с непогодой они все-таки выиграли.
Украдкой смахнул полковник слезу. Он уже успел полюбить этих подруг по несчастью – и Ниночку, и Александру Григорьевну Муравьеву, юную, белокурую, гибкую станом и прекрасную лицом и сердцем, и Елизавету Петровну Нарышкину, гордую, надменную двадцатитрехлетнюю красавицу, схоронившую дочь еще до осуждения мужа, и Александру Васильевну Ентальцеву, круглую сироту, никогда не имевшую детей, и княгиню Волконскую, и Полину Анненкову, эту жизнерадостную француженку, никогда не оставлявшую веселости даже в самых трудных обстоятельствах. Но все чаще взгляд его останавливался на Трубецкой, которую даже за глаза Лобанов не осмеливался называть Катенькой, Катюшей…
Нерчинские рудники на первый взгляд казались безутешным пятном на теле земли, местом, о котором позабыл Господь в дни Творения. Но при более точном рассмотрении становилось понятно, что к этому местечку стоит приложить руки. Текла куда-то широкая и спокойная Олекма, речонка, в которой рыбе тесно было, вода ее была прозрачной, вкусной и очень холодной. А вокруг стояли леса, полные разного дикого зверья, бобры строили на реке свои хатки, олени безбоязненно выходили на зеленые лужайки, лисы, барсуки, рыси и росомахи жили в тех лесах, а если встать на камни в одной из бухточек, можно увидеть, как выпрыгивает из воды лосось, длинные, откормленные рыбы мелькают в воде, почти что плывя к человеку в рот, словно в сказочной стране с молочными реками и кисельными берегами.
– Что за земля! – восторженно повторял Лобанов. – А ее еще боятся в этой вашей Европе! – И победно глянул на женщин, стоявших вместе с ним на берегу Олекмы. – Ну, кто из вас еще тоскует по каменным мостовым Петербурга? Кто мечтает о шелковых обоях на стенах? Кто плачет по гобеленовым креслам? Только не я!
Княгиня Трубецкая звонко рассмеялась.
– Я заказала в Иркутске два кресла с гобеленовой обивкой. Их как раз везут в Читу. А уж оттуда и к нам доставят. Одно я мужу подарю, а второе – вам, Николай Борисович.
И Лобанов впервые покраснел от смущения, отвел глаза в сторону.
Первые недели были заполнены суетой. Мужчины – жившие теперь в остроге за высоким деревянным тыном – начали валить лес. До снега было еще далеко, ветер уж был пронизывающим, но все-таки не ледяным. Холодно им пока что не было.
Те, кто жил в Нерчинске, вели себя поначалу выжидающе: буряты, тридцать два помилованных, но оставленных в Сибири на поселении арестантов и несколько охотников, доставлявших меха в государственную факторию, где царил толстяк-купец Порфирий Евдокимович Бирюков. Он-то и был настоящим хозяином Нерчинска. Он назначал цену, он представлял торговые интересы царя и раздавал водку. Одно это превращало его в полудержавного властелина.
Лобанов сразу же по прибытии нанес купцу официальный визит, осмотрел его с ног до головы и проговорил спокойно:
– Послушай-ка ты, висельник! У тебя есть два варианта… или ты делаешь, что я скажу, или я делаю то, что я хочу. Что выберешь?
Порфирий Евдокимович решал недолго и, глядя на деревянный протез полковника, уточнил:
– А разве это не одно и то же, отец любезноверный?
– В общем-то, нет. Если будешь делать, что я захочу, жизнь твоя будет спокойна. А если я начну делать все, что мне заблагорассудится, будешь молить Господа Бога о каждой, выдавшейся спокойной, минутке.
– Лучше договориться, – дипломатично отозвался Бирюков.
Они выпили за дружбу четыре граненых стакана водки, находя друг друга крайне отвратительными рожами, но были готовы ужиться.
Женщин распределили по деревянным баракам. Там жили вольнопоселенцы, и это было сущей бедой. Эти помилованные, не имеющие права покидать Сибирь до конца жизни, большей частью были личностями криминальными, в свое время «щипали» честных прохожих на темных улицах, занимались воровством и душегубством. И вот теперь придется жить с ними под одной крышей, пока не будут готовы их собственные дома, а на это нужно время.
Лобанов разрешил все проблемы одним только взмахом руки. Он велел созвать нерчинцев на площади перед торговой факторией. Подле лабаза Бирюкова полковник приказал поставить большие козлы. И когда все собрались на площади, без лишних предисловий ткнул в них плетью.
– Кто из вас попробует нанести обиду этим женщинам, кто из вас украдет у них хоть что-то, кто поведет себя хотя бы раз не как добрый христианин, того я велю привязать к этим самым козлам и забью до смерти. Ясно?
Восемьдесят настороженных пар глаз наблюдали за Лобановым. А ведь он это серьезно, читалось в этих взглядах. Он – тот человек, кто долго рассусоливать не любит, он действует. Братцы, рано или поздно нам придется убить его, иначе – конец спокойной жизни. А пока – пусть поболтает…
На седьмую неделю после их приезда в Нерчинск появились первые два дома. Дома Трубецких и Волконских. А потом, как грибы из-под земли, начали расти и другие домишки, и другие женщины, а среди них и Ниночка, смогли перебраться в новое жилище. Правда, перед ее переездом случилась одна неприятная история. Собирая вещи, Мирон увидел, что из Ниночкиного багажа пропали два медных котелка.
– Ну, что, друзья? – обратился Мирон к мужикам, жившим по соседству с ними. Когда-то они постоянно нападали на почтовые кареты, а потому и были сосланы в Сибирь, где в конце концов женились на бурятках. – Вы, что, из-за каких-то котелков без ушей остаться хотите? А ведь я их вам как пить дать отрежу, если котлов через час на месте не будет.
Котлов бывшие каторжники возвращать не собирались, а вот в лесу спрятались.
О, Господи, не знали они Мирона Федоровича! Великан пошел по их следу, словно легавая, разыскал в овражке, и, когда они вздумали в него стрелять, свалился навзничь нарочно, вытаскивая из-под армяка пистолет. На это воришки явно не рассчитывали, и нерчинские леса стали могилой для двух человек.
Об этом случае судачили долго. Вольнопоселенцы собрались на тайную сходку и решили не конфликтовать с «новыми», и даже помогли при постройке следующих четырех домов.
Девятнадцатого ноября 1827 года домик Ниночки был окончательно готов. Борис сам работал на крыше, а потом ловко скатился по уже обледенелому дереву прямо в объятия жены.
– Наш дом, – дрогнувшим голосом прошептал он. И они крепко обнялись.
– Давай же войдем, Борюшка, – немного робея, сказала Ниночка. – Разожжем огонь. Наш первый огонек в очаге нашего дома. Я так счастлива, Борюшка!
Он кивнул, подхватил ее на руки и отнес в пока пустое, холодное, пахнущее деревом жилище.
…Почти два года они не были так близки друг с другом. Два раза в неделю часовые свидания при постороннем человеке уже успели приучить их к сдержанности в выражении своих чувств. Разве то были свидания?! Неужели ж может любящее сердце растянуть час, крохотный час на ночь или хотя бы на несколько часов. Они любили друг друга, но уже забыли, что такое любить тело.
И вот сегодня ради новоселья для них сделано исключение. Они наслаждались предоставленной им уединенностью, узнавали, заново открывали друг друга.
Жемчужно отсверкивала белоснежная кожа Ниночки, круглились холмики молочно-белых грудей, руки ее, словно белые птицы, обнимали плечи Бориса, и, казалось, что этой ночи не будет конца. Они были одни, вдвоем, они были наедине, и удивительное чувство счастья и незабываемой радости наполняло их.
– Боже мой, какая ты красивая, – все время повторял Тугай. – Я так отвык от тебя, я не могу насмотреться, я так люблю тебя, твое божественное тело! За что мне награда такая от Провидения, за что так награждает меня Господь!
А вокруг Нерчинска бродили часовые, у костерков подле острога сидели и лежали конвойные солдаты.
Скоро пройдет эта удивительная ночь, скоро серый рассвет притушит яркий блеск звезд. А пока пусть идет она своим чередом, пусть будет благословенна, она, эта ночь…
ГЛАВА 12
Хотя нет, не замолить грехов Романовых державных, думал он долгими ночами, греясь у печурки и глядя в дымный огонь сквозь ее открытую дверцу. Синее пламя облизывало сосновые поленья, капли смолы выступали на них, как слезы прошедших сквозь муки мученические поколений. Вскипала смола, и выстреливали искры, словно душа из ружья целилась.
Пламя играло отблесками на черных закопченных стенах его неказистой избушки, в которой и всего-то было, что стол, лежанка, два грубо сработанных стула да по стенам кое-где несколько картинок и гравюр религиозного содержания – иконы Божьей Матери и Александра Невского.
На грубом столе, самом примитивном, лежали Евангелие, Псалтырь, акафист Пресвятой Животворящей Троице, молитвенник, изданный Киево-Печерской лаврой да «Семь слов на Кресте Спасителя»…
Прошло два года.
Это были суровые, но все же прекрасные годы. Из маленькой фактории Нерчинские рудники с нищими домишками и лабазом жирного Бирюкова превратились в маленький чистый городишко с нарядными аккуратными домиками, улицей, деревянной мостовой, маленькой часовенкой и комендантским домиком. В последнем даже был зал, в котором участники самой настоящей «театральной труппы» представляли для зрителей пиесы.
Скоро поняли заключенные острога, что умственная пища была для них более необходима и полезна, нежели пища материальная.
Кормили-то их достаточно, правительство положило на содержание каждого по шести копеек меди в сутки и мешок в два пуда муки на месяц. Этого не могло хватать на больших взрослых мужчин. Но оказалось, что общество тайное приучило их всех к братству и общности. И богатые, те, что привезли с собой деньги, стали выделять на всю артель суммы, достаточные для содержания каждого.
Но когда начались лекции и беседы на политические, философские темы, когда каждый из арестантов, а здесь люди все были образованные, мог поделиться своими знаниями с другими, стало совсем весело.
Это было нечто, ранее в Сибири не встречавшееся: арестанты и их жены играли Шиллера и Шекспира. Княгиня Волконская занялась режиссурой, Ниночка играла первых героинь, а полковнику Лобанову достались роли всех великих интриганов. Он изображал и Франца Мора, и Ричарда III, и Мефистофеля, и Шейлока. Когда он топал деревянной своей ногой по сцене и кричал: «Мне по душе лишь запах крови!» – ему верили. Ну, почти каждый верил.
Дворик острога перед высоким частоколом, устроенным из обтесанных бревен и заостренных кверху, был невелик, но почти все выходили сюда просто подышать свежим воздухом или окинуть взором хотя бы и небольшое пространство, но гораздо свободнее маленького, крохотного помещения камеры.
На каждой стороне двора помещался часовой, а в воротах их стояло два. Однако были это люди добрые, и их почти не замечали…
Каждый день, несмотря на мороз и холод, заключенных выводили на конец селения и заставляли засыпать какой-то никому не нужный ров. Ничего не объяснялось арестантам, никаких норм работы не было, и они, изнуренные теснотой, скученностью в камерах, работали на совесть. Здесь во время работ встречались они с теми, кто жил в других домах, и подолгу разговаривали, обменивались новостями, расспрашивали о родных и знакомых, если удавалось получать весточки из дому.
Никто не принуждал заключенных работать, охрана состояла всего из нескольких солдат, и, перевезя несколько тачек земли, все садились в кружок и подолгу разговаривали или даже читали книгу. К Чертовой могиле, как назвали они этот ров, сходились все пути всех арестованных, но кому понадобилось засыпать эту ямину, никто не знал, да, впрочем, и не старался узнать. Работа не только отвлечет от мрачных мыслей, но и придаст крепость мускулам, ослабевшим за время пребывания в казематах Петропавловки.
Лобанов смотрел на их работу сквозь пальцы. Когда закончилась земляная работа, он поставил их на ручные жернова – молоть муку. Но и здесь была такая же история – муки они мололи немного, больше играли в шахматы, читали, беседовали, и продукция их была такого качества, что могла идти только на прокорм быков.
Светская жизнь тоже кипела в Нерчинске. Дамы по очереди приглашали друг друга на чашку чая или для игры в карты, устраивали литературные вечера с громким обсуждением литературных новинок, в Читу и даже Иркутск посылались люди за все новыми книгами и газетами, что потом вновь давало почти неисчерпаемые темы для разговоров.
Генерал Шеин, дважды наведывавшийся в Нерчинск, лишился дара речи, поприсутствовав на шиллеровской «Орлеанской деве», в которой Ниночка старательно изображала Иоанну.
– Если я об этом доложу в Петербург, государь со всем своим двором переедет в Нерчинск, – весело улыбнулся Шеин.
Лобанов только фыркнул в ответ.
– А что? Вполне возможно. Как там вообще, дали ли ход прошению о помиловании?
Шеин по-птичьи склонил голову набок.
– Как я погляжу, декабристы и их жены не очень-то ждут этого самого помилования.
– Но вы писали это прошение?
– Конечно. Оно было передано генералу Абдюшеву.
– Но ведь он должен был сразу же послать его нарочным императору!
– Поверьте, именно так он и сделал. Кроме того, в Петербурге после отъезда жен мятежников настроения сильно переменились. Им очень сочувствуют. И это прямо противоположное тому, на что столь надеялся и уповал император: декабристов по-прежнему не забыли, более того, судьба их жен отягощает совесть оставшихся. А следовательно, забыть о них его величеству никак не дадут.
Но что-то все это – чья-то неспокойная совесть, – было не заметно в Нерчинске. Арестанты теперь работали в лесах, валили деревья, грузили на широкие телеги. И ждали, ждали…
Внезапно по ночам у Ниночки начались припадки. Ей казалось, что с нее, еще живой, сдирают кожу и сжигают на дымном костре, и ее оболочка земная коробится и чернеет, и боль от этой содранной кожи пронизывает ее всю, и нестерпима она, нестерпим жар от огня. И Ниночка кричала так, что было слышно на пустынной улице, и собаки нерчинские отвечали ей тягостным воем, в тоске отзываясь на нечеловеческий, дикий и страшный крик.
Ее будил верный Мирон, обнимал, прижимал к широкой груди, баюкал, шептал какие-то слова и припевал те песни, что пел маленькой озорнице Ниночке в далеком детстве.
Ниночка засыпала, облегченно вздыхая, но через минуту кричала вновь и заходилась в этом крике. Кошмары душили ее.
И вот однажды Мирон приволок целый мешок лука и чеснока, где уж добыл, неизвестно, местные не сажали их. Таясь от Ниночки, рассыпал под кроватью лук и чеснок, разложил по углам дольки.
В ту ночь впервые Ниночка уснула спокойно и не просыпалась до утра, ни разу не вскрикнула. И Мирон вздохнул счастливо и умиротворенно, назидательно заявив Лобанову, встревоженному самочувствием Ниночки:
– Выкарабкал я голубушку…
Полковник похмыкал, недоверчиво взглянул на Мирона, но с той поры еще больше зауважал великана.
Они все ждали, ждали…
Месяц за месяцем Ниночка надеялась, что понесет ребенка, но ее желание все не исполнялось и не исполнялось.
– Да радуйтесь вы тому, а не огорчайтесь, дитя мое! – воскликнула однажды княгиня Трубецкая.
Салон ее дома выглядел почти так же великолепно, как и в Петербурге, здесь были шелковые портьеры, гобеленовые кресла, кружевные покрывала, персидские ковры с густым ворсом и резные шкафы. На столе стоял медовик, чай разливали в чашки китайского фарфора, а у слуги Гаврилы была золоченая ливрея.
Грубые деревянные стены дома были затянуты материалом – дуновение Петербурга в тайге, эдакий жалкий клочок утраченной отчизны.
Катенька Трубецкая ждала в гости Лобанова. И как ей было не ждать его! Он смотрел на нее так, словно было перед ним солнце, заслоняющее собой весь мир, – смотрел любяще, печально, горько, но и с вострогом и восхищением, и столько любви выражал один только этот взгляд, что княгиня смущалась всякий раз, краска бросалась ей в лицо, и она поскорее отворачивалась. Трубецкая ничем не могла ответить полковнику, она не хотела отвечать на этот зов любви, но в душе ее вспыхивала искра сочувствия, сожаления и горького томления…
Она не могла, нет, нет, не должна была отвечать на его взгляды, она отводила глаза. Она простаивала перед распятием целыми часами и каялась в грехе не совершенном, и умоляла Господа и Пресвятую Матерь Богородицу прийти ей на помощь. Но это плохо помогало. И княгиня вновь звала Лобанова в гости; пусть, мол, составит ей компанию с женщинами. Ибо один его взгляд зажигал в ее груди такой пожар, что не сравнится ему было с той тихой семейной супружеской любовью, что питала Катенька Трубецкая к своему мужу. Ниночка видела все смятение подруги и, не способная помочь той хоть чем-нибудь, спешила к себе домой.
А домик ее тоже дышал изяществом и роскошью, от которых лишался дара речи генерал Шеин. Благодаря деньгам отца своего через купцов она накупила обои и ковры, маленькую, изящную мебель и несколько картин.
Когда Борис в первый раз увидел сие великолепие, он молча и очень осторожно присел на краешек китайского креслица. Ему все казалось, что мебель он или сломает, или запачкает.
– Тебе не нравится, Борюшка? – спросила Ниночка растерянно.
– Мы в Сибири, любимая…
– Так это и есть Сибирь!
– Нет, это – судорожная попытка перетащить сюда призрачную тень Петербурга.
– Глупости какие! Это попытка остаться теми, кто мы есть на самом деле.
– С помощью шелковых портьер и хрупкого фарфора?
– И с их помощью – тоже! Там ждут, что мы будем жить, словно зверье дикое на болотине. Коли б так оно и было, вот бы царю и его придворным льстецам радости-то было! Но и в Сибири мы не должны утрачивать своей культуры и отказываться от прежнего стиля жизни. На следующей неделе у нас чтение Вольтера, а Муравьева сделает доклад по Руссо.
– А когда у вас штурм Бастилии намечается? – насмешливо поинтересовался Борис.
Ниночка всерьез рассердилась, щеки ее запылали от возмущения.
– А что тебе так не нравится в наших планах? – воскликнула она. – Или ты хочешь как медведь в берлоге жить?
Он поднялся с хрупкого китайского стульчика.
– Посмотри на меня внимательно, Ниночка. Посмотри на эти порванные штаны, на эту куртку, на сапоги драные, на руки мои посмотри!
– Я все, все люблю в тебе, Борюшка!
Но он не слышал ее.
– А теперь взгляни на это изящество. Здесь пахнет французскими духами, вечером здесь зазвучит французская речь. Лакей Гаврила принесет чай и пироги. А после премьеры «Орлеанской девы» было даже французское шампанское… Но все это – безумие, Ниночка!
– Нет! Это наш способ сопротивляться действительности! Наше оружие супротив Сибири! Вот ты скажи, что делаете вы? Вы повинуетесь! Вы ждете лишь смерти! Ваша мужская гордость повелевает вам: исполним долг, а там… хоть бы и подохнем. Выше голову, а потом – на плаху! Как же, ведь вы – русские офицеры.
– Но это и в самом деле так, – мрачно возразил Борис Тугай.
– Но мы-то не офицеры! Лучше уж мы прикроем грязь коврами.
– Грязь все равно и сквозь ковры проступит.
– А мы еще посмотрим! Посмотрим!
Борис удрученно помотал головой.
– Сибирь всегда останется землей Забвения. То, что вы делаете, Ниночка, лишь жалкий самообман, и ничего более.
– Но этот самообман помогает. Борюшка, неужели же ты сдался?
– Нет! Я никогда не сдамся. Даже в этих обносках я останусь русским офицером!
Они не сдавались. И когда в Нерчинске умер старичок-священник, полковник Лобанов даже попытался худо-бедно заменить его. Он служил службы в маленькой деревянной часовенке и, не зная никаких псалмов толком, никаких литургий, только и напевал протяжно-заунывно: «Господи если на небеси, все мы грешны пред тобой, уж защити нас!».
Когда генерал Шеин узнал об этом, он в ужасе поскорее выписал из Иркутской епархии нового священника.
В тот день женщины собирались на природу. Их было трое – Ниночка, Полина Анненкова и Ентальцева.
Трубецкая и Волконская не стали принимать участия в их намечающемся пикнике – скучно сидеть на траве. А Александра Муравьева в последнее время слабела и все чахла, но все силы свои собирала для свиданий с мужем. Ниночка с болью замечала, как страдала Муравьева – при муже казалась она спокойною и даже радостною, но, уходя, тревожилась об оставленных на бабушку в Петербурге детях. И оказалось, что тревожилась не напрасно. Оставшиеся без материнского пригляду, все они лишились здоровья, а единственный сын вскоре умер.
В тот день смутное чувство все не оставляло Ниночку, и собиралась она на этот раз так, как никогда.
Ясное солнце разогнало все тучки, безоблачное небо предвещало хорошую погоду на несколько дней. К обеду подруги уже расположились на прелестной поляне, обрамленной высокими соснами, затканной веселым разнотравьем и огибавшим ее коричневым ручейком.
Весело затрещал костер, все уселись возле жбанов с квасом, груды снеди и уже предвкушали сытную еду, как вдруг из леса вышел высокий сухой старик с длинной белой бородой, в холщовой блузе и холщовых же панталонах, в высоких охотничьих сапогах и с посохом в руке.
Он неловко подошел к костерку, поклонился в пояс рассевшимся дамам и учтиво поздоровался…
Ниночка приветливо освободила место возле себя и широким жестом руки пригласила нежданного гостя за импровизированный стол на траве.
– Благодарствуйте, – слегка поклонился старик. – Не откажусь…
– Вижу, давно вы в дороге и проголодались…
Старик бросил на травку свой синий кафтан, неловко присел на него, снял с плеча маленькую котомку.
– Примите и вы мое угощение, – вытащил он из мешка сухари.
– А вы попробуйте нашего угощения, – любезно проговорила Ниночка.
Она и сама не понимала, что за фантазия пришла ей в голову, отчего она так вежливо и добросердечно беседует с этим человеком.
– Откуда вы? – сдержанно спросил незнакомец.
– Из Нерчинска, – улыбнулась Ниночка. Отчего-то чувствовала она безотчетную симпатию к странному старику.
Он взял немного хлеба, раскрошил в руке и кинул за спину.
– Птицам тоже надо кормиться, – глуховато сказал он.
– А вы издалека идете? – спросила Полина Анненкова.
– Да нет, брожу вокруг, – неясно ответил старик и занялся едой. Ел он медленно, аккуратно, не кроша хлеб, не рассыпая остатки. – А вы не боитесь так путешествовать? – вдруг спросил он на чистейшем французском.
– Да нет, что ж нам бояться, – отозвалась Ниночка и осеклась. Она ответила тоже по-французски и в изумлении воззрилась на старика.
– Вы так хорошо удивляетесь, – улыбнулся странник. – А я хожу, брожу по лесу, ищу травы, корешки всякие, на птичек гляжу, – глуховато рассмеялся он. – Красиво убрал землю Господь…
– Я смотрю на вас, – медленно заговорила Ниночка, – и мне все кажется, что я где-то и когда-то видела вас. Только это было очень давно и вовсе не здесь…
Лицо его, свежее, белокожее, немного покрасневшее под загаром, было очень красиво. Большие голубые глаза щурились от близорукости, седая длинная борода и седые же волнистые волосы по краям обширной лысины обрамляли его лицо, словно рамой.
– Вы очень красивый человек, – медленно проговорила Полина Анненкова. – Наверное, многие женщины любили вас…
Незнакомец усмехнулся и пожал плечами.
И тут словно прорвало какую-то плотину – Ниночка начала рассказывать о восстании в Петербурге, о заключении блестящего дворянства в крепость, о тягостном времени казематов.
Лицо старика медленно покрывалось паутиной грусти и сожаления.
– Простите, заболтала я вас, – наконец, прошептала Ниночка.
Он медленно поднялся, отвесил низкий поклон, а потом сказал едва слышно:
– Благодарствуйте за хлеб за соль. Помогай вам Бог…
Еще миг, и белая его рубаха замелькала между медовыми стволами сосен.
Вслед ему крикнула Ниночка:
– Как зовут-то вас?
Он повернулся из зеленой рамы леса и тихо ответил:
– Федор Кузьмич я, бродяга…
И исчез…
– Это он, – внезапно произнесла молчавшая до той поры Ентальцева. – Это он. Я ему тогда нож Миронов отдавала, которым Жиревского прирезали…
В этот момент Ниночка вдруг ясно вспомнила, где она видела это лицо.
– Господи! – зажала она рот худеньким кулачком. – Как же он на покойного императора Александра Павловича похож… Да нет, не может быть…
Проходило лето, наступала зима, сменялась жара нестерпимая звенящим морозом, пробирающим до костей. Завывала буря над крышами домов, разверзались осенью и весной хляби небесные. Олекма выходила из берегов, плавал в воде Нерчинск.
На третий год родились дети у Александры Григорьевны Муравьевой и Полины Анненковой. Девочки, которых ласково звали Ноннушкой и Оленькой. Лобанов направил к Шеину курьера с вопросом: «Где, черт возьми, обещанный поп? Я ведь сам не могу детей крестить!».
Через четыре недели появился священник, высокий, тощий, жалкий, казавшийся заморенным болезнями и донельзя напуганным всей этой дикой Сибирью и тяжкой обязанностью жить среди каторжан, душегубцев отъявленных.
Но когда отец Афанасий увидел маленькую чистенькую церковку с множеством икон, он упал на колени и возблагодарил Господа.
– Ну, вот теперь все в порядке, – довольно усмехнулся Лобанов. – Попа нам доставили. Дамы, дорогие мои, вы можете теперь исповедаться, покаяться во всех своих темных делишках, а у меня появился хоть кто-то, с кем и поругаться можно, коли придет на то охота. Люди, жизнь воистину прекрасна!
Ниночка с группой женщин в этом году работала в лесу рядом с мужчинами. Она готовила еду.
До чего же приятен на вкус ржаной хлеб, густо посоленный. Это – радость, это – благословение Господне.
А ребенка у нее все не было и не было.
– Может, так оно и должно быть, – грустно шепнула княгиня Трубецкая. – Представьте, а вдруг Бориса помилуют! И тогда вы пуститесь в этот адский путь домой с младенцем на руках! Сущее детоубийство.
– Да царь никогда не помилует Борю! Я знаю, на что вы надеетесь, княгиня, на нового государя. Не надейтесь, во-первых, нынешний здоров как бык, да и новый будет ничуть не лучше старого. О Сибири давным-давно забыли.
Ниночка устала от общества подруг. Пока те собирались вместе и читали французских философов, Ниночка бродяжила по тайге, охотилась, что какой-то бурят, а Мирон словно тень следовал за ней. Она ловила рыбу, коптила ее на зиму, ставила капканы на лис и куниц, за шкурки которых купец Бирюков платил щедро и восторженно.
– Она – мой лучший поставщик, – сказал он как-то раз Лобанову. – Эта баба – подарок природы.
– Ты смотри, лучше ее не обманывай, Порфирий Евдокимович! – пригрозил Лобанов. – Иначе весь жир из брюха повыпущу.
Очень скоро все привыкли к Ниночкиной манере по-мужски сидеть в седле, носить высокие сапожки, меховую курточку и к ее собранным в хвост волосам. За пояс всегда были заткнуты пистолеты и два острых охотничьих ножа. Об этом судачили в округе, особенно среди бурят, видевших в Ниночке конкурента по охоте, но никому и в голову не приходило напасть на нее. Кроме того, подле нее всегда был Мирон, этот молчаливый великан, о котором говорили, что он может одним ударом кулака загнать человека по пояс в землю. Его кулаки выглядели вполне убедительно.
Уже через год Ниночка на сотню верст знала окрестности вокруг Нерчинских рудников – да и о самой Ниночке говорили по всей Сибири. Буряты и эвенки, казаки и проезжие чиновники разносили рассказы о ее жизни в самые отдаленные уголки страны. Ниночка была так же хорошо известна, как на китайской границе, так и на озере Байкал. Рыбаки на Амуре говорили о ней так же, как корабелы на Оби. И как это часто бывает, с каждым рассказом Ниночке приписывали все больше приключений. Приключений, о которых мог бы мечтать и былинный герой.
– Хозяйка тайги, – сказал как-то раз губернатор Абдюшев в Иркутске, когда какой-то проезжий купец принес ему на хвосте своего обоза новости из Нерчинска. – Нина Павловна скоро станет самой настоящей сибирской легендой.
Наступила ее четвертая зима в тайге, как всегда превращавшая весь мир вокруг в бескрайний океан снега. Но этот белый океан уже никого не смог бы испугать. У них были прочные дома, хорошие печки, в подвалах было вдоволь запасов.
Однако именно этой зимой четверо заключенных умерли от воспаления легких, и кто поклянется, что пройдет время, и крестов на кладбищенских могильных холмиках не станет еще больше. Многие из арестантов были уже немолоды, многие пережили войну двенадцатого года, были ранены. Даже если б их сейчас помиловали, это не решило бы дела – они все равно не выдержали бы всех тягот пути домой. Нерчинск был конечной станцией их жизни. Они знали это и начали строгать кресты себе на могилу.
Времени у них на это было более чем предостаточно. На улице выла на разные голоса вьюга, делая невозможными любые работы в лесу.
А потом начал болеть Лобанов. Никто не знал, что с ним, даже полковой лекарь, присланный из Читы.
Симптомы болезни, медленно съедавшей Лобанова, были слишком уж многообразны. То здесь кольнет, то там, то голова вдруг начнет раскалываться от нестерпимой боли. Потом немела рука или же на вдохе начинало саднить в груди. А когда проходили эти болячки, отказывал кишечник.
– Сломалась игрушка, – сказал Лобанов Ниночке, взявшейся ухаживать за полковником. – Сколько ж мне лет-то уже? Проклятье, здесь живут, не чувствуя времени! Наверное, мне уж шестьдесят годов точно. Вот у меня дед был… так тот аж до восьмидесяти четырех годов протянул!
– А вы и до ста протяните, батюшка, – улыбнулась Ниночка. Сегодня Лобанова скрутила боль в пояснице. Он не мог ни сидеть, ни лежать, стоял все, а когда совсем уж уставал, то приваливался к стене. И все скрипел от боли зубами.
Через пару дней боль прошла. А потом закололо в легких, и Лобанов начал схаркивать кровью. В тот день полковой лекарь решился всерьез поговорить с Ниночкой. Доктор присел на скамеечку у печи и сказал печально:
– В общем, так, сударыня, я должен открыть вам правду, но только не выдавайте меня. Я почти уверен, что болезнь полковника совершенно неизлечима, он загнивает из-за своего недуга. Верно, боли донимали его уже много лет, но он все держался. В том, что он выхаркивает из легких, я обнаружил частички легочной ткани, а два месяца назад – кишечную ткань в экскрементах. И при этом он все еще на ногах, работает так, как будто у него богатырское здоровье. День, когда он сляжет, будет ужасен для него.
Ниночка сохранила тайну, поверенную ей доктором. И только с Борисом поделилась она ею. С Борисом и еще одним человеком, что гостил ныне в домике священника, отца Афанасия.
– Представляете, Федор Кузьмич, – говорила она, захлебываясь слезами. – Наш полковник болен, болен неизлечимо, а я и помочь-то ничем не в силах.
– Лобанов болен? – вскинул на нее чистые голубые глаза гость священника. И пробормотал про себя: – Эх, жаль полковника, храбрец из храбрецов. Сам вешал ему кресты на грудь, сам орденами награждал…
Огорченная Ниночка даже не услышала глухое бормотание вечного сибирского странника.
– Молись за него, касаточка, – неожиданно припал к ее руке Федор Кузьмич. – И я буду за него Богу молиться. И пожалей венценосного, много зла натворил, много ненавистью навредил и себе, и семье своей…
Ниночка в удивлении смотрела на старца – никак уж заговариваться начал?
Он проводил ее до порога уединенного домишки священника, а потом молча смотрел на подступающий к ограде лес, вслушивался в молчание вековых сосен, стволы которых были словно медом облиты. Здесь открывались ему такие беспредельные дали, что сжималось сердце у Федора Кузьмича и дух захватывало от беспредельности пространства и гигантских сил мироздания.
Старец просяще рухнул прямо в снег на колени, воздел руки к небу и взмолился, чтобы помог Господь этим жалким, смешным и нелепым, но таким прекрасным и красивым людям русским. Ибо достойны помощи они небесной. Молился он истово и жарко, позабыв обо всем. А тайга молчаливо поглядывала на старца, и падал неторопливо на плечи его снег, пушистый и холодный, словно саваном безразличного забвения прикрывал…
В один из зимних вечеров, когда за окном бесновалась снежная буря, заметая все, что еще час назад с таким трудом отрыли от снега заключенные, Борис Тугай сидел у печки с полковником Лобановым и играл в шахматы. Ниночка убежала опять в часовенку: вместе с несколькими дамами они украшали церквушку для новых крестин.
– А каковы все-таки ваши планы на будущее, Борис Степанович? – внезапно оторвался от игры Лобанов.
– Кусок земли в надел, чтобы прокормиться, два, а может, и три ребенка…
– Я говорю не о Сибири! Я говорю о тех временах, когда вас помилуют?
– А вот об этом-то я как раз и не думаю.
– А должны бы. Прошение к государю о вашем помиловании давно уже в пути. Четвертое по счету, но самое лучшее по стилю. Оно должно расстрогать государя. Его подписали четырнадцать офицеров, губернаторы сибирских провинций и даже Строгановы, которых политика вообще не волнует, им все деньги подавай. А поводом для такого прошения стала супруга ваша – Нина Павловна. История «хозяйки тайги» кому только в наших краях не известна. В миру вновь заговорили о декабристах. И очень бы кстати именно сейчас помиловать вас государю, проявить себя великодушным, милостивым отцом своего народа. Так что вообразите только, что вы свободны, и что тогда?
– Тогда я останусь здесь. Я научился любить Сибирь, Николай Борисович.
– Я, признаться, тоже. Но вы в отличие от меня еще очень молоды, сударь! Так неужели же вы хотите всю жизнь дожигать уголь под Нерчинском? Вспомните об отчем доме, в конце концов.
– У моего отца корабли в Риге. Мы же немецкого корня, да и не Тугаи вовсе, а Торгау.
– И у старика Кошина тоже корабли на Балтике. Вы могли бы заняться морским судоходством, торговлей, неужели предпочтете остаться в армии?
– Нет. Мою шпагу преломили над головой… такое, знаете ли, не забывается. Если уж мне и суждено вернуться в Европу, то моя судьба будет связана с морем. Но только к чему все эти пустые мечтания? Мы никогда не вернемся домой.
Лобанов вытянул деревянную ногу.
– Большую часть моей солдатской жизни, Боренька, я экономил гроши. Кормила и одевала меня армия, а женой и детьми я так и не обзавелся. Так что рублишки тратить не на что было. Нет той славы, что переживет меня в потомках, нет монумента, в общем, ничего нет. Но что-то же должно от меня на земле остаться. Сынок, вернувшись домой, ты построишь прекрасный, справный, огромный корабль. Назови его «Лобанов». А деньги на его постройку здесь найдешь, – и полковник постучал трубкой по протезу. – Нога моя деревянненькая, сынок, пустая изнутри. И вся ассигнациями забита. Борис Степанович, я объявляю вас моим наследником. Когда я покину этот трижды проклятый прекрасный мир, вы снимете протез и построите прекрасный корабль «Лобанов»…
Борис в ужасе вскинул глаза на полковника.
– Да что вы такое говорите, Николай Борисович, – с трудом вымолвил он, наконец. – Да вы до ста лет проживете.
– Не говорите чепухи! – Лобанов закурил. – Доктор наш болван законченный. Он не знает, что я неизлечимо болен.
В один из солнечных зимних дней генерал Шеин решился добраться до Нерчинска в сопровождении десяти солдат. День был и впрямь великолепный, снег блестел и переливался на солнце, деревья казались засахаренными в инее.
Шеин торопился на север. У него были письма из Петербурга, он соскучился по ворчанию и насмешкам Лобанова, ему хотелось вновь взглянуть на представление необычной театральной труппы и заодно исполнить свой служебный долг – проинспектировать жизнь острога.
Группа всадников была в пути уже пять дней. Вот, наконец, появились знакомые окрестности. Здесь древний лес проредили, появилась удобная проселочная дорога. Цивилизация, усмехнулся генерал. Стоял трескучий мороз, солнце светило, да не грело. Внезапно лошади начали испуганно пофыркивать, вставать на дыбки. Их глаза были полны ужаса, они нервно дрожали всем телом.
– Держаться друг друга! – рявкнул Шеин, вскидывая пистолет. – Держаться всем вместе, я сказал!
Из чащи несся протяжный вой. Между деревьев мелькали серые тени. Волки! Они подкрадывались к всадникам со всех сторон!
Глаза Шеина расширились от ужаса. Нет, волками его было не удивить. Он любил охоту на волков. Никогда не боялся этого алчущего крови зверья.
Но сейчас из леса шла огромная стая, наверное, самая большая из всех, виденных Шейным. Это была волчья армия, ей-богу!
Нет смысла спасаться бегством. Лошади дрожали от страха, вставали на дыбы и дико ржали. Всадники почти потеряли над ними контроль. Зверье могло наброситься на них со всех сторон – это была верная гибель, ведь на каждого из них приходилось по десять, двадцать волчар!
– Держаться вместе! – рявкнул генерал Шеин. – Вон там поляна! Скачем туда!
Солдаты дали коням шпоры, и лошади понесли. На поляне, под прикрытием спиленных деревьев они спешились и сразу же открыли огонь по волкам. Пока пять солдат отстреливались, остальные привязывали лошадей к стволам двух деревьев. Затем бросились к своим товарищам и вскинули ружья. Целиться не было никакой нужды, каждый выстрел попадал точнехонько в цель.
– Хорошо! – кричал генерал Шеин. – Еще!
Второй залп заставил волчье море волной откатиться назад.
И только пара сильных, самых матерых волков подбежала к своим подстреленным собратьям, вонзила ужасные клыки в их шкуры и поволокла к лесу. Там же за деревьями начался пир. Кровь! Мясо! Конец голодной жизни!
А из заснеженных дебрей появилась новая стая.
В ужасе глядел генерал Шеин на страшную картину. А потом оглянулся на своих людей, побледневших от смертного ужаса, но все же решительно сжимавших ружья.
– Сколько у нас патронов осталось? – прошептал побелевшими губами генерал.
– Чтобы эту армию разогнать, все равно не хватит, ваше высокопревосходительство, – отозвался молоденький лейтенантик.
Шеин кивнул. Он и сам знал это. Через несколько минут, насытив брюхо, волки вернутся. Вновь придется подстрелить нескольких из них, чтобы подкормить остальную стаю, а потом борьба продолжится, и так до бесконечности: атака, выстрелы, атака, выстрелы – пока не отзвучит самый последний ружейный залп.
Генерал Шеин оглянулся на лошадей. «Нет, все бесполезно, – горестно подумал он. – И лошадей не хватит, чтобы утолить волчий голод. Да и что такое человек в зимней тайге да без коня?»
– Мне нужен доброволец, – прошептал Шеин едва слышно. – Часа за три чтоб до Нерчинска добрался и привел подмогу. Возможно, мы продержимся. Коли доскачет, коли спасет наши жизни, то… – И генерал тяжело вздохнул. – Ну, кто из вас рискнет?
Десять солдат удрученно молчали, упрямо разглядывая снег у себя под ногами. Шеину стало страшно до тошноты. Кто ж рискнет мчаться куда-то, подгоняемый стаей голодных волков? А ведь это – последний их шанс: привести помощь из Нерчинска.
– Братцы! – выкрикнул Шеин. – Мне нужен смельчак. Иначе я сам поскачу. Лейтенант, коня! Давай же, парень, пошевеливайся!
– Останьтесь, ваше превосходительство, – и вперед вышел молоденький солдатик. Первый год службы в Сибири. Его прислали в Читу из Малороссии вместе с небольшой группой солдат. Там тоже были волки, но гораздо мельче этих тварей, да и бродили они небольшими стаями. – Я попытаюсь.
– Как зовут тебя? – спросил Шеин.
– Федькин, ваше превосходительство.
– Федькин, я сделаю тебя лейтенантом и подарю тебе деревеньку свою Домское, коли приведешь помощь.
– Я приведу, ваше высокопревосходительство! – и молоденький солдат отсалютовал своему командиру, вскочил на лошадь.
– Когда поскачет, стреляйте по волкам! Надо отвлечь от него этих тварей. Храни же тебя Бог, Федькин!
Федькин дал шпоры коню. Раздался залп его товарищей в распахнутые в ярости пасти волков.
Они не видели, что чуть в стороне, за самой кромкой леса дожидается еще несколько волчьих стай. Скрываясь меж деревьев, они побежали за Федькиным. Запах горячей крови доводил их до безумия.
Федькин вжался в гриву своей лошадки, он тоже отстреливался, видя, как мелькают в лесу серые, страшные тени.
– Он прорвется! – кричал генерал. – Он обязательно прорвется!
Метров через двести ужасная охота волков на молоденького солдата подошла к концу. Пятеро из них разом повисли на лошадиной шее. Шестой, самый матерый волк прыгнул на спину Федькину. Федькин дико взвыл – крик сей потонул в торжествующем вое волков. А потом лошадь рухнула, как подкошенная, в снег. Федькин покатился в сторону, и на него набросились сразу три волка.
А с поляны вновь донесся дружный ружейный залп.
– Еще восемьдесят семь выстрелов, ваше высокопревосходительство, – доложил молоденький лейтенант.
Шеин досадливо отмахнулся. Он и без него знал, что означает для них эта страшная цифра. Даже Федькин, коли доберется, ничем не сможет помочь им. Три часа до Нерчинска, три часа обратно – и всего восемьдесят семь выстрелов.
– Лейтенант, – глухо прошептал Шеин. – Молитесь. Тогда легче будет умирать.
Солдаты судорожно перекрестились. Генерал Шеин вскинул голову в седое, беременное снегом небо.
– Господи Боже Всевышний, – прошептал он. – Да свершится воля твоя. Я не оставляю надежды, что ты дозволишь погибнуть храбрым воинам твоим как-нибудь иначе, нежели от клыков сих страшных тварей. Не за себя молю, Господи, я свое прожил, повоевал, мне и хватит уже. За них молю, Господи. Услышь молитву мою, Боженька.
А потом они вновь вскинули ружья, поправили за поясом пистолеты и ножи. Они собирались бороться до последнего вздоха и дорого продать свою жизнь.
Словно Бог не выдержал жуткого вида крови, с неба пошел снег, густо, беззвучно. Мир потонул в белом мареве.
– По нам с вами саван ткут, – зло усмехнулся Шеин. – Какая роскошь! И к чему? Через пару часов от нас так и так ничего не останется, коли не случится какого-нибудь чуда.
ГЛАВА 13
В тот день Ниночка и Мирон Федорович были на охоте. Они выехали из Нерчинска еще утром и сейчас проверяли капканы и силки, поставленные Мироном. В меховых штанах и куртках, в натянутых до бровей шапках, сидели они на лошадях. К такому виду Ниночки уже привыкли в Нерчинске. Пока все остальные дамы – и, прежде всего, княгини Трубецкая и Волконская – пытались вырастить на сибирской землице призрак Петербурга, Ниночка сживалась с норовом этой дикой земли, становясь частью тайги.
Сегодня они с верным великаном Мироном спокойно пробирались по лесу, когда внезапно до охотников донесся тоскливый волчий вой и выстрелы. Лошади почуяли опасность и задрожали мелко. Вздернулись было на дыбы, затем метнулись в сторону. Ниночка и Мирон с трудом смогли усмирить их.
– Там люди, барышня, – прошептал Мирон и перекрестился. – От волков, видать, отбиваются.
– А то я глухая, Мирон! – сердито огрызнулась Ниночка. Вновь выстрелы, страшный вой, вой незабываемый.
Мирон преградил ей лошадью дорогу, сам спешился.
– Мы возвращаемся, барышня.
– Да ты никак умом повредился, Мирон! Там – люди. Мы едем к ним!
– Нет, барышня…
– С каких пор ты стал трусом, а, Мирон? – повысила голос Ниночка.
Кучер вцепился в поводья намертво, она шлепнула его рукой. Но разве эту великанскую лапищу так просто сбросишь?
– Руки убери, я сказала! – яростно приказала Ниночка. – Не слышишь разве, как они стреляют? Мы нужны этим несчастным!
– Сами небось отобьются, барышня!
– Пошел прочь, трус! – Ниночка попыталась дать лошади шпоры, но Мирон всем телом повис у коня на шее. – Я ударю тебя!
– Бей, бей, Нина Павловна, чего уж там, – и Мирон еще крепче вцепился в поводья. – Я батюшке вашему обещался вас оберегать, обещался. Он мне вольную за то дал… Так я клятвы не нарушу.
– Папенька – далеко!
– Э нет, барышня. Он всегда рядом со мной. Я каждый вечер с ним разговариваю, рапортую ему честь по чести, что с его дочуркой Ниночкой происходит. И вот что я сегодня в вечеру ему скажу? Ваше сиятельство, вашу дочь любимую намедни волки разорвали, потому что я, Мирон Федорович, оказался недостаточно силен для того, чтоб от беды жуткой ее оберечь? – Мирон отчаянно помотал кудлатой головой. – Не, барышня, коли мы сейчас куда и поскачем, так домой.
– Вперед! Ты понял меня?
Вновь раздались выстрелы, казалось, они приблизились почти вплотную к их укрытию.
Потом – отчаянный крик человека взрезал молчание тайги.
Ниночка вырвала ружье из седельной сумки. Прикладом ударила Мирона по рукам, но тот так и не ослабил хватки.
– Я застрелю тебя! – пригрозила Ниночка в отчаянии. Бородатый великан глянул на нее печально и кивнул головой.
– Стреляй, барышня. Иначе и нельзя.
– Дурак, – тихонько прошептала Ниночка и опустила ружье. – Какой же ты дурак…
– Хозяйка…
Только на секунду ослабил Мирон хватку, но и этого было довольно. Ниночка вырвала поводья у него из рук и пустила лошадь вперед. Мирон вскрикнул дико, вскочил на свою коняжку и помчался вдогон. Но время-то потеряно, разве ж Ниночку догонишь. У нее был лучший конь в Нерчинске, купленный у якутов за пятьдесят целковых, зверюга каурая, шкура которого блестела на солнце, ровно золото.
– Назад! – в отчаянии закричал Мирон. – Нина Павловна, я пристрелю лошадь! А ну, назад!
– Прочь! – крикнула Ниночка и пригнулась к шее коня. Словно шептала ему что-то на ухо, и конь, послушный воле хозяйки, летел над землей.
Мирон взвыл от страха и гнева, словно смертельно раненный медведь.
А потом они увидели волков. Сначала одного, потом всю стаю, серую стену, выросшую из снега. Стену Смерти.
– Ниночка! – диким зверем взревел обезумевший от ужаса Мирон. – Смилуйся над нами, Господи!
Они пронеслись мимо останков лошади и человека, вновь услышали выстрелы, теперь совсем близко, а потом оказались в самой гущине дьявольских тварей, растерявшихся и даже испугавшихся внезапности их появления.
И Мирон начал стрелять. Он стрелял без разбора, видя лишь Ниночку, которая словно призрак крутилась на коне меж волков, топча их копытами могучего коня, стреляя, стреляя.
Мирон уложил еще пару и пустился на помощь к Ниночке. Солдаты на поляне замерли, глядя на охотников, как на сказочных жителей древнего леса.
Ниночка спешилась подле них и выстрелила еще в одного, осмелевшего и близко подобравшегося волка. Потом отвернулась и подошла к Шеину.
– Да возможно ль сие? – воскликнула она. – Это вы, генерал? Да не смотрите вы на меня так! Али не узнаете?
Она стянула с головы шапку. Черные волосы волной рассыпались по плечам.
– Нина Павловна, – прошептал Шеин. – Во имя всего святого в этом мире, откуда вы здесь взялись? Кто заманил вас в ад сей? Господи, да что вам здесь понадобилось-то?
– Я услышала выстрелы, генерал. И решила помочь вам.
– Помочь? Оглянитесь по сторонам, Нина Павловна. Пресвятая Богородица Казанская, что вы только наделали?! – только сейчас Шеин заметил спешившегося Мирона. – Ты, бродяга, морда каторжная, что ж ты ее не удержал? – набросился на великана генерал.
– Коли кому-то удастся удержать эту чертову бабу, я тому человеку луну с неба достану! – сердито рявкнул Мирон. – Что я мог с ней сделать-то?
– Силой домой тащить, коли уговоры не помогают, идиот!
– Вот и попробуйте сами силой ее тащить, коли она вам в голову из ружья целит!
Генерал Шеин схватился за сердце и в ужасе взглянул на Ниночку:
– Вы примчались на встречу со своей смертью, сударыня, – мрачно сказал он. – У нас патронов на тридцать девять выстрелов, мадам. А там несколько сотен волков. Вам там Федькин по дороге не повстречался?
– Повстречался в трех сотнях метров отсюда. Волки разорвали его и лошадь.
– Это – конец, – Шеин схватился за пистолет. – Нина Павловна, я не позволю волкам растерзать вас. Я застрелю вас раньше. Федькин был моей единственной надеждой на спасение. Коли б он добрался до Нерчинска…
Выстрел. Стрелял Мирон. Вновь вскинули ружья солдаты.
– Ну, я-то могу добраться до Нерчинска, генерал, – спокойно отозвалась Ниночка.
– Но это сущее безумие! – закричал, бледнея, Шеин. – Вспомните о Федькине, о том, какая участь постигла беднягу!
– У меня лучший конь на весь Нерчинск, генерал.
– Но там сотни волков на вас набросятся!
– Не набросятся, генерал. Я прорвусь с помощью двух вязанок горящих веток. – Ниночка кивнула Мирону. – Давай, разводи огонь! – прикрикнула она на великана. – Две вязанки хвороста! Да не смотри ты так на меня, Мирон! Неужто не помнишь… тогда в нашем селе Пернасском… волки…
– Их было всего четыре, Нина Павловна, четыре молодых зверя, пугливых еще.
– Эти тоже побоятся огня! – Ниночка подлетела к коню, сорвала мешок с патронами, бросила Шеину. – Здесь сто патронов, генерал. Вот вам еще два ружья и три пистолета. Мне для этой скачки оружие без надобности!
– С сотней патронов мы и сами справимся! – Шеин передал мешок с патронами лейтенанту. – Готовьтесь к атаке!
– А вот это глупо, – спокойно произнесла Ниночка. Больше она на волков не оглядывалась. Она знала, что все мужество покинет ее, едва она взглянет на эту армию сатаны. – Волки набросятся на вас группами, и сопротивляться вы уже не сможете. Дождитесь людей из Нерчинска.
– Вы никуда не поскачете, Ниночка! – воскликнул Шеин.
– Я поскачу! – Ниночка бросила быстрый взгляд на волков и вздрогнула всем телом. Мирон ломал ветки с поваленных деревьев, связывал их в вязанки. Влажные от снега ветки загорались с трудом, но все-таки загорались.
– Генерал Шеин, – медленно, растягивая слова, произнесла Ниночка. – Ваша жизнь все еще чего-то стоит, а?
– В этот момент ничего, Нина Павловна. Ни копейки…
– Но ведь стоила бы, если б вам удалось сохранить ее?
– Да я бы все, что имею, отдал бы за это. Но с волками не поторгуешься.
– Зато со мной можно, генерал! – Ниночка вскочила на лошадь – Вот и поторгуемся. Я спасу вам жизнь… а что предложите взамен вы?
Шеин задохнулся.
– Все, что пожелаете, – просипел он.
– Вот и хорошо, – Ниночка пожала ему руку. – Ваша жизнь – на жизнь моего мужа! Коли я спасу вас, генерал, вы сделаете все, чтобы помиловали Бориса Степановича!
Нервная дрожь пробежала по лицу Шеина.
– Я-то сам помиловать никого не могу. Это только царь может. Если бы у меня достало власти, все декабристы давно были бы свободными людьми.
– Вот и попросите императора помиловать Бориса! – невозмутимо отозвалась Ниночка. – Дайте мне слово, генерал. Ваша жизнь – на жизнь Бориса. Клянитесь мне, что будете валяться у царя в ногах, чтобы спасти моего мужа!
– Клянусь, – Шеин пожал ее тоненькие замерзшие пальчики. – Господи, вы самая невероятная женщина на свете, Нина Павловна!
Подбежал Мирон. Он помахивал над головой двумя горящими связками хвороста.
– Ваше благородие, – прошептал он. – Дайте мне ее лошадь…
– Замолчи! – Ниночка свесилась из седла, протянула руку. – Дай вязанку… Ну же, живо!
– Я не оставлю вас, барышня!
– Хворост! – закричала Ниночка. – А ты останешься здесь. Мужчина, который умеет стрелять, важнее того, кто будет подвывать у меня за спиной!
Мирон протянул ей запаленные вязанки. Прежде чем он успел сказать хоть слово, Ниночка дала шпоры коню и пустила его рысью. Ногами сжимая бока лошади, она размахивала руками с вязанками горящего хвороста. Со стороны казалось, что конь и всадник несутся по лесной просеке в коконе огня.
Волки метнулись в стороны, уступая дорогу Ниночке.
– Она доберется, – дрожащим голосом прошептал Шеин. – Боже праведный, она доберется! Но как только возможно такое?
– А вот это легко объяснить, ваше высокопревосходительство! – Мирон Федорович вскинул ружье, прицелился в волков. – Она – ангел, а еще она – дьявол во плоти.
Ниночке ни к чему было погонять лошадь, ее коня подгонял вой волков. За два часа она добралась до Нерчинска и закричала, проносясь по улице:
– Волки! На помощь! Волки!
Когда она выпала из седла у дома Лобанова, задыхаясь в снегу от смертельной усталости, к маленьким лохматым лошаденкам бросились буряты и эвенки, а в остроге началась тревога.
Несмотря на ужасное состояние, Лобанов сам возглавил спасательную экспедицию. Со стоном взобрался он в седло и крикнул пошатывающейся Ниночке:
– Вы останетесь в Нерчинске!
Вместо ответа она вновь вскочила на лохматую лошаденку, и Лобанов понял, что удерживать ее не имеет никакого смысла.
Из острога выехал отряд казаков, Ниночка стегнула лошадку, догоняя Лобанова.
– Когда вернемся, я отшлепаю тебя, непослушная ты девчонка! – проворчал полковник. – И вообще, чем от вас воняет, сударыня?
– Волосы обгорели! Я ведь так легко возгораюсь! – хохотнула Ниночка, но губы ее дрожали от плача. – Вы не поверите, Николай Борисович, но такого количества волков еще никто не видел.
Почти сотня вооруженных мужчин двинулась в путь.
Толстяк Бирюков выглянул из дверей своей лавки.
– Стреляйте там поаккуратнее, – крикнул он. – Мех не повредите! Чем меньше дырок в шкурах-то будет, тем заплачу больше!
Помощь подоспела в самые последние минуты. У генерала Шеина оставалось только девять нерасстрелянных патронов. То, что произошло потом, было названо великим истреблением волков, о каком еще не слыхали в Сибири. Мирон, плача от радости, стянул Ниночку с седла и как ребенка понес на руках к генералу Шеину.
– Вот она! – кричал он. – Вот он, наш ангел! Шеин поклонился ей в ноги и сказал:
– Нина Павловна, вы спасли мне жизнь. Наш уговор остается в силе. И если государь не пожелает помиловать вашего супруга, я брошу к его ногам мою шпагу и вернусь в ваш острог простым каторжанином.
В полночь они вернулись в Нерчинск, освещая себе дорогу горящими факелами. К седельным сумкам были прилажены волчьи шкуры. Двести пятьдесят четыре шкуры. Бирюков, узнав о количестве, ухватился за дверь и простонал:
– Я разорен! Долго же мне не захочется скупать волчьи шкуры!
Заключенные стояли у ворот острога, был среди них и Борис Тугай. Увидев Ниночку, он бросился к ней, подхватил на руки.
– Ниночка, – прошептал Тугай. За эти несколько часов он почти сошел с ума от страха. И вот сейчас голос отказал ему, он просто молча прижал к себе жену, чувствуя, как дрожит она всем телом.
– Мы смогли, Борюшка, – тихо заплакала Ниночка. – Я… я выкупила у них твою жизнь, Борька, мы будем свободны! Свободны! Свободны! Мы сможем пойти, куда глаза глядят. Борюшка, твоя жизнь вновь принадлежит только тебе и Господу Богу!
…Над истерзанным телом Федькина склонился странник вечный Федор Кузьмич. Покачал головой удрученно, все ж таки сукин сын генерал Шеин – своего, а не подобрал. Тронул тело скрюченное, от снега, с кровью смешанного, лицо очистил. И вздохнул почти счастливо: дрогнули вдруг ресницы молоденького солдатика.
Взвалил на себя легонько и понес сквозь чащу в скитик далекий.
Обмыл тело израненное, травами целебными обмотал, пробормотал тихо:
– В рубашке ты, парень, родился, раз из волчьих зубов живым выбрался.
– Дедушка, ты леший? – этот неожиданный и странный вопрос, заданный тихим голосом раненого, заставил старца вздрогнуть.
– А похож? – мягко спросил Федор Кузьмич, протягивая кружку к губам Федькина.
– Вроде не, – отхлебнул тот взварева целебного. – А только ты в лесу один…
– А ты что, солдатик, боишься их, леших? – негромко и дружелюбно спросил он.
– Ежели как ты, то чего их бояться. У тебя и глаза добрые, и борода белая, а не черная…
Старец улыбнулся и накрыл солдатика дерюжкой.
– Ты отдыхай, давай, оживай…
Падал за оконцем келейки снег, падал тихо, окутывая мир спокойствием первозданным…
ГЛАВА 14
Генерал Шеин сдержал свое слово. Со следующей же оказией, направлявшейся в Иркутск, он направил царю рассказ о борьбе с волками и своем чудесном спасении Ниной Павловной Кошиной, женой политкаторжанина Бориса Тугая.
И поскольку любая корреспонденция ложилась сначала на стол губернатора Семена Ильича Абдюшева, рассказ о событиях в окрестностях Нерчинска быстро разлетелся по всей Южной Сибири.
И если Ниночка до сей поры была известна как «хозяйка тайги» только севернее Читы, то теперь о ней заговорили и в остальных сибирских городках и гарнизонах, называя и «дикой графиней», и даже «дочерью Ермака».
Когда-то казацкий атаман Ермак смог завоевать Сибирь с малым отрядом.
Теперь эти великолепные и дикие земли покорились женщине; женщине несгибаемого мужества, такой же героине, как и ставший уже легендой казачий атаман. К тому же она была дочерью графа Кошина, умершего в прошлом году от горчайшего переживания за дочь.
– Я что-то такое предчувствовал, – вздохнул генерал Абдюшев, откладывая письмо своего друга Шеина на позолоченный письменный стол. – Как она тогда впервые здесь появилась, эта Нина Павловна, стояла грязная, ободранная, как и остальные ее спутницы, и все равно оставалась королевой, словно не с дороги дальней явилась, а прямо с бала в императорском дворце. Я тогда сразу понял: этим женщинам никакая царская месть не страшна!
Абдюшев тоже подписался под прошением о помиловании и подчеркнул следующее место в отчете генерала Шеина:
«Я прошу ваше императорское величество явить знак милосердия. Я связан своим словом и честью, что всю жизнь свою положу ради освобождения конногвардейца Тугая. Если его императорское величество будет не в состоянии явить миру великодушие, характерное для благороднейших правителей всех времен, то я прошу его императорское величество забыть о его верном слуге генерале Шеине. Ибо я тогда преломлю над головой своей офицерскую шпагу и добровольно отправлюсь на заключение в Нерчинский острог, чтобы стать одним из них…»
Генерал Абдюшев зябко передернул плечами. Позволит ли государь уговорить его подобным образом? Ведь это же форменный шантаж! Губернатор долго сидел над письмом генерала Шеина, затем все беспокойно метался по большому кабинету, а потом вернулся к письменному столу и добавил от себя к рапорту Шеина:
«Ваше императорское величество, я, губернатор Иркутский, всенижайше присоединяюсь к просьбе о помиловании политзаключенного Бориса Тугая. Декабристы стали теми людьми, которых ныне так не хватает вашему императорскому величеству в вашем постоянном окружении. На бунт супротив вашего императорского величества они пустились только из любви к своему Отечеству. Это были русские люди, которые позволили увлечь себя в ложном направлении. В сердцах же их жен живут великое мужество и великая любовь! Назовите мне хоть одного из счастливейших смертных, у кого есть еще подобная супруга. Я заклинаю ваше императорское величество о милости».
В ту же ночь курьер погнал лошадей на запад. Пять тысяч верст одинокой земли лежали перед ним, и только кое-где ожидало его тепло почтовых ямов, где сменят лошадей да дадут поспать пару часов.
– Пройдет с полгода, пока мы дождемся ответа государя, – сказал Абдюшев своим офицерам, которые за ужином ни о чем другом и говорить-то не могли, все разговоры сводя к волкам и хозяйке тайги. – Но что такое полгода в Сибири…
Той зимой, в один из ледяных февральских дней умер полковник Лобанов.
Его смерть стала страшной неожиданностью для всех, хотя в Нерчинске всяк уже давно знал, что этот худой немолодой человек неизлечимо болен.
Около девяти часов утра он закашлялся кровью, со стоном рухнул в кровать и послал слугу своего Тимофея за Ниночкой, а потом в острог за заключенными.
– Хозяин отходит! – плакал Тимофей. Слезы бежали ручьем по его мелко дрожащему морщинистому лицу, он плакал всю дорогу, и на бороде уже появились маленькие сосульки. – Он исходит кровью, и говорить уже почти не может! Но хочет видеть вас, барыня милая. Ступайте же, торопитесь!
Ниночка побросала все дела и, накинув шубку, помчалась за Тимофеем. А комендант рудников послал казака в лес за Борисом.
Лобанов умирал – и, казалось, наступают последние дни этого мира. Ей казалось, что выгорела вся тайга и снег почернел от невыносимой ее боли. Лобанов умирает! О том, что он умрет, знали, но сейчас, когда костлявая старуха с косой уже стояла на пороге, в это трудно было поверить. В это не хотелось верить!
Старый полковник лежал в разворошенной постели, бледный, посеревший от потери крови, истерзанный болью. У входа в дом топтался лекарь.
– Помогите мне, Нина Павловна, дорогая! – закричал он. – Он гонит меня прочь, этот упрямый осел. Я сразу же побежал сюда, когда услышал о его приступе, хотел дать ему порошок… а он… Он выплюнул порошки прямо мне в лицо. Кто-нибудь видел еще одного такого больного-хулигана? Объясните хоть вы ему, что порошки снимут боль!
Лобанов уставился на Ниночку горящими глазами. Она присела на корточки подле его постели и схватила за дрожащую, исхудавшую руку.
– Все проходит, – с трудом прошептал Лобанов. И заскрипел зубами от боли.
– Батюшка! – Ниночка нежно поцеловала его горячую руку. – Почему вы прогнали доктора Волосова? У него лекарства…
– Знаю я эти лекарства. Свиньям он их дает для опороса, а мне – от боли. Продал, небось, душу дьяволу, вот пусть к нему и убирается!
– Батюшка…
– Послушайте меня, Ниночка, – Лобанов все еще крепился. И даже голос зазвучал звонче. – Тут, – он хлопнул себя по груди, – все давно уж превратилось в кровавое болото, в сущее месиво. А сердце все еще бьется! Вот ведь, даже такая развалина может иметь крепкое сердце! Тихо, тихо, Ниночка. Я больше не хочу принимать ни порошков, ни капель, ни пилюль. Не же-ла-ю. Я умру вместе со всей моей болью, так, как если бы погиб в бою. Господи, как будто в тот день, когда я лишился ноги! Я ведь не сдался тогда. Пока лекаришко отрезал мне ногу, я в себя с ведро водки влил. Вот это был Лобанов! К черту, не плачьте же, Ниночка…
Он замолк, переводя с хрипом дыхание.
– Доченька, – прошептал с трудом, – я хочу, чтоб меня под березкой похоронили. Люблю я березы-то…
Затих ненадолго, глядя на грубый деревянный потолок, перебирал руками по одеялу. Ниночка тоже молчала. Уткнулась лицом в краешек кровати и ждала. Черты лица Лобанова заострились страшно. Смерть уж кружила над ним, вечное молчание звало полковника к себе, и с каждой минутой все сильнее и настойчивее колдовала над ним бесконечность.
Дверь тихо приоткрылась. В комнату осторожно вошел Борис и замер. Лобанов с трудом повернул голову.
– Это ты, Борис Степанович?
– Да, Николай Борисович.
– Проходи. Чего стоишь в углу, как старый чугунок? Подойди к жене-то.
Борис подошел к сидевшей у кровати Ниночке.
– Вот и ладно, – прошептал Лобанов. – Сынок, вот, умираю я. Прежде, чем наш попишка, этот скелет вредный, к обедне отзвонит, я уйду. Борис Степанович, не забыл ли про наш уговор? Моя деревяшка… и на рубли с нее корабль под именем моим…
– Я ж вам поклялся, Николай Борисович. Но вполне возможно, что я никогда не увижу уж более родной мне Риги.
– Шеин давным-давно направил курьера в Петербург. И эта битва с волками никогда не забудется. Люди будут спрашивать того ж царя: «А что там с Ниной Павловной?». Боренька, у тебя чудесная жена.
– Я знаю о том, Николай Борисович, – Борис опустился на колени подле Ниночки. – Там на улице все наши собрались, – взволнованно выдохнул он. – И женщины, и мужчины. Все. Даже Кюхля пришел, он для вас гимн сочинил.
– Кюхля, этот дурень из философов? Гимн? Для меня? – Лобанов слабо улыбнулся. – С чего бы это он вздумал?
– Он сказал: почему бы одному сумасшедшему не сочинить стихи про другого сумасшедшего?
Лобанов хмыкнул.
– Счастье, что я этого уж больше не услышу!
И они вновь замолчали. Да и что им оставалось сказать? Смерть ждала у изголовья, торопя последние минуты. Борис и Ниночка держали руки Лобанова. Его глаза медленно угасали, ясный, иногда льдисто-суровый взгляд заволокла смертная муть.
– Может, нам помолиться, батюшка? – тихо спросила Ниночка.
Лобанов хмыкнул и с трудом повернул к ней голову.
– А поможет, доченька?
– Не знаю. Говорят…
– Тогда попытайся, доченька… – Лобанов лежал тихо, совсем тихо, а Ниночка начала читать древнюю отходную молитву, которой научила ее когда-то старая нянюшка Катерина Ивановна. Эта молитва напоминала монотонное тоскливое пение, литанию, усыпляющую и уносящую в вечность.
Борис Тугай тихонько поднялся и на цыпочках подошел к шкафу, стоявшему в углу комнаты. Он достал старый мундир и саблю Лобанова, накинул мундир на умирающего и вложил ему в беспокойно перебирающие одеяло руки саблю. И внезапно беспокойные руки успокоились, сжимая рукоять сабли, заострившееся лицо прояснилось.
– Спасибо, Борис Степанович, – прошептал Лобанов. – Спасибо.
Он вытянулся в кровати, застыл, словно хотел сказать: вот и все, пусть и другие входят, посмотрят на мою пустую оболочку.
Глаза Лобанова закатились, рот чуть приоткрылся, дыхание прервалось.
Тугай склонился над умершим и прикрыл ему глаза. Ниночка поцеловала полковника в лоб и торопливо вышла из дома. Во дворе к ней метнулась княгиня Трубецкая, заплаканная, побледневшая.
– Как? Как он?
В уши Ниночки забарабанил бас Муравьева.
– Хоть руку-то ему можно пожать?
Борис закрыл дверь, привалился к грубо отесанной стене. В эти минуты он чувствовал себя бесконечно несчастным и одиноким. Внезапно он понял, что сейчас со смертью Лобанова жизнь в Сибири сделается для него невыносимой.
Через полчаса с Лобановым собрались попрощаться все жители Нерчинска. Он был уже обряжен в свой старенький мундир, в руках сжимал саблю, а князья и графы, генералы и герои Отечественной войны несли подле его гроба почетный караул.
А люди все шли и шли, чтобы увидеть в последний раз своего полковника. Три дня стекался к его гробу народ. Буряты и эвенки, калмыки, якуты и киргизы проходили ко гробу, женщины, дети, мужчины и старики. Даже несколько китайцев пришло. Купцы, скупавшие меха у Бирюкова, сам толстяк рыдал в голос.
– Больших почестей и царю не дождаться, – со слезами прошептал генерал Шеин, гнавший лошадей из самой Читы.
А губернатор Абдюшев велел отслужить во всех соборах Иркутска заупокойную по полковнику Лобанову.
В самом конце февраля, в воскресный день, Лобанова похоронили под тоненькой березкой. С трудом разрыли промерзшую землю. Его гроб несли двенадцать человек, и среди них князь Трубецкой и граф Муравьев. У гроба стоял Тугай с траурно приспущенным знаменем полка, в котором служил когда-то Лобанов. Знамя это за две ночи сшила поседевшая от горя Катенька Трубецкая.
– Господи, прости заблудшую душу раба твоего Николая, – прошептал отец Афанасий у самого края разверстой могилы. – В муках человек рождается, в муках к Тебе, Господи, уходит.
Он мелко крестил гроб, вглядываясь в жадно распахнутое жерло могилы, хотел было сказать еще что-то, как вдруг с диким криком исчез в вырытой яме. Когда его вытащили, едва живого от пережитого страха, лекарь со злорадным удовлетворением установил, что бедняга сломал левую ногу.
– Последняя выходка Лобанова, – сказал генерал Шеин и, не стесняясь, заплакал. Глядя сквозь слезы на гроб, прошептал: – Было бы удивительно, Николай Борисович, коли б ты покинул нас тихо и незаметно.
Катенька Трубецкая который уж час стояла у свежезасыпанного могильного холмика. Слезы медленно текли из глаз и тут же замерзали. Ушел тот, кто был ей так дорог, ушел, так и не узнав об этом.
– Отчего вы не женитесь, – спросила она полковника как-то раз, на одну минуту оставшись с ним наедине. – Хотите, подберу вам хорошую невесту, полно уж вам ходить одиноким…
Он посмотрел на нее долгим нежным взглядом и ответил, опустив глаза вниз:
– Такой, как вы, сударыня, я не найду, а другой мне не надо…
Она покраснела тогда, поняв это косвенное признание в любви, но сделала вид, что ничего не поняла.
– Полно, – дрожащим голосом произнесла еще Трубецкая, – сколько прелестных женщин могли бы быть счастливы с вами…
Лобанов только грустно усмехнулся и ничего не ответил. «Бог покарал меня его уходом», – мелькнуло в голове у княгини. Ужасный пробел оставил Лобанов своим уходом в ее жизни. Тоска невыразимая! Она знала, что за что она ни примется теперь, все будет из рук валиться, самые воспоминания будут не в отраду. Она в первый раз испытывала, что душа может болеть как тело, – именно болит душа! Едва могла понять Катенька Трубецкая, что Лобанов оставил их маленький мир в тайге.
Она подняла голову и увидела подле себя высокого белобородого старца. Глаза княгини наполнились уже не слезами, а ничем не прикрытым ужасом. Она помимо воли с еще незабытой придворной вежливостью поклонилась старику.
– Александр Павлович? Государь?!
Федор Кузьмич посмотрел на княгиню, признал в ней старую знакомицу и улыбнулся.
– Зря ты это, милая, – отозвался ласково. – Не надобно мне так кланяться. Я – бродяга. Лучше ему, бедному, поклонись.
Слезы ручьем хлынули из глаз княгини.
– Больно мне, очень больно! Самой жить не хочется!
В ответ зазвучал голос, глуховатый и размеренный, такой знакомый:
– Напрасно, милая. Жизнь радость есмь. Ты страдаешь, значит, душа твоя очищается, возвышается. Береги душу, впусти в нее радость жизни…
Княгиня все вглядывалась в лицо старца.
– Но ведь ты живой, это только мертвые являются людям видением, Александр Павлович, – без слов подумала она, а он ее услышал.
– Позволено и мне иногда, – усмехнулся.
– Нет, ты точно император Александр, – едва слышно прошептала Трубецкая.
– Разве важно, кто ты на земле, важно, кто ты будешь там… Из первых стал я последним, но ушел от соблазнов, ушел от самолюбия, стал собой, таким, какая у меня душа…
– Но какая радость у меня может быть, если кругом меня – могилы?
И слезы капнули Трубецкой на грудь.
– Ты плачешь от жалости к самой себе, а ты пожалей других…
– Да я всю жизнь только и делаю, что других жалею…
– Нет, пожалей одного человека, отдай ему всю твою любовь, и зачтется тебе, мужа вспомни страдальца, – сказал и исчез в снежном лесу.
Княгиня прикрыла в страхе глаза…
А от могилки вернулась спокойная, радостная, словно согретая теплом сибирского ясного солнца в летний день, привидевшийся ей зимой.
Он прекрасно понимал, что чувствует сейчас княгиня. Ему и самому было дано пережить нечто болезненно подобное. Те дни до сих пор вспоминаются со стоном.
«Она умерла. Я наказан за все мои грехи…» – написал он тогда в своем дневнике. Гулкая пустота окружила его, и ему казалось, что все вокруг уже умерло и только продолжает жить какой-то призрачной, неестественной жизнью, словно и не подозревая о своей смерти, не видя ее и кривляясь перед ее страшным ликом.
Его доченька, девочка, прозрачно-белая, худенькая, переполненная желаниями и чувствами, одна привязывала его к жизни. С ее матерью, Нарышкиной, он давно и нелепо разошелся. Сонечка была единственным существом, в ком он видел свою надежду и радость, она одна заставляла его сердце биться радостно и трепетно. Она умерла от чахотки, и никакие лучшие доктора не могли спасти ее, и глубокое отчаяние опустилось на его душу. Зачем живет он, сломленный морально и физически, зачем нужен он Богу здесь, на земле, если жизнь его дочери отнята и некому утешить его, некому прижаться к его сердцу и подарить минуты самой чистейшей радости, нежности и любви…
Пробираясь по глухой тайге, странник стиснул руками высокий лоб, как и тогда, склонил голую облысевшую голову. Как и тогда, он не мог даже плакать. Сухие скорбные фразы выветрились из его головы, осталась только эта гулкая пустота и нелепая отрешенность.
Он не пошел тогда на похороны дочери, ибо не мог увидеть Софи в гробу – эту искрящуюся жизнью девочку, несмотря на ее слабость и бледную прозрачность. В его памяти она осталась такой, как в последний раз, когда он видел ее, – улыбающейся, утешающей его, ее старого надорванного жизнью отца. Нет, он не мог видеть ее в гробу – неподвижную, бледную, хрупенькую, усыпанную цветами и окруженную свечами. Да он бы и не смог жить, увидев ее такой! И не права была княгинюшка Трубецкая, что пошла поглядеть на мертвого и неподвижного Лобанова. Зря! Она должна была запомнить его живым и решительным. Теперь ей стократно больнее будет.
Он-то это тогда понял. Недаром благословенным его питерская блаженная кликала. Хотя тогда в день смерти дочери не понимал он своей благословенности. Ведь тогда Бог отнял у него все, что было. Все его начинания странным и удивительным образом преображались во зло и неблагодарность. Вокруг него была гулкая пустота, не заполненная ни дружбой, ни любовью, ни самым почтительным выражением благоволения… Ему здесь в тайге много лучше, нежели там, в блеске золота, пурпура и славы.
Федор Кузьмич вернулся в свою потаенную келейку. Навстречу ему кинулся, прихрамывая, Федькин:
– Дедушко! Вернулся!
Вечный странник улыбнулся тепло.
– Как вишь, воротился, друг мой.
Федькин доверчиво протянул ему потрепанный томик – Священное Писание:
– Почитай, дедушко.
В этой просьбе своему постояльцу старец Федор Кузьмич никогда не отказывал.
На этот раз Федькин на коленях подполз к нему и едва слышно промолвил:
– Положи мне его на голову, дедушко…
И все время, пока читал тот главу из Святого Писания, солдатик, чудом спасенный, держал Евангелие на своей голове.
– Пора бы тебе в мир возвращаться, друг мой, – спустя какое-то время промолвил старец.
Федькин отчаянно замотал головой, руками, словно защищаясь, прикрылся:
– Нет, дедушко, дозволь с тобой остаться!
Старец обвел глазами потаенную свою келейку. Небольшая келья была вся черной – стены до половины и весь пол были застелены черным сукном, у самой стены виднелось большое распятие с предстоящей Богоматерью и евангелистом Иоанном, а с другой стороны стояла длинная черная скамья, также обитая черным сукном. Перед иконами в углу горела лампада, почти не дававшая света.
Федькин вновь упал на колени:
– Все мне у тебя здесь любо, хоть и страшно бывает порой. Словно в чреве могилы живу.
– Рядом, – улыбнулся старец. – Пойдем, покажу что. – И вывел за перегородку.
За перегородкой на столе стоял большой черный гроб, в котором лежала схима, свечи и все, относящееся к погребению.
– Смотри, – сказал Федор Кузьмич, – вот постель моя, и не моя только, но и всех нас. В нее все мы, солдатик, ляжем и будем спать долго… А потом пробудимся к новой, неведомой нам, но такой желанной жизни. Я уж раз пробуждался, и ты, видно, тоже… Оставайся, солдатик. Тут твой удел отечеству служить.
Через три дня могильный холмик, все, что осталось от полковника Лобанова, подправили, землю утрамбовали и на последнем пристанище Лобанова поставили крест. Странный крест… Одна его перемычина была из березы, а вот вторая была покрыта искусным рисунком. Чем-то поперечина эта затейливая напоминала деревянный протез полковника.
– В протезе лежало семь тысяч триста сорок девять рубликов ассигнациями, – сказал Борис Ниночке, пересчитав оставленные в наследство деньги. – На корабль этого, конечно, не хватит, но на мачту, паруса и такелаж четырехмачтового баркаса еще как хватит. – И Борис устало потер лицо. – Эх, что за пустые фантазии! На эти деньги мы сделаем здесь сотни лодчонок и пустим вниз по реке. Флот Лобанова в Сибири.
– Когда-нибудь государь все равно ответит, – сказала Ниночка и прижалась к мужу. Они сидели у печи, коротали вместе долгий тихий вечер, в который им было позволено быть вместе, и, казалось, что нет на свете никаких рудников, никакого острога, никакой томительной безнадежности. Ночь иллюзий, во время которой дано грезить одной мечтой в объятиях друг друга.
– Он никогда не ответит, – упрямо помотал головой Борис и уткнулся лицом в плечо Ниночки. – Как будто царя может взволновать, загрызли волки одного генерала где-то под Нерчинском или все-таки не загрызли! Да в Петербурге давно уж забыть о нас забыли!
За окном маленького домика тихо падал снег. Опускалось на землю молчание ночи.
Может, и в самом деле забыли? Прошла зима, наступила весна, спешило ей на смену лето – а ничего в их жизни не менялось. Она, эта жизнь, в Нерчинске текла своим обычным ходом, и только княгиня Трубецкая прибегала украдкой на могилку полковника Лобанова.
Театральные вечера были по-прежнему хороши, в литературных кружках взахлеб спорили о французских романах, а Волконский в компании с Муравьевым и Анненковым создали оперу под громким названием «Дыхание земли», которую тут же принялись раскручивать с товарищами. Вообще-то Нерчинск становился маленьким культурным центром, у которого был лишь один недостаток, он расположен в полном одиночестве тайги и населен ссыльнокаторжанами.
Генерал Шеин изнывал от нетерпения и, в конце концов, с казачьим отрядом отправился в Иркутск. Абдюшев подозревал, что означает такой визит, и только пожал плечами, прикрытыми широкими золотыми эполетами.
– Да нет у меня никаких новостей из Петербурга. Последняя почта была с неделю уж назад.
– Я прибыл, – суровым голосом отозвался Шеин, – чтобы исполнить мое обещание. В вашем присутствии, с вами в качестве свидетеля я собираюсь преломить мою шпагу и сорвать сей мундир с моего тела. И вы мне в том не помешаете!
– Да никто и не собирается вам мешать, друг мой. Но я бы подождал еще немного.
– Сколько ж ждать-то, Семен Ильич? – возмущенно крикнул Шеин.
– Пусть все идет своим чередом, – и губернатор налил гостю бокал вина, который Шеин опустошил одним глотком. – Что такое год-другой в России…
Шеин вернулся в Читу, а недели через три после этого курьер императора доставил властителю Иркутска запечатанное императорской печатью письмо. Дрожащими руками сорвал Абдюшев печать и развернул лист гербовой бумаги.
«Государь император милостью своею…»
Абдюшев не стал читать дальше. Он медленно осел в дорогом кресле и отложил послание в сторону. «Государь император в своем милосердии…» – это был не очередной приказ, это было долгожданное помилование.
Через три недели письмо вместе с очень старой иконой, посланной Абдюшевым Ниночке, добралось до Нерчинска. Там многое за это время изменилось. Генерал Шеин велел открыть ворота острога и объявил самолично декабристов простыми вольнопоселенцами. Они перебрались в дома своих жен и более уж не сторожили их солдаты. И в Нерчинске окончательно воцарился дух Петербурга: князья и графы давали обеды и устраивали охоты, общественная жизнь процветала.
В этот новый мир и пришло послание императора из Петербурга. Еще не распечатав его, Ниночка знала, что в нем. Маленькая икона, присланная с оказией Абдюшевым, рассказала ей все полнее любых слов.
– Читай письмо ты, – слабым голосом попросила Ниночка мужа, протягивая бумагу своему мужу. – Медленно читай, Борюшка. Ибо каждое слово из него подобно каплям свежей крови.
Письмо было длинным, в нем конногвардеец Борис Тугай был помилован и отзывался назад в Петербург, холодную столицу Российской империи. Но как лицо сугубо гражданское – офицерской чести его лишили раз и навсегда в тот роковой день на площади перед крепостью Петра-и-Павла.
Письмо выпало из ставших вдруг очень слабыми рук Бориса, и Тугай стиснул Ниночку в объятиях. Она внезапно расплакалась, как ребенок, судорожно цепляясь за его плечи.
– А стоит ли нам ехать, Ниночка? – тихонько спросил Борис.
Она спрятала лицо в ладонях и молча кивнула. Борис нежно вглядывался в нее.
– А я думал, что ты любишь Сибирь?
– Я так говорила, Борюшка, чтобы дух твой укрепить, сил тебе придать. Но то была ложь! Поутру выглядываю из окна и плачу, плачу, плачу. О, Борюшка, уедем поскорее… Вот был бы жив Лобанов, что бы он нам с тобой сказал?
Борис поник головой. Каждый день ходил он к могилке под одинокой березой и украшал ее летом цветами.
– Он бы сказал, беги, мой мальчик, беги, иначе я тебе таких шенкелей отвешу, что быстрее коня полетишь! – Борис глухо застонал. – Поедешь со мной в Ригу, Ниночка?
– И ты еще спрашиваешь… разве это не я с тобой в Нерчинске сейчас живу?
Борис прижался лицом к Ниночкиным волосам, жадно, с наслаждением вдыхая их запах. Запах тайги, запах Сибири. А потом медленно опустился перед нею на колени и заплакал.
Их отъезд стал величайшим событием в жизни Нерчинска. Два дня подряд прощались Борис и Ниночка со своими друзьями. С собой они везли гору писем в мир живых. Ранним утром 1 сентября они пустились под охраной двенадцати казаков в долгий путь на запад. Друзья не вышли провожать их на дорогу, чтобы могли избежать Борис с Ниночкой ужасного спектакля слез, ужимок, рыданий и горестных криков. Они стояли у окон и смотрели вслед уезжавшим на свободу. Просто стояли и смотрели.
Храни вас Господи, Ниночка, Боренька! Храни вас Господи…
У могилы Лобанова Борис велел остановить возок. Они вышли с Ниночкой из повозки, положили у креста букетик поздних полевых цветов и тихо помолились.
– Твое имя будет жить долго, очень долго, батюшка, – прошептал Борис. – Свой первый корабль я назову «Лобанов».
А потом они поехали дальше. Ехали молча. Им осталась на память одна тишина. Бесконечная тишина тайги.
Закат в тот день был кроваво-красным, а они ехали как раз на запад, утопая в этом пламенном великолепии. Вся Сибирь-матушка окрасилась в алые тона – небеса, леса и земля. Борис приобнял Ниночку за плечи.
– Мы все еще можем вернуться, – жарко прошептал он ей на ухо.
Она отрицательно помотала головой и прикрыла глаза руками.
– Тихо, – ее голос дрожал от невыплаканных слез. – Молчи. Прошу тебя, Борюшка, ни слова более! Иначе у меня не достанет сил сказать тебе «нет».
Повозка со скрипом катилась все дальше и дальше, прочь из Сибири. На облучке сидел Мирон Федорович и хриплым голосом напевал какую-то песню.
На новогоднем балу 1832 года Нина Павловна Тугай, урожденная графиня Кошина, склонилась в низком поклоне перед императором российским – прекраснейшая женщина Петербурга, окруженная флером легенд и авантюрных приключений. Тысячи глаз смотрели, не мигая, на Николая I.
Царь чуть наклонился к Ниночке и предложил ей руку.
– Веселитесь вместе с нами, мадам, – громко сказал он, и его голос разнесся по всему залу. – Император российский приветствует сегодня хозяйку тайги. Мадам, первый танец – мой.
Оркестр заиграл полонез. Под руку с государем Ниночка открыла бал. Она танцевала с упоением, сияющая и счастливая. Перед ее глазами плыла не великолепная позолота дворца, а белые снега степей, лесные стражи Сибири, обледенелый частокол Нерчинского рудника.
Девятнадцатого мая Ниночка родила сына. Она назвала его Николенькой, Николаем Борисовичем, в купельку к нему опустила она маленькую иконку – подарок генерала Абдюшева.
Крестины этого ребенка были самым удивительным событием в старой-старой Риге. Ибо состоялись они не в соборе, а на новом корабле, только что спущенном на воду и названным «Лобанов».
Это был самый красивый и мощный корабль во всей торговой армаде Тугаев. Борис умел держать данное им слово. Слово российского офицера.
ГЛАВА 15
Прошло двенадцать лет. Умерла у Ниночки маменька, погиб вместе со своим кораблем Борис. Она вернулась в заброшенное имение Кошиных.
Здесь все также шумели над головой сросшиеся кроны старых дуплистых деревьев в парке, все также неспешно катила свои воды безымянная речонка. И только старый дом совсем обветшал, и обвалилось старое крыльцо, и облупились старые стены.
В дупле старого дуба жили белки, прыгали по его почти оголенным сучьям скворцы.
С грустью и умилением глядела на старое родовое гнездо Кошиных Ниночка. Запустение старого парка, заросшего репейником, бурьяном и крапивой, еще видные кое-где дорожки вместо широких аллей – все навевало печальные мысли об умирании и буйной поросли сорной травы, что так любит селиться на могильных холмиках.
Унылое зрелище поселило в душе Нины Павловны грусть и сожаление о прошедших временах. Все проходит, с грустью думалось ей. И нельзя останавливаться на пути, надо идти вперед, нельзя задерживаться на тех временах, таких счастливых и таких горьких. Запустение овладевало душой, и не было больше тут приюта человеку…
– Возвращайся в Сибирь, доченька, – прозвучал из ниоткуда глуховатый голос.
Ниночка вздрогнула: старец Федор Кузьмич! Это он, это его голос!
– Тайга скучает без своей хозяйки…
«Я вернусь, я действительно вернусь», – подумала Ниночка и счастливо засмеялась.
Слугам она велела заложить новую дорожную кибитку. Верный Мирон сел на козлы, взял в руки вожжи, с крыльца вместе с Николенькой взобралась постаревшая окончательно и такая обрюзгшая няня Катерина Ивановна. Ниночка покачала головой. Она вновь чувствовала себя свободной, способной самостоятельно принимать решения, не испрашивая на то высочайшего позволения.
Да что с ней могут сделать они, правители земные? Сослать в Сибирь? Плевать, Сибирь стала ей родной, и она уже не боялась ее просторов, знала, что лучше этой второй родины у нее нет. Тайга! Ты слышишь, твоя хозяйка возвращается!
Старец Федор Кузьмич вышел из келейки, провел рукой по медовому стволу сосенки. А потом медленно опустился на колени в опавшую хвою.
Стоя на коленях лицом к востоку, словно бы замирал он, и теперь уже не во сне, а наяву являлись к нему голоса его небесных друзей, и уводили с собой в сверкающие выси, и рассказывали, и показывали устройство мира и Вселенной. И словно бы тонкая серебряная нить соединяла этот его путешествующий дух с его грешным телом, стоящим на земле в немом восторге и благоговении, и все утончалась и утончалась эта серебряная нить, потому что все выше и выше восходил он по пути странствований своих.
Чем уединеннее становилась жизнь его в миру, тем более чудесных вещей происходило с душой его. Пока он еще учился осознавать величие и красоту другого мира, учился отличать темные силы от света, борющегося с ними, учился видеть многострадальную кровавую историю России, ставшей ареной битвы этих сил.
О себе он знал уже все – и что веку ему будет восемьдесят шесть лет, и умрет в безвестности и простоте, и долго, еще два столетия, никто и не вспомнит о подвиге затворничества великого Благословенного, и даже на могиле его, на кресте, слова «Великий» и «Благословенный» будут замазаны белой краской.
Впрочем, о себе он и не помышлял. Он ждал. Ждал возвращения хозяйки тайги.
Она добралась до келейки поздно вечером, но в окошке ее все горел свет.
Ниночка выбралась из кибитки. Стоя у двери, она вдруг так взволновалась, что не могла заставить себя постучать. Дверь открылась сама.
– Призрак? Привидение? – с затаенной усмешкой спросил Федор Кузьмич.
– Нет, я живая, – счастливо засмеялась Ниночка.
– Не может быть, – воскликнул старец, подхватил Ниночку, поднял, ткнулся лицом в плечо и замер.
– Федор Кузьмич, здравствуйте же, – заговорила Ниночка. – Я к вам в гости да еще и с дворней…
Она внимательно вгляделась в его близорукие голубые глаза.
– Вернее, не в гости. Я… навсегда приехала.




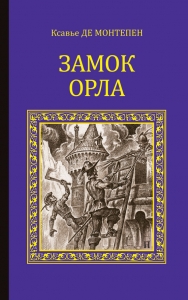


Комментарии к книге «Хозяйка тайги», Оксана Духова
Всего 0 комментариев