Эжен Сю Агасфер (Вечный Жид). Том 1
Господину К.П.
Соблаговолите принять посвящение этой книги, мой дорогой Камиль, не только в знак искренней дружбы, но также и живейшей благодарности. Я никогда не забуду, что Ваши прекрасные работы, плод долгих и искусных поисков, помогли мне оттенить или показать в действии (в моей скромной области рассказчика) некоторые факты, то утешительные, то ужасающие и так или иначе связанные с вопросом организации труда, жгучим вопросом, который вскоре сделается господствующим, потому что для масс это вопрос жизни и смерти.
Если в некоторых эпизодах этого произведения я пытался изобразить чрезвычайно благотворное и практическое воздействие, которое человек с благородным сердцем и просвещенным умом может оказать на рабочий класс, то благодарность за это надлежит воздать Вам.
Если же, с другой стороны, я местами обрисовал жуткие последствия, происходящие от забвения всякой справедливости, милосердия, всякой симпатии к тем, кто издавна обречен на всевозможные лишения, бедствия, горести и молчаливо страждет, требуя только права на труд, то есть определенной заработной платы, соответствующей их тяжелому труду и скромным нуждам, — то здесь Вам снова надлежит воздать благодарность.
Да, мой друг, потому что трогательная и полная уважения привязанность, выражаемая Вам множеством рабочих, трудом которых Вы пользуетесь, улучшая каждый день их духовное и материальное положение, является одним из редких и доблестных исключений, в свете которого особенно плачевным становится тот непросвещенный эгоизм, которому так часто безнаказанно приносится в жертву множество честных и работящих тружеников.
Прощайте, друг мой; посвятить эту книгу Вам, выдающемуся художнику, Вам, одному из лучших сердец и лучших умов, какие я только знаю, — значит сказать, что за недостатком таланта в моем произведении найдут по крайней мере спасительные намерения и великодушные убеждения.
Париж, 25 июня 1845.
Весь ваш Эжен Сю.
ПРОЛОГ. ДВА КОНТИНЕНТА
Поясом вечных снегов оковал Северный Ледовитый океан пустынные берега Сибири и Северной Америки, там, где лежат границы двух континентов: только узкий Берингов пролив разделяет их.
Сентябрь приближался к концу.
За осенним равноденствием пришли мрак и полярные вьюги… Скоро наступит ночь и сменит короткий, пасмурный северный день…
Бледный диск негреющего солнца, еле поднимаясь на горизонте и слабо освещая мрачное, лилово-синее небо, уступает в белизне ослепительному блеску снега, которым на необозримом пространстве покрыты эти равнины.
Границей пустыни на севере является берег, усеянный мрачными исполинскими скалами. У подножия этих титанов окаменело лежит в вечных оковах океан, неподвижные волны которого кажутся цепью ледяных гор. Голубоватые вершины этих гор теряются вдали в снежном тумане…
На западе, между двумя стрелками Уликина мыса, крайней восточной границы Сибири, виднеется темно-зеленая полоса, где медленно плывут громадные ледяные глыбы. Это Берингов пролив.
По ту сторону пролива, господствуя над ним, возвышаются гранитные массы Валлийского мыса, крайней границы Северной Америки.
Эти пустынные широты совершенно необитаемы: нестерпимый холод рвет камни, расщепляет деревья, и сама земля трескается, выбрасывая снопы ледяных игл.
Казалось бы, ни одно человеческое существо не могло осмелиться нарушить уединение этих просторов, царство льда, бурь, голода и смерти.
А между тем, как ни удивительно, можно различить следы ног на снегу, который покрывает ледяные пустыни — окраины двух континентов, разделенных Беринговым проливом.
На американском материке следы легкие, маленькие, свидетельствующие о том, что здесь проходила женщина.
Она направлялась к скалам, откуда виднеется через пролив снежная пустыня Сибири.
Со стороны Сибири следы более крупные и глубокие, свидетельствующие о том, что здесь проходил мужчина.
Он также направлялся к проливу.
Казалось, что мужчина и женщина надеялись увидеться через узкий рукав моря, разделяющий два континента. На свидание это они стремились, по-видимому, с противоположных концов земного шара.
Еще более поразительное явление: и мужчина, и женщина прошли по пустынным местам в разгар страшнейшей бури.
А буря была такая, что с корнем вырвала, сломала и унесла вдаль несколько столетних лиственниц, вершины которых возвышались тут и там в этой пустыне, точно кресты на кладбище.
И этой буре, с корнями вырывающей деревья и сотрясающей ледяные горы, сталкивая их с громовым грохотом, этому бешеному урагану противостояли два путника.
Они противостояли ему, не уклоняясь ни на шаг от направления, которым следовали… Об этом можно судить по их ровным, прямым и твердым следам.
Что же это за существа, спокойно шествующие своим путем среди яростных конвульсий, сотрясающих природу?
Случай ли это, личная прихоть или рок, но семь гвоздей, которыми подбиты сапоги мужчины, оставляют след, имеющий форму креста.
И повсюду он оставлял такой след…
На гладкой обледеневшей поверхности снега крест этот точно выбит сталью на мраморе.
Ночь без сумерек наступила на смену дню…
Страшная ночь…
Вследствие ослепительного преломления лучей на снегу можно было различить бесконечную белую равнину под сводом темно-синего, почти черного неба, где бледные звезды терялись в глубине холодного темного купола.
Молчание полно торжественности…
Но вот над Беринговым проливом на горизонте появляется бледный свет.
Сначала это нежное, голубоватое сияние, подобное тому, которое предшествует восходу луны… Затем это сияние стало усиливаться, испускать лучи и приняло розоватый оттенок.
А кругом становилось все темнее и темнее; даже белая пелена снега, ясно видимая только что, стала едва отличима от черного небосвода.
Среди этого мрака слышатся странные, смутные звуки. Это словно тяжелый и шелестящий полет огромных ночных птиц, которые в испуге носятся над равниной и в изнеможении падают на землю.
Но криков не слышно.
Этот немой ужас возвещает о наступлении одного из тех величественных явлений природы, которые повергают в трепет все живущее, начиная с самых свирепых до самых безобидных существ…
Разом разлилось по небу северное сияние, роскошное зрелище, обычное в полярных странах.
Ослепительного блеска полушарие появилось на горизонте. Из центра этого блистающего очага брызжут огромные столбы света, которые, поднимаясь на неизмеримую высоту, освещают небо, землю и море… Как яркое пламя пожара, разливается этот свет по снежной белизне, покрывает пурпуром синеватые вершины ледяных гор и окрашивает густым красным оттенком высокие черные скалы обоих континентов.
После яркой, великолепной вспышки северное сияние начинает мало-помалу бледнеть, и его блеск гаснет в лучезарном тумане. В этот момент, вследствие своеобразного действия миража, нередко случающегося в этих широтах, стало казаться, что американский берег, хотя и отделенный от Сибири шириной морского пролива, настолько вдруг приблизился, что как будто ничего не стоило в эту минуту перекинуть мост с одного материка на другой.
И вот, в голубоватом облаке тумана, разостлавшегося над обоими континентами, появились две человеческие фигуры.
На сибирском мысе стоял на коленях мужчина и с неизъяснимым отчаянием протягивал к Америке руки.
А с американского берега молодая, красивая женщина отвечала на отчаянный жест мужчины, указывая ему на небо…
При свете потухающего северного сияния эти две человеческие фигуры в течение нескольких секунд вырисовывались на светлом фоне бледными прозрачными очертаниями. Но вот туман постепенно сгустился, и все исчезло во мраке.
Откуда пришли эти два существа, встретившиеся в полярных льдах, на границе двух континентов?
Что это за создания, на секунду сблизившиеся благодаря обманчивой игре миража и снова разлученные навеки?..
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГОСТИНИЦА «БЕЛЫЙ СОКОЛ»
1. МОРОК
Октябрь 1831 года приближался к концу.
Хотя на улице еще светло, но медная лампа с четырьмя рожками освещала потрескавшиеся стены громадного чердака, единственное окно которого завешено, чтобы не пропускать света. На чердак можно попасть через открытый люк, в котором виднеется верхушка переносной лестницы. На полу валяются в беспорядке железные цепи, ошейники с острыми гвоздями, уздечки с зубьями, как у пилы, намордниками, усеянные остриями, длинные стальные прутья с деревянными ручками. В углу стоит маленькая переносная жаровня, вроде тех, какие служат мастерам свинцовых дел для растопки олова; угли в ней лежат кучей на сухих стружках, и достаточно искры, чтобы он воспламенился в одну секунду.
Невдалеке от зловещих инструментов, напоминающих орудия палача, лежат принадлежности старинного вооружения. На сундуке разложена стальная кольчуга с тонкими и гибкими кольцами, так плотно соединенными, что она кажется мягкой стальной тканью, а рядом с ней — железные наручники и набедренники в исправном виде, снабженные ремнями. Кроме того, масса всевозможного оружия и две длинные трехгранные пики с ясеневыми древками, прочные и легкие, на которых видны свежие пятна крови, дополняют эту коллекцию, где о современности напоминают только два тирольских карабина, заряженные и с порохом на полке.
С этим арсеналом смертоносного оружия и варварских инструментов странно соседствовало собрание совершенно других вещей: четки в стеклянных ящичках, медали, agnus Dei, кропильницы, изображения святых в рамках. Вдобавок масса книжонок, напечатанных на грубой синеватой бумаге во Фрибурге, с рассказами о новейших чудесах, о собственноручном письме Иисуса Христа к одному верующему и, наконец, с мрачными предсказаниями на 1831 и 1832 год, адресованными революционной и нечестивой Франции.
Одна из картин, написанных на холсте, которыми странствующие фокусники и фигляры украшают фасад своих балаганов, подвешена к продольной балке потолка, для того, наверное, чтобы не портиться, оставаясь слишком долго в скатанном виде.
На этом холсте виднеется следующая надпись:
«Истинное и достопамятное обращение Игнатия Морока, прозванного „Предсказателем“, совершившееся во Фрибурге в 1828 году».
Картина, больше чем в натуральную величину, написанная кричащими красками и представляющая грубую мазню, разделена на три части и изображает три главные момента из жизни обращенного, прозванного «Предсказателем».
В первой части триптиха изображен свирепого вида человек с длинной белокурой, почти белой бородой, одетый в шкуры оленя, как носят их дикие обитатели северной части Сибири: на нем надета шапка из чернобурой лисицы, с вороньей головой наверху. Его лицо изображает ужас. Скорчившись, на маленьких санках, запряженных шестью рослыми дикими собаками, он несется по снегу, спасаясь от стаи лисиц и волков, чудовищных медведей, которые, раскрыв пасти с чудовищными клыками, казалось, способны сто раз поглотить и человека, и сани, и собак.
Под этой картиной читаем:
«В 1810 году идолопоклонник Морок бежит от преследования диких зверей».
Во второй части картины Морок, одетый в белые одежды новообращенного, стоит на коленях, набожно сложив руки, перед человеком в длинной черной мантии, с белыми брыжами; в углу картины ангел с отталкивающей физиономией держит в одной руке трубу, а в другой — огненный меч; изо рта его выходят начертанные красными буквами по черному фону следующие слова:
«Идолопоклонник Морок бежал от диких зверей; дикие звери побегут от Игнатия Морока, обращенного и крещенного во Фрибурге».
Действительно, в третьей части новообращенный, гордо выпрямив стан, стоит торжествующий и прекрасный, в развевающейся голубой одежде; высокомерно подняв голову и подбоченясь левою рукою, он, казалось, усмиряет простертою десницей тигров, львов, гиен, медведей, которые, пораженные ужасом, смиренно и покорно ползают у его ног, пряча зубы и втянув когти.
Под последней частью можно прочитать как некий моральный итог:
«Игнатий Морок обращен. Дикие звери ползают у его ног».
Рядом с картинами лежат связки маленьких книжонок, тоже напечатанных во Фрибурге, в которых рассказывается о том удивительном чуде, как язычник Морок сразу после крещения получил сверхъестественную, почти Божественную силу, которой не могут противиться самые свирепые звери; тому свидетельством являлись ежедневные представления знаменитого укротителя; он давал их не столько с целью похвастаться мужеством и смелостью, сколько с целью прославить Господа.
Через открытый люк на чердак доносится порою снизу удушливый, острый, резкий запах, запах зверинца. Время от времени слышится то звучный, могучий рев, то глубокое, тяжелое дыхание, сопровождаемое глухим шумом, точно какие-то громадных размеров тела возятся и грузно ворочаются на деревянном полу.
На чердаке находится один человек.
Этот человек — Морок, укротитель зверей, прозванный Предсказателем. Ему лет сорок, роста он небольшого, непомерно худ, с тонкими и сухими руками и ногами. Он с головы до ног укутан в длинный халат на черном меху, с ярко-красным верхом. Лицо его, от природы бледное, покрыто загаром в результате той странствующей жизни, которую он ведет с детства, его волосы, обладающие матово-желтым оттенком, свойственным некоторым народностям полярных стран, падают длинными, прямыми прядями почти до плеч. Борода такого же цвета обрамляет выдающиеся скулы. Нос у Морока тонкий, заостренный и загнутый. Но самое поразительное в его лице — это широко раскрытые, приподнятые веки, благодаря чему над зрачком, какого-то красновато-бурого оттенка, постоянно виднеется часть белка… Неподвижный взгляд этих странных глаз заставлял животных цепенеть, что не мешало в то же время их господину прибегать Для полного их укрощения и к другим мерам, о чем красноречиво говорили валявшиеся здесь ужасные инструменты.
Морок сидел у стола. Он только что открыл потайное дно маленького ящичка, наполненного четками и тому подобными безделками, составляющими принадлежность святош; в этом потайном дне, закрывавшемся секретным замком, лежало несколько запечатанных пакетов, где вместо адреса стояли номер и буква. Предсказатель вынул один из пакетов, положил его в карман халата и, заперев секретным замком двойное дно, поставил ящик на полку.
Все это происходило в четвертом часу дня, в гостинице «Белый сокол», единственной во всей деревне Мокерн, находившейся близ Лейпцига по дороге, ведущей с севера к Франции.
Через несколько минут глухой подземный рев потряс стены чердака.
— Замолчи, Иуда! — угрожающе крикнул Предсказатель, повернув голову к люку.
Послышался новый приглушенный рев, похожий на отдаленный раскат грома.
— Молчать, Каин! — крикнул снова Морок.
В третий раз раздался невыразимо свирепый рев.
— Да замолчишь ли ты, Смерть! — воскликнул Предсказатель, бросившись к отверстию люка и обращаясь к невидимому третьему зверю, носящему мрачное имя.
Но, несмотря на привычный властный голос хозяина, на его повторный окрик, укротитель не мог добиться молчания; наоборот, вскоре к реву зверей присоединился лай нескольких собак. Укротитель схватил пику, подошел к лестнице и хотел уже по ней спускаться, когда на ступенях появился человек, поднимавшийся снизу.
Вновь прибывший был смуглый и загорелый человек в серой круглой шляпе с широкими полями, в короткой куртке и в просторных шароварах из зеленого сукна. Его запыленные кожаные гетры свидетельствовали, что он прошел долгий путь. На спине его была привязана ремнями охотничья сумка.
— Черт бы побрал этих зверей! — сказал он, поднявшись, — будто за три дня они меня совсем забыли!.. Иуда даже лапу протянул сквозь решетку своей клетки… а Смерть прыгнула, как фурия… Право, как будто не узнали…
Все это было сказано по-немецки.
Морок отвечал на том же языке, с легким иностранным акцентом.
— Какие новости, Карл, хорошие или дурные? — с беспокойством спросил он.
— Хорошие!
— Ты их встретил?
— Вчера, за два лье от Виттенберга…
— Слава Богу! — воскликнул укротитель, складывая руки с выражением полного удовлетворения.
— Да оно и понятно… Из России во Францию другого пути нет. Можно было об заклад побиться, что мы их встретим где-нибудь между Виттенбергом и Лейпцигом.
— А приметы?
— Весьма точные: две молодые девушки в трауре, белая лошадь, старик с длинными усами, в военной шапке и сером плаще… И с ними собака сибирской породы.
— А где ты их покинул?
— За одно лье… не позже как через полчаса они будут здесь.
— И именно здесь, в этой гостинице, так как другой в деревне нет, — задумчиво промолвил Морок.
— А ночь уже наступает… — прибавил Карл.
— Удалось тебе заставить старика разговориться?
— Как же! Заставишь его!..
— Почему?
— А вот попробуйте-ка сами его обломать.
— Да отчего же?
— Просто невозможно.
— Невозможно? Почему?
— А вот увидите… Я шел с ними вчера до самой ночи, сделав вид, что случайно их встретил; обратившись к высокому старику, я произнес обычное приветствие всех пешеходов-путешественников: «Добрый день и добрый путь, дружище!» Вместо ответа он только на меня покосился и концом палки указал мне на другую сторону дороги.
— Да ведь он француз и, может быть, не понимает по-немецки?
— Он говорит на этом языке не хуже вас. Я слышал, как в гостинице он просил у хозяина для себя и для молодых девушек все, что им нужно.
— А на ночлеге… ты не пытался еще раз завязать с ним разговор?
— Как не пытался!.. Но он так грубо ко мне отнесся, что я больше уже не возобновлял попытки, чтобы не испортить дела. Вообще я должен вас предупредить, что у него чертовски сердитый вид; поверьте, что, несмотря на седые усы, он мне показался таким сильным и решительным, что, правь, я не знаю, кто бы победил в драке: этот ли иссохший скелет или мой друг, великан Голиаф. Я ваших планов не знаю… но берегитесь, хозяин… берегитесь…
— Моя черная яванская пантера была тоже и сильна, и зла… — с мрачной и презрительной усмешкой отвечал Морок.
— Это Смерть-то? Да она и теперь не менее зла и сильна… только перед вами она покорна и почти кротка!
— Так же точно я сумею скрутить и этого старика, несмотря на его силу и грубость.
— Гм, гм! Не очень-то верьте в это, хозяин; вы ловки и храбрее всякого другого, но, поверьте мне, вы никогда не сделаете ягненком старого волка, который сейчас сюда прибудет.
— А разве Каин, разве тигр Иуда не ползают от страха у моих ног?
— Еще бы! Да ведь у вас на то есть средства, которые…
— У меня есть вера… и в этом все… — властно сказал Морок, прервав Карла, и так при этом взглянул на него, что тот склонил голову и замолчал. — Почему бы Создатель, давший мне опору для борьбы со зверями, не поддержал меня для борьбы с людьми, когда эти люди нечестивы и развратны? — прибавил Предсказатель: торжественным и вдохновенным тоном.
Преклоняясь ли перед силой убеждения хозяина или не чувствуя в себе способности вести споры о таком щекотливом предмете, Карл покорно ответил Предсказателю:
— Вы ученее меня, хозяин. Все, что вы делаете, несомненно хорошо.
— Ты весь день следовал за стариком и девушками? — после некоторого молчания спросил Предсказатель.
— Да, но издали. Зная прекрасно местность, я мог незаметно обходить то по долине, то по горам, не теряя из виду дороги; последний раз я видел их, спрятавшись за водяную мельницу… Так как им оставалось еще пройти достаточно, а ночь уже недалека, я прибавил шагу и опередил их, чтобы сообщить вам то, что вы называете хорошей вестью.
— Очень хорошей… да, очень… и ты будешь вознагражден… потому что, если бы эти люди ускользнули от меня…
Предсказатель вздрогнул и не докончил. По тону голоса, по выражению лица можно было судить, как важно для него принесенное известие.
— В самом деле, — продолжал Карл, — очевидно, это заслуживает внимания, так как тот русский курьер, весь в галунах, который без передышки мчался к вам из Петербурга в Лейпциг… был, может быть, для…
Морок грубо прервал речь Карла.
— Кто это тебе сказал, что приезд курьера имел отношение к этим путешественникам? Ты ошибаешься, ты должен знать только то, что я тебе говорю…
— Ладно, хозяин, извините меня и перестанем об этом… Я сейчас скину сумку и пойду помогать Голиафу кормить зверей; ведь час ужина, должно быть, близок, если только уже не прошел. А хорошо ли он справлялся со своим делом, наш толстый великан?
— Голиаф ушел. Он не должен знать, что ты вернулся, а главное — не надо, чтобы тебя увидели здесь этот старик и девушки. Твое присутствие может возбудить их подозрения.
— Куда же мне уйти?
— Спрячься в конюшне и жди моих приказаний, — быть может, я тебя еще сегодня ночью пошлю в Лейпциг.
— Как прикажете. У меня в сумке есть кое-какая провизия, и в конюшне я поужинаю и заодно отдохну.
— Иди…
— Только не забудьте, хозяин, то, что я сказал. Право, не доверяйтесь этому старику с седыми усами, думаю, что он чертовски решителен; я в этом разбираюсь, — остерегайтесь его.
— Не беспокойся… я всегда осторожен… — ответил Морок.
— Ну, так желаю успеха, хозяин!
И Карл исчез по приставной лестнице.
Послав дружеский жест слуге, Предсказатель походил, задумавшись, по чердаку, затем подошел к ящику с двойным дном, вынул из него какое-то длинное письмо и внимательно перечитал его несколько раз.
Время от времени он вставал, чтобы подойти к закрытому ставнем окну, выходившему на внутренний двор гостиницы, и с беспокойством прислушивался; несомненно, Что прибытие трех путешественников, о которых ему сейчас донесли, он ожидал с большим нетерпением.
2. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
Пока предыдущая сцена происходила в Мокерне, в гостинице «Белый сокол», трое путешественников, ожидаемых с таким нетерпением укротителем зверей, Мороком, мирно шли среди цветущих, веселых лугов, окаймленных с одной стороны речкой, которая приводила в движение мельницу, а с другой — большой дорогой, которая вела к селению Мокерн, расположенному приблизительно в одном лье, на довольно высоком холме.
Небо было необыкновенно ясным, и только шум воды, с пеной сбегающей по колесам мельницы, нарушал тишину и глубокий покой чудесного вечера. Густые ивы, наклонясь над водой, отбрасывали на нее свою зеленую, прозрачную тень, а дальше река ярко отражала и синеву неба, и пламенные краски заката, так что если бы не холмы, отделявшие ее от небосклона, то золото и лазурь вод слились бы в одно с золотом и лазурью неба. Высокий тростник, росший по берегу, склонял свои бархатистые головки под дыханием легкого ветерка; такой ветерок часто поднимается к концу дня, как это было теперь, когда солнце медленно скрывалось за полосой пурпурных облаков с огнистой бахромой… В свежем, чистом воздухе разносился звон колокольчиков отдаленного стада.
По тропинке, проложенной среди луга, на белой лошади ехали, поместившись в одном седле с широкой спинкой, две молоденькие девушки, скорее девочки, так как им недавно исполнилось по 15 лет. Сидеть им было довольно удобно, так как обе отличались миниатюрным, нежным сложением… Лошадь вел под уздцы высокий загорелый человек с длинными седыми усами; он время от времени оборачивался на молодых девушек с почтительной и вместе с тем отеческой заботливостью. Он опирался на длинную палку, а на могучих плечах нес солдатский ранец. Запыленная обувь и слегка волочащаяся походка показывали, что он идет пешком уже давно.
Большая собака из породы тех, которых жители северной Сибири запрягают в сани, смахивавшая на волка видом, ростом и шерстью, неукоснительно следовала за вожаком маленького каравана или, употребляя простонародное выражение, — по пятам своего хозяина.
Ничего не могло быть прелестнее этих юных девушек. Одна из них в левой руке держала ослабленные поводья, а правой обвила талию своей уснувшей сестры, головка которой покоилась на ее плече. Мерные шаги лошади сообщали обеим гибким фигурам полное прелести колебание, причем покачивались и их маленькие, ножки, опиравшиеся на деревянную дощечку, служившую вместо стремени.
Сестры-близнецы носили имена Розы и Бланш по нежной фантазии любящей матери; печальные, сильно поношенные траурные платья указывали, что ныне они были сиротами. Надо было очень хорошо их знать, чтобы уметь различить одну от другой, до того они были друг на друга похожи. Поэтому достаточно описать наружность той из сестер, которая теперь бодрствовала, чтобы познакомиться с обеими; единственной разницей между ними в данный момент было то, что Роза бодрствовала, исполняя сегодня роль «старшей», и на ней лежали обязанности, установленные проводником; старый солдат Империи, фанатик дисциплины, он счел за благо устроить так, чтобы сироты поочередно исполняли обязанности, сопряженные с начальствованием и с повиновением. Несомненно, что Грез бы вдохновился при виде этих двух прелестных головок в черных бархатных детских чепчиках, из-под которых выбивались крупные локоны белокурых волос, рассыпаясь по плечам и груди, обрамляя круглые, румяные, плотные, шелковистые щеки. Красная гвоздика, увлажненная росой, не сравнилась бы ни в цвете, ни в бархатистости с их цветущими губками, нежный голубой цвет барвинка уступил бы в лазурной ясности их большим красивым глазам, где детская невинность соединялась с душевной кротостью. Чистый белый лоб, маленький розовый носик и ямка на подбородке довершали общее приятное впечатление при взгляде на эти милые лица, выражавшие и доброту, и непорочность.
Надо было видеть, когда при наступлении дождя или грозы старый солдат тщательно закутывал их обеих в громадную оленью шубу и спускал им на самый лоб большой непромокаемый капюшон; ничего не было прелестней двух смеющихся свежих лиц, укрытых темным чехлом. Но вечер был спокойный и прекрасный, и шуба покрывала только колени молодых девушек, а капюшон лежал на спинке седла. Роза, все так же обнимая рукой талию уснувшей сестры, смотрела на нее с невыразимой, почти материнской нежностью, так как сегодня Роза была «старшая», а старшая сестра — это почти мать!..
Сестры не только обожали друг друга, но благодаря какому-то психологическому свойству, часто встречающемуся у близнецов, они почти всегда чувствовали одно и то же: всякое волнение одной из них моментально отражалось на лице другой; одна и та же причина заставляла обеих трепетать и краснеть; наконец, их молодые сердца бились в унисон, и невинная радость или горькая печаль одной невольно воспринималась и разделялась другою. В детстве они вместе заболели жестокой болезнью и разом побледнели, надломились и захирели, как два цветка на одном стебле, но точно так же одновременно к обеим вернулись чистые, свежие краски.
Нечего и говорить, что попытка порвать таинственную, неразрывную связь повела бы к смертельному исходу, — так тесно связано было существование этих бедняжек. Итак, прелестная пара птичек, прозванных «неразлучницами», может жить только общей жизнью, и она печалится, страдает, отчаивается и умирает, когда варварская рука разъединяет их друг с другом.
Наставник девушек, человек лет пятидесяти, с выправкой военного, представлял собою бессмертный тип солдата времен Республики и Империи. Эти герои, дети народа, за одну войну превратившиеся в лучших солдат в мире, ясно показали, на что способен, чего стоит и что делает народ, когда истинные его избранники вверяют ему свои силы, доверие и надежды. Этого солдата, провожатого двух сестер, отставного конно-гренадера императорской гвардии, прозвали Дагобером. Его серьезное и строгое лицо было резко и твердо очерчено, седые длинные и густые усы совсем скрывали рот и соединялись с широкой и недлинной бородкой, закрывавшей подбородок; худощавые, обветренные, кирпичного цвета щеки были тщательно выбриты. Светло-голубые глаза затемнялись густыми, черными нависшими бровями; в ушах висели длинные серьги, спускаясь до военного воротника с белой выпушкой. Кожаный пояс стягивал на талии, серую суконную дорожную одежду, а голубая шапка с красной кистью, падавшей на левое плечо, покрывала лысую голову. Несмотря на суровость лица, Дагобер, обладавший силой Геракла в молодости, и теперь еще смелый и сильный, проявлял к сиротам самую нежную заботливость, бесконечную предупредительность и почти материнскую нежность благодаря великодушному сердцу, сердцу льва, всегда доброго и терпеливого. Именно материнскую нежность, потому что героическая привязанность сердца матери стоит сердца солдата. Дагобер никогда не терял хладнокровия, сдерживая всякое волнение и оставаясь всегда стоически спокойным. Невозмутимая серьезность, с которой он ко всему относился, делала его иногда необыкновенно комичным.
По пути Дагобер время от времени оборачивался, чтобы ободрить словом или жестом белую лошадь, на которой сидели сестры. Лошадь эта, несомненно, была уже достаточно стара. Это доказывали и длинные зубы, и впадины под глазами, а два глубокие шрама, один на боку, другой на груди, свидетельствовали о том, что она побывала в горячих сражениях. Может быть, поэтому конь иногда горделиво потряхивал старой военной уздечкой, на медной шишечке которой можно было еще разглядеть изображение орла. Ход его был ровный, осторожный и спокойный; лоснящаяся шерсть и умеренная толщина, а также обильная пена, покрывавшая узду, свидетельствовали о том здоровье, которое лошади обычно приобретают в постоянной, но размеренной работе и в долгом путешествии, совершаемом небольшими переходами. Славное животное, несмотря на шесть месяцев пути, все так же весело, как и при отъезде, несло и своих всадниц, и довольно тяжелый чемодан, привязанный сзади их седла.
Если мы упомянули о несомненном признаке старости — непомерно длинных зубах доброго коня, то это только потому, что лошадь беспрестанно их показывала, точно желая оправдать свое имя, — ее звали «Весельчак», — а также, чтобы поиздеваться над собакой, жертвой ее шуток.
Пес, прозванный, очевидно, по контрасту «Угрюмом», следовал шаг за шагом за хозяином, и Весельчак мог до него дотянуться. Время от времени он хватал зубами Угрюма и, приподняв, нес его так, что собака охотно подчинялась, вероятно, по привычке, и не чувствуя боли благодаря густой шерсти. И только если Угрюму казалось, что шутка слишком затянулась, он оборачивал голову и слегка ворчал. Весельчак сразу же понимал, в чем дело, и немедленно спускал друга на землю. Иногда, должно быть, для смены впечатлений, Весельчак начинал покусывать мешок на плечах старого солдата, который, как и его собака, совершенно привык к заигрываниям лошади.
Все эти подробности позволяют судить о полном согласии, царившем между двумя сестрами-близнецами, старым солдатом, лошадью и собакой.
Маленький караван с нетерпением приближался к месту ночлега, к деревне Мокерн, видневшейся на горе.
Дагобер по временам озирался кругом, стараясь, казалось, сосредоточиться. Мало-помалу его лицо омрачалось, а когда они достигли мельницы, шум которой привлек его внимание, старый солдат остановился и несколько раз провел по усам рукой, что было единственным знаком сильного и сдержанного волнения.
Весельчак тоже внезапно остановился вслед за хозяином, и Бланш, разбуженная неожиданным толчком, подпрыгнула и подняла головку. Она тотчас же нашла взглядом сестру, которой нежно улыбнулась, а затем девушки обменялись жестом удивления при виде Дагобера, который неподвижно остановился, сложив руки на длинной палке, и, по-видимому, был во власти мучительного и глубокого волнения.
Сироты находились в эту минуту у основания небольшого холма, вершина которого скрывалась за густыми листьями громадного дуба, посаженного на середине этого возвышения.
Роза, видя, что Дагобер все так же неподвижен и задумчив, наклонилась в седле и, положив белую ручку на плечо солдата, стоявшего спиной к ней, тихо спросила:
— Что с тобой, Дагобер?
Ветеран обернулся, и сестры, к полнейшему изумлению, увидели крупные слезы, которые оставляли влажный след на загорелых щеках солдата и терялись в его густых усах.
— Ты плачешь?.. ты? — с глубоким волнением воскликнули Роза и Бланш. — Скажи нам, умоляем тебя… скажи, что с тобой?
После минутной нерешительности солдат провел мозолистой рукой по глазам и сказал растроганным голосом, указывая рукою на столетний дуб, около которого они находились:
— Я вас огорчу, бедные малютки, но… то, что я должен вам рассказать, это вещь священная… я не могу об этом умолчать!.. Сюда, к этому дубу, перенес я, восемнадцать лет тому назад… накануне великой битвы под Лейпцигом, вашего отца… У него были две сабельные раны на голове и простреленное плечо… его и меня ткнули также раза два пикой… Здесь, под этим дубом, нас и захватили обоих в плен… да кто и захватил-то! — предатель… француз… маркиз, эмигрировавший в Россию и поступивший полковником в русское войско… Он же после… ну, это вы узнаете потом… — И, помолчав, ветеран продолжал, указывая концом палки на деревню Мокерн: — Да… да, я узнаю эти высоты… На них-то ваш храбрый отец, наш командир, с нашим полком и польской гвардией, опрокинул русских кирасир, захватив батарею. Ах, дети! — наивно прибавил он, — я бы желал, чтобы вы видели вашего храброго отца во главе конно-гренадерской бригады, когда он под градом картечи вел ее в атаку!.. Он был тогда необыкновенно прекрасен!
Пока Дагобер по-своему отдавался сожалениям и воспоминаниям, сироты, повинуясь невольному порыву, соскользнули с лошади и, взявшись за руки, пошли к дубу — преклонить колени. Крепко прижавшись друг к другу, они залились неудержимыми слезами, между тем как солдат поник лысой головой, скрестив руки на длинной палке.
— Ну, полноте… не надо убиваться… — тихо сказал он немного погодя, заметив слезы на румяных щечках Розы и Бланш, все еще коленопреклоненных, — мы, может быть, найдем генерала Симона в Париже… я расскажу вам обо всем сегодня на ночлеге… Я нарочно откладывал это до нынешнего дня… Сегодня, по-моему, выходит нечто вроде годовщины, и я многое расскажу вам о вашем отце… давно мне хотелось…
— Мы плачем, потому что не можем не вспомнить и о маме, — сказала Роза.
— О маме, которую увидим только на небесах, — прибавила Бланш.
Солдат поднял сирот и, взявши их за руки, посмотрел на них с чувством невыразимой преданности, казавшейся еще более трогательной благодаря контрасту с его суровыми чертами.
— А все-таки так горевать не следует! Правда, дети, ваша мать была лучшей из женщин… Когда она жила в Польше, ее звали жемчужиной Варшавы, но можно было бы безошибочно прозвать ее «жемчужиной, подобной которой нет во всем свете»! Уж именно во всем свете не найти такой другой… нет!..
При этом голос изменил Дагоберу, он замолчал и начал, по обыкновению, поглаживать усы.
— Послушайте-ка, девочки, — добавил он, подавив волнение, — ведь ваша мать давала вам всегда самые лучшие советы?
— Конечно, Дагобер.
— Ну, а что вам она говорила перед смертью? Она велела о ней помнить, но не предаваться горю!
— Это правда. Она говорила нам, что Бог, всегда такой добрый к бедным матерям, оставившим на земле сирот, позволит ей слышать нас с высоты небес, — сказала Бланш.
— И она обещала всегда следить за нами! — прибавила Роза.
При этом обе сестры с глубокой и наивной верой, свойственной их возрасту, невольно в трогательном прелестном порыве взялись за руки и, устремив к небу глаза, воскликнули:
— Ведь это правда, мама?.. ты нас видишь?.. ты слышишь нас?
— Ну, а раз ваша мама вас видит и слышит, — сказал растроганный Дагобер, — то не огорчайте же ее своею грустью… Помните, что она вам запретила горевать!
— Ты совершенно прав, Дагобер, мы не будем больше плакать!
И они послушна вытерли глаза.
Дагобер, с точки зрения святош, был настоящие язычником. В Испании он со страстным наслаждением наносил сабельные удары монахам всех орденов, которые с распятием в одной руке и с кинжалом в другой защищали не свободу (давно умерщвленную инквизицией), а свои чудовищные привилегии. Между тем все-таки недаром Дагобер сорок лет с лишком был свидетелем поразительных по своему величию событий, недаром столько раз видел смерть лицом к лицу.
Благодаря этому, инстинктивное чувство естественной религии, присущее всем простым и честным сердцам, всегда пробуждалось в его душе. Поэтому-то, не разделяя утешительной надежды сестер, он счел бы преступлением хоть немного поколебать ее.
Заметив, что девочки повеселели, он начал так:
— Ну вот, в добрый час, дети. Я гораздо больше люблю, когда вы весело болтаете и хохочете втихомолку… не отвечая даже на мои вопросы… как, например, вчера и сегодня утром… Да… да… эти два дня у вас завелись какие-то важные секреты… но это ничего… раз это вас забавляет, я очень рад…
Сестры покраснели и обменялись полуулыбкой, хотя слезы еще не успели обсохнуть на их глазах. Затем Роза с легким смущением сказала старому солдату:
— Да нет же, Дагобер… ты ошибаешься, мы ничего особенного не говорили!
— Ну, ладно, ладно. Я ведь ни о чем не хочу узнавать… Ну, отдохните еще немного, а потом в путь… уж поздно, а надо в Мокерн попасть засветло… чтобы выехать завтра пораньше.
— А далеко еще нам ехать? — спросила Роза.
— До Парижа-то?.. да придется, дети, переходов с сотню сделать… хоть и тихо мы двигаемся, а все-таки продвигаемся… а главное, все обходится дешево, что при нашем тощем кошельке очень важно: комнатка для вас, половик и одеяло у порога для меня с Угрюмом, да свежая солома для Весельчака — вот и все наши путевые издержки. О пище я не говорю: вы вдвоем съедите не больше мышки, а я в Египте и Испании выучился чувствовать голод только тогда, когда есть чем его утолить!..
— Ты не говоришь о том, что для большей экономии все делаешь сам, не позволяя нам даже в чем-нибудь тебе помочь!
— Подумать только, что каждый вечер ты сам стираешь белье, как будто мы…
— Что? Вам стирать? — прервал речь Бланш старый солдат. — Чтобы я вам дал испортить стиркой ваши маленькие ручки! Что и говорить! Точно в походе солдат не сам стирает свое белье! Я, знаете, считался лучшей прачкой в эскадроне! А разве я плохо глажу? Ну-ка, скажите! Право, без хвастовства сказать, отлично глажу.
— Это правда… ты прекрасно гладишь!..
— Разве только иногда подпалишь! — засмеялась Роза.
— Да… если утюг очень горяч… Видите… я хоть и подношу его к щеке, чтобы узнать степень жара… да кожа-то у меня уж слишком груба… ничего не чувствует, — с невозмутимо серьезной миной отвечал Дагобер.
— Да разве ты не видишь, что мы шутим, добрый Дагобер!
— Ну, а если вам ваша прачка нравится, то не отнимайте у нее работу! Оно и экономней выйдет… а в дороге бедным людям все пригодится… Надо, чтобы нам хватило до Парижа добраться… а там уж за нас все сделают наши бумаги и медаль, что вы носите… надо по крайней мере надеяться, что так будет…
— Эта медаль для нас святыня!.. Нам ее дала наша мама, умирая…
— Так не потеряйте же ее, смотрите! Время от времени поглядывайте, тут ли она.
— Да вот она, — сказала Бланш.
И она вытянула из-за лифа маленькую бронзовую медаль, висевшую у нее на шее.
По обеим сторонам бронзовой медали были выбиты следующие надписи:
Victime de L.C.D.J.
Priez pour moi.
Paris le 13 fevrier 1682
A Paris Rve St.Francoisn 3 Dans vn siecle et demi vovs serez Le is fevrier 1832.
Priez pour moi. note 1
— Что это значит, Дагобер? — спросила Бланш, разглядывая эти мрачные надписи: — Мама не могла нам разъяснить.
— Вот сегодня на ночлеге обо всем потолкуем, — отвечал Дагобер, — а теперь уже поздно… спрячьте медаль, да и в путь… Нам еще остается с час идти до гостиницы… Ну, взглянем в последний раз на этот холм, где был ранен ваш отец, да и в дорогу… живее на лошадь!
Сироты бросили последний благоговейный взор на место, вызвавшее ряд грустных воспоминаний у их спутника, и с его помощью взобрались опять на Весельчака. Благородное животное ни на минуту не попыталось куда-нибудь отойти, как испытанный ветеран оно воспользовалось задержкой, чтобы пощипать сочной зеленой травы на чужой Земле, возбуждая аппетитом зависть в Угрюме, который спокойно лежал на траве, уткнув морду в лапы. Затем, когда все двинулись в путь, собака снова заняла место за хозяином. Почва становилась все более и более сырой и болотистой, так что Дагобер вел лошадь с большой осторожностью, исследуя сначала землю концом длинной палки; через несколько шагов он был вынужден сделать обход влево, чтобы попасть на большую дорогу.
Прибыв в Мокерн, Дагобер справился о самой недорогой гостинице. Ему ответили, что имеется только одна гостиница «Белый сокол».
— Ну, нечего делать, едем тогда в «Белый сокол», — отвечал солдат.
3. ПРИБЫТИЕ НА НОЧЛЕГ
Не раз Морок нетерпеливо открывал ставню чердачного окна, выходившего на двор гостиницы «Белый сокол», чтобы подстеречь прибытие сирот и солдата. Видя, что они еще не приехали, он снова принимался медленно ходить, опустив голову и скрестив руки, выискивая способ выполнения задуманного им плана, причем, вероятно, расчеты эти были очень нелегки, так как черты его сурового лица принимали все более и более мрачный оттенок.
Несмотря на свирепую внешность, Морок не был лишен ума; смелость, которую он выказывал во время упражнений со зверями и которую благодаря ловкому шарлатанству он приписывал своему недавнему обращению, его речь, то мистическая, то торжественная, его суровое лицемерие — все это дало ему известного рода влияние на тех людей, которых он встречал во время путешествий.
Конечно, задолго еще до обращения Морок хорошо ознакомился с нравами диких зверей… Действительно, уроженец северной Сибири, он с молодых лет был одним из самых неустрашимых охотников на медведей и оленей. Позднее, в 1810 году оставив это занятие, он попал в проводники к одному русскому инженеру, посланному с научной целью в северные районы.
Морок последовал за ним в Санкт-Петербург, где после многих неудач попал в число императорских курьеров, железных автоматов, которых малейший каприз деспота бросал в легкие сани, летавшие по всему необъятному пространству империи, от Персии до Ледовитого океана. Для этих людей, которые путешествуют день и ночь с молниеносной быстротой, не существует ни времен года, ни препятствий, ни опасностей, ни усталости. Эти люди, несущиеся как камень из пращи, должны достигать цели или погибать; представьте же себе смелость, силу и дисциплину людей, привыкших к подобной жизни.
Теперь мы не считаем возможным пояснять, при каких обстоятельствах Морок оставил это трудное ремесло для другой профессии и поступил в качестве новообращенного в одно из духовных обществ во Фрибурге и как, наконец, окончательно обратившись, он стал хозяином неизвестно откуда взявшегося зверинца и принялся за кочевую жизнь.
Морок все еще продолжал ходить по чердаку. Надвигалась ночь. Нетерпеливо ожидаемые путешественники не появлялись. Походка укротителя делалась все более и более нервной и порывистой. Вдруг он разом остановился и, наклонив голову к окну, начал прислушиваться. Этот человек обладал тонким слухом дикаря.
— Вот они! — воскликнул он.
Дьявольская радость сверкнула в его красноватых зрачках.
Он услышал шум лошадиного топота и человеческих шагов. Осторожно приоткрыв ставень, он увидел, Как во двор въехали на лошади две девушки в сопровождении их спутника, старого солдата.
Наступила темная, облачная ночь. Сильный ветер колебал пламя фонарей, с которыми встречали новых приезжих. Приметы, имевшиеся у Морока, были так точны, что ошибиться он не мог. Уверенный, что добыча не ускользнет из его рук, он прикрыл ставень и, после нескольких минут размышления, окончательно продумав свой план, наклонился над люком, где стояла лестница, и позвал:
— Голиаф!
— Что, хозяин? — ответил хриплый голос.
— Поди сюда!
— Сейчас… я вернулся от мясника, принес мясо…
Верхушка лестницы затряслась, и на уровне с полом появилась огромная голова.
Этого человека недаром звали Голиафом. В нем было больше шести футов роста. Он обладал сложением Геркулеса и отвратительной наружностью. Косые глаза глубоко сидели под маленьким, выпуклым лбом. Рыжие волосы и рыжая всклокоченная борода, жесткая, как конский волос, придавали ему дикий и звериный облик. В своих широких челюстях, с длинными, острыми зубами, похожими на клыки, он держал громадный кусок сырого мяса фунтов в десять или двенадцать, находя более удобным нести свою ношу так, чтобы руки оставались свободными и чтобы он мог влезать с их помощью на лестницу, которая качалась под его тяжестью.
Когда огромное, массивное тело великана поднялось по лестнице, по его бычьей шее, по ширине спины и плеч, по величине рук и ног можно было ясно судить, что ему нипочем борьба один на один с медведем. На нем были старые синие панталоны с красными полосками и нечто вроде казакина или скорее плотная кожаная кираса, кое-где поцарапанная острыми когтями животных.
Взойдя на чердак Голиаф разжал клыки и уронил на пол мясо, после чего с видимым удовольствием облизал усы. Этот человек, похожий на зверя, начал свою карьеру, — как и многие другие скоморохи, с того, что пожирал на ярмарках сырое мясо за вознаграждение публики. Затем, привыкнув к дикой пище и сочетая вкусовое удовольствие с выгодой, он стал открывать выступления Морока тем, что съедал на потеху толпе несколько фунтов сырого мяса.
— Вот мясо для Каина и Иуды; моя порция и порция Смерти внизу, — сказал Голиаф. — Где нож? я разделю им пополам… и человеку, и зверю… без всякого предпочтения… На каждую глотку свой кусок…
И, засучив рукав куртки, причем обнаружилась громадная волосатая рука с жилами чуть ли не в палец, он снова спросил, ища глазами оружие:
— Да где же нож, хозяин?
Не отвечая на этот вопрос, Предсказатель спросил своего помощника:
— Ты был внизу, когда подъехали новые постояльцы?
— Да, хозяин, я шел от мясника.
— Что это за люди?
— Две девчонки на белой лошади да какой-то старикашка с седыми усами… Однако где же нож? Звери проголодались… да и я также… где нож?
— А ты не знаешь, где их поместили, этих приезжих?
— Хозяин увел их в глубину двора.
— В то помещение, которое выходит к полю?
— Да, да, хозяин… да где же…
Взрыв страшного рева потряс стены чердака и прервал Голиафа.
— Слышите? — воскликнул он. — Я вам говорил, что голод привел зверей в ярость. Я сам, кабы умел реветь, заревел бы не хуже их… Сроду не видел Иуды и Каина в таком состоянии, как сегодня; они так прыгают в клетке, что разломать ее могут… а Смерть… у нее глаза прямо горят… точно две свечки… бедняжка Смерть!
Морок продолжал, не обращая внимания на слова Голиафа:
— Значит, девушек поместили в том строении, которое стоит в глубине двора?
— Ну да, да! Ножик-то давайте, черт побери, ножик! С отъездом Карла я должен со всем один управляться, а из-за этого наш ужин и так запаздывает…
— А старик остался с девушками? — спросил Морок.
Голиаф, не понимая, почему хозяин не обращал внимания на его настояния относительно ужина зверей, с возрастающим изумлением глядел на него.
— Да отвечай же, скотина!
— Коли я скотина, так и сила у меня скотины, — грубо возразил Голиаф, — и коли на то пошло, так и я никакой скотине не уступлю…
— Я тебя спрашиваю: остался старик с девушками или нет? — повторил Морок.
— Да нет же! — отвечал великан. — Старик, как отвел лошадь на конюшню, так тотчас же потребовал корыто и воды и отправился под навес… при свете фонаря принялся за стирку… Просто потеха… старик с седыми усами, а стирает точно какая-нибудь прачка… Это все равно, как если бы я принялся сыпать просо чижикам! — прибавил Голиаф, с презрением пожимая плечами. — Ну, а теперь, хозяин, когда я ответил на все ваши вопросы… отпустите же меня кормить зверей… И куда только этот ножик запропастился? — прибавил он, оглядываясь кругом.
После молчаливого раздумья Предсказатель произнес:
— Ты сегодня вечером не будешь давать еды зверям!
Сперва Голиаф ничего не мог понять — так дико показалось ему это приказание.
— Что вы сказали, хозяин? — переспросил он.
— Я тебе запрещаю сегодня кормить зверей!
Голиаф не ответил, молча всплеснул руками, вытаращил свои косые глаза и отступил на два шага назад.
— Ну, понял? — воскликнул с нетерпением Морок. — Кажется, ясно!
— Как же это не есть! Когда и мясо принесено, да и ужин наш на три часа и без того запоздал? — с все увеличивающимся изумлением сказал Голиаф.
— Слушайся и молчи!
— Чего же вы хотите? Чтобы сегодня случилось какое-нибудь несчастье? Голод доведет до ярости и зверей, и меня…
— Тем лучше!
— Мы взбесимся!
— Тем лучше!
— Как это тем лучше?.. Но…
— Довольно.
— Черт побери, да ведь и я голоден не меньше их!
— Ну, так ешь! Кто тебе мешает? Твой ужин ведь готов, варить не надо!
— Я без своих зверей не ем, и они без меня тоже…
— А я тебе повторяю, что если ты осмелишься накормить сегодня зверей, то я тебя выгоню!
Голиаф глухо заворчал, точно медведь, и с гневным удивлением продолжал смотреть на Предсказателя.
Отдав приказания, Морок, погруженный в думы, продолжал расхаживать по чердаку. Обращаясь к Голиафу, все еще оторопелому, он сказал:
— Ты помнишь, где дом бургомистра, куда я ходил сегодня регистрировать свой вид на жительство… еще его жена накупила маленьких книжечек?
— Ну! — грубо отвечал великан.
— Поди, спроси его служанку, застану ли я его рано утром дома.
— А зачем?
— Может быть, мне понадобится сообщить ему нечто весьма важное. Во всяком случае, предупреди, чтобы он никуда не отлучался, не повидав меня.
— Ладно… а звери-то как? Можно их покормить, прежде чем идти к бургомистру?.. Я только дам поесть яванской пантере… Она больше всех оголодала… Хозяин, слышите? Только бы Смерть покормить. Я возьму для нее кусочек? Каин, я и Иуда — мы подождем.
— Ей особенно нельзя ничего сегодня давать… не смей!..
— Вот дьявольщина! — воскликнул Голиаф. — Да что с вами сегодня… я и понять не могу! Жаль, Карла нет, он хитер и сразу бы объяснил мне, почему это вы не хотите давать есть зверям, когда они голодны.
— Тебе это вовсе не надо знать!
— А Карл еще не скоро вернется?
— Он вернулся.
— Где же он?
— Он снова ушел.
— Что же такое у нас творится? Карл уходит, приходит, опять уходит…
— Дело не в Карле, а в тебе. Ты хоть голоден, как волк, а хитер все-таки, как лиса… А когда захочешь, так и Карла перехитришь.
И Морок дружески хлопнул великана по плечу, разом меняя свое с ним обращение.
— Я-то хитер?
— И в доказательство этого сегодня ночью можешь заработать десять флоринов, а у тебя достанет хитрости их заполучить… Я в этом уверен…
— О, на этот счет у меня сметка есть! — с довольной и глупой улыбкой сказал великан. — А что надо сделать, чтобы добыть эти десять флоринов?
— А вот увидишь.
— Трудная штука?
— Увидишь… Иди же сперва к бургомистру… но прежде разожги жаровню, — и он жестом указал на нее Голиафу.
— Хорошо, хозяин, — ответил Голиаф, несколько утешенный перспективой получения десяти флоринов.
— А на жаровне ты раскалишь этот стальной прут, — прибавил Предсказатель.
— Хорошо, хозяин.
— Прут этот ты оставь на огне, а сам отправишься к бургомистру и, вернувшись, жди меня здесь.
— Хорошо, хозяин.
— И чтобы жаровня не потухла.
— Хорошо, хозяин.
Морок хотел уже уходить, но снова остановился и переспросил:
— Так ты говоришь, что старик стирает под навесом?
— Да!
— Не забудь же ничего. Стальной прут на огонь, потом к бургомистру, а затем жди меня здесь.
И, сказав это, Предсказатель спустился в люк и исчез.
4. МОРОК И ДАГОБЕР
Голиаф не ошибся… Действительно, Дагобер стирал белье, сохраняя при этом непоколебимо серьезный вид, не покидавший его никогда.
Принимая во внимание привычки солдата во время похода, нечего удивляться кажущейся эксцентричности этого поступка: кроме того, Дагобер только и думал, чтобы сэкономить скромные средства сирот и избавить их от всякого труда и заботы; поэтому каждый вечер, после перехода, он занимался всевозможными женскими делами. Впрочем, ему к этому было не привыкать: не раз во время войны приходилось весьма умело исправлять беспорядок и прорехи, которые причиняет солдату день битвы; получать сабельные удары — это еще не все: нужно уметь чинить свой мундир, так как, задевая кожу, клинок рвет и одежду. Поэтому вечером, после жаркой битвы, или на другой день можно видеть, как лучшие солдаты — те, которые всегда отличаются исправностью мундира, вытаскивают из ранца сверточек с иголками, нитками, ножницами, пуговицами и другой галантереей, чему позавидовала бы самая аккуратная хозяйка, чтобы заняться всевозможными починками.
Вот удобный случай объяснить прозвище Дагобера, которое было дано Франсуа Бодуэну (провожатому двух сирот), признанному одним из самых смелых и красивых конно-гренадеров императорской гвардии.
Весь день продолжалась жаркая битва, но перевеса не получила ни та, ни другая сторона. Вечером отряд, в котором находился и наш герой, был послан занять посты в развалинах покинутой деревни, где, разместив караулы, часть всадников осталась верхом, а часть расположилась на отдых, привязав лошадей к колышкам.
В числе последних был и Франсуа. Он храбро дрался, но не был ранен, так как не принимал в счет глубокой царапины, нанесенной ему на память неловким штыком какого-то эмигранта, задевшим ему бедро.
— Разбойник!.. Мои новые брюки! — воскликнул гренадер, созерцая зияющую прореху на бедре и отплачивая ловким ударом палаша, пронзившего его противника насквозь. Стоически равнодушный к царапине, нанесенной его коже, наш герой совсем иначе относился к катастрофической прорехе на парадных брюках.
И вечером, на бивуаке, он решил помочь беде: вытащив из кармана сверточек, выбрав самую лучшую нитку, самую лучшую иголку и вооружив палец наперстком, он, при свете огней, принялся за портновскую работу. Сняв предварительно большие, верховые сапоги, он вывернул брюки наизнанку, чтобы штопка была менее заметна.
Это частичное раздевание грешило против дисциплины, но капитан, делавший обход, не мог удержаться от смеха при виде старого солдата, важно восседавшего на корточках, без сапог, с меховой шапкой на голове, в полной форме, и державшего на коленях брюки, которые он чинил с хладнокровием портного, работающего у себя на столе.
Вдруг началась перестрелка, и часовые бросились к отряду, крича: «К оружию!»
— На коней! — громовым голосом скомандовал капитан.
Минута — и все были в седле. Бедняга-штопальщик, стоявший во главе первого взвода, не имел даже времени, чтобы вывернуть брюки; он натянул их наизнанку и, не имея времени надеть сапоги, вскочил на лошадь. Отряд казаков, пользуясь прикрытием леса, хотел захватить врага врасплох; схватка была кровавой. Наш воин дошел до остервенения. Он очень ценил свои вещи, а этот день был для него роковым: разорванные брюки, потерянные сапоги! Зато он и рубил как бешеный, двоих убил, одного офицера захватил в плен, так что при свете луны весь полк мог любоваться подвигами храброго гренадера.
После этой схватки, в которой отряд отстоял позицию, капитан собрал команду, чтобы ее похвалить. Желая воздать должное храбрости Франсуа Бодуэна, капитан вызвал его из рядов, чтобы отдельно поздравить и поблагодарить за изумительную отвагу. С большим бы удовольствием отказался солдат от этой чести, но делать было нечего.
Представьте же себе изумление капитана и всех товарищей, когда они увидели громадную фигуру гренадера верхом, с босыми ногами в стременах и пришпоривающего лошадь голыми пятками. Капитан в изумлении приблизился, но, вспомнив, чем занимался солдат перед тревогой, он все понял.
— Ах ты, старый воробей! Ты подражаешь, должно быть, королю Дагоберу — надеваешь штаны наизнанку! — сказал он.
Несмотря на дисциплину, шутка капитана вызвала смех, хотя и сдержанный. А наш герой невозмутимо-серьезный отдал честь по всем правилам устава, выслушал благодарность капитана и хладнокровно, не моргнув глазом, вернулся на место.
С этой поры и навсегда осталось за Франсуа Бодуэном прозвище Дагобер.
Итак, ветеран под навесом гостиницы занимался стиркой. Это зрелище возбуждало глубокое изумление нескольких любителей пива, которые с любопытством наблюдали за ним из общей залы, где они собрались.
Действительно, зрелище было занятное.
Дагобер снял для удобства серый плащ и засучил рукава рубашки. Сильными руками он обильно мылил и тер маленький мокрый платок, разложенный на доске, нижний наклоненный конец которой погружался в бак с водой; два шрама в палец шириной виднелись на правой руке солдата, татуированной красными и синими военными эмблемами.
Суровый, насупленный вид старика, который он принимал всегда, когда при нем не было его девочек, седые усы, лысая голова — все это совершенно не подходило к занятию, которому он предавался, и поэтому удивление немцев, пивших пиво и куривших трубки, было вполне понятно. А солдата начинало уже раздражать назойливое внимание, так как он не находил ничего странного в том, что делал.
В эту минуту под навес вошел Предсказатель. Он сперва долго рассматривал Дагобера, а потом подошел к нему ближе и довольно насмешливым тоном заметил ему по-французски:
— Кажется, дружище, вы не особенно доверяете мокернским прачкам?
Дагобер, не прерывая стирки, искоса, нахмурив брови, взглянул на Морока и ничего не ответил.
Удивленный молчанием, Морок, начал снова:
— Я, разумеется, не ошибаюсь. Вы француз. Это видно по вашей татуировке, да и вся ваша выправка указывает на военное ремесло. Право, для героя императорской армии вы странно кончаете, занимаясь бабьим делом.
Дагобер продолжал молчать. Только нервным покусыванием усов да все более и более порывистыми движениями при намыливании проявлял он неудовольствие, а оно было довольно сильно, потому что и лицо и слова укротителя в высшей степени не нравились ему.
Вместо того чтобы уняться, Морок продолжал:
— Я уверен, приятель, что вы не глухи и не немы. Почему же вы мне не отвечаете?
Потеряв терпение, Дагобер оглянулся и, пристально посмотрев на Морока, резко ответил:
— Я вас не знаю, да и знать не хочу; оставьте меня в покое.
И он снова принялся за свое дело.
— Что же, можно и познакомиться… разопьем вместе бутылочку рейнского вина… поговорим о наших походах… Я тоже бывал на войне… Я вас об этом предупреждаю, в надежде, что это придаст вам вежливости.
Жилы на лысом лбу Дагобера сильно напряглись. Ему чуялось в словах и во взгляде упрямого собеседника нечто неуловимо дерзкое и вызывающее. Но он постарался сдержаться.
— Я вас спрашиваю, почему вы не хотите распить со мной бутылочку?.. Мы бы поговорили о Франции… я там долго жил… славная страна… Поэтому я всегда рад встрече с французом, особенно если он так искусно управляется с мылом: право, будь у меня хозяйка, я послал бы ее на выучку к вам…
Насмешка была понятна. Дерзость и вызов недвусмысленно читались в нахальном взгляде Предсказателя. Принимая во внимание, что ссора с подобным противником могла завести очень далеко и желая ее избежать во что бы то ни стало, Дагобер подхватил ушат и двинулся в другой угол навеса, чтобы этим положить конец сцене, испытывавшей его терпение. В красных глазах Морока блеснула молния радости. Казалось, белая полоса над зрачком расширилась. Он с видимым удовольствием запустил свои крючковатые пальцы в русую длинную бороду и медленно приблизился к солдату в сопровождении нескольких любопытных, покинувших залу трактира.
Несмотря на хладнокровие Дагобер, пораженный и оскорбленный нахальной назойливостью Предсказателя, возымел было желание размозжить ему голову доской, на которой он стирал, но сдержался, вспомнив о сиротах. Тогда Морок, сложив на груди руки, дерзким и сухим тоном промолвил:
— А вас нельзя все-таки назвать вежливым, господин прачка!
Затем, обратившись к зрителям, он прибавил по-немецки:
— Я сказал этому французу с длинными усами, что он невежа… Посмотрим, что он нам на это ответит! Придется, пожалуй, преподать ему урок!.. Я не забияка… избави меня небо, — прибавил он набожным тоном. — Но Господь просветил меня, я Его творение, и из почтения к нему я должен заставить уважать Его дело!
Эти мистические и нахальные разглагольствования еще больше понравились любопытным. Слава о Предсказателе дошла и до Мокерна, и подобное вступление было забавной подготовкой к завтрашнему спектаклю.
Услыхав наглый вызов противника, Дагобер не утерпел и по-немецки же ответил:
— Я немецкий язык знаю… продолжайте же по-немецки… понятнее будет…
Подошли еще новые зрители. Круг их все более и более увеличивался, интерес возрастал, дело обещало выйти забавным.
Предсказатель продолжал по-немецки:
— Я сказал, что вы невежа, а теперь прибавлю еще, что вы бессовестный грубиян! Что вы мне на это ответите?
— Ничего! — хладнокровно заметил Дагобер, принимаясь за стирку другой вещи.
— Ничего? — продолжал Морок. — Это немного! Я буду не так краток и скажу вам следующее: когда честный человек вежливо предлагает незнакомцу распить с ним бутылочку, то этот незнакомец не имеет права отвечать на предложение грубостью, иначе он заслуживает хорошего урока!
Пот крупными каплями струился по лбу и щекам Дагобера. Его борода нервно вздрагивала, но он все еще владел собою. Подняв за уголки выстиранный платок, он выполоскал его в воде, встряхнул и принялся старательно его выжимать, напевая сквозь зубы старую казарменную песенку:
De Tirlemont taudion du diable, Nous partirons demain matin Le sablre en main, Disant adieu a…
note 2
(Мы не приводим слишком вольный конец куплета.)
Молчание, на которое обрек себя Дагобер, его душило; песенка принесла облегчение.
Морок, лицемерно делая вид, что сдерживает себя, сказал, обращаясь к зрителям:
— Мы знаем, что солдаты Наполеона были язычники; они ставили своих лошадей в Церкви, оскорбляли Господа по сто раз в день, за что и были справедливо разбиты и потоплены при Березине, как фараоны. Но нам не было до сих пор известно, что Создатель, для наказания нечестивцев, лишил даже единственной их добродетели — мужества!.. Вот человек, оскорбивший во мне избранника Божия и якобы не понимающий, что я требую от него извинения… или… иначе…
— Ну, что же: иначе? — спросил, не глядя на Предсказателя, Дагобер.
— Иначе я требую удовлетворения. Я вам сказал: я тоже видел войну… верно, где-нибудь найдутся две сабли… и завтра на рассвете… в укромном уголке мы и посмотрим, у кого какая кровь… если только в ваших жилах кровь течет!..
Зрители, не ожидавшие такой трагической развязки, начали уже трусить.
— Драться! Вот глупости! — закричал кто-то из них. — Видно, хочется в тюрьму попасть… у нас насчет дуэлей строго!
— Особенно, когда речь идет о простолюдинах или иностранцах, — подхватил другой. — Только попадись с оружием в руках, бургомистр засадит еще до суда месяца на три в тюрьму.
— Да разве вы на нас донесете? — спросил Морок.
— Нет, конечно, — ответили буржуа, — делайте, что вам угодно… Но мы просто даем дружеский совет; пользуйтесь им, как хотите.
— Какое мне дело до тюрьмы? — вскричал Предсказатель. — Дайте мне только сабли достать… так я вам покажу, очень ли я забочусь о вашем бургомистре!
— И что же вы будете делать с саблями? — спросил с полнейшим хладнокровием Дагобер.
— А вот когда одна из них будет у меня в руках, а другая у вас… так и увидите, что я буду делать. Создатель приказывает защищать свою честь.
Дагобер пожал плечами. Сложив в платок все выстиранное белье, он обтер мыло, спрятал его в клеенчатый мешок и, насвистывая свою любимую песенку о Тирлемоне, сделал шаг вперед.
Предсказатель нахмурил брови. Он начинал бояться, что вызов окажется напрасным. Загородив дорогу солдату, он, скрестив руки на груди, смерил его с головы до ног взглядом, исполненным самого дерзкого пренебрежения и заметил:
— Итак, старый солдат разбойника Наполеона годится только в прачки?.. Он отказывается от дуэли?
— Да, отказывается! — твердым голосом, страшно побледнев, промолвил Дагобер.
Никогда, быть может, не давал он сиротам, доверенным его попечению, наибольшего доказательства своей нежности и преданности. Для человека его закала отказаться от дуэли, позволив безнаказанно себя оскорблять, было неизмеримой жертвой.
— Ах… так вы трус… вы боитесь… сознайтесь в этом!
При этих словах Дагобер уже готов был броситься на Морока, но внезапная мысль удержала его.
Он подумал о девочках и о том, к каким гибельным задержкам и последствиям для их путешествия приведет хороший или дурной исход подобной дуэли.
Гневное движение солдата, хотя и мгновенное, было настолько многозначительно, а выражение его сурового, бледного лица, покрытого каплями пота, было так ужасно, что и Морок, и зрители невольно попятились назад.
Воцарилось глубокое молчание, и внезапно все симпатии оказались на стороне Дагобера. Один из зрителей сказал:
— Ну нет, этот человек не трус!
— Конечно, нет!..
— Иногда нужно больше мужества отказаться от вызова, чем принять его!
— Да и Предсказатель не прав, задирая его таким образом. Это иностранец…
— А если иностранца засадят за дуэль в тюрьму, то не скоро выпустят.
— Кроме того, он не один… с ним две девочки. Разве можно в таком случае рисковать из-за пустяков? Если бы его убили или засадили в тюрьму, что бы сталось с бедняжками?
Дагобер обернулся и взглянул на последнего из говоривших. Это был толстый мужчина с открытым, добродушным лицом. Солдат протянул ему руку и сказал растроганно:
— Благодарю вас!
Немец сердечно пожал протянутую руку.
— Господин, — добавил он, не выпуская руки Дагобера из своей, — право, знаете… пойдемте выпьем вместе по стаканчику пунша… мы заставим этого чертова Предсказателя признать, что он чересчур обидчив… и заставим выпить с вами…
Укротитель зверей, сильно раздосадованный неожиданным концом этой сцены, так как он все еще надеялся, что солдат примет вызов, с мрачным презрением смотрел на зрителей, перешедших на сторону противника. Но затем черты его лица смягчились: сообразив, что ему будет выгоднее скрыть неудачу, он сделал шаг в сторону солдата и сказал довольно любезным тоном:
— Ничего не поделаешь. Я подчиняюсь этим господам и сознаюсь, что был не прав… меня оскорбил ваш прием, и я не мог сдержаться… Повторяю… я не прав… — прибавил он со сдержанной досадой. — Господь велит смиряться… и прошу вас извинить меня…
Это доказательство раскаяния и умеренности произвело самое благоприятное впечатление на слушателей. Они громко выразили одобрение.
— Видите, он извинился… значит, больше и говорить не о чем, храбрый воин! — сказал один из них, обращаясь к Дагоберу. — Пойдемте… выпьем все вместе, мы вам предлагаем от чистого сердца, примите и вы это так же…
— Да, примите наше предложение, пожалуйста… мы просим вас именем ваших славных девочек, — прибавил толстый немец, чтобы заставить Дагобера скорее решиться.
Последний, тронутый дружескими заявлениями немцев, ответил:
— Благодарю вас, господа… вы очень добры. Но раз я принял предложение выпить… то надо и поднести в свою очередь, не так ли?
— Верно… Что же, мы и не отказываемся… всякому свой черед… за первый пунш платим мы… а вы заплатите за второй…
— Бедность не порок, — прервал их Дагобер. — Поэтому мне нисколько не стыдно сознаться совершенно откровенно, что мне не на что угостить вас. Идти нам еще очень далеко, и я не могу делать лишние траты.
Дагобер произнес эти слова с таким спокойным достоинством, что немцы не рискнули настаивать, понимая, что старый солдат должен был бы унизиться, приняв их приглашение.
— Ну, нечего делать… жаль… — проговорил толстяк. — Я бы с удовольствием чокнулся с вами. Покойной ночи, храбрый воин… покойной ночи. Пора и нам… уже поздно, и, пожалуй, хозяин «Белого сокола» нас скоро выставит за дверь.
— Доброй ночи, господа, — проговорил и Дагобер, отправляясь задать лошади вторую порцию корма.
Морок приблизился к нему и самым смиренным голосом проговорил:
— Я сознался в своей вине… я просил у вас извинения и прощения… Вы ничего не ответили… неужели вы на меня сердитесь?
— Если я тебя когда-нибудь найду, когда не буду больше нужен моим девочкам, — отвечал ветеран глухим и сдержанным голосом, — я тебе тогда скажу словечка два… Наш разговор недолго протянется…
Затем он резко повернулся спиною к Предсказателю, который медленно удалился со двора.
Гостиница «Белый сокол» представляла собою параллелограмм. В одном его конце стояло главное здание, а в другом тянулось невысокое строение, где комнаты сдавались по дешевой цене небогатым путешественникам; сводчатые ворота прорезывали это здание насквозь и выходили прямо в поле. Наконец, с каждой стороны двора имелись службы, конюшни с чердаками и навесами, амбары. Дагобер, войдя в одну из конюшен, взял с ящика мешок с овсом, насыпал его в мерку и, потряхивая, понес Весельчаку. К его удивлению старый дорожный товарищ не отозвался обычным веселым ржанием на легкий шум, происходивший от встряхивания зерна в ивовой плетенке. Встревоженный, он ласково окликнул Весельчака. Однако лошадь не повернула к нему своей умной головы, не рыла с нетерпением землю передними ногами, а стояла совершенно неподвижно. Все более и более удивляясь, солдат приблизился.
При слабом свете фонаря он увидел, что бедное животное было страшно перепугано. Колени его были подогнуты, морда вытянута, уши прижаты, ноздри раздувались, и Весельчак, натягивая повод, старался порвать его, как бы с целью удалиться от перегородки, примыкавшей к кормушке. Холодный пот обильно покрывал бедное животное, шерсть его, всегда гладкая и лоснящаяся, серебристая на черном фоне конюшни, казалась ощетинившейся, и время от времени судорожная дрожь пробегала по всему телу Весельчака.
— Ну, ну, старина Весельчак! — проговорил солдат, ставя овес на пол, чтобы, погладить коня. — Что с тобой? Ты тоже струсил… как и твой хозяин!.. — прибавил он с горечью, вспоминая нанесенную ему обиду. — Ты боишься чего-то? А ведь ты никогда трусом не бывал!
Несмотря на слова и ласковые поглаживания хозяина, лошадь продолжала проявлять все признаки ужаса. Однако она стала меньше натягивать повод и, приблизив морду к руке Дагобера, обнюхивала его, глубоко втягивая в себя воздух, как будто, сомневалась, хозяин ли это был.
— Ты даже уж меня не узнаешь! — воскликнул солдат. — Несомненно, здесь происходит что-то необыкновенное!
И он с беспокойством оглянулся.
Конюшня была просторная, темная и едва освещенная фонарем, который висел на потолке, покрытом густой паутиной. На другом ее конце, через несколько отделений, стояла тройка сильных вороных коней укротителя, которые были настолько же спокойны, насколько был напуган и дрожал Весельчак.
Дагобер, удивленный этим странным контрастом, объяснение которому он должен был скоро найти, продолжал потихоньку поглаживать лошадь, и Весельчак, ободренный присутствием хозяина, стал лизать его руки, тереться о них головой, легонько заржал и начал по-старому ласкаться.
— Ну, в добрый час… вот таким я тебя люблю… мой старина Весельчак! — и Дагобер высыпал при этом овес из мерки в колоду. — Ну, ешь же теперь на доброе здоровье! Нам завтра предстоит длинный переход. А главное, не пугайся так сдуру, без всякого основания… Кабы с тобой был твой товарищ Угрюм, ты бы успокоился… но он наверху, с девочками: без меня он служит им сторожем. Полно же… полно… ешь-ка лучше, чем на меня глядеть.
Но лошадь, только дотронувшись до овса кончиком губы, как бы из повиновения хозяину, снова от него отвернулась и принялась покусывать рукава серой куртки Дагобера.
— Ах ты, мой бедный Весельчак!.. с тобой что-нибудь, несомненно, приключилось… ты такой охотник до овса и совсем к нему теперь не притрагиваешься… Со времени нашего отъезда с тобой такого не бывало!.. — продолжал солдат, серьезно встревожившись, так как счастливый исход путешествия главным образом зависел от бодрости и здоровья коня.
Вдруг ужасающий рев разнесся по конюшне, и так близко, что казалось, его испустил кто-то находившийся в ней. Весельчак испугался так, что, страшно рванувшись, порвал повод и, перескочив через перекладину стоила, вырвался в полуоткрытые ворота прямо во двор; Дагобер сам невольно вздрогнул при этом могучем и неожиданном реве. Испуг коня стал теперь вполне понятен. За не особенно толстой перегородкой, к которой прислонены были колоды, помещался в другой конюшне зверинец Морока; лошади Предсказателя так привыкли к этому соседству, что вовсе не пугались страшного рева.
— Ага… понимаю теперь… — сказал солдат, успокоившись немного. — Весельчак, конечно, услыхал рев еще давеча… этого было достаточно, чтобы испугаться… В другой конюшне, а такая здесь, наверное, найдется, он подберет до крошки свой корм, и мы завтра двинемся отсюда ранехонько, — прибавил солдат, тщательно выгребая овес из колоды.
Испуганная лошадь, поносившись по двору, подошла, наконец, на зов хозяина, который схватил ее за конец повода; конюх, у которого Дагобер спросил, имеется ли свободная конюшня, указал ему сарай, где могла поместиться только одна лошадь. Весельчак был там размещен со всеми удобствами. Освободившись от неприятного соседства, лошадь успокоилась, весело подергала куртку Дагобера, давая ему возможность снова доказать свое искусство в штопаний, но он только любовался тою быстротой, с которой Весельчак уплетал овес.
Совершенно успокоившись, солдат закрыл дверь конюшни и заторопился к ужину, так как его начинала уже мучить совесть, что он так надолго оставил сироток одних.
5. РОЗА И БЛАНШ
Девушки занимали невзрачную комнатку в одном из самых отдаленных флигелей гостиницы, единственное окно которой выходило прямо в поле. Кровать без полога, стол и два стула составляли более чем скромное убранство каморки, освещенной светом лампы. На столе, около окна, Дагобер положил свою сумку.
Угрюм, большая собака сибирской породы, лежала у дверей и раза два с глухим ворчанием поворачивала голову к окну, ограничивая, впрочем, только этим выражение неудовольствия.
Сестры, одетые теперь в длинные белые капоты, застегнутые под горлом и у кистей рук, полулежали на кровати. Они были без чепцов, и их чудесные русые локоны удерживались на высоте висков только широкой лентой, чтобы не спутаться ночью. Белое одеяние и венец белой ленты на голове придавали еще более невинный вид их свежим и прелестным лицам.
Сироты разговаривали и смеялись. Несмотря на горе, которое их посетило так рано, девочки, благодаря юному возрасту, сохранили простодушную веселость. Память о матери печалила их порою, но эта грусть не носила в себе ничего горького: это была скорее нежная меланхолия, они не избегали ее и охотно ей отдавались. Для них обожаемая мать не умерла… они считали ее только отсутствующей.
Благодаря тому, что в той глуши, где они росли, на было ни церкви, ни священника, девочки были почти так же, как и Дагобер, невежественны в религии. Они только твердо верили в то, что на небе есть Бог, добрый и справедливый, который из милосердия к бедным матерям, оставившим на земле сирот, позволяет им с неба наблюдать за ними, видеть их и слышать и посылать к ним иногда прекрасных ангелов-хранителей для защиты.
Благодаря наивному заблуждению сироты были уверены, что мать постоянно следит за их поступками, и если они сделают что-нибудь дурное, то это сильно огорчит ее, а их сделает недостойными попечения добрых ангелов.
Этим и ограничивались все религиозные познания Розы и Бланш, впрочем, вполне достаточные для чистых любящих душ.
Ожидая Дагобера, девочки болтали.
Разговор был им очень интересен. Вот уже несколько дней, как у них завелась тайна… важная тайна, заставлявшая биться их девственные сердца, волновавшая юную грудь, заливавшая огнем щеки и заволакивавшая беспокойной и мечтательной томностью нежную синеву глаз.
Роза лежала с краю. Ее округлые руки были закинуты за голову, а лицом она повернулась к Бланш, опиравшейся локтем на изголовье и с улыбкой смотревшей на сестру.
— Ты думаешь, он придет и сегодня ночью, — говорила Роза.
— Да. Ведь он вчера обещал.
— Он такой добрый!.. Он сдержит обещание.
— А как он хорош со своими длинными белокурыми локонами!
— А какое очаровательное имя… Оно так к нему подходит!
— А улыбка какая нежная! Какой нежный голос, когда он говорил, беря нас за руки: «Дети, благословляйте Создателя за то, что Он дал вам единую душу… То, что иные ищут вовне, вы найдете в самих себе».
— «Так как ваши сердца нераздельны», — прибавил он.
— Какое счастье, что мы помним все его слова, сестра!
— Мы ведь так внимательно его слушаем… Знаешь… когда я вижу, как ты его слушаешь, я точно вижу самое себя, милое мое ты зеркальце! — проговорила Роза, улыбаясь и целуя сестру в лоб. — И знаешь, когда он говорит, у тебя глаза… т.е. у нас глаза… делаются большие-большие, а губы шевелятся… точно мы за ним про себя повторяем все его слова… Неудивительно, что мы ничего не забываем из того, что он говорит.
— И все, что он говорит, так возвышенно, благородно и великодушно.
— И потом, не правда ли, сестра, во время беседы с ним в голову приходит столько хороших мыслей? Только бы нам не забывать их никогда!
— Будь спокойна… они останутся в наших сердцах, точно птенцы в гнездышке у матери.
— А знаешь, Роза… какое счастье, что он любит нас обеих!
— Да разве могло быть иначе, когда у нас одно сердце!
— Как же можно любить Розу, не любя Бланш!
— Что бы сталось с нелюбимой?
— А потом ему было бы слишком трудно выбирать!
— Мы так друг на друга похожи!
— Вот, чтобы выйти из затруднительного положения, — сказала Роза с улыбкой, — он нас обеих и выбрал…
— Да и не лучше ли так? Он любит нас один… а мы его вдвоем!
— Только бы он не покинул нас до Парижа!
— А в Париже? Пусть он будет и там!
— Непременно с нами… в Париже… будет так приятно быть с ним… и с Дагобером… в этом громадном городе. О, Бланш, как он, должно быть, хорош, Париж!
— Париж? Это, наверно, город из золота!
— Верно, там все счастливы… потому что он так красив!
— Как и войти-то мы туда посмеем, бедные сироты… Как на нас посмотрят?
— Да, это так… но знаешь… раз там все счастливы, то, конечно, все и добры?
— И нас полюбят!..
— Кроме того, с нами будет наш друг… с белокурыми локонами и голубыми глазами.
— А он нам ничего не говорил о Париже.
— Не подумал об этом… надо поговорить с ним сегодня ночью.
— Да, если он будет расположен разговаривать… ты знаешь, ведь он часто любит смотреть на нас молча, пристально вглядываясь в наши глаза…
— Да, и знаешь, в эти минуты его взор напоминает мне взор нашей дорогой мамы!
— А как она-то, верно, счастлива!.. ведь она все видит.
— Еще бы… ведь если он нас так полюбил, то, значит, мы это заслужили?
— Скажите… ах ты хвастунья! — заметила Бланш, весело приглаживая ловкими пальцами волосы сестры, разделенные пробором.
После минутного размышления Роза вымолвила:
— Как тебе кажется… не рассказать ли обо всем Дагоберу?
— Расскажем… если ты это находишь нужным.
— Ведь мы все ему говорим, как говорили маме… Зачем же от него что-то скрывать?
— Особенно то, что делает нас такими счастливыми…
— А ты не замечаешь, что с тех пор, как мы его узнали, наши сердца бьются и сильнее, и живее?
— Да, как будто они чем-то переполнены.
— Очень просто, почему это так кажется… Ведь наш друг занимает там много места.
— Итак, мы расскажем Дагоберу о нашем счастье!
— Ты права…
В эту минуту Угрюм снова заворчал.
— Сестра, — промолвила Роза, прижимаясь пугливо к Бланш, — собака опять рычит… что это с ней?
— Угрюм!.. не ворчать… иди сюда… — сказала Бланш, похлопав рукой по краю кровати.
Собака поднялась, еще раз глухо заворчала и, подойдя к кровати, положила большую умную голову на одеяло, настойчиво продолжая коситься на окно; сестры наклонились, чтобы погладить Угрюма по выпуклому лбу с шишкой посредине — верный признак чистой породы у собак.
— И чего ты, Угрюм, так ворчишь? — сказала Бланш, легонько теребя его за уши. — А, добрая моя собака?..
— Бедняга… Он всегда ведь тревожится, когда Дагобера с нами нет.
— Это правда… он точно знает, что без него должен еще больше нас оберегать.
— А почему, сестра, Дагобер сегодня запоздал? Пора бы прийти ему с нами проститься.
— Очевидно, он чистит Весельчака.
— А мы с ним и не простились сегодня, с нашим старым Весельчаком.
— Как жаль.
— Бедное животное… Он всегда так доволен, лижет нам руки… точно благодарит за посещение…
— К счастью, Дагобер с ним за нас простится!
— Добрый Дагобер!.. вечно-то он о нас заботится… балует нас… мы ленимся, а он все берет на себя.
— Как ему помешаешь, когда он не позволяет нам ничего делать?
— Как жаль, что мы так бедны… мы даже не можем ему обещать немного покоя!
— Бедны!.. Увы, сестра! Мы всегда будем только бедными сиротами.
— Как же? А медаль?
— Несомненно, с ней связаны какие-то ожидания… иначе мы бы не пустились в такой долгий путь.
— Дагобер обещал нам все рассказать сегодня вечером…
Девушка не смогла продолжать: с сильным шумом два оконных квадрата разлетелись вдребезги.
Сестры с криком ужаса бросились друг к другу в объятия, а собака, яростно лая, рванулась к окну.
Девочки, крепко прижавшись друг к другу, бледные, неподвижные от ужаса, дрожащие, затаили от страха дыхание; они не смели даже взглянуть на окно.
Угрюм, положив передние лапы на подоконник, не переставал неистово лаять.
— О, что же это?.. — шептали сироты. — И Дагобера нет!
Потом, с испугом схватив сестру за руку, Роза воскликнула:
— Слышишь?.. слышишь?.. кто-то поднимается по лестнице…
— Боже… какие тяжелые шаги… это не Дагобер, не его походка…
— Угрюм, сюда! скорее… защищай нас! — закричали девушки, окончательно перепуганные.
Действительно, на деревянной лестнице раздавались необычайно тяжелые шаги, а вдоль тонкой перегородки, отделявшей комнату от площадки, слышался какой-то странный шорох.
Наконец что-то грузное упало за дверью и сотрясло ее.
Девушки онемели от ужаса и молча переглянулись.
Дверь отворилась. Это был Дагобер.
Роза и Бланш при виде его даже поцеловались от радости, точно им удалось избежать большей опасности.
— Что с вами?.. Отчего вы так перепуганы? — спросил удивленный солдат.
— Ах, если бы ты знал! — дрожащим голосом вскричала Роза; ее сердце, как и у Бланш, усиленно билось.
— Если бы ты знал, что произошло… да мы и твоих шагов не узнали… нам они показались такими тяжелыми… а потом этот шум… за перегородкой…
— Ах вы трусихи! Не мог же я взбежать по лестнице как пятнадцатилетний мальчик, когда должен был тащить на себе свою постель, целый ворох соломы… ее-то я и бросил там, чтобы по обыкновению улечься около двери.
— Бог мой! Сестрица… какие мы сумасшедшие! Мы и не подумали об этом, — сказала Роза, взглянув на Бланш.
И их красивые лица, одновременно побледневшие, разом же зарумянились снова.
А собака все еще продолжала лаять около окна.
— Чего же это Угрюм лает на окно? Не знаете, девочки? — спросил солдат.
— Не знаем… сейчас кто-то разбил стекло в окне… вот что нас особенно и перепугало!
Не говоря ни слова, Дагобер подбежал к окну, оттолкнул ставни и высунулся наружу…
Он увидел только темную ночь. Он прислушался, но, кроме воя ветра, ничего не было слышно.
— Угрюм, — сказал он собаке, указывая на открытое окно. — Прыгай туда, старик, ищи!
Храброе животное сделало громадный прыжок и исчезло за окном, которое поднималось футов на восемь от земли.
Дагобер, высунувшись из окна, поощрял собаку голосом и жестами:
— Ищи, старина, ищи!.. Хватай его хорошенько, кто тут есть… у тебя зубы здоровые… да и не выпускай, пока я не спущусь…
Угрюм никого не находил…
Он бегал из стороны в сторону, разыскивая там и сям след, и по временам тихонько тявкал, как охотничий пес, ищущий зверя.
— Видно, никого нет, мой славный пес; уж если бы кто был, ты давно бы держал его за горло.
Потом, обратившись к девушкам, с беспокойством следившим за всем происходящим, Дагобер спросил:
— Каким образом разбилось окно? Вы заметили, как это произошло?
— Нет, Дагобер, мы разговаривали, когда вдруг послышался страшный треск, и стекла посыпались в комнату.
— Мне показалось, — прибавила Роза, — точно хлопнул ставень.
Дагобер осмотрел тщательно ставни и заметил довольно длинный подвижной крюк, служивший, верно, для запора их изнутри.
— Сегодня ветрено, — сказал он, — ветер толкнул ставень, а крюк разбил окно… Да, да, это так… Иначе, кому нужно выкинуть такую злую шутку?.. — Затем, обратясь к Угрюму, солдат прибавил: — Ну, что, старина, никого там нет?
Собака залаяла, и Дагобер, принимая это за, отрицательный ответ, крикнул:
— Ну, так марш домой… кругом… тебе обежать ничего не стоит… да найдешь открытую дверь…
Угрюм последовал совету. Поворчав еще немного под окном, он помчался галопом вокруг всех зданий, чтобы попасть во двор.
— Ну, успокойтесь, деточки, это только ветер… ничего больше… — сказал солдат, возвращаясь к сиротам.
— Мы ужасно испугались! — вымолвила Роза.
— Понятно!.. Однако вот что… может подуть ветер, и вы озябнете… — прибавил солдат, приближаясь к окну, на котором не было занавесок.
Подумав, как помочь беде, он взял шубу из оленьего меха, повесил ее на задвижку, а полами заткнул как можно плотнее выбитую раму.
— Благодарим тебя, Дагобер… Какой ты добрый, мы так беспокоились, что тебя долго нет!
— Это правда… сегодня ты не приходил дольше обычного, — сказала Роза.
И только в эту минуту обратив внимание на бледность и расстроенный вид солдата, находившегося все еще под впечатлением тяжелой сцены с Мороком, она прибавила:
— Но что с тобой? Какой ты бледный!
— Я?.. нет, дети… я ничего…
— Как ничего? у тебя совсем лицо переменилось!.. Роза права.
— Уверяю вас, что со мной ничего!.. — смущенно твердил солдат, совсем не умевший лгать. Затем он придумал прекрасный предлог, чтобы объяснить свое волнение. — Если у меня действительно расстроенный вид, так это только страх за вас… за ваш испуг, в котором виноват я сам…
— Ты виноват?
— Да как же… не замешкайся я за ужином, я был бы здесь, когда окно разбилось, и вы бы так не перепугались.
— Теперь ты здесь… не будем больше думать об этом.
— Что же ты не присядешь?
— Сейчас, дети, сяду… надо нам сегодня потолковать.
И взяв стул, он уселся у изголовья кровати. Затем, желая окончательно успокоить девочек, он попытался улыбнуться и прибавил:
— А мы еще не дремлем?.. Покажите-ка ваши глаза!.. Они еще не слипаются?
— Посмотри, Дагобер, — засмеялись, в свою очередь, девушки, широко раскрывая свои без того огромные голубые глаза.
— Вижу, вижу… да и рано им еще закрываться: всего ведь девять часов.
— Нам тоже надо кое-что тебе сказать! — начала Роза, обменявшись взглядом с сестрой.
— Да неужели?
— Мы должны тебе сделать признание!
— Признание?
— Да, да, именно!
— И знаешь… очень важное признание! — прибавила Роза с полной серьезностью.
— Признание, касающееся нас обеих! — добавила Бланш.
— Ну, да уж это само собой разумеется! Что касается одной, касается и другой. Известно, что вы всегда заодно: как говорится, две головы в одном чепце.
— Что ты и приводишь в исполнение, когда натягиваешь на нас капюшон от шубы, — засмеялась Роза.
— Ишь, насмешницы! Всегда за ними последнее слово. Ну, а теперь пора приступать и к признанию… если уж дело идет о признаниях!
— Говори же, сестра! — сказала Роза.
— Нет, мадемуазель… говорить должны вы! Сегодня вы старшая в карауле! Это дело старшей, особенно когда дело идет о такой важной вещи, как признание!
— Ну-с, я жду, — прибавил солдат, желая под насмешливым видом скрыть от детей свои настоящие чувства, вызванные безнаказанными оскорблениями Морока.
Роза, исполнявшая роль старшей в карауле, начала рассказ.
6. ПРИЗНАНИЯ
— Прежде всего, мой добрый Дагобер, — с очаровательной лукавой нежностью начала Роза, — раз мы решились тебе во всем признаться, ты должен дать нам слово, что не будешь нас бранить.
— Не правда ли, ты не будешь бранить своих детей? — так же нежно добавила Бланш.
— Ладно, — важным тоном отвечал солдат, — да, и, признаться, я, пожалуй, не сумел бы этого сделать… За что же можно вас бранить?
— За то, что мы, может быть, раньше должны были все тебе открыть…
— Вот что, дети, — назидательно начал солдат, поразмыслив некоторое время над этим щекотливым вопросом. — Тут можно предположить два варианта, или вы были правы, умалчивая о чем-то, или нет… Если вы были правы… ну и прекрасно; если же нет… так не будем об этом больше говорить… А теперь я слушаю, рассказывайте.
Совершенно успокоенная столь удачным разрешением трудной задачи, Роза продолжала, обменявшись улыбкой с сестрой:
— Представь себе, Дагобер, вот уже две ночи сряду к нам является гость.
— Гость?! — воскликнул солдат, резко выпрямившись на стуле.
— Да, обаятельный посетитель… блондин.
— Как, черт возьми, блондин? — закричал Дагобер, подпрыгивая.
— Блондин, с голубыми глазами…
— Как, черт побери, с голубыми глазами? — и Дагобер снова подпрыгнул на своем стуле.
— Да, с голубыми глазами, вот с этакими продолговатыми… — продолжала Роза, отмеривая пальцем чуть ли не с вершок.
— Да, прах его возьми, пусть они будут хоть такой длины, — указал на локоть старый воин. — Пусть они будут еще длиннее, дело не в этом. Каково?! Блондин с голубыми глазами! Да что же это все значит, мадемуазель?
Дагобер встал и на этот раз казался сердитым и не на шутку встревоженным.
— Вот видишь, Дагобер, ты уж и рассердился.
— А мы только начали… — прибавила Бланш.
— Как только начали? Значит, будет еще продолжение… и конец?
— Конец? Надеемся, что его не будет!.. — и Роза залилась сумасшедшим смехом.
— Мы одного только и желаем, чтобы конец не наступил никогда! — сказала Бланш, разделяя шумную веселость сестры.
Дагобер сосредоточенно смотрел то на одну, то на другую, стараясь разрешить загадку. Но видя их милые лица, очаровательно оживленные открытым и невинным смехом, он подумал, что сестры не были бы так веселы, если бы они могли упрекнуть себя в чем-либо серьезном; он решил только порадоваться, что сироты так жизнерадостны среди своих невзгод. И он сказал:
— Смейтесь, смейтесь, дети… Я так люблю, когда вы смеетесь.
Но затем, спохватившись, что ему все же не так следовало отвечать на странное признание девушек, он прибавил сердитым тоном:
— Я люблю, когда вы смеетесь… но вовсе не люблю, когда вы принимаете посетителей-блондинов с голубыми глазами… Ну, скорее признавайтесь, что вы надо мной подшутили, а я, как старый дурак, поверил… так ведь?.. вы хотели пошутить со мной?
— Нет… мы говорим правду… истинную правду…
— Ты же знаешь… мы никогда не лжем, — добавила Роза.
— Это верно… они никогда не лгут!.. — снова заволновался солдат. — Но как, черт побери, мог к вам пробраться какой-то посетитель?.. Я сплю у двери, Угрюм у окна, а так как никакие блондины, никакие голубые глаза не могут в комнату попасть иначе, как через дверь или окно… если бы они и пытались, и так как у меня и Угрюма слух тонкий, мы бы их приняли по-своему… этих посетителей! Итак, дети, шутки в сторону. Прощу вас объяснить мне все это.
Видя, что Дагобер всерьез волнуется и не желая более злоупотреблять его добротой, девушки переглянулись, и Роза, взяв в свои ручки грубую широкую руку ветерана, сказала:
— Ну, полно, перестань, не тревожься… мы сейчас расскажем тебе о посещениях нашего прекрасного Габриеля.
— Вы начинаете снова… теперь уж у него есть и имя?
— Конечно… Его зовут Габриелем.
— Не правда ли, какое хорошее имя? вот увидишь… ты не меньше нас полюбишь нашего прекрасного Габриеля.
— Полюблю ли я этого прекрасного Габриеля… — отвечал солдат, покачивая головой, — полюблю ли, это будет зависеть от обстоятельств… так как прежде всего я должен знать… — Вдруг он словно что-то вспомнил. — Странно… мне припомнилось…
— Что же, Дагобер?
— А вот что… Пятнадцать лет тому назад, в последнем письме, которое ваш отец, возвращаясь из Франции, привез мне от жены, она писала, что взяла себе приемыша, покинутого ребенка с чертами херувима и по имени Габриель. Она взяла его на свое попечение несмотря на бедность и на то, что ей надо было выходить нашего Агриколя!.. И вот недавно я об этом Габриеле получил известие…
— Через кого?
— Сейчас узнаете.
— Ну, раз у тебя есть свой Габриель, то тем больше причин любить и нашего.
— Вашего… вашего… посмотрим же вашего! Я, право, как на угольях сижу…
— Ты знаешь, Дагобер, что мы с Бланш имеем привычку спать, держа друг друга за руку?
— Конечно, сколько раз я вами любовался, когда вы так спали еще в колыбели… я не мог наглядеться на вас, так вы милы!
— Ну вот, третьего дня, только что мы уснули, мы увидали…
— Так это было во сне!.. — воскликнул Дагобер. — Вы спали… значит, это был сон!..
— Конечно, во сне… Как же могло быть иначе?
— Дай же сестре досказать!
— Ну, в добрый час, — со вздохом облегчения вымолвил солдат, — в добрый час! Впрочем, я был уверен, что мне нечего беспокоиться, потому что… Ну да это все разно… Так это был сон… мне это все-таки больше нравится… Продолжай же, Роза.
— Когда мы заснули, мы увидали обе одинаковый сон.
— Обе один сон?
— Да, Дагобер. Когда мы проснулись, то рассказали друг другу, что нам приснилось.
— И сон был совершенно одинаков!
— Удивительное дело! Что же это за сон?
— Мы видели во сне, что сидим рядом, я и Бланш. Вдруг к нам подошел прекрасный ангел, в длинной белой одежде, с белокурыми волосами и голубыми глазами. У него было такое доброе, красивое лицо, что мы невольно сложили руки как бы для молитвы… Тогда он сказал нам нежным голосом, что его зовут Габриель и что его послала к нам наша мать для того, чтобы быть нашим ангелом-хранителем, и что он никогда с нами не расстанется.
— А потом он взял нас обеих за руки и, наклонив свое прелестное лицо, пристально посмотрел… с такой добротой, что мы просто глаз от него отвести не могли, — прибавила Бланш.
— Да! и казалось, что его взгляд так и проникал к нам в сердце, — продолжала Роза, — притягивая нас к себе… К величайшему огорчению, Габриель нас покинул, хотя и обещал вернуться на следующую ночь…
— И он снова явился?
— Конечно… но ты можешь себе представить, с каким нетерпением мы ждали сна, чтобы увидать, придет ли наш друг…
— Гм… гм… как усердно вы вчера терли себе глаза, — сказал Дагобер, почесывая голову… — Вы уверяли, что совсем на ногах не держитесь, до того вам хочется спать… А это все было, ручаюсь, только затем, чтобы поскорей от меня отделаться и отдаться вашим снам.
— Ну да, Дагобер!
— Правда. Вы не могли мне сказать, как Угрюму: «Иди, мол, дрыхнуть, старина!..» Ну и что же, ваш друг Габриель явился?
— Конечно. Но на этот раз он беседовал с нами очень долго. Он дал нам так много самых трогательных и благородных советов от имени нашей покойной матери, что мы на другой день все время старались припомнить всякое его слово, чтобы не забыть ничего, что нам сказал наш ангел-хранитель… а потом мы все вспоминали его лицо… его взгляд…
— То-то вы все шептались вчера во время перехода и отвечали мне невпопад.
— Да, мы думали о Габриеле.
— И мы его полюбили так же, как он нас полюбил.
— Да как же, он один, а вас двое?
— А наша мать, ведь она была одна на двоих. И ты, Дагобер, один, а нас двое.
— Верно… а знаете девочки, я, пожалуй, начну вас ревновать к этому молодцу!
— Ты наш друг днем, а он ночью!
— Однако, это не совсем так. Если вы будете видеть его ночью во сне, а днем весь день говорить о нем, так на мою-то долю что останется?
— Тебе останутся… твои сироты, которых ты так крепко любишь! — сказала Роза.
— И у которых, кроме тебя, никого на свете нет! — ласково прибавила Бланш.
— Гм… гм… ишь как приласкаться умеют!.. Ну, да ладно, дети… — прибавил с нежностью солдат, — я своим жребием доволен… Я прощаю вам вашего Габриеля! Мы с Угрюмом можем смело при этом спать! А дело объясняется очень просто: первый ваш сон сильно вас поразил… вы болтали о нем целый день, и ничего нет удивительного, что он приснился вам снова… и если вы даже в третий раз увидите прекрасную ночную птицу, я нисколько не буду этим изумлен.
— О, Дагобер, не насмехайся над нами; мы знаем, что это только сон, но нам кажется, что его посылает наша мать… Она ведь говорила, что у сирот есть ангелы-хранители!.. Вот Габриель и есть наш ангел-хранитель, он будет покровительствовать нам, а также и тебе…
— Очень мило с его стороны, конечно, подумать обо мне. Но для защиты вас, я предпочитаю Угрюма! Правда, он не такой белокурый, как ваш ангел, но зато зубы у него покрепче, а это куда надежней.
— Какой ты несносный, Дагобер, с твоим подтруниванием!
— Это правда, ты смеешься надо всем!
— Да, да, у меня удивительно веселый характер!.. я смеюсь по методу Весельчака, не разжимая зубов! Однако, дети, простите, я действительно не прав; раз к этому примешана мысль о вашей достойной матушке, то вы прекрасно делаете, что относитесь к снам серьезно. А потом, — прибавил он торжественно, — они бывают и вещие… В Испании два моих товарища, драгуны императрицы, видели накануне своей смерти, что их отравят монахи… так и случилось… Если этот Габриель вам постоянно снится… значит… значит… это вас занимает!.. А у вас так мало развлечений днем… что пусть хоть ночью… вам снятся занимательные вещи. А теперь, деточки, поговорим о другом. Обещайте мне не очень печалиться. Разговор будет идти о вашей матери.
— Будь спокоен. Когда мы думаем о ней, мы не печалимся, мы только делаемся серьезными.
— Отлично! Из боязни вас огорчить я все откладывал рассказ о том, что доверила бы вам и сама ваша мать, когда вы выросли бы. Но она так неожиданно умерла, что не успела это сделать, а то, что она хотела вам сообщить, причиняло ей страдание, так же как и мне. Вот отчего я сколько мог все это откладывал, но решил, наконец, что открою вам тайну в тот день, когда мы проедем через поле, где ваш отец был захвачен в плен… Это давало мне отсрочку, но теперь минута настала… и отговариваться больше нечем.
— Мы слушаем, Дагобер! — отвечали задумчиво и грустно девушки.
Собравшись с мыслями, среди наступившего молчания Дагобер начал свой рассказ.
— Ваш отец, генерал Симон, был сыном рабочего, и его отец остался тем же рабочим, каким и был… Как ни уговаривал его сын, старик упрямился и не сдавался, не желая покидать свою среду. Стальная голова и золотое сердце, — как и сын. Конечно, вы понимаете, что если ваш отец, начав с солдата, стал генералом… и графом Империи — для этого нужно было немало труда и славных подвигов.
— Граф Империи? Что это значит, Дагобер?
— Побрякушка, которую император прибавил к чину. Просто желание доказать народу, из рядов которого он вышел сам: «Ну, ребята, хотите поиграть в дворянство? Вот вы и дворяне… Хотите играть в королей?.. Вот вы и стали королями… Попробуйте всего, ребята… для вас мне ничего не жаль… наслаждайтесь себе вволю!»
— Королями?! — с удивлением воскликнули девушки.
— Самыми настоящими королями… он на короны не скупился, наш император! У меня у самого один товарищ, однокашник, стал королем. Это нам, конечно, льстило… потому что понятно, если не один, так другой! Вот так и ваш отец попал в графы… Но, с титулом или без титула он был самый красивый, самый храбрый генерал во всей армии.
— Он был очень красив, Дагобер? Матушка нам часто это говорила.
— Еще бы… только вашему ангелу он представлял полную противоположность. Представьте себе статного брюнета, в полной парадной форме, ну, просто, на него глядя, глаза слепли, а в сердце точно огонь зажигался… Право, с ним бы, пожалуй, пошел на самого Бога… если бы добрый Бог этого захотел, — поспешил прибавить Дагобер в виде поправки, не желая задеть наивную веру сирот.
— И наш отец был так же добр, как и храбр, не правда ли?
— Добрый? Да как же иначе, девочки?.. Конечно, он был очень добр… я думаю… Он, знаете, подковы гнул одной рукой, точно карту; а посмотрели бы вы, сколько он пруссаков поколотил, преследуя их до самого редута в тот самый день, когда его взяли в плен! И как не быть добрым с таким мужеством и силой!.. Итак, девятнадцать лет тому назад, на том самом месте, которое я вам показал в этом селении, генерал, серьезно раненный, упал с лошади… Я, следуя за ним, как вестовой, побежал к нему на помощь. Спустя пять минут мы оба были взяты в плен… и кем же? Французом!
— Французом?
— Да, эмигрантом, маркизом, полковником русской службы, — с горечью ответил Дагобер. — И знаете, когда этот маркиз подошел к генералу и сказал ему: «Сдайтесь, генерал, своему соотечественнику!» — то ваш отец отвечал: «Не соотечественником, а изменником считаю я француза, который сражается против французов; изменникам же я не сдаюсь», и, несмотря на свои раны, ваш отец ползком приблизился к простому русскому гренадеру и, подавая ему саблю, сказал: «Я вам сдаюсь, храбрец!» Маркиз так и побледнел от гнева.
Сиротки с гордостью переглянулись. Яркая краска залила их щеки, и они вскричали разом:
— Милый, храбрый батюшка!..
— Смотрите-ка! Еще дети, а уж сейчас видно, что в их жилах течет солдатская кровь, — с гордостью поглаживая усы, заметил Дагобер. — Вот и забрали нас в плен. Лошадь генерала была убита под ним. Он сел на Весельчака, не получившего в этот день ни одной раны… Так мы до Варшавы и добрались. Там ваш отец познакомился с вашей матерью. Описывать ее нечего; довольно сказать, что недаром ее прозвали «жемчужиной Варшавы»… Поклонник всего доброго и прекрасного, ваш отец, конечно, влюбился в нее… она отвечала тем же, но родители обещали ее руку другому… и этот другой был…
Дагобер не смог продолжать: Роза пронзительно закричала, со страхом указывая на окно.
7. СТРАННИК
При крике молодой девушки Дагобер стремительно вскочил с места.
— Что с тобой, Роза?
— Там… там, — говорила она, указывая на окно, — мне показалось, что чья-то рука отдергивает шубу…
Роза еще не успела договорить, как Дагобер был уже у окна. Он сорвал шубу и быстрым движением распахнул окно. Ночь была все так же темна, все так же гудел ветер…
Солдат прислушался: ничего подозрительного…
Он вернулся к столу за лампой и затем высунулся из окна, прикрывая рукой пламя, чтобы при ее свете что-нибудь разглядеть…
Он ничего не увидел.
Закрывая окно, Дагобер решил, что всему виной порыв ветра, пошевелившего шубу, и что Роза испугалась понапрасну.
— Успокойтесь, дети… это ветер… Он подул сильней, — ну, шуба и зашевелилась…
— Но я ясно видела пальцы, отодвигавшие ее в сторону… — заметила дрожащая с испугу Роза.
— Я смотрела на Дагобера и не видала ничего! — заметила Бланш.
— Нечего было и смотреть, дети… Очень просто; подумайте, окно ведь по крайней мере на восемь футов от земли; чтобы достать до него, надо встать на лестницу или нужно быть великаном. А что лестницу не успели бы еще отнять, это ясно: я ведь сразу бросился к окну и, осветив под окном, ничего не увидел.
— Я, верно, ошиблась! — сказала Роза.
— Это был ветер, сестрица!
— Тогда прости за напрасное беспокойство, милый Дагобер.
— Это-то бы ничего! — задумавшись, отвечал солдат, — а вот мне досадно, что Угрюма нет до сих пор. Он лег бы у окна, и вы бы успокоились. Но, верно, собака нашла конюшню Весельчака и забежала с ним проститься… уж не сходить ли мне за ним?
— О нет, Дагобер, не оставляй нас одних, мы будем очень бояться! — разом воскликнули сестры.
— Ладно, тем более что Угрюм, наверно, сейчас вернется. Я уверен, что через несколько минут он заскребется в дверь… А теперь продолжим рассказ. — Дагобер уселся у изголовья сестер так, чтобы окно было видно и ему. — Итак, ваш отец в плену в Варшаве, влюблен в вашу мать, которую хотят выдать за другого… — продолжал он. — В 1814 г. мы узнали об окончании войны, о ссылке императора на Эльбу и о возвращении Бурбонов; с согласия пруссаков и русских, которые их восстановили на троне, это они сослали императора на Эльбу. Узнав об этом, ваша мать сказала генералу: «Война окончена. Вы свободны. Император, которому вы всем обязаны, несчастен, отправляйтесь к нему… я не знаю, когда мы с вами увидимся, но замуж я ни за кого другого не выйду… до смерти останусь вам верна!» Прежде чем уехать, генерал меня позвал к себе. «Дагобер, — сказал он, — оставайся здесь: ты, может быть, понадобишься мадемуазель Еве, чтобы убежать от семьи, если ее очень станут притеснять. Через тебя мы будем вести переписку. В Париже я увижу твою жену и сына, успокою их… скажу им, что ты для меня… не слуга… а друг».
— И друг навеки! — взволнованно воскликнула Роза, глядя на Дагобера.
— Друг для отца и для матери… друг и для детей! — прибавила Бланш.
— Любить одних, значит, любить и других, — отвечал солдат. — И вот генерал на острове Эльба с императором; я остался в Варшаве, поселился около дома вашей матери, получал письма и относил ей тайком… В одном из этих писем, — я не могу не упомянуть об этом, я этим горжусь, — генерал сообщал, что император вспомнил обо мне.
— О тебе?.. Разве он тебя знал?
— Немного, и мне это льстит! «А! Дагобер! — сказал он вашему отцу, который рассказывал ему про меня, — конно-гренадер из моей старой гвардии, солдат, побывавший и в Италии, и в Египте… весь покрытый рамами, помню!.. Я сам своей рукой повесил ему орден при Ваграме… помню, не забыл». Знаете, дети, когда мне ваша мать это прочитала… я разревелся, как женщина…
— Какое прелестное лицо у императора, на золотом барельефе твоего серебряного креста, который ты нам прежде показывал в награду за послушание.
— Этот крест, пожалованный мне, для меня святыня. Вон там он в моем мешке, где заключаются все наши сокровища, и бумаги, и деньжата… Но вернемся к вашей матери; мои посещения с письмами вашего отца, беседы наши о нем… были для нее утешением, так как страдать ей приходилось очень много… Родители страшно ее мучили, но она стойко держалась и повторяла лишь одно: «Я ни за кого, кроме генерала Симона, не пойду». Она была стойкая женщина… кроткая и в то же время мужественная! В один прекрасный день она получила письмо от генерала: он покинул Эльбу вместе с императором, и война началась. В этой войне ваш отец бился, как лев, войско следовало его примеру. Но это уже была не храбрость… это было отчаяние.
Щеки солдата запылали. В эту минуту он переживал героические волнения своей молодости. Он мысленно возвращался к высоким, благородным порывам войн Республики, триумфам Империи, к первым и последним дням своей военной жизни.
Сироты, дочери солдата и мужественной матери, не испугались грубости этих рассказов, но наполнились и воодушевились их энергией; сердца их забились горячее, щеки заалели.
— Какое счастье быть дочерьми такого храброго отца! — воскликнула Бланш.
— И счастье, и честь, дети мои… Вечером, в день битвы при Линьи, император, к общему восторгу всей армии, дал на самом поле битвы вашему отцу титул герцога де Линьи и маршала Империи.
— Маршала Империи? — повторила удивленная Роза, не понимая значения этого слова.
— Герцога де Линьи? — спросила с изумлением Бланш.
— Да… Пьер Симон, сын простого рабочего, был сделан герцогом и маршалом. Оставалось одно: титул короля, чтобы еще возвыситься, — отвечал с гордостью Дагобер. — Вот как награждал император детей из народа, и народ всей душой принадлежал ему. Напрасно ему внушали: «Твой император делает из тебя лишь пушечное мясо!» — «Ничего! Другой бы, пожалуй, превратил меня в голодающее мясо, — отвечал народ, у которого ума отнять нельзя. — Лучше пушка и риск стать капитаном, полковником, маршалом, королем… или инвалидом; это лучше чем дохнуть с голоду, холоду и от старости где-нибудь на соломе, на чердаке, после сорокалетних трудов в пользу кого-то».
— Неужели и во Франции… и в Париже… в этом прекрасном Париже… есть несчастные, умирающие от голода и нищеты?
— Даже в Париже… Да, есть, дети мои! Но я продолжаю. По-моему, пушка лучше… потому, что сделался же ваш отец и герцогом, и маршалом! Когда я говорю: герцог и маршал, — я прав и вместе с тем ошибаюсь, так как впоследствии за ним не признали ни этого титула, ни этого звания… Это случилось потому, что после Линьи был день траура… великого траура, когда седые ветераны, как я, плакали… да, плакали… вечером после битвы. Этот день, дети, называется Ватерлоо!
Столько чуялось глубокой грусти в этих простых словах Дагобера, что сироты вздрогнули.
— Да, бывают такие проклятые дни… — со вздохом продолжал солдат. — И генерал в этот же день, при Ватерлоо, пал, покрытый ранами, во главе гвардейского дивизиона. После очень долгого выздоровления он попросил разрешения поехать на остров св.Елены, куда англичане увезли на край света… нашего императора, чтобы подвергнуть его там медленным мучениям. Да, дети, годами долгих мучений искупил он дни счастья!..
— Когда ты так говоришь об этом, Дагобер, просто плакать хочется.
— И есть о чем плакать… много горя вынес император, бесконечно много… Его сердце истекало кровью… К несчастью, генерала не было с ним на острове св.Елены, его не допустили туда, а он все-таки мог бы его утешить. Озлобленный, как и многие другие, на Бурбонов, генерал задумал заговор против них с целью возвращения сына императора. Он отправился в один из городов Пикардии, где стоял полк, почти целиком укомплектованный его бывшими солдатами, и хотел увлечь их за собой. Но заговор раскрыли. Генерала арестовали в самый момент приезда и привели к полковнику. А знаете, кто был этот полковник? Впрочем, об этом долго рассказывать, да и рассказ мой только еще больше опечалит вас… Короче говоря, у генерала было слишком много причин ненавидеть этого человека. Очутившись с ним с глазу на глаз, ваш отец сказал: «Если вы не трус, вы освободите меня на час, и мы будем драться насмерть. Я столь же презираю вас, сколько и ненавижу, причин для этого довольно!» Полковник согласился и освободил вашего отца, а на другой день состоялся ожесточенный поединок, во время которого полковник упал на месте замертво.
— О, Боже!
— Генерал вытирал еще шпагу, когда один из преданных ему друзей пришел предупредить, что у него осталось не так много времени: лишь только успеть совершить побег. Действительно, ему счастливо удалось покинуть Францию… Да… счастливо, так как через пятнадцать дней он был приговорен к смертной казни как заговорщик.
— Сколько невзгод!
— Но нет худа без добра! Ваша мать оставалась ему верна и только писала: «Император первый, я вторая!» Зная, что он более не может быть полезен ни императору, ни его сыну, генерал, изгнанный из Франции, явился в Варшаву. В это время умерли родители вашей матери… Она была свободна, и они повенчались… я был одним из свидетелей их брака.
— Вот уж именно нет худа без добра, ты прав, Дагобер… Сколько счастья среди такого несчастья!
— И вот они зажили вполне счастливой жизнью… Только, как все искренне добрые люди, чем счастливее они себя чувствовали, тем сильнее огорчало их несчастье других… А причин для огорчения в Варшаве в то время было немало. Русские снова начали обращаться с поляками, как с рабами. Ваша храбрая мать, француженка по крови, душой и сердцем была полячкой. Она громко говорила о том, о чем другие не смели шептать. Несчастные звали ее своим ангелом-хранителем: этого были довольно, чтобы обратить на нее внимание русского наместника. Однажды старого друга вашего отца, бывшего улана — полковника, приговорили к ссылке в Сибирь за участие в заговоре против русских… Он бежал, и ваш отец укрывал его у себя. Об этом узнали, и в следующую же ночь карета, окруженная взводом казаков, подъехала к вашему дому, генерала подняли с постели и увезли…
— Ах! Что же хотели с ним сделать?
— Его увезли из России, со строгим запрещением когда-либо вступать в ее пределы под страхом вечного тюремного заключения. Его последние слова были; «Дагобер, поручаю тебе мою жену и ребенка». Это случилось за несколько месяцев до вашего рождения, но это не помогло вашей матери: ее сослали в Сибирь.
Она делала слишком много добра в Варшаве, ее боялись, потому были рады придраться к случаю, чтобы от нее отделаться. Не довольствуясь ссылкой, конфисковали все ее имущество, и, в виде единственной милости, мне позволили следовать за ней. Не будь у меня Весельчака, которого генерал велел мне оставить у себя, она должна была бы идти пешком. Вот мы и пустились в путь… Она верхом, а я вел лошадь под уздцы, как теперь с вами, дети. Наконец достигли мы бедной деревеньки в Сибири, где три месяца спустя вы и родились, бедняжки.
— А наш отец?
— Отец не мог вернуться в Россию… Матери вашей бежать с двумя малютками тоже нельзя… генерал даже писать ей не мог, так как он не знал, где она!
— И с тех пор о нем не было никаких известий?
— Нет, дети… один раз мы имели от него весточку…
— Через кого же?
После минутного молчания Дагобер произнес со странным выражением в лице:
— Через кого?.. через существо, вовсе непохожее на других людей!.. Но чтобы вам это стало ясно, я должен вкратце рассказать об одном приключении, случившемся с вашим отцом во время войны… Он получил приказание от императора овладеть одной батареей, которая наносила сильный урон нашей армии. После нескольких неудачных попыток генерал пробился во главе кирасир до самых орудий. Он очутился как раз против дула орудия, прислуга которого была вся перебита или ранена… Но у одного из артиллеристов хватило еще сил, чтобы приподняться на одно колено и приложить фитиль как раз в тот момент, когда генерал очутился в десяти шагах от заряженной пушки.
— Великий Боже! Какой опасности подвергался наш бедный отец!
— Он говорил, что никогда не находился в большей, потому что, когда он увидал движение артиллериста, выстрел уже раздался… В этот момент не замеченный им до той поры высокий мужчина, одетый крестьянином, бросился между ним и пушкой.
— Ах, несчастный!.. какая ужасная смерть!
— Да, — задумчиво отвечал Дагобер, — смерть была неизбежна… он должен был разлететься на тысячу кусков… А между тем этого не случилось…
— Что ты говоришь?
— Вот что мне рассказывал генерал. «В момент выстрела, — говорил он, — я невольно закрыл глаза от ужаса, чтобы не видеть обезображенный труп моего спасителя… Но когда я их открыл, кого же увидал я первым в облаках рассеивавшегося дыма? Того же высокого человека, который спокойно стоял на прежнем месте, устремив печальный и кроткий взор на артиллериста, а тот, стоя на одном колене и откинувшись туловищем назад, смотрел с ужасом, словно этот человек казался ему самим дьяволом… Затем, в последующем хаосе возобновившейся битвы я уж не мог больше найти моего спасителя…» — добавил ваш отец.
— Но как же это могло случиться, Дагобер?
— Я и сам задал такой вопрос генералу. Он ответил, что никак не может объяснить себе это невероятное, а между тем вполне реальное происшествие… Несомненно, ваш отец был очень поражен наружностью этого человека, по-видимому, лет тридцати от роду, потому что он очень хорошо его запомнил: особенно поразили его сросшиеся на переносице черные густые брови, которые, как черная полоса, прорезывали бледный лоб. Запомните эту примету, дети… я сейчас вам объясню, почему…
— Не забудем! — отвечали девочки, все более и более изумляясь.
— И как это странно — человек с черной полосой на лбу!
— Слушайте дальше… Генерала, как я вам уже говорил, при Ватерлоо посчитали убитым. В ночь, проведенную им на поле сражения, в бреду лихорадки, в каком ваш отец находился, ему представилось при свете луны, что этот самый человек склонился над ним и смотрел на него с выражением глубокой нежности, останавливая лившуюся из ран кровь и стараясь вернуть его к жизни. Но так как ваш отец отказывался от его забот, говоря, что жить после такого поражения не стоит, этот человек, как ему показалось, произнес: «Надо жить для Евы!» Евой звали вашу мать, которую генерал оставил в Варшаве, чтобы следовать за императором.
— Как это все странно, Дагобер!.. А потом видел наш отец когда-нибудь этого человека?
— Видел… потому что он же принес известие вашей матери от генерала.
— Когда же?.. Мы не знали ничего…
— Помните, как утром, в день смерти вашей матушки, вы отправились со старухой Федорой в сосновый лес?
— Да, — с грустью отвечала Роза, — мы пошли за вереском, который мама так любила.
— Бедная мамочка! Она вовсе не казалась больной в тот день, и мы уж никак не ожидали, какое горе нас постигнет вечером! — прибавила Бланш.
— Конечно! Я сам, ничего не подозревая, распевал себе в саду за работой в тот день! Работаю я этак да пою; вдруг раздается голос, спрашивающий меня по-французски: «Эта деревня зовется Милоск?» Я оглянулся; вижу, передо мной стоит какой-то незнакомец… Вместо того, чтобы ответить, я невольно отступил шага на два, когда взглянул ему в лицо.
— Но почему?
— Это был человек высокого роста, очень бледный, с высоким открытым лбом… его черные, сросшиеся брови казались проведенной через лоб черной полосой…
— Это, значит, был тот самый человек, который два раза являлся нашему отцу во время сражения?
— Да… это был он!
— Однако позволь, — Дагобер, — задумчиво заметила Роза, — сколько прошло времени с этого сражения?
— Около шестнадцати лет.
— А сколько лет казалось на вид этому незнакомцу?
— Не больше тридцати.
— Как же мог он быть шестнадцать лет тому назад взрослым человеком? Ведь спасителю отца было тоже около тридцати лет?
— Вы правы, — подумав, сказал Дагобер, пожимая плечами. — Быть может, меня обмануло случайное сходство, но только…
— Если это был тот же человек, то, значит, он совсем не состарился?
— А ты его не спросил, не оказал ли он некогда помощи нашему отцу?
— Сперва я так был поражен, что мне это и в голову не пришло, а потом некогда было, и он скоро ушел. Итак, я ответил ему на его вопрос вопросом же: «Деревня-то эта та самая, но почему вы узнали, что я француз?»
«Я слышал ваше пение, — отвечал он. — Не можете ли вы мне сказать, где здесь живет госпожа Симон, жена генерала?»
«Она живет здесь, господин».
Он молча смотрел на меня несколько мгновений, а затем, протянув мне руку, сказал:
«Вы друг генерала Симона… его лучший друг?»
(Представьте себе мое изумление, дети!) «Как вы это могли узнать?»
«Он часто говорил мне о вас с чувством глубокой признательности!»
«Вы видели генерала?»
«Да… несколько времени тому назад в Индии. Я тоже его друг и принес его жене вести о нем. Я знал, что она сослана в Сибирь; в Тобольске, откуда я иду, мне сказали, что она живет в этой деревне. Проводите меня к ней».
— Добрый человек… я уже люблю его!.. — заметила Роза.
— Он был другом нашего отца!
— Я попросил его подождать и пошел предупредить вашу мать, чтобы неожиданность не потрясла ее. Через пять минут он вошел к ней…
— А как он выглядел, этот странник, Дагобер?
— Он был очень высокого роста, в темной шубе, в меховой шапке, с длинными черными волосами.
— А красивый?
— Да, дети, очень красивый… только с таким грустным и кротким выражением лица, что у меня невольно сердце сжалось.
— Бедный! У него, верно, было большое горе?
— Поговорив с ним несколько минут наедине ваша мать позвала меня и сообщила, что получила добрые вести от генерала. Она залилась слезами, а перед ней на столе лежал толстый сверток с бумагами. Это был дневник вашего отца, в который он каждый вечер записывал все то, что передавал бы ей лично, если бы мог… Он избрал бумагу в доверенные… это его утешало…
— Где же эти бумаги, Дагобер?
— Там все, в мешке, вместе с моим крестом и нашими деньгами… Я вынул только несколько листов, чтобы дать вам прочитать сегодня… вы узнаете зачем… а остальное я передам вам позднее…
— А давно был наш отец в Индии?
— Судя по тому немногому, что успела сообщить мне ваша мать, генерал отправился в Индию после того, как дрался за греков против турок: он любил брать сторону угнетенных против притеснителей… В Индии он сделался отчаянным врагом англичан… они резали наших пленных на понтонах, они мучили императора на острове св.Елены… не грех было воевать с ними, потому что и тут пришлось защищать против них правое дело.
— Какому же делу служил наш отец?
— Делу одного из несчастных индийских раджей, владения которых англичане разоряют и доныне без зазрения совести. Значит, ваш отец мог биться за слабого против сильного, и этой возможности он не упустил. В несколько месяцев он вооружил и обучил от 12 до 15 тысяч человек, составлявших войско этого раджи, и в двух стычках они наголову разбили англичан, конечно, не предполагавших, что им придется бороться с таким полководцем, как ваш храбрый отец. Но несколько страниц из его дневника объяснят вам это гораздо лучше, дети мои, чем я… Кроме того, там встретите вы имя, которое должны запомнить навсегда… для того я и отделил эти листки.
— Какое счастье! Читать слова, написанные нашим отцом, — это почти равносильно тому, что слышать его самого! — сказала Роза.
— Будто он вместе с нами! — прибавила Бланш.
Девушки с живостью протянули руки к Дагоберу, чтобы получить листки, которые он вытащил из кармана. Затем, с невольным, полным трогательной грации порывом, они безмолвно поцеловали рукопись отца.
— Вы из этого узнаете также и то, почему я так удивился, узнав, что ваш ангел-хранитель зовется Габриелем… Читайте… читайте… — прибавил он, видя удивление девушек. — Только я должен вас предупредить, что когда генерал это писал, он не видал еще того странника, который принес эти бумаги.
Роза, сидя на кровати, начала читать нежным, растроганным голосом. Бланш, положив голову на плечо сестры, следила за ней глазами с глубоким вниманием. По движению губ можно было видеть, что она также читает про себя.
8. ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ГЕНЕРАЛА СИМОНА
20 февраля. Бивуак в горах Авы. 1830 г.
«Каждый раз, когда я принимаюсь писать в дневнике, который веду теперь в глубине Индии, куда закинула бурная и неспокойная судьба изгнанника, меня охватывает особое чувство. Быть может, ты никогда не прочтешь этого дневника, моя горячо любимая Ева, и я испытываю нежное и вместе с тем жестокое чувство: меня утешает мысль, что я разговариваю с тобою, и тем не менее она будит во мне всю горечь сожалений, так как, говоря с тобой, я лишен возможности тебя видеть.
Но если когда-нибудь эти страницы попадутся тебе на глаза, твое благородное сердце забьется при имени храбреца, которому я сегодня обязан своей жизнью. И если мне суждено счастье когда-нибудь увидеть тебя и нашего ребенка, мы этим будем обязаны ему… Нашего ребенка! Ведь он жив? Да? Я должен в это верить, потому что иначе твоя жизнь в страшной ссылке была бы просто невыносима! Ангел мой дорогой! Ведь ему теперь уже четырнадцать лет… Каков он? Он, верно, похож на тебя, не так ли? У него твои чудные большие голубые глаза… Безумец!.. сколько раз я невольно задавал тебе тот же вопрос на страницах этого дневника, вопрос, на который ты не можешь дать ответа… и сколько раз я еще задам его! Научи же нашего ребенка помнить и любить имя — довольно варварское, правда, имя — Джальма!»
— Джальма! — повторила Роза, прерывая чтение. Глаза девушки были полны слез.
— Джальма! — повторила за сестрой не менее ее взволнованная Бланш. — О! мы никогда не забудем этого имени.
— И не забывайте, деточки; видимо, это выдающийся воин, хотя он и молод. Продолжай же, Роза.
«В предыдущих листках я передавал тебе, дорогая Ева, о двух славных битвах этого месяца. Войска моего старого друга, индийского раджи, обученные на европейский лад, делали чудеса. Мы разбили англичан и заставили их освободить часть истерзанной страны, которой они завладели вопреки всем правам и законам и которую они безжалостно разорили. Война англичан здесь — это измена, грабежи и убийства. Сегодня утром, после томительного перехода по здешним горам, разведчики сообщили, что к врагу подоспели подкрепления и что он готовится к атаке. Он находился от нас всего в нескольких лье, и поэтому сражения избежать было невозможно. Старый индийский раджа, отец моего спасителя и мой старый друг, так и рвался в бой. Битва началась около трех часов и сопровождалась страшным кровопролитием и ожесточением. Видя, что наши усталые и немногочисленные силы слабеют перед свежими подкреплениями англичан, я выступил вперед со своим небольшим кавалерийским отрядом.
Старый раджа находился в центре войска. Он бился, как всегда, с безумной отвагой. Его сын, восемнадцатилетний Джальма, храбрый, как его отец, не отставал от меня. В самую горячую минуту битвы подо мной убивают лошадь, и я лечу вместе с ней в овраг, около которого мы находились; мы падаем, да еще так глупо, что я очутился под лошадью, и сперва мне казалось, что у меня сломано бедро».
— Бедный отец! — сказала Бланш.
— К счастью, на этот раз он спасся благодаря Джальме. Видишь, Дагобер, — заметила Роза, — как я хорошо запомнила это имя.
Затем она продолжала:
«Англичане решили, что если я буду убит, то справиться с армией раджи им ничего не стоит (очень лестное для меня мнение). Поэтому один офицер из сипаев и пять или шесть наемных солдат, трусливых, низких бродяг и разбойников, увидав мое падение, стремглав спустились в овраг, чтобы меня прикончить… Среди огня и дыма мои горцы, увлеченные жаром битвы, не заметили, как я упал, но Джальма, не покидавший меня, тотчас же бросился в овраг, чтобы помочь мне. Его хладнокровие и храбрость спасли мне жизнь. Одним выстрелом из карабина он убил офицера, другим прострелил руку солдату, успевшему уже проткнуть штыком мне левую ладонь… Успокойся, любимая Ева, это были пустяки, простая царапина».
— Ранен… опять ранен! — вскричала Бланш, прерывая сестру.
— Успокойтесь, — сказал Дагобер, — это, вероятно, была простая царапина. Рану, которая не мешала продолжать битву, генерал называл обычно «белой раной». Только он и мог придумать такое словечко!
«Джальма, заметив, что я ранен, — продолжала Роза, вытерев глаза, — начал действовать своим карабином, как палицею, и заставил солдат отступить. Но в эту минуту я увидал еще одного неприятеля, спрятавшегося среди густого бамбука, который окаймлял овраг; этот солдат медленно опускал свое длинное ружье, устанавливая его ствол между двух ветвей и вздувая фитиль; затем он прицелился в Джальму, и храбрый юноша получил пулю в грудь, прежде чем мои крики могли его предупредить, Почувствовав боль, молодой человек упал на одно колено, но не переставал стойко держаться, стараясь своим собственным телом загородить меня, быть живым щитом… Ты можешь себе представить мое отчаяние, мой гнев. Несмотря на все усилия, я не мог освободить свои ноги из-под тела лошади; мне мешала, кроме того, невыносимая боль в бедре. Пока я лежал так, безоружный и бессильный, на моих глазах продолжалась неравная борьба. Джальма начал слабеть от потери крови; уже один из солдат, призывая громко других, вытаскивал из-за пояса громадный ятаган, которым сразу можно снести голову с плеч, как вдруг подоспела помощь, — с десяток горцев подошли как раз вовремя. Джальме помогли встать, меня вытащили из-под лошади, и через четверть часа я снова в седле. Несмотря на все наши потери, победа осталась все-таки за нами. Завтра исход боя будет решен. Нам видны отсюда бивуачные огни англичан… Вот каким образом я обязан, жизнью, дорогая Ева, этому юноше. По счастью, его рана очень незначительна: пуля отклонилась и скользнула только по ребрам».
— Верно, славный мальчик назвал это тоже «белой раной» по примеру генерала! — сказал Дагобер.
«Теперь, дорогая Ева, — продолжала Роза, — я должен хоть письменно познакомить тебя с отважным юношею, принцем Джальмой. Ему только что минуло восемнадцать лет. Я постараюсь обрисовать одним словом эту храбрую и благородную натуру. В их стране часто дают прозвища. С пятнадцати лет он носит прозвание „Великодушного“, — разумеется, великодушного сердцем и душой. По старинному, но очень трогательному обычаю страны, это прозвище распространяется и на его отца. Его зовут „Отец Великодушного!“. А я бы дал этому благородному старцу имя „Справедливого“, так как трудно найти человека такой рыцарской честности, такой гордой независимости, как этот старый индус. Он мог бы, по примеру других принцев, склониться под игом отвратительного деспотизма англичан, выторговать дорогую плату за свой отказ от власти и покориться перед силой. Но он поставил своим девизом слова: „Или все мои права, или могила в родных горах!“ И это не хвастливое упрямство: это полное сознание своей правоты и справедливости своего дела.
— Но вас борьба сломит, — сказал я ему однажды.
— Что бы вы выбрали, мой друг, если бы вам предложили совершить постыдное дело, если бы сказали: «Сдайся или умри»? — ответил он мне вопросом.
И с этой минуты я понял, что верен ему душой и телом, посвятил себя святому делу защиты слабого против сильного. Ты видишь, Ева, что Джальма — достойный сын своего отца. Молодой индус обладает такой геройской, гордой храбростью, что сражается, как молодые греки времен Леонида, с обнаженной грудью, в то время как другие его соотечественники, которые обыкновенно ходят с открытой грудью, руками и плечами, надевают в битву толстые куртки. Безумная отвага этого мальчика напомнила мне неаполитанского короля, о котором я так много тебе рассказывал и которого не раз видел в пылу опаснейших сражений с одним хлыстом вместо всякого оружия!»
— Это был один из тех, о ком я вам уже говорил и из кого император выпекал королей, — сказал Дагобер. — Я видел одного пленного прусского офицера, которого этот сумасшедший неаполитанский король ударил хлыстом по лицу. Осталась темно-багровая полоса. Пруссак уверял, что он опозорен и что удар шпаги был бы для него куда приятнее. Я думаю… Ну, уж и черт же был этот бешеный король! Он знал одно: лезть прямо на пушечную пальбу. Только, бывало, заслышится пальба, уже ему кажется, что каждый выстрел зовет его по имени, и он прибегал, отвечая: «Я здесь!» Я рассказываю вам о нем потому, дети, что он постоянно и всем говорил: «Если я или генерал Симон не прорвем каре, то, значит, это каре не прорвать никому на свете!»
Роза продолжала:
«Я заметил, однако, к моему огорчению, что, несмотря на юные годы, Джальма испытывал порою приступы глубокой меланхолии. Иногда я подмечал между отцом и сыном обмен какими-то странными взглядами… Несмотря на нашу взаимную привязанность, я понял, что они от меня скрывают какую-то грустную семейную тайну. Насколько я мог понять из немногих слов, печально оброненных тем и другим, дело шло о каком-то странном событии, которому их мечтательное и возбужденное воображение придало сверхъестественный смысл.
Впрочем, ты знаешь, дорогая подруга, что мы сами потеряли право смеяться над чужим легковерием. Я, после случая при Ватерлоо, объяснить которое до сих пор ничем не могу…»
— Это о человеке, бросившемся между жерлом пушки и генералом, — пояснил Дагобер.
«…А ты, — продолжала чтение Роза, — ты, моя дорогая Ева, — после посещения этой прекрасной молодой женщины, которая, как оказалось из рассказов твоей матери, являлась и твоей бабушке сорок лет тому назад».
Сироты с удивлением взглянули на солдата.
— Я ничего подобного не слыхал ни от вашей матери, ни от генерала… Это меня не меньше вашего поражает, дети.
Роза продолжала все с увеличивающимся волнением и любопытством:
«Да, и наконец, дорогая Ева, иногда самые странные на первый взгляд вещи объясняются случаем, или сходством, или игрой природы. Ведь чудесное очень часто является или следствием оптического обмана, или игрой воображения, и приходит время, когда все, что казалось в нем сверхъестественным и сверхчеловеческим, объясняется очень просто и самым естественным образом. Не сомневаюсь, что и наши чудеса объяснятся когда-нибудь очень по-земному».
— Видите, дети, сперва-то покажется чудом, а потом выходит… самая простая штука… А сперва и не понять ничего…
— Раз это говорит наш отец, мы должны этому верить и не удивляться ничему. Не правда ли, сестрица?
— Конечно… раз все это в один прекрасный день должно найти свое объяснение.
— А и в самом деле, подумайте-ка, — сказал Дагобер после минутного молчания, — представьте себе, что кто-нибудь не знал бы, что вас двое и что вы так необыкновенно похожи друг на друга, так похожи, что и самый близкий человек вас не сразу различит… Ну, так подумайте, не представилась ли бы ему всякая… чертовщина по поводу таких двух маленьких ангелочков, как вы?
— Ты прав, Дагобер. Так можно объяснить многое, как говорит и наш отец.
Чтение продолжалось:
«Впрочем, моя милая Ева, я отчасти горжусь тем, что в жилах Джальмы течет и французская кровь. Отец его был женат на француженке, родители которой давно уже переселились в Батавию, на остров Яву. Это сходство в положении, — так как и ты ведь родом француженка и твои родители тоже жили на чужой земле, — кажется, еще больше увеличило мою симпатию к старику. Но, к несчастью, он давно уже потерял дорогую жену, которую боготворил.
Послушай, Ева, моя дорогая возлюбленная, знаешь, моя рука задрожала, когда я писал эти слова… Я знаю… это слабость… я безумец… но, увы, мое сердце невольно сжимается и готово разорваться… Господи! если меня постигнет подобное несчастье… А наш ребенок… что будет с ним в этой варварской стране?.. что станется с ним без тебя… без меня? Нет, нет!.. Это безумный, необоснованный страх!.. Но какая пытка находиться в такой мучительной неизвестности!.. Ведь я ничего не знаю… Где ты? Что с тобой?.. Что ты делаешь?.. Прости меня за эти черные мысли… они часто овладевают мной помимо воли… Ужасные, нестерпимые минуты! Когда я откину эти мрачные мысли, я себя утешаю так: ну, хорошо, я несчастен, одинок, я изгнанник, но все-таки там, далеко, на краю света есть два сердца, которые бьются для меня: ты и наше дитя… моя дорогая Ева!»
Роза насилу дочитала последние слова. Рыдания заглушили ее голос. Между грустными предчувствиями генерала Симона и печальной действительностью была скорбная связь. Да и вообще слишком уж задевала за живое и трогала эта беседа храброго солдата накануне страшного боя, при свете бивуачных огней, беседа, которой он старался заглушить тоску тягостной разлуки, не предполагая еще, что эта разлука стала вечной.
— Бедный генерал, он и не подозревает о нашем несчастье, — оказал Дагобер. — Но он не знает также, что вместо одного ребенка у него их двое… это все-таки будет для него утешением! А знаешь, Бланш… продолжай чтение теперь ты: Роза утомилась… она слишком взволнована, да и справедливее поделить поровну удовольствие и горесть при этом чтении.
Бланш взяла письмо, а Роза, вытерев глаза, прилегла к ней на плечо. Чтение продолжилось.
«Теперь я спокойнее, моя милая Ева, я прогнал мрачные думы и хочу вернуться к нашей беседе.
Сообщив тебе достаточно об Индии, я хочу поговорить теперь о Европе. Только вчера вечером один верный человек достиг наших аванпостов и передал мне письмо, адресованное из Франции в Калькутту. Наконец-то я получил весть об отце и успокоился на его счет. Письмо помечено августом прошлого года. Из него я узнал, что предыдущие письма где-то затерялись, а я, не получая их целых два года, предавался мучительной тревоге относительно его участи. Дорогой батюшка, годы на нем не отразились, он остался все тем же: та же энергия, та же сила, то же здоровье, как пишет он мне… по-прежнему работает простым рабочим и гордится этим, по-прежнему верен строгим республиканским воззрениям и надеется на лучшее будущее… Он уверен, что «время близко», и подчеркивает эти слова… Он же сообщает мне новости о семье нашего старого Дагобера, нашего друга… Знаешь, Ева, мне становится как-то легче на душе, когда я вспоминаю, что он с тобой… потому что я твердо уверен, что этот превосходный человек пошел за тобою в ссылку!.. Какое золотое сердце под суровой солдатской оболочкой!.. И как он, верно, любит наше дитя!..»
При этом Дагобер закашлялся и, наклонившись, принялся искать свой клетчатый носовой платок на полу, хотя он был у него на коленях. Он оставался согнувшись несколько секунд, затем поднялся и крепко отер свои усы.
— Как хорошо тебя знает наш отец!
— Как он угадал, что ты нас любишь!
— Хорошо, хорошо, деточки… оставим это… Читайте поскорее то, что генерал говорит об Агриколе и о Габриеле, приемном сыне моей жены… Бедная жена!.. И подумать только, что, может быть, через три месяца… Читайте же, читайте, дети, — прибавил солдат, желая скрыть свое волнение.
«Я не теряю надежды, что когда-нибудь до тебя дойдут эти листки, дорогая Ева, и поэтому опишу здесь то, что может заинтересовать нашего Дагобера. Для него будет большим утешением услышать что-нибудь о своей семье. Мой отец, старший мастер у добрейшего господина Гарди, говорит, что последний взял к себе и сына нашего Дагобера. Агриколь работает в мастерской отца, и отец от него в восторге. Он пишет, что это сильный, высокий юноша, как перышко подкидывающий свой тяжелый кузнечный молот, веселый, умный и трудолюбивый; лучший рабочий на фабрике, что не мешает ему, после тяжелого рабочего дня, возвратившись к матери, которую он обожает, сочинять замечательные патриотические песни и стихи. Они пользуются громадным успехом и распеваются во всех мастерских, потому что полны возвышенной энергии, а припевы у них такие, что разогреют самое холодное и робкое сердце».
— Как ты должен гордиться своим сыном, Дагобер! — сказала с восхищением Роза. — Он пишет песни!
— Конечно, это превосходно… Но меня больше радует то, что он хорошо относится к матери и ловко обращается с молотом… Что касается песен… так для того, чтобы написать «Марсельезу» или «Пробуждение народа», ему еще очень долго надо ковать железо… Но это все равно… Я только не понимаю, у какого черта мог он этому выучиться?.. Должно быть, в школе, вы дальше прочтете, что он ее посещал вместе с Габриелем.
При имени Габриеля, напомнившего им их ангела-хранителя, любопытство девушек сильно разгорелось, и Бланш еще внимательнее продолжала читать:
«Приемный брат Агриколя, бедный покинутый ребенок, великодушно принятый женой нашего доброго Дагобера, является, по словам моего отца, полной противоположностью Агриколю. Только не по сердцу: они у них одинаково хороши. Но насколько Агриколь жив, весел и деятелен, настолько же Габриель мечтателен и грустен. Отец добавляет, что и лицом они резко разнятся. Агриколь — брюнет высокий, сильный… у него веселая, смелая физиономия, а Габриель — блондин, слабый, хрупкий; как девушка, лицо у него выражает чисто ангельскую кротость…»
Сироты с удивлением переглянулись; затем, обратив на Дагобера простодушный взгляд, Роза заметила:
— Слышишь, Дагобер? Отец пишет, что твой Габриель блондин и похож на ангела… Это совсем, как и наш?..
— Да, да. Вот почему меня так и поразил ваш сон!
— Желала бы я знать, голубые ли у него глаза, — сказала Роза.
— Что касается этого, дети, то хоть генерал и ничего не пишет, но я уверен, что они голубые… у блондинов всегда голубые глаза… Но голубые или черные, а засматриваться ими на молодых девушек ему не придется… Читайте дальше и вы увидите почему…
«Наружность Габриеля действительно ангельской кротости… Это обратило на него внимание одного из братьев их церковной школы, где он обучался вместе с Агриколем и другими детьми из квартала. Пораженный его умом и добротой, монах поговорил о нем с одним важным покровителем, который заинтересовался мальчиком и поместил его в семинарию, и вот уже два года, как Габриель — священник. Он готовится к миссионерской деятельности и скоро уедет в Америку…»
— Твой Габриель — священник!.. — сказала Роза Дагоберу.
— А наш Габриель — ангел! — прибавила Бланш.
— Значит, ваш чином выше! Конечно, у всякого свой вкус, хорошие люди везде есть… но, откровенно говоря, я рад, что черную рясу выбрал Габриель, а не Агриколь. Я предпочитаю видеть своего сына с засученными рукавами, в кожаном переднике, с молотом в руках. Словом, таким же, как ваш дедушка, дети, отец маршала Симона, герцога де Линьи. Все эти отличия ведь ваш отец получил от императора за личные заслуги. Однако продолжайте.
— Остается лишь несколько строчек, к сожалению, — сказала Бланш и принялась за чтение:
«Итак, дорогая, бесценная Ева, ты можешь успокоить Дагобера относительно участи его жены и сына, которых он покинул ради нас!.. Чем вознаградить такую жертву?.. Но я спокоен: твое доброе, благородное сердце, конечно, сумело его вознаградить.
Прощай… прощай на сегодня, возлюбленная моя жена… Я сейчас ходил в палатку Джальмы, он спит, а бодрствующий около него отец сделал мне успокоительный знак: храброму юноше не грозит опасность. Да пощадит его судьба и в завтрашнем бою!..
Прощай, дорогая Ева: ночь тиха и молчалива, тихо гаснут бивуачные огни; наши бедные горцы отдыхают после сегодняшней кровавой битвы. Только время от времени доносится окрик часовых… Эти крики на чужом языке наводят на меня грусть. Они напоминают мне то, что удается забыть иногда. Но когда я тебе пишу, то осознаю, что нахожусь далеко от тебя, на краю света… разлучен и с тобой, и с нашим ребенком! Дорогие вы мои!.. Какова-то ваша участь и теперь и в будущем?.. Если бы я мог переслать тебе хотя бы ту медаль, которую, к несчастью, нечаянно захватил при отъезде из Варшавы!.. Быть может, ты могла бы тогда добиться возвращения во Францию или послать туда с ней нашего ребенка с Дагобером… потому что ты знаешь, какое важное значение… Впрочем, к чему добавлять лишнее горе ко всему, что приходится испытывать?.. К несчастью, годы идут. Настанет роковой день и у меня будет отнята последняя надежда… Но не хочу кончать так грустно! Прощай, возлюбленная Ева! Обними нашего ребенка и покрой его всеми поцелуями, какие я шлю вам из глубины моего изгнания.
До завтра, после боя».
Долгое молчание наступило после этого трогательного чтения. Медленно текли слезы сирот. Дагобер, закрыв лицо руками, казалось, был погружен в печальную думу.
А на улице ветер ревел все сильнее и сильнее, дождь звонко хлестал в окна, в гостинице царила полная тишина.
В то время как дочери генерала с умилением читали строки, написанные рукою их отца, в зверинце укротителя происходила таинственная и страшная сцена.
9. КЛЕТКИ
Морок вооружился. Под кожаную куртку он надел стальную кольчугу, мягкую, как полотно, и крепкую, как алмаз. Он привязал себе наручи и набедренники и облачился в башмаки с железными подковами; все эти защитные принадлежности скрылись под широкими панталонами и просторной шубой, застегнутой на все пуговицы. Он взял в руки раскаленный добела стальной прут с деревянной рукояткой.
Хотя звери были давно уже укрощены благодаря энергии и ловкости Предсказателя, но тигр Каин, лев Иуда и черная пантера Смерть не раз пытались в минуту раздражения попробовать на нем свои зубы или когти. Благодаря кольчуге и латам, спрятанным под шубой Морока, они тупили свои когти о стальную поверхность его тела и ломали зубы о железо рук и ног, — в то время как легкий удар металлического прута в руке их хозяина заставлял их кожу дымиться и трескаться, покрывая ее глубокими ожогами.
Обладая хорошей памятью, звери скоро поняли, что все усилия их зубов и когтей напрасны и хозяин неуязвим. Поэтому пугливое подчинение ему возросло настолько, что во время публичных выступлений Морок заставлял зверей пресмыкаться и покорно ложиться при малейшем движении маленькой Палочки, оклеенной бумагой цвета раскаленного железа.
Тщательно вооружившись, Предсказатель спустился через люк в сарай, где находились клетки со зверями. Сарай этот отделялся только тонкой перегородкой от конюшни, где стояли лошади укротителя.
Фонарь с рефлектором ярко освещал клетки.
Их было четыре.
Широкая железная решетка окружала их по бокам. С одной стороны клетки она висела на петлях и могла отворяться, как дверь, служа выходом для зверей. Клетки стояли на перекладинах с четырьмя колесами, так что их удобно было подкатывать к громадной крытой фуре, в которую они и устанавливались во время путешествия. Одна из клеток пустовала, а в трех остальных помещались лев, тигр и пантера. Абсолютно черная пантера, родом с Явы, вполне заслуживала своим мрачным и свирепым видом зловещее имя «Смерть». Она забилась, свернувшись клубком, в глубину клетки, сливаясь с окружавшей ее темнотой, так что ее вовсе не было видно, и во мраке сверкал только яркий и неподвижный блеск ее глаз… Два широких зрачка, желтого, фосфорического оттенка, зажигались, если можно так выразиться, только ночью, потому что все животные кошачьей породы обретают полную ясность зрения только в темноте.
Предсказатель молча вошел в конюшню. Его красная шуба резко отличалась цветом от почти белых прямых волос и длинной бороды. Свет фонаря, помещенного довольно высоко, целиком освещал всю фигуру этого человека, и резкость света в сочетании с темными тенями еще больше подчеркивала угловатые черты костлявого и свирепого лица.
Он медленно подошел к клетке.
Белая полоса над его зрачками, казалось, еще сильнее расширилась, а глаза спорили в блеске и неподвижности с блестящим и пристальным взглядом пантеры…
Последняя чувствовала уже на себе магнетическое влияние глаз своего хозяина. Два или три раза, глухо ворча от гнева, она резко опускала веки, но, тотчас же снова открыв глаза, как бы помимо своей воли, она вопреки своей воле приковывалась к глазам Предсказателя.
Тогда пантера прижала круглые уши к черепу, сплющенному, как череп ехидны, конвульсивно собрала кожу на лбу в складки, сморщила морду, покрытую длинной шелковистой шерстью, и два раза безмолвно открыла пасть, вооруженную страшными клыками.
Казалось, с этого момента между зверем и человеком образовалась какая-то магнетическая связь. Предсказатель протянул к клетке раскаленный прут и повелительно, отрывистым тоном произнес:
— Смерть, сюда!
Пантера встала, но так изогнула спину, что ее живот почти касался земли. Она была трех футов вышины и около пяти футов в длину; ее эластичная и мясистая спина, сильно развитые ляжки, как у беговых лошадей, широкая грудь, выдающиеся огромные бока, нервные коренастые лапы — все доказывало, что в этом ужасном животном соединяются выносливость с гибкостью и сила с ловкостью. Морок, протянув прут в сторону клетки, сделал шаг к пантере…
Пантера сделала шаг к Предсказателю…
Он остановился…
Смерть остановилась тоже.
В эту минуту тигр Иуда, к которому Морок стоял спиной, сделал громадный прыжок в своей клетке и, как бы ревнуя хозяина за то внимание, которое было оказано пантере, испустил глухой рев. Подняв голову, тигр обнаружил треугольную страшную пасть и широкую грудь, где грязновато-белый цвет смешивался с медно-красным, испещренным черными полосами. Его хвост, похожий на большую красноватую змею с черными кольцами, то прилегал вплотную к бокам, то медленно и равномерно ударял по ним. Зеленоватые, блестящие, прозрачные глаза остановились на Мороке. Но так сильно было влияние на зверя этого человека, что тигр тотчас же перестал ворчать, как бы испугавшись своей смелости, хотя дыхание его осталось шумным и учащенным.
Морок обернулся к нему и несколько минут не сводил с него глаз.
Избавившись от влияния взгляда хозяина, пантера тем временем снова забилась в угол.
В это время раздался прерывистый и резкий треск в клетке льва. Казалось, он разгрызает что-то громадное и очень твердое. Это привлекло внимание Морока. Оставив тигра, он перешел к клетке Каина. Здесь виден был только чудовищный изжелта-рыжеватый круп льва. Задние лапы его были поджаты, грива закрывала голову, и только по напряжению и трепету мускулов, по изогнутости хребта можно было догадаться, что лев делал какие-то яростные усилия пастью и передними лапами.
Предсказатель взволнованно приблизился к клетке, опасаясь, что, несмотря на его запрещение, Голиаф дал погрызть льву какую-нибудь кость… Чтобы убедиться в этом, он коротко и твердо позвал:
— Каин!
Каин не изменил положения.
— Каин… сюда! — крикнул Морок громче.
Напрасно. Лев не оборачивался, и треск продолжался.
— Каин… сюда! — в третий раз крикнул Предсказатель, но при этом тронул раскаленным железом бедро зверя.
Едва легкая струйка дыма пробежала по рыжей шкуре льва, как он с необыкновенной быстротой повернулся и бросился к решетке, но не ползком, а в один прыжок, грозно и величественно.
Морок стоял у угла клетки. Каин, чтобы очутиться лицом к хозяину, в бешенстве повернулся к нему в профиль и, прислонясь к решетке, протянул сквозь ее перекладины громадную лапу с напряженными мускулами и не тоньше, чем бедро Голиафа.
— Ложись, Каин! — сказал Морок, приблизившись.
Лев не слушался. Его приподнятые от злости губы открывали такие же громадные длинные, острые клыки, как клыки кабана.
Морок дотронулся раскаленным железом до губ Каина… От острой боли и внезапного окрика хозяина лев глухо заворчал, не смея зареветь, и всей тяжестью своего грузного тела рухнул на землю с выражением покорности и испуга.
Предсказатель снял фонарь, чтобы рассмотреть, что грыз Каин: это была доска из пола клетки, которую льву удалось выломать и которую он принялся грызть, чтобы чем-нибудь заглушить голод.
Некоторое время в зверинце царствовало глубокое молчание. Морок прохаживался между клетками, вглядываясь в зверей внимательно и задумчиво, как бы не решаясь, кому из них отдать преимущество. Время от времени он прислушивался у двери сарая к тому, что происходило во дворе.
Наконец дверь отворилась, и вошел Голиаф. С него ручьем лилась вода.
— Ну что? — спросил Предсказатель.
— Трудненько-таки было… К счастью, ветер большой и проливной дождь, а ночь темная.
— Подозрений никаких?
— Никаких. Ваши указания оказались совершенно верны. Из погреба дверь выходит прямо в поле, как раз под окном комнаты девушек. Когда я услышал ваш свисток, я вышел оттуда, приставил скамейку, которую захватил с собой, и благодаря шести футам роста мог облокотиться на окно. Держа в одной руке нож, а другою взявшись за ставню, я толкнул эту ставню изо всех сил и разбил оба стекла.
— И они подумали, что это ветер?
— Именно. Видите, у бессмысленной-то скотины ума небось хватило!.. Устроив это, я сразу скрылся снова в погреб, захватив с собой и скамью… Вскоре послышался голос старика… Хорошо, значит, я не мешкал…
— Да… Когда я тебе дал свисток, он входил в трактир поужинать… я думал, он просидит там дольше.
— Разве такой человек способен заняться едой как следует! — с презрением заметил великан. — Ну вот, он и высунулся в окно, затем крикнул свою собаку и велел ей выпрыгнуть из окна. Тогда я скорее бросился в противоположный угол погреба, чтобы проклятый пес не почуял меня за дверью.
— Я запер собаку вместе с лошадью старика… Продолжай.
— Когда я услышал, что закрывают ставни, я снова вылез из погреба, вытащил и поставил скамейку и снова встал на нее. Потянув ставень, я открыл его, — разбитая рама была заткнута полами шубы. Я слышал голоса, но видеть ничего не мог. Тогда я немного отодвинул шубу. Девчонки сидели на кровати лицом прямо ко мне… старик же у изголовья спиной к окну.
— Ну, а его мешок?.. мешок-то… ведь это главное?
— Мешок лежал на столе подле лампы, и мне стоило лишь протянуть руку, чтобы его достать.
— А о чем они говорили?
— Вы мне сказали только о мешке, я только о нем и помню. Старик сказал, что в нем лежат его бумаги, письма какого-то генерала, деньги и крест.
— Хорошо, а затем?
— Так как мне трудно было придерживать шубу и в то же время наблюдать, она у меня вырвалась… Желая ее достать, я слишком далеко протянул руку, и одна из девчонок, должно быть, увидала ее и закричала, указывая на окно.
— Ах, негодяй!.. все дело пропало! — с гневом воскликнул Предсказатель.
— Подождите… ничего не пропало… Услыхав крик, я снова соскочил на землю, спрятался в погребе, захватив с собой скамейку… Так как собаки не было, я оставил дверь приоткрытой. Я услышал, что раскрывают окно, и догадался по свету, что старик высунулся в окно с лампой… но так как лестницы не было, а окно настолько высоко, что человек обыкновенного роста не мог бы до него достать без нее, то…
— То он снова подумал, что это ветер… как и в первый раз… Ну, это не так еще плохо, как я думал.
— Волк превратился в лисицу по вашему приказанию… Узнав, где были деньги и бумаги, и понимая, что пока предпринять больше ничего нельзя, я вернулся… и жду дальнейших приказаний.
— Принеси мне самую длинную пику.
— Ладно.
— И красное одеяло.
— Ладно.
— Иди же.
Голиаф поднялся по лестнице, но на середине остановился.
— Хозяин… нельзя ли принести кусочек мяса для Смерти… не то она на меня будет сердиться… Она все это на меня свалит… Она ведь никогда ничего не забывает… и при первом случае…
— Пику и одеяло! — грозно прикрикнул на него Предсказатель.
Пока Голиаф, бормоча сквозь зубы проклятия, исполнял приказание Морока, тот, приоткрыв дверь на двор, прислушивался.
— Вот пика и одеяло! — сказал великан, спускаясь с лестницы. — Что еще мне делать?
— Возвращайся в погреб, влезь в окно, и когда старик выбежит из комнаты…
— Кто же заставит его выбежать?
— Это уж не твое дело… выбежит…
— А потом?
— Ты говоришь, лампа у окна?
— Да, на столе… рядом с мешком.
— Только что старик уйдет, открой окно, столкни лампу, и если все последующее будет исполнено ловко и быстро… считай десять флоринов своими… Хорошо запомнил, что надо сделать?
— Да, да!
— Девчонки так перепугаются шума и темноты, что онемеют от страха.
— Будьте спокойны… волк превращался в лису, превратится и в змею.
— Но это не все.
— Что же еще?
— Крыша сарая невысока… до слухового окна добраться легко… ты возвратишься не в дверь.
— А в окно! Понимаю…
— И без всякого шума.
— Как змея вползу.
И великан ушел.
— Да… — сказал Морок после нескольких минут раздумья. — Средство я придумал верное? Колебаться не след? Я — только темное, слепое орудие… и какова цель этих приказов, мне неизвестно. Однако, ввиду высокого положения того лица, которое отдало этот приказ, несомненно, дело связано с интересами огромной важности, интересами, — продолжал он после некоторого молчания, — которые касаются чего-то очень большого… самого высокого в этом мире! Однако я не могу понять, каким образом могут быть причастны к этим интересам эти девчонки… почти нищие… и этот жалкий солдат… Но мне нет до них дела, — прибавил он смиренно. — Я — только рука, которая должна исполнять… Дело головы размышлять, приказывать и отвечать за то, что она делает.
Вскоре Предсказатель вышел из сарая, захватив красное одеяло, и направился к маленькой конюшне Весельчака; ветхая дверь была еле заперта на щеколду.
При виде чужого Угрюм бросился на него, но его зубы встретили железный набедренник; несмотря на укусы собаки, Предсказатель взял Весельчака за повод и, закутав его голову одеялом, вывел из конюшни. Затем он заставил лошадь войти в сарай, где помещался его зверинец и затворил дверь.
10. НЕОЖИДАННОСТЬ
Окончив чтение дневника отца, сироты довольно долго сидели, погруженные в немую, грустную думу, не сводя глаз с пожелтевших от времени листков.
Дагобер также молчал и думал о своей семье, увидеть которую надеялся в скором времени.
Затем, вынув из рук Бланш исписанные листки, солдат тщательно их сложил и спрятал в карман, после чего прервал молчание, длившееся уже несколько минут:
— Ну, дети, приободритесь: видите, какой храбрый у вас отец!.. Думайте теперь о том, как вы его обнимете при свидании да постарайтесь не забыть имя того достойного юноши, которому вы будете обязаны этим.
— Его зовут Джальма… Мы никогда его не забудем! — сказала Роза.
— И если наш ангел-хранитель Габриель вернется, мы попросим его оберегать Джальму так же, как и нас, — прибавила Бланш.
— Ладно, дети… я знаю, когда речь идет о сердечных делах, вы никогда ничего не забудете… Но вернемся же к страннику, нашедшему вашу мать в Сибири. Он видел генерала в последний раз спустя месяц после тех событий, о которых вы сейчас прочитали, и накануне новых действий против англичан. Тогда-то ваш отец ему вручил эти бумаги и медаль.
— Но для чего эта медаль, Дагобер?
— И что значат те слова, которые на ней выгравированы? — спросила Роза, вытаскивая из-за лифа медаль.
— Гм… значит, вы должны быть 13 февраля 1832 года в Париже, на улице св.Франциска, в доме N3.
— Зачем же?
— Вашу бедную матушку болезнь сразила так внезапно, что она не успела ничего пояснить; я знаю только одно: что эта медаль досталась ей от родителей; она хранилась у них в семье как святыня больше сотни лет.
— А как она очутилась у нашего отца?
— Медаль хранилась у вашей матери в несессере; второпях этот несессер попал вместе с вещами, генерала в карету, в которой его насильно увезли из Варшавы. Переслать ее вашей матери генерал не мог, так как у него не было средств сообщения, да он даже не знал, где мы находимся.
— Значит, эта медаль имеет громадное значение для нас?
— Конечно… я целых 15 лет не видал вашу мать в таком радостном настроении, как в тот день, когда странник вручил ей медаль… «Теперь участь моих детей обеспечена, — говорила она мне в присутствии странника со слезами радости на глазах. — Я буду просить у губернатора Сибири разрешения уехать с детьми во Францию… Быть может, решат, что я довольно уже наказана 15-ю годами ссылки и конфискацией имущества… Если откажут в просьбе, останусь, но детей-то, наверно, разрешат отправить во Францию, вы их туда отвезете, Дагобер. Вы отправитесь тотчас же, так как, к сожалению, времени и без того много потеряно… А если 13 февраля вы не будете в Париже… то и тяжелая разлука с детьми, и трудное путешествие будут напрасны!»
— Как? Даже один день опоздания?..
— Если бы даже мы прибыли 14-го вместо 13-го, было бы уже поздно… — так сказала ваша мать. Она поручила мне также отправить во Францию толстый конверт с бумагами, что я и сделал в первом же городе, через который мы проезжали.
— А мы успеем в Париж, как ты думаешь?
— Надеюсь… впрочем если бы вы были посильнее, то неплохо было бы ускорить наше путешествие… Потому что если делать только пять лье в день и если с нами ничего не случится дорогой, то мы будем в Париже только в начале февраля, а лучше попасть бы туда пораньше.
— Но если отец сейчас в Индии и не может приехать во Францию из-за смертного приговора, вынесенного ему, когда же мы с ним увидимся?
— И где?
— Правда ваша, дети, но вы не знаете одного: в то время как странник его видел в Индии, он вернуться не мог, а теперь может.
— Почему же?
— А потому, что в прошлом году изгнавшие его Бурбоны были сами изгнаны из Франции… Несомненно, это известие дошло до Индии, и ваш отец поспешит к 13 февраля в Париж, надеясь найти там вашу мать и вас.
— А, теперь понимаю… Значит, мы можем надеяться его увидеть, — вздыхая, промолвила Роза.
— А ты знаешь имя этого странника, Дагобер?
— Нет, дети… Но как бы его ни звали, он славный человек. Когда он расставался с вашей матерью, она со слезами благодарила его за доброту и преданность к генералу и его семье. Знаете, что он ей на это ответил, сжимая ее руки, трогательным голосом, невольно взволновавшим даже меня; «Зачем благодарить? — сказал он. — Разве не сказано: любите друг друга?».
— Кто так сказал, Дагобер?
— О ком он говорил?
— Не знаю… только меня поразили эти слова, — последние, что я от него слышал.
— Любите друг друга! — задумчиво повторила Роза.
— Как прекрасны эти слова! — прибавила Бланш.
— Куда же он направился, этот странник?
— «Далеко… далеко на север…» — ответил он вашей матери.
— Когда он ушел, она мне сказала: «Его слова растрогали меня до слез; во время нашей беседы я чувствовала себя как-то лучше, честнее… я сильнее любила мужа, детей… но глядя на него, мне казалось, что этот человек не знал ни слез, ни смеха». Когда он уходил, я и паша мать стояли у двери и провожали его взглядом, пока не потеряли из вида. Он шел с опущенной головой, медленно, спокойно, твердым шагом… можно было предположить, что он считает свои шаги… А я еще кое-что заметил…
— Что, Дагобер?
— Вы помните, что дорожка у нашего дома всегда была сырой, так как вблизи бил родник?
— Помним.
— Ну, так на глине я заметил отпечаток его следов. Представьте себе, гвозди на подошве были расположены в форме креста…
— Как в форме креста?
— Да вот так… — и Дагобер показал на одеяле, как были расположены семь гвоздей на подошве. — Таким образом получается изображение креста.
— Что бы это могло значить?
— Случайность, быть может… а между тем этот чертов крест, который он оставлял за собой, произвел на меня, даже против моей воли, дурное впечатление. Это был недобрый знак. Вслед за его уходом на нас посыпались несчастья одно за другим.
— Да! Смерть нашей матери…
— Но еще раньше случилось горе. Вы не успели еще вернуться, мать ваша не успела дописать прошение к генерал-губернатору Сибири о том, чтобы он разрешил ей возвратиться во Францию или по крайней мере дал бы это разрешение вам… как вдруг послышался лошадиный топот, и к нам явился от него курьер. Он привез приказ переменить местожительство: не позже, чем через три дня осужденных отправить на четыреста лье дальше на север. Итак, несмотря на пятнадцать лет изгнания вашей матери, ее продолжали преследовать с удвоенной жестокостью…
— Отчего же ее так мучили?
— Казалось, ее преследовал какой-то злой рок. Приди этот приказ раньше, странник не смог бы и найти нас, а если бы и нашел, то передача медали была бы бесполезна: мы никак не добрались бы до Парижа вовремя, потому что даже выехав немедленно, мы и то еле-еле поспеем к сроку. «Точно кто-то умышленно препятствует мне и детям вовремя вернуться во Францию, — сказала ваша мать, — ведь почти невозможно прибыть в срок, если нас переводят еще дальше». Эта мысль приводила ее в отчаяние.
— Быть может, это неожиданное горе и послужило причиной ее болезни?
— Нет, дети… Ее уморила проклятая холера, являющаяся всегда неизвестно откуда; она ведь тоже странствует и поражает, как молния. Через три часа после ухода странника, когда вы вернулись из леса, смеющиеся и довольные, с большими букетами цветов для своей мамы, она уже лежала в агонии, ее почти нельзя было узнать. В деревне появилась холера. К вечеру умерли уже пять человек… Ваша мать успела только надеть медаль тебе на шею, дорогая Роза, поручить мне вас обеих и приказала сейчас же отправляться в путь. После ее смерти приказ о новой ссылке на вас уже не распространялся, и губернатор разрешил ехать с вами во Францию, согласно последней воле вашей…
Закончить фразу солдат не смог. Он прикрыл глаза рукой, а девушки рыдали в объятиях друг друга.
— Да, тут… — с гордостью продолжал Дагобер, собравшись с силами, — тут вы и показали себя достойными дочерьми вашего отца… Несмотря на опасность заразы, вы не хотели покинуть смертного одра матери до последней минуты. Вы сами закрыли ей глаза, сами бодрствовали около нее всю ночь… и не ушли, пока я не водрузил деревянный крест на вырытой мной могиле.
Дагобер неожиданно умолк. Раздалось страшное, отчаянное ржание, заглушаемое звериным ревом. Солдат вскочил со стула бледный как смерть и воскликнул:
— Это Весельчак, мой конь, что с ним делают?
Открыв дверь, он стремительно бросился по лестнице.
Сестры прижались друг к другу. Они были так напуганы внезапным уходом Дагобера, что не заметили, как через окно просунулась громадная рука, которая, отперев задвижку и распахнув раму, опрокинула лампу, стоявшую на столе рядом с сумкой солдата.
Сироты очутились в полной темноте.
11. ВЕСЕЛЬЧАК И СМЕРТЬ
Морок, введя Весельчака в зверинец, снял с него одеяло, закрывавшее голову.
Как только тигр, лев и пантера заметили лошадь, они с голодной яростью бросились к решетке. Оцепеневший от ужаса Весельчак, вытянув шею; с остановившимся взглядом, дрожал всем телом, точно прикованный к месту. Обильный холодный пот покрыл его с головы до ног.
Лев и тигр грозно рычали, метаясь из стороны в сторону в своих клетках. Пантера не рычала, но ее немая ярость была еще страшнее: из глубины клетки она одним прыжком бросилась к решетке, рискуя разбить себе череп. Затем разъяренно и молча она отползла снова в угол, чтобы с новым порывом слепой ярости попытаться расшатать решетку.
Трижды прыгала она, молчаливая и страшная. Наконец лошадь, выйдя из оцепенения, растерянно бросилась к воротам, испуская продолжительное ржание. Найдя дверь запертой, Весельчак наклонил голову, подогнул колени и старался дотянуться до отверстия между дверью и порогом, как бы желая вдохнуть свежего воздуха. Пугаясь все более и более, он заржал сильнее и бил в дверь передними копытами, как бы желая ее открыть.
Предсказатель в это время концом пики отодвинул тяжелую задвижку клетки пантеры, пока она в углу собиралась сделать новый прыжок, а сам поспешно взбежал на лестницу, ведущую к чердаку.
Рев тигра и льва, жалобное отчаянное ржание лошади раздавалось во всех концах гостиницы.
Пантера снова бросилась на решетку с таким яростным остервенением, что решетка уступила, позволив Смерти выскочить на середину сарая.
Свет фонаря отражался на ее лоснящейся темной шкуре с черными матовыми пятнами… С секунду пантера стояла неподвижно, подбираясь на коренастых лапах… Затем, пригнув голову к земле, как бы рассчитывая расстояние, отделявшее ее от жертвы, Смерть одним прыжком очутилась у лошади.
Бедняга Весельчак при виде выскочившего зверя сделал отчаянный прыжок в сторону двери, которая открывалась снаружи внутрь, и налег на нее всей тяжестью, как бы желая ее проломить.
При прыжке пантеры Весельчак встал на дыбы, но Смерть быстрее молнии вцепилась в его горло и повисла на нем, запустив острые когти передних лап в грудь коня.
Из шейной вены Весельчака фонтаном брызнула алая кровь, а пантера, стоя на задних лапах, плотно прижав жертву к двери, полосовала и рвала бока лошади острыми когтями…
Израненное тело Весельчака трепетало, а глухое ржание становилось ужасающим.
Вдруг послышался голос:
— Весельчак… держись… я здесь… держись!.. — кричал Дагобер, надрываясь в отчаянной попытке отворить дверь, за которой происходила кровавая борьба…
— Я здесь, Весельчак, — продолжал кричать Дагобер, — помогите!..
При звуках знакомого родного голоса бедное животное, почти испуская дыхание, попыталось повернуть голову к двери и ответило хозяину жалобным ржанием. Затем под напором хищника Весельчак рухнул сначала на колени, затем на бок, окончательно загородив проход своим телом.
Все было кончено.
Пантера насела на бедную лошадь, еще судорожно бившуюся на земле, и, обхватив ее передними лапами, запустила свою окровавленную морду в трепещущие внутренности.
— Помогите, помогите моей лошади! — кричал в отчаянии Дагобер, тщетно сотрясая дверь. Затем он прибавил с яростью: — И у меня нет оружия!
— Осторожнее!.. — крикнул укротитель.
И он показался в окне чердака, выходящем во двор.
— Не пытайтесь войти… речь идет о вашей жизни… моя пантера в страшной ярости…
— Но моя лошадь… моя лошадь! — раздирающим сердце голосом кричал Дагобер.
— Ваша лошадь вышла ночью из конюшни и, открыв дверь, очутилась в сарае. При виде ее пантера сломала клетку и выскочила на волю… Вы еще ответите за несчастья, которые могут от этого произойти! — прибавил угрожающим голосом укротитель. — Я подвергнусь смертельной опасности, загоняя зверя в клетку.
— Но лошадь-то моя… спасите мою лошадь! — продолжал с отчаянием умолять Дагобер.
Предсказатель скрылся.
Рев зверей и крики Дагобера подняли на ноги всех слуг постоялого двора. Повсюду мелькали огоньки, раскрывались окна, и вскоре на двор сбежались слуги с фонарями в руках. Они окружили солдата и старались узнать, что происходит.
— Там моя лошадь… а один из зверей этого мерзавца вырвался из клетки! — кричал Дагобер, продолжая трясти дверь.
При этих словах служители, и так уже напуганные ревом, в панике бросились прочь, чтобы предупредить хозяина.
Легко себе представить, какое мучительное волнение испытывал Дагобер, ожидая, пока откроется дверь.
Бледный, задыхающийся, он прислушивался, прижав ухо к замку.
Мало-помалу рев стих… Слышно было только глухое ворчание, затем раздалось резкое, отрывистое приказание Предсказателя:
— Смерть… сюда… Смерть!
Ночь была так темна, что солдат не заметил, как Голиаф прополз по черепичной крыше и влез на чердак через окно.
Вскоре ворота гостиницы снова открылись. Появился хозяин с ружьем в руках в сопровождении нескольких слуг. Он осторожно продвигался вперед. Сопровождавшие его были вооружены кто вилами, кто палками.
— Что здесь происходит? — спросил хозяин, подходя к Дагоберу. — Что за шум в моей гостинице? Черт бы побрал вас всех — и укротителей зверей, и олухов, не умеющих как следует привязать лошадь… Если ваша скотина ранена, тем хуже для вас… Это научит вас быть внимательнее.
Не обращая внимания на упреки, солдат продолжал прислушиваться к тому, что происходило в сарае, и махнул рукой, чтобы ему не мешали. Вдруг послышался свирепый рев зверя и страшный крик Морока. Затем пантера жалобно завыла.
— Вы виновник этого несчастья! — закричал перепуганный хозяин. — Слышали крик? Быть может, Морок опасно ранен…
Дагобер хотел ответить, как вдруг дверь распахнулась, и Голиаф показался на пороге.
— Можно войти, — сказал он, — опасности больше нет.
Внутренность зверинца представляла мрачное зрелище.
Морок, бледный, едва скрывая под внешним спокойствием волнение, стоял на коленях у клетки пантеры и горячо молился, о чем можно было судить по жестам и движению губ. При виде хозяина и слуг он поднялся с торжественным возгласом:
— Благодарю тебя, Господи, что Ты даровал мне силу и помог еще раз победить!
И, скрестив руки на груди с гордым и повелительным видом, он, казалось, торжествовал победу над пантерой, которая, лежа на полу своей клетки, испускала жалобный вой. Зрители, не подозревая о кольчуге и латах Морока, приписывали все это страху, внушаемому укротителем зверям, и стояли пораженные могуществом и неустрашимостью человека, казавшегося им сверхъестественным существом.
Невдалеке, опираясь на ясеневую пику, стоял Голиаф… Труп Весельчака лежал в луже крови около клетки пантеры.
При виде окровавленных и истерзанных останков лошади Дагобер онемел, на его суровом лице появилось выражение глубокого горя… Бросившись на колени, он приподнял безжизненную голову Весельчака. При виде остановившихся, остекленевших глаз, обращавшихся прежде на хозяина с радостным и умным выражением, старик не мог удержаться от раздирающего вопля… Дагобер забыл про свой гнев, а также о страшных последствиях этого происшествия, которое могло быть роковым для девушек, оказавшихся таким образом не в состоянии продолжить свой путь. Он помнил только, что потерял доброго, старого товарища, разделявшего с ним горе и радость, два раза раненного под ним, не покидавшего его много-много лет.
Душераздирающее волнение, одновременно жестокое и трогательное, отражалось на лице солдата так, что хозяин гостиницы и его люди на минуту почувствовали жалость при виде высокого старика, стоявшего на коленях перед мертвой лошадью. Но когда Дагобер вспомнил, что Весельчак сопровождал его в изгнание, что мать сироток так же, как теперь они, совершила на кем долгое и опасное путешествие, — пагубные последствия этой потери предстали воображению солдата, и умиление сменилось яростью. Вскочив с пола, солдат бросился с горящими глазами на Морока, схватил его одной рукой за горло, а другой нанес в грудь ряд ударов кулаком, чисто по-военному, но благодаря кольчуге Предсказателя они не достигли цели.
— Ты мне ответишь за смерть моей лошади, разбойник! — говорил солдат, продолжая наносить удары.
Мороку, несмотря на его ловкость и проворство, была не под силу борьба с рослым и еще сильным стариком. Потребовалось вмешательство хозяина гостиницы и Голиафа, чтобы вырвать его из рук старого гренадера.
Через несколько минут противников разняли, но Морок, бледный от гнева, пытался броситься на солдата с пикой, которую у него вырвали с большим трудом.
— Это гнусно!.. — обратился трактирщик к Дагоберу, в отчаянии сжимавшему обеими руками лысую голову. — Вы подвергаете достойного человека опасности быть разорванным его же зверями, да еще хотите его же и убить! Разве так следует вести себя седой бороде? Что же, я должен звать на помощь? Вечером вы показались мне куда благоразумнее.
Эти слова заставили Дагобера опомниться; он тем более пожалел о своей вспыльчивости, поскольку, будучи иностранцем, мог весьма затруднить свое положение. Надо было во что бы то ни стало получить возмещение убытков за лошадь и продолжить путь, так как один день опоздания мог погубить все. Поэтому с помощью невероятного усилия ему удалось овладеть собой.
— Вы правы… я погорячился… утратил обычное равновесие, — сказал он хозяину взволнованно, стараясь выглядеть спокойным. — Но разве этот человек не виноват в гибели моей лошади? Я обращаюсь к вам как к судье.
— Ну, а я, как судья, с вами не согласен. Все произошло по вашей же вине. Вы, очевидно, плохо привязали свою лошадь, и она вошла через приоткрытую дверь в сарай, — сказал трактирщик, явно становясь на сторону укротителя.
— Точно, — подхватил Голиаф. — Кажется, я оставил дверь полуоткрытой на ночь, чтобы дать зверям побольше воздуха. Клетки были хорошо заперты; не было никакой опасности…
— Верно! — ввернул кто-то из зрителей.
— Только лошадь могла разъярить пантеру и заставить ее разломать клетку! — заявил другой.
— Уж если кому жаловаться, так это Предсказателю! — добавил третий.
— Я в советах не нуждаюсь, — заметил Дагобер, теряя терпение. — Я только говорю, что мне должны отдать деньги за лошадь, и я больше часу не останусь в этой проклятой гостинице!
— А я утверждаю, что заплатить должны мне вы! — сказал Морок, несомненно приберегавший под конец театральный ход. Он торжественно протянул правую руку, которую до той поры скрывал под халатом; рука была вся в крови. — Быть может, я на всю жизнь искалечен… Смотрите-ка, какую рану нанесла мне пантера!
Не будучи опасной вопреки заявлению Морока, рана была все-таки достаточно глубокая.
Это разом завоевало ему общую симпатию. Считая, что благодаря этому обстоятельству выиграл Морок, сторону которого он принял, трактирщик сказал одному из конюхов:
— Разобраться с этим можно только одним способом… Поди разбуди господина бургомистра и попроси его сюда: он рассудит, кто прав, а кто виноват.
— Я только что хотел вас попросить об этом, — прибавил солдат. — Ведь быть судьей в собственном деле невозможно.
— Фриц! Беги за господином бургомистром, — сказал хозяин.
Мальчик побежал. Хозяин, забывший вечером спросить бумаги у Дагобера, боясь допроса солдата, сказал ему:
— Бургомистр разозлится, что его так поздно побеспокоили. Я вовсе не хочу быть жертвой его гнева, поэтому пожалуйте-ка сюда ваши документы; зря я не взял их вчера, когда вы только приехали.
— Они у меня наверху в сумке, вы их сейчас получите, — ответил солдат.
Затем он вышел, закрыл глаза рукой, чтобы не видеть трупа Весельчака, и поднялся в комнату сестер.
Предсказатель посмотрел ему вслед с видом победителя, говоря себе: «Ни лошади, ни денег, ни документов… Трудно сделать больше… ведь мне запрещено… Следовало хитрить и соблюдать осторожность… Теперь любой обвинит солдата. Я могу поручиться, что по крайней мере на несколько дней они задержаны, раз необходимо было их задержать».
Через четверть часа после этого Карл, товарищ Голиафа, вышел из тайника, куда запрятал его на весь вечер Морок, и отправился в Лейпциг с письмом, наскоро написанным Предсказателем, которое нужно было как можно скорее сдать на почту. Адрес на письме такой:
«Господину Родену.
Улица Милье-Дез-Урсэн, N11. В Париже. Франция».
12. БУРГОМИСТР
Беспокойство Дагобера с каждой минутой возрастало. Он твердо был уверен, что Весельчак попал в сарай не по собственной воле, и чувствовал, что обязан несчастьем укротителю. Он не мог только понять причин его злобы и с ужасом думал о том, что успех дела, каким бы правым оно ни было, зависит от хорошего или дурного настроения не вовремя разбуженного судьи, который мог вынести свое решение, основываясь на обманчивых внешних данных.
Он решил как можно дольше не говорить девочкам о новой беде. Отворяя дверь, он наткнулся на Угрюма, который после тщетных усилий защитить Весельчака от Морока вернулся на обычное место.
— Хорошо, что пес вернулся, значит, девочки не остались без присмотра, — сказал солдат, открывая дверь.
К его изумлению в комнате было совершенно темно.
— Дети!.. — воскликнул он, — почему вы сидите в темноте?
Никто ему не ответил.
Он бросился в страшном испуге к кровати и ощупью нашел руку одной из сестер. Рука была холодна, как лед.
— Роза!.. Девочка!.. — кричал Дагобер. — Бланш!.. Да отвечайте же… вы меня пугаете!..
То же молчание. Рука, которую он машинально продолжал держать, была холодной и безжизненной. Луна, выплывшая из-за темных облаков, осветила маленькую комнату и кровать, стоявшую напротив окна, и Дагобер увидел, что обе сестры были без чувств. Синеватый лунный свет еще более увеличивал бледность сирот; они лежали обнявшись, Роза спрятала голову на груди Бланш.
«Они со страху лишились чувств, — подумал Дагобер. — Бедняжки… Это неудивительно после треволнений сегодняшнего дня».
Солдат налил из походной фляжки несколько капель водки на кончик платка, растер девочкам виски и поднес его к их розовым носикам. Стоя на коленях около кровати, Дагобер с тревогой и волнением на загорелом лице подождал несколько секунд, прежде чем снова прибегнуть к единственному средству, остававшемуся в его распоряжении. Вдруг Роза пошевелилась и, вздохнув, повернула голову на подушке; потом вздрогнула, удивленно и испуганно открыла глаза и, узнав Дагобера, бросилась с криком «Сестра!» к Бланш на шею.
Та начала тоже приходить в себя. Крик Розы окончательно привел ее в чувство, и, бессознательно разделяя ужас сестры, она крепко прижалась к ней.
— Наконец-то они очнулись… это главное, — сказал Дагобер, — теперь пройдет и этот безумный страх! — Смягчив по возможности голос, он прибавил: — Ну, дети… смелее… что с вами?.. ведь это я, Дагобер… успокойтесь…
Сироты разом обернулись: их лица выражали волнение и страх, но, увидав солдата, они протянули ему руки в нежном порыве и воскликнули:
— Ах, это ты, Дагобер!.. Теперь мы спасены!
— Я, дети, я, — говорил ветеран, радостно пожимая им руки. — Вы так испугались потому, что я ушел? Страшно бедняжкам стало?..
— Страшно!.. До смерти страшно!..
— Если бы ты знал, что было!.. если бы ты знал!
— Почему потухла лампа?
— Ее потушили не мы!..
— Ну, успокойтесь, бедняжки, и расскажите, как все было… Подозрительна эта гостиница… к счастью, мы ее покинем скоро… Да будет проклят тот час, когда мы в нее вошли! Впрочем, другой в деревне нет. Что же произошло?
— Только ты ушел, окно растворилось со страшным шумом, лампа упала и раздался ужасный треск…
— Мы просто обмерли со страху… обнялись… и, услыхав, что как будто кто-то ходит по комнате, закричали изо всей силы…
— И потеряли сознание от ужаса…
Убежденный, к несчастью, что рама разбита порывом ветра, Дагобер и второе происшествие приписал ему, подумав, что, наверно, он плохо запер задвижку, а испуг сирот отнес на счет их разыгравшегося воображения.
— Ну, теперь все прошло… Забудем все, и постарайтесь успокоиться… — сказал он.
— А почему ты нас так внезапно покинул, Дагобер?
— Да, да. Я вспомнила… Не правда ли, сестрица, послышался страшный шум, и Дагобер убежал на лестницу, повторяя: «Моя лошадь… Что делают с моей лошадью?»
— Так это ржал Весельчак?
Этот вопрос напомнил Дагоберу о случившемся несчастье, и, не зная, как на него ответить, он пробормотал в замешательстве:
— Да… это он ржал… но ничего особенного не случилось. Да что это мы в потемках сидим?.. Куда я вечером засунул свое огниво?.. Вот оно, в кармане, я совсем голову потерял… Где свечка? Надо ее зажечь и достать из сумки нужные бумаги.
Дагобер высек огонь и зажег свечку. При свете он увидел, что окно приоткрыто, стол опрокинут, а лампа и сумка лежали на полу. Он закрыл окно, поднял стол и, положив на него сумку, развязал ее, чтобы достать из бокового кармана бумажник, где лежали документы, крест и деньги. Сумку, казалось, никто не трогал, ремни были стянуты по-старому.
Солдат засунул руку в боковое отделение. В нем ничего не было.
Пораженный и удивленный, он побледнел и, отступив на шаг, воскликнул:
— Как!!! Ничего?
— Что с тобой, Дагобер? — спросила Бланш.
Он не ответил. Его рука все еще оставалась в кармане сумки, а сам он точно окаменел… Потом, уступая слабой надежде — так ужасна и жестока казалась ему действительность, — он поспешно выложил на стол из сумки все, что в ней находилось: жалкие изношенные тряпки, старый мундир конно-гренадерской императорской гвардии (святыня для солдата). Но напрасно развертывал и осматривал он каждую вещь: не было ни кошелька, ни креста, ни бумажника, ни писем генерала Симона.
С особенной, можно сказать, безнадежной тщательностью ветеран еще раз осмотрел все, наконец взял сумку за углы и встряхнул ее изо всей силы: из нее ничего не выпало. Сироты с беспокойством переглядывались, не понимая молчания и поступков Дагобера, стоявшего к ним спиной. Наконец Бланш решилась застенчиво спросить его:
— Что с тобой?.. Отчего ты не отвечаешь?.. Что ты ищешь в сумке?
Продолжая молчать, Дагобер быстро выворачивал карманы. Ничего!!!
Быть может, в первый раз в жизни его девочки, как он их называл, напрасно ждали ответа.
У них на глаза навернулись крупные слезы… Думая, что солдат рассердился, они не осмеливались с ним заговорить.
— Да нет же… нет!.. не может быть! — говорил ветеран, потирая рукой лоб и стараясь припомнить, куда он мог запрятать столь ценные для него вещи, не будучи в состоянии примириться с мыслью об их потере. Вдруг радость мелькнула в его глазах… Он бросился к чемодану сестер, где лежали два скромных черных платьица, немного белья и деревянная шкатулка, содержавшая шелковый платок их покойной матери, ее локоны и черную ленту, которую та носила на шее. Это было единственное наследство, оставшееся после нее, так как то немногое, что она имела, было конфисковано русским правительством при обыске. Ветеран лихорадочно перебирал вещи, обыскивая каждый уголок чемодана… ничего… ничего.
На сей раз окончательно уничтоженный, он вынужден был опереться о стол. Этот крепкий, энергичный человек почувствовал, что слабеет. Лицо его горело и в то же время покрылось холодным потом. Колени солдата тряслись. Говорят, что утопающий хватается за соломинку: то же происходит с отчаявшимся человеком, не желающим дойти до последней степени отчаяния; Дагобер поддался еще одной абсурдной надежде, безумной и невозможной… Он быстро обернулся к девушкам и спросил их, забыв скрыть волнение, выражавшееся на лице и в голосе:
— Я не отдал вам их… на хранение?.. скажите!
Роза и Бланш, испуганные бледностью и выражением отчаяния на его лице, вместо ответа только вскрикнули.
— Боже!.. Боже!.. что с тобой? — прошептала Роза.
— У вас они или нет?.. Да или нет? — загремел, окончательно потеряв голову, солдат. — Если нет, так мне остается только запустить себе в грудь первый попавшийся нож!
— Ты был всегда такой добрый… Прости нас, если мы в чем виноваты!..
— Ты ведь любишь нас… ты не захочешь причинить нам зло!
И сироты залились слезами, протягивая к Дагоберу умоляющие руки. А тот, ничего не видя перед собой, устремил на них безумный взор. Затем, когда это состояние, сходное с головокружением, рассеялось, он сложил руки, рухнул всем телом на колени около их кровати и прижался к ней лбом. Сквозь раздирающие душу рыдания, потрясавшие этого железного человека, можно было разобрать только отрывистые слова:
— Простите меня… простите… я знаю… Какое несчастье… о! какое несчастье… простите… простите…
При этом взрыве горести, причин которой они не понимали, но которая раздирала им сердце, Роза и Бланш обвили своими руками седую голову Дагобера и повторяли, заливаясь слезами:
— Взгляни на нас!.. Что с тобой?.. Кто тебя огорчил?.. Это ведь не мы?.. Скажи нам!..
В это время на лестнице послышался шум шагов.
Вслед за этим раздался свирепый лай Угрюма, остававшегося за дверью. Чем ближе слышались шаги, тем отчаяннее лаяла собака, сопровождая, очевидно, лай и другими проявлениями неприязни, потому что тотчас же послышался гневный голос трактирщика:
— Эй, вы там… уберите свою собаку или велите ей замолчать… Здесь господин бургомистр… он желает подняться к вам…
— Дагобер, слышишь?.. бургомистр! — сказала Роза.
— Слышишь, идут… поднимаются!.. — прибавила Бланш.
Слово «бургомистр» напомнило Дагоберу все, что произошло, и ему представилась полная картина его бедствий. Лошадь убита, пропали деньги, документы… все, а между тем даже день промедления уничтожал последнюю надежду сестер и делал бесполезным долгое и тяжелое путешествие.
Люди сильные и мужественные — а Дагобер принадлежал к их числу — предпочитают настоящую опасность, положение, хотя и тяжелое, но где все ясно, неопределенным и мучительным предчувствиям, томительной неизвестности.
Солдат был здравомыслящим человеком и хорошо понимал, что все зависит теперь только от правосудия бургомистра и что все усилия следует направить на то, чтобы склонить его на свою сторону. И потому, отерев глаза постельным бельем, он встал и спокойным решительным тоном сказал девушкам:
— Не бойтесь, дети… Нужно, чтобы он стал нашим спасителем.
— Уберете ли вы, наконец, вашего пса?! — закричал хозяин снова, так как Угрюм все еще преграждал ему путь. — Что он у вас, бешеный, что ли? Привяжите его!.. Кажется, и без того вы натворили у нас довольно бед! Говорю вам, господин бургомистр желает вас допросить… Он уже выслушал Морока, теперь ваша очередь.
Чувствуя, что участь сирот зависела от его беседы с деревенским судьей, Дагобер постарался придать себе вид, внушающий доверие. Он пригладил волосы и усы, застегнул на все пуговицы куртку и почистил ее.
С замирающим сердцем он взялся за ручку двери и, обратясь к девушкам, перепуганным всем, что случилось, сказал:
— Заберитесь, девочки, поглубже в кровать… прикройтесь хорошенько… Если будет нужно впустить кого-нибудь сюда, то я не допущу никого, кроме бургомистра.
Затем, отворив дверь, солдат вышел на площадку с криком:
— Прочь, Угрюм!.. Сюда!.. Смирно!..
Собака повиновалась весьма неохотно. Дагобер должен был повторить приказание дважды, чтобы она отказалась от зловредных намерений в отношении трактирщика, который с фонарем в одной руке и колпаком в другой почтительно шел впереди бургомистра, важная физиономия которого тонула в сумерках лестницы. Сзади, несколькими ступенями ниже, видны были озаренные светом фонаря любопытные лица нескольких служителей гостиницы. Загнав Угрюма в комнату девушек, Дагобер закрыл дверь и остался на площадке лестницы, где могло поместиться несколько человек и где стояла в углу деревянная скамья со спинкой.
Бургомистр, поднявшись на последнюю ступеньку, казалось, был удивлен тем, что Дагобер закрыл дверь комнаты, как бы намереваясь запретить ему вход в нее.
— Зачем вы закрываете дверь? — спросил он грубо.
— Во-первых, потому, что девушки, порученные моим заботам, лежат в постели, а во-вторых, этот допрос может их встревожить, — отвечал солдат. — Садитесь на скамейку, господин бургомистр, и расспрашивайте меня здесь… Я думаю, ведь вам все равно, где это делать.
— А по какому праву вы указываете место, где вас допрашивать? — спросил судья недовольным тоном.
— О, я не указываю ничего, господин бургомистр! — поторопился сказать солдат, боясь дурно настроить судью. — Только девочки уже в постели, и без того напуганные… Вы докажете доброту своего сердца, если допросите меня здесь…
— Гм, гм! Здесь! — проворчал судья в сердцах. — Стоило будить меня среди ночи… Нечего сказать, приятное дельце!.. Ну, ладно, я допрошу вас здесь… — Затем, обратившись к хозяину, он прибавил: — Поставьте фонарь на скамейку и можете идти.
Хозяин повиновался довольно неохотно: ему не меньше, чем слугам, хотелось присутствовать при допросе.
Ветеран остался с судьей наедине.
13. СУД
Достойнейший бургомистр Мокерна, укутанный в плащ и с суконной фуражкой на голове, грузно опустился на скамью. Это был толстяк лет шестидесяти с надутой и хмурой физиономией. Красными толстыми кулаками он поминутно потирал опухшие от сна и покрасневшие от внезапного пробуждения глаза.
Дагобер с непокрытой головой стоял перед ним в самой почтительной позе, стараясь прочитать на сердитой физиономии судьи, удастся ли ему возбудить в нем сострадание к своей участи, т.е. к судьбе сирот. В критическую минуту солдат старался призвать к себе на помощь все свое хладнокровие, всю силу рассудка и красноречия, всю решимость… Человек, больше двадцати раз с пренебрежением смотревший в лицо смерти, не опускавший глаз, так как был спокоен и уверен в себе, перед орлиным взором императора, его идола, героя и кумира… он дрожал теперь и смущался перед деревенским бургомистром с сердитым и недоброжелательным лицом.
Точно так же, за несколько часов до этого, он бесстрастно и покорно вынужден был переносить оскорбления Морока, чтобы не лишиться возможности исполнить возложенную на него умирающей матерью священную миссию; этим он показал, какой степени геройской самоотверженности может достигнуть честная и простая душа.
— Ну, что можете вы представить в свое оправдание?.. Поторапливайтесь… — грубо и нетерпеливо задал вопрос судья, зевая.
— Мне оправдываться нечего, господин бургомистр, я должен жаловаться! — твердым тоном отвечал Дагобер.
— Да что вы меня учить хотите, как мне вас спрашивать? — крикнул чиновник сердито и так резко, что солдат уже мысленно упрекнул себя, что неловко начал разговор.
Желая укротить гнев судьи, он поспешно заметил самым почтительным тоном:
— Простите меня, господин бургомистр, я не так выразился; я хотел сказать, что в этом деле я не виноват.
— А Предсказатель говорит иное.
— Предсказатель… — сомнительно протянул солдат.
— Предсказатель — человек честный и благочестивый; он лгать не станет! — перебил судья.
— Я ничего не могу возразить… Но думаю, вы слушком справедливы и добры, господин бургомистр, чтобы обвинить меня, не выслушав… Такой человек, как вы, не может быть несправедливым… это сразу видно…
Принуждая себя играть несвойственную ему роль льстеца, Дагобер старался смягчить голос и придать серьезному лицу благообразное и вкрадчивое выражение.
— Такой человек, как вы, — продолжал он, удваивая угодливость, — такой почтенный судья не станет слушать нашептываний… его уши и так ясно слышат.
— Тут дело не в ушах, а в глазах, а мои, хоть и горят, будто я их крапивой натер, а все-таки ясно разглядели ужасную рану Морока.
— Это так, господин бургомистр, все это правда, но рассудите сами: если бы он запер клетки и затворил дверь в зверинец… ничего бы тогда и не случилось.
— Совсем нет… Виноваты вы: вам следовало крепче привязать лошадь.
— Ваша правда, господин бургомистр, конечно же, вы правы, — говорил солдат самым ласковым и примирительным тоном. — Такой ничтожный бедняк, как я, разве смеет спорить с вами, но предположим, что кто-нибудь из злобы отвязал мою лошадь и отвел ее в зверинец? Ведь тогда, согласитесь сами, вины на мне нет? То есть, конечно, если вам угодно будет с этим согласиться, я настаивать не смею… — поторопился прибавить он.
— А зачем бы, черт побери, с вами сыграли такую скверную штуку?
— Не знаю зачем, господин бургомистр, но…
— Вы не знаете, ну, а я тем более! — сказал бургомистр с нетерпением. — И, Бог ты мой, сколько глупейших разговоров из-за трупа подохшей клячи!
С лица солдата разом исчезла вся его притворная любезность, и оно снова сделалось строгим и суровым. Он ответил серьезным и взволнованным голосом:
— Моя лошадь пала… теперь это только остов клячи, это так. Но час тому назад это было хоть и старое, но усердное и разумное создание… Она радостно ржала при звуке моего голоса… Она лизала руки сирот, которым служила так же, как ранее служила их матери… Теперь все кончено… никому служить она больше не будет… ее выкинут, как падаль, на съедение псам… Не следовало так жестоко напоминать мне об этом, господин бургомистр… Я очень любил свою лошадь… да, очень.
При этих словах, произнесенных с трогательной простотой и достоинством, бургомистр невольно смягчился и упрекнул себя за сказанное.
— Понимаю, что вам жалко своего коня, — сказал он менее сердитым голосом, — но что делать? Случилось несчастье!
— Несчастье, да, господин бургомистр, большое несчастье. Девушки, которых я сопровождаю, слишком слабы, чтобы идти пешком, ехать же в экипаже им не на что. А между тем нам необходимо быть в Париже в начале февраля… Я обещал это их умирающей матери. У детей, кроме меня, нет никого…
— Вы, значит, их…
— Я их верный слуга, господин бургомистр, а теперь, когда моя лошадь мертва, что же я стану делать? Послушайте, вы человек добрый, у вас самого, наверно, есть дети! Представьте себе, если бы они очутились в таком положении, как мои сиротки? Если бы у них так же, как у моих, не было никого в мире, кроме старого слуги, любящего их всей душой, да старой лошади, служившей им так долго!.. Их с детства преследуют несчастья… с самого рождения… они дочери изгнанника и изгнанницы… Вся радость, какая может выпасть им на долю в жизни, ждет их в конце этого путешествия, а между тем смерть лошади делает его невозможным… Подумайте сами, разве это вас не тронет до глубины сердца? Разве вы не согласитесь, что смерть лошади для меня непоправимое несчастье?
— Конечно, — ответил бургомистр, в душе человек довольно добрый и поэтому невольно разделявший волнение Дагобера. — Теперь мне понятно, как тяжела для вас эта потеря… и сироты меня заинтересовали. Сколько им лет?
— 15 лет и 2 месяца… они близнецы.
— 15 лет и 2 месяца… почти ровесницы моей Фредерике!
— У вас такого же возраста барышня? — подхватил Дагобер, начиная надеяться на благополучный исход. — Ну, так теперь я почти спокоен насчет участи моих сироток… Вы все рассудите по справедливости…
— Судить по справедливости — мой долг, и, по правде говоря, в этом деле обе стороны одинаково виноваты: с одной стороны, вы плохо привязали лошадь, с другой — укротитель не запер дверей. Он мне говорит: «Я ранен!», вы говорите: «У меня убита лошадь… и по тысяче причин эта потеря невосполнима».
— Вы лучше говорите от моего имени, чем я сам бы сумел сказать, — с угодливой улыбкой заметил солдат. — Ведь именно это я хотел выразить, потому что, как вы сами изволили заметить, господин бургомистр, лошадь была моим единственным богатством, и справедливо будет, если…
— Так-то так, — прервал его бургомистр, — ваши доводы неотразимы! Но Предсказатель, со своей стороны, высказал много дельного и основательного. Он человек святой и безукоризненной честности… я давно его знаю… Мы здесь все, видите ли, ревностные католики, а он чуть не задаром продает нашим женщинам назидательные книги и раздает в убыток себе четки, образки и тому подобное. Конечно, это дела не касается, скажете вы совершенно справедливо… Но знаете, когда я шел сюда, я намеревался…
— Обвинить меня… не правда ли, господин бургомистр? — сказал, все более и более ободряясь, Дагобер. — А это потому, что вы тогда еще не совсем проснулись… Ваша справедливость бодрствовала только на один глаз.
— Быть может, господин солдат, быть может! — добродушно заметил судья. — Я даже не скрыл от Морока, что считаю его правым. Тогда он великодушно мне заметил: «Если вы обвиняете моего противника сами, то я не хочу ухудшать его положение и не открою вам некоих вещей»…
— По поводу меня?
— Вероятно. Однако ваш великодушный враг ни за что не хотел больше сказать, когда узнал, что я решил наложить на вас большой штраф… Я не скрываю, что намеревался это сделать до разговора с вами.
— Вот видите, как легко может обмануться самый справедливый и умнейший человек, — заметил Дагобер, начиная снова входить в роль льстеца. Затем, пытаясь лукаво улыбнуться, он прибавил: — Только такой человек всегда доберется до истины, никакой Предсказатель не предскажет его решения.
По этой жалкой игре слов, единственной за всю долгую жизнь, можно было судить о серьезности ситуации и о всевозможных ухищрениях, на какие несчастный пускался, чтобы завоевать благоволение судьи. А между тем бургомистр не сразу даже догадался, в чем тут соль, и только довольный вид солдата и его вопросительный взор, казалось, спрашивавший: «А что? Ведь хорошо? Я сам этого не ожидал» — только они пояснили его шутку. Тогда бургомистр с добродушным видом засмеялся и, покачивая головой, прибавил, еще более подчеркивая смысл шутки:
— Да… да… правда… Предсказатель на этот раз плохо предсказал… Вы ему ничего не заплатите: я считаю, что вина обоих одинакова, и вы квиты… Он ранен, зато ваша лошадь убита…
— Так, по-вашему, сколько он мне должен? — спросил наивно солдат.
— То есть как сколько?
— Ну, да… какую сумму он мне заплатит?
— Какую сумму?
— Да. Впрочем, прежде чем ее назначить, я должен вас предупредить, господин бургомистр, что я все истрачу на покупку лошади… думаю, я имею на это право… Уверен, что около Лейпцига я найду у крестьян лошадь по сходной цене… да знаете, сознаюсь вам в крайнем случае, я ограничусь покупкой хорошего ослика… Я не тщеславен, нисколько… так, пожалуй, будет даже лучше… Мне трудно после Весельчака привыкать к новой лошади… Итак, я должен вам…
— Да ну вас! — перебил его бургомистр. — О какой сумме вы толкуете? О каком осле, о какой лошади болтаете? Я ведь сказал вам, что ни вы ничего не должны Предсказателю, ни он вам!
— Как, он мне не должен?
— Экой вы тупой, непонятливый человек! Еще раз повторяю, что если вашу лошадь растерзали звери Предсказателя, то он сам тяжело ранен… Значит, вы квиты… Иначе говоря: ни вы ему, ни он вам ничего не должны… Поняли вы наконец?
Дагобер находился в полном недоумении; он ни слова не отвечал бургомистру, а только смотрел на него с глубокой тоской. Он видел, что все надежды должны были разрушиться после этого приговора.
Наконец он вымолвил изменившимся голосом:
— Позвольте, однако, мне заметить вам, господин бургомистр. По свойственной вам справедливости вы, верно, обратите внимание на одну вещь. Рана укротителя не помешает ему заниматься своим ремеслом, а смерть моей лошади лишает меня возможности дальше ехать… Значит, я должен быть вознагражден…
Бургомистр полагал, что оказал Дагоберу громадное снисхождение, не вменяя ему в вину рану Предсказателя, ведь Морок, как мы раньше сказали, имел определенное влияние в местности, особенно на женщин, которым он поставлял разные безделушки. Кроме того, было известно, что у него имеются сильные покровители. Поэтому настойчивость солдата показалась судье явно оскорбительной, и он прежним грубым тоном строго ему заметил:
— Вы заставляете меня раскаиваться в снисходительности. Вместо того чтобы благодарить меня, вы еще пристаете с просьбами.
— Но, господин бургомистр… я прошу справедливости… Право, лучше бы меня ранили, как Морока, лишь бы я смог продолжать путь.
— Дело не в том, чего бы вы желали или нет. Я принял решение… Так и должно быть, все кончено.
— Но…
— Довольно, довольно… перейдем к другому… Ваши документы?
— Вот и о них надо поговорить… Я только об одном вас умоляю, господин бургомистр: пожалейте моих бедных сирот… дайте нам возможность двинуться дальше… и…
— Я сделал все, что мог… и, пожалуй, больше, чем следует… Еще раз: ваши бумаги?
— Я должен вам сперва объяснить…
— Без объяснений!.. Ваши документы?.. Или, быть может, вы желаете, чтоб я вас задержал как бродягу?
— Меня?.. Арестовать?
— Я вам говорю, что если вы сейчас не представите мне документы, я буду действовать так, как будто их у вас не имеется… А людей, у которых нет бумаг, держат под арестом, пока власти не примут решения… Давайте же бумаги… право… мне пора домой…
Положение Дагобера было тем тяжелее, что в нем пробудились было надежды на счастливый исход. Это был последний удар, довершивший страдания, какие ему пришлось перенести за сегодняшний день. Испытание было слишком тяжело и даже опасно для человека такого закала, с великодушным, честным и решительным характером, но в то же время привыкшего в качестве воина, да еще воина-победителя, относиться к «буржуа» с порядочным высокомерием. При словах: «ваши документы?» Дагобер побледнел, но старался скрыть мучительный страх под видом спокойной уверенности, надеясь этим заслужить доброе отношение бургомистра.
— Я вам расскажу все в двух словах, господин бургомистр… Ничего нет проще… может со всяким случиться… Надеюсь, меня нельзя принять за нищего или бродягу?.. не правда ли?.. Потом, вы сами понимаете, что если честный человек путешествует с двумя девушками…
— Сколько пустых слов!.. Ваши документы!
В эту минуту на помощь солдату совершенно неожиданно явились две сильные союзницы. Сестры, с живейшим беспокойством прислушивавшиеся к шуму на площадке, встали с постели и оделись, так что в тот момент, когда судья закричал: «Пустые слова… Ваши документы!» — Роза и Бланш, держась за руки, показались в дверях своей комнаты.
При виде прелестных девушек, траурный наряд которых делал их еще привлекательнее, бургомистр встал, явно пораженный, в изумлении и восторге. Невольным движением молодые девушки схватили Дагобера за руки и прижались к нему с двух сторон, с беспокойством поглядывая в то же время на бургомистра.
Эта картина, открывшаяся глазам судьи, не могла не тронуть его до глубины сердца; он снова почувствовал сострадание и жалость при виде молодых, невинных существ, которых ему, если можно так выразиться, представил старый солдат. Дагобер, заметив произведенное на бургомистра впечатление и желая им воспользоваться, поспешил подвести сирот поближе и промолвил растроганным голосом:
— Вот эти бедные девочки, господин бургомистр, вот они!.. Могу ли я вам представить лучший паспорт?
При этом на глаза взволнованного солдата невольно навернулись слезы.
Хотя бургомистр, вообще-то был весьма вспыльчив, а спросонья казался еще сердитее и недовольнее, чем обычно, в душе он был неглуп и довольно добр. Он понял, что человек, которому поручили таких девушек, не мог внушать никаких подозрений.
— Бедные дети! — сказал он с возрастающим сочувствием, смотря на сестер. — Такие молодые и уже сироты! Издалека вы едете?
— Из глубины Сибири, господин бургомистр. Мать их была туда сослана до их рождения… Мы в пути уже около пяти месяцев… Подумайте, как это тяжело для таких девочек!.. Ради них я прошу вашей помощи и поддержки… Для них, господин бургомистр, потому что на них сыплются несчастья… Вот и бумаги… я не мог их найти… они пропали… и бумаги, и орден, и деньги… все лежало вместе. А про орден я сказал не из хвастовства: видите, он был надет на меня самим императором… Значит, не плохой же я человек после этого… хоть у меня и все пропало… да!.. Нет ни денег, ни бумаг, вот почему я просил, чтобы мне уплатили за…
— Но как и где потеряли вы все это?
— Не знаю, господин бургомистр, я знаю только одно: что третьего дня я вынул оттуда немного денег, все было на месте. Вчера я не развязывал ремней от сумки… мне денег хватило… а потом…
— Где же лежала сумка?
— В комнате у девочек… но сегодня ночью…
Рассказ Дагобера был прерван появлением Предсказателя.
Спрятавшись у лестницы, он слышал весь разговор и, опасаясь, как бы бургомистр не смягчился и не помешал исполнению его плана, он счел нужным вмешаться.
14. РЕШЕНИЕ
Левая рука Морока лежала на перевязи. Медленно поднявшись по лестнице, он почтительно поклонился бургомистру.
При виде свирепой физиономии укротителя Роза и Бланш невольно отступили назад и крепче прижались к солдату.
Дагобер нахмурился. В нем снова закипел гнев на Морока, которого он считал причиной всех своих бедствий (хотя и не знал, что бумаги украдены Голиафом по его приказанию).
— Что вам надо, Морок? — спросил бургомистр полусердито и вместе с тем не без приветливости. — Я ведь сказал трактирщику, что желаю остаться один.
— Я пришел оказать вам услугу, господин бургомистр.
— Услугу?
— Большую услугу. Иначе я, конечно, не осмелился бы вас побеспокоить. Меня одолело сомнение.
— Сомнение?
— Да. Я раскаялся, что не сообщил вам нечто по поводу этого человека. Меня удержало ложное чувство сострадания.
— Но что же имеете вы мне сообщить?
Морок подошел к судье поближе и начал нашептывать ему что-то на ухо.
Сначала лицо бургомистра выражало только изумление, но постепенно становилось внимательным и озабоченным. Время от времени у него вырывался возглас удивления и недоумения, причем он кидал взгляд на солдата и его юных спутниц. По этим взглядам, все более и более беспокойным, испытующим и строгим, легко можно было угадать, что вместо участия, какое в нем пробудил, было, вид сирот, им овладевало чувство недоверчивости и неприязни.
Дагобер заметил этот неожиданный перелом. Страх, временно улегшийся, снова овладел его душой. Роза и Бланш, ничего не понимая в этой немой сцене, смотрели, опешив, на своего спутника все с большей и большей тревогой.
— Черт возьми! — сказал бургомистр, вскакивая со скамейки. — Я и не подумал об этом. И где была моя голова? Впрочем, понимаете, когда человека этак поднимут со сна, мудрено все сразу сообразить… Морок, вы действительно оказываете мне большую услугу.
— Однако я ничего не утверждаю!
— Все равно! Могу об заклад побиться, что вы правы.
— Ведь это только подозрение, основанное на некоторых данных… но все-таки только подозрение…
— Которое может навести на истину… А я-то, было, попался в западню, как птенец… Просто не понимаю, где была моя голова…
— Трудно, знаете, иногда не поддаться определенным впечатлениям…
— Что и говорить, милейший Морок, что и говорить!
Пока шли тайные переговоры, Дагобер чувствовал себя, как во время пытки. Он старался изо всех сил сдержать гнев, но видел, что надвигается сильная гроза.
Морок снова начал что-то нашептывать бургомистру, указывая головой на девушек.
— Ну! — с негодованием воскликнул судья, — вы заходите слишком далеко!
— Я ничего не утверждаю, — поторопился заметить Морок, — это только предположение, основанное на… — и он снова приблизил губы к уху бургомистра.
— А, впрочем, почему бы и нет? — промолвил судья, воздевая руки к небу. — Такие люди на все способны. Он утверждает, например, что везет их из Сибири, а может быть, это просто наглая ложь? Однако меня два раза обойти не удастся! — воскликнул бургомистр в страшном гневе; как все слабые и бесхарактерные люди, он делался безжалостным, чуть только начинал подозревать, что хотели воспользоваться его слабостью.
— Не торопитесь осуждать… Не придавайте моим словам слишком большое значение… — продолжал Морок с лицемерным смирением. — Мое положение в отношении этого человека (он указал на Дагобера), к сожалению, слишком ложное; можно подумать, что я делаю это из злобы к нему, быть может, это даже и так… но клянусь тогда, что это невольно; я твердо уверен, что мной руководит чувство справедливости, отвращение ко всякой лжи и почтение к нашей святой религии. В конце концов поживем, увидим. Надеюсь, что Бог меня простит, если я ошибся… Во всяком случае, суд решит, прав ли я, а если они не виноваты, то через месяц-другой их выпустят.
— Вот почему я не буду колебаться… просто мера предосторожности, не умрут же они от этого. А чем больше я думаю, тем более мне это представляется вероятным. Да, несомненно, это французский шпион или подстрекатель, и если еще вспомнить про выступления студентов во Франкфурте, то…
— Да, для того чтобы подстрекать молодежь, нельзя придумать лучшей приманки… — и быстрым взглядом Морок указал на девушек, а затем, после многозначительного молчания, со вздохом прибавил: — Для дьявола все средства хороши…
— Конечно! Это отвратительно, но неплохо придумано!
— Да, кроме того, господин бургомистр, взгляните-ка вы повнимательней: у этого человека очень опасная физиономия, посмотрите… — продолжал потихоньку Морок, указывая на Дагобера.
Несмотря на всю свою сдержанность, все то, что пришлось ему вытерпеть с приезда в эту проклятую гостиницу, а особенно с тех пор, как началась беседа Морока с бургомистром, становилось солдату уже не под силу. Кроме того, он видел ясно, что его усилия завоевать сочувствие судьи были окончательно разрушены роковым вмешательством укротителя; потеряв терпение, он подошел к Мороку, скрестив на груди руки, и сказал ему, стараясь сдерживаться:
— Это вы обо мне говорили с господином бургомистром?
— Да! — отвечал Морок, глядя пристально на него.
— Почему вы не говорили вслух?
По судорожному подергиванию густых усов Дагобера, пристально в свою очередь уставившегося на Морока, можно было видеть, какая страшная борьба происходила в его душе. Видя, что противник хранит насмешливое молчание, Дагобер повторил громче:
— Я вас спрашиваю, почему вы говорили обо мне господину бургомистру потихоньку, на ухо?
— Потому что есть вещи настолько постыдные, что пришлось бы краснеть, если говорить о них вслух! — дерзко отвечал укротитель.
До сих пор Дагобер стоял, скрестя руки; теперь он быстро их разнял и взмахнул кулаками. Этот жест был настолько выразителен, что сестры вскрикнули от страха и бросились к Дагоберу.
— Послушайте, господин бургомистр, — сказал солдат, стискивая зубы от гнева. — Прикажите этому человеку уйти… или я за себя не отвечаю.
— Что это? — высокомерно спросил бургомистр. — Вы, кажется, осмеливаетесь приказывать… мне?..
— Я говорю вам: отошлите этого человека, — продолжал Дагобер вне себя, — или, право, случится несчастье!
— Дагобер… Боже мой!.. успокойся! — воскликнули сестры, удерживая его за руки.
— Пристало ли вам, жалкому бродяге, если не сказать еще больше, отдавать здесь приказания! — закричал взбешенный бургомистр. — Ага! Вы думали, что вам достаточно будет заявить мне о пропаже бумаг и что я так вам и поверю! Напрасно вы таскаете с собой этих девчонок! Несмотря на их невинный вид, они, быть может…
— Презренный! — воскликнул Дагобер, прервав бургомистра жестом и таким страшным взглядом, что судья не посмел закончить фразу.
Схватив девушек за руки, Дагобер, прежде чем они успели сказать хоть одно слово, увлек их моментально в комнату и затем, заперев дверь на ключ, положил его в карман и стремительно вернулся к бургомистру, который, испугавшись позы и угрожающего вида ветерана, сделал два шага назад и схватился за перила лестницы.
— Так выслушайте же и меня теперь, — сказал солдат, схватив судью за руку. — Сейчас этот подлец меня оскорбил, — указал он на Морока, — я все снес, пока дело касалось меня. Я слушал все ваши глупости, потому что мне казалось, что вы сочувствуете несчастным девушкам… Но если у вас нет ни сердца, ни жалости, ни справедливости, то я вас предупреждаю, что я так же обойдусь с вами, как с этим псом… — и он снова указал на Предсказателя. — Я не посмотрю, что вы бургомистр, если вы осмелитесь отзываться об этих девушках иначе, чем о своих дочерях… слышите?
— Как… вы осмелились сказать… — воскликнул бургомистр, заикаясь от гнева, — что если… я буду говорить об этих искательницах приключений…
— Шапку прочь… когда говоришь о дочерях маршала герцога де Линьи! — воскликнул солдат, срывая колпак с головы бургомистра и бросая его на пол.
При этом выпаде Морок задрожал от радости. Действительно, Дагобер, потеряв всякую надежду, не мог больше сдерживаться и дал волю гневной ярости, которую он с трудом до сих пор смирял.
Когда бургомистр увидел свой колпак на полу, он с изумлением взглянул на укротителя, как будто не смея поверить в такое чудовищное оскорбление.
Дагобер, хотя и жалел о своей вспыльчивости, но, понимая, что примирения больше быть не может, огляделся кругом и, отступив назад, очутился на верхних ступеньках лестницы.
Бургомистр стоял в углу площадки за скамейкой. Морок, с рукой на перевязи, чтобы подчеркнуть серьезность ранения, находился рядом с судьей. Тот, введенный в заблуждение движением Дагобера, закричал:
— Ага, ты думаешь удрать, осмелившись поднять на меня руку, старый мерзавец?
— Господин бургомистр, простите меня. Я не мог сдержаться, я очень раскаиваюсь в своей дерзости, — сказал Дагобер, смиренно склоняя голову.
— Нет тебе прощения, негодяй! Ты хочешь снова морочить меня своим покорным видом! Но я понял твои тайные замыслы… Ты не тот, кем хочешь казаться, и очень может быть, что за всем этим кроется государственное преступление… — чрезмерно дипломатичным тоном заметил бургомистр. — Для людей, желающих воспламенить Европу, все средства хороши!
— Я всего лишь старый бедняк… Господин бургомистр… у вас такое доброе сердце… будьте милосердны, сжальтесь!
— Ага! Ты сорвал с меня шапку!
— Ну, хоть вы, — прибавил солдат, обращаясь к Мороку, — вы, из-за которого все это вышло… пожалейте меня, не сердитесь… Вы ведь святой человек, замолвите за меня словечко…
— Я сказал уже все… что должен был сказать! — иронически заметил Морок.
— Ага, ага! Теперь, небось, испугался, бездельник, старый бродяга… Ты думаешь, провел меня своими жалобами! — говорил бургомистр, приближаясь к солдату. — Не тут-то было, меня не проведешь… Ты увидишь, что в Лейпциге имеются хорошие тюрьмы для французских смутьянов и искательниц приключений… потому, что твои девчонки не лучше тебя… Пошли, — прибавил он важно, надуваясь как индейский петух. — Иди, спускайся впереди меня… Что касается тебя, Морок, то ты…
Бургомистр не успел кончить.
Дагобер старался только выиграть время. Он заметил с другой стороны площадки, против комнаты сирот, полуоткрытую дверь; уловив благоприятную минуту, как молния бросился на бургомистра, схватил его за горло и с такой силой швырнул его в комнату, что тот, пораженный, не успев крикнуть, покатился внутрь абсолютно тесного помещения.
Потом, повернувшись к Мороку, который, увидев, что лестница свободна, бросился было по ней, Дагобер ухватил Предсказателя за развевающиеся волосы, притянул к себе, стиснул его в железных объятиях и, зажав ему рот рукою, чтобы заглушить крики, повлек его к той же комнате, где лежал одуревший от падения бургомистр, и, несмотря на отчаянное сопротивление укротителя, втолкнул его туда.
Заперев дверь двойным поворотом ключа и положив его в карман, Дагобер в два прыжка очутился внизу лестницы, оканчивавшейся вестибюлем, выходившим во двор. Дверь в гостиницу была заперта, выйти через нее было невозможно. Дождь лил как из ведра, а через окно видны были хозяин и его слуги, ожидавшие решения бургомистра. Запереть задвижкой дверь и прервать таким образом всякое сообщение с двором было делом одной минуты, затем солдат взбежал по лестнице и вошел в комнату сестер.
Опомнившись, Морок начал изо всей силы призывать на помощь. Но если бы даже расстояние было меньше, то криков его никто бы не услыхал из-за шума дождя и воя ветра. Дагобер имел около часа времени в запасе, пока все не догадались, что его беседа с бургомистром слишком затянулась. Да и после этого если бы и возникли сомнения, то им пришлось бы сломать две двери, прежде чем достичь комнаты, в которой он запер Морока и судью.
— Ну, детки, теперь надо доказать, что у вас в жилах течет кровь солдата! — воскликнул он, стремительно вбегая к девушкам, напуганным шумом, который они слышали в течение нескольких минут.
— Господи! Дагобер, что случилось? — спросила Бланш.
— Чего ты от нас требуешь? — сказала Роза.
Не отвечая ни слова, солдат подбежал к постели, сдернул с нее простыни, крепко их связал, затем на одном конце сделал большой узел и закрепил его между рамой и окном. Удерживаемая толщиной узла внутри комнаты, простыня внешним концом касалась почти самой земли, а другая половина окна, оставаясь открытой, давала беглецам достаточный проход.
После этого Дагобер схватил свою сумку, чемодан девушек и оленью шубу, выбросил их из окна на улицу и знаком приказал Угрюму последовать за ними, чтобы охранять их внизу. Собака немедленно повиновалась.
Роза и Бланш, не говоря ни слова, с изумлением смотрели на Дагобера.
— Теперь, дети, — сказал он им, — смелее… Все двери заперты… не робейте! — и, указывая на окно, прибавил: — Надо спасаться через окно, иначе нас арестуют, посадят в тюрьму, рассадят по разным камерам… и наше путешествие закончится!..
— Арестуют! Посадят в тюрьму! — воскликнула Роза.
— Разлучат с тобой! — прибавила Бланш с ужасом.
— Да, мои милые бедняжки! Весельчака у нас убили… Надо спасаться пешком и постараться дойти до Лейпцига… Когда вы устанете, я понесу вас на руках и хоть милостыню собирать стану, но до Парижа мы доберемся… Только надо поторопиться, через четверть часа будет уже поздно… Ну, девочки, доверьтесь мне… докажите, что дочери генерала Симона не трусихи… Мы можем еще надеяться на спасение!
Девушки схватились за руки; казалось, они хотели объединить силы для борьбы с опасностью. На их прелестных личиках, побледневших от стольких тяжелых волнений, появилось выражение наивной, но геройской решимости, источником которой служила их слепая вера в преданность солдата.
— Будь спокоен, Дагобер, мы не струсим! — твердым голосом сказала Роза.
— Мы сделаем все, что надо сделать! — не менее уверенно произнесла Бланш.
— Я в этом не сомневался! — воскликнул Дагобер. — Хорошая кровь скажется… Ну, в путь-дорогу! Вы легки, как перышко, простыни крепки, и окно от земли всего в восьми футах… А там уже ждет Угрюм!..
— Я первая спущусь: я сегодня старшая, — заявила Роза, нежно поцеловав сестру.
И она бросилась к окну, желая первой встретить опасность, какая могла ожидать при спуске, не допустив до этого Бланш.
Дагобер понял ее побуждение и ласково заметил:
— Дети вы мои, я вас понимаю… Но не бойтесь друг за друга: опасности нет никакой… Ну, вперед, Роза!
Легкая, как птичка, Роза мигом вскочила на окно, ухватилась за простыню и потихоньку спустилась, следуя указаниям солдата, свесившегося за окно и ободрявшего ее ласковыми словами.
— Сестра, не бойся, — тихонько сказала Роза, очутившись на земле. — Совсем не трудно спускаться, Угрюм уже здесь… он лижет мои руки…
Бланш не заставила себя долго ждать. Она с той же смелостью благополучно спустилась вниз.
— Дорогие, бедные дети! И почему вы такие несчастные?.. Черт возьми!.. Да что же, проклята, что ли, их семья? — воскликнул Дагобер с разбитым сердцем, видя, как бледное и нежное лицо девушки исчезло среди мрака глубокой ночи, становившейся все более зловещей из-за яростных порывов ветра и потоков дождя.
— Дагобер, скорее… мы тебя ждем! — звали его шепотом сироты.
Благодаря своему росту Дагобер скорее выскочил, чем спустился из окна.
Прошло не больше четверти часа после их побега, как в гостинице «Белый сокол» раздался страшный треск. Дверь наконец-то уступила напору Морока и бургомистра, когда они вздумали употребить стоявший там тяжелый стол вместо тарана. Видя свет в комнате девушек, они первым делом бросились туда. Комната была пуста.
Морок сразу заметил висящие из окна простыни и закричал:
— Смотрите-ка, господин бургомистр… они убежали через окно… Но ведь пешком в такую темную бурную ночь они далеко не уйдут.
— Конечно… Мы их сейчас поймаем… Мерзкие бродяги!.. О! я отомщу… Скорее, Морок… Речь идет о твоей и моей чести…
— О моей чести? Ну, нет! Ставка в этой игре у меня побольше! — с гневом крикнул Морок, а затем, раскрыв дверь во двор, зычным голосом начал отдавать приказания:
— Голиаф, спусти собак… Хозяин, фонарей, факелов, раздайте людям оружие… отворяйте ворота… В погоню… за ними… Они не могут уйти далеко, а захватить их необходимо… живых или мертвых!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УЛИЦА МИЛЬЕ-ДЕЗ-УРСЭН
1. ИЗВЕСТИЕ И ДОНЕСЕНИЕ note 3
Морок еще до прихода бургомистра, считая, что Дагобер без лошади, документов и денег не в состоянии будет продолжать путешествие, послал через Карла письмо, которое тот должен был тотчас же сдать на почту в Лейпциге.
Адрес на письме был такой:
«Господину Родену. Улица Милье-Дез-Урсэн. Париж».
В середине этой уединенной и малоизвестной улицы, расположенной ниже набережной Наполеона, куда она выходила, стоял в то время недалеко от улицы Сен-Ландри небольшой скромный по виду дом. Он находился внутри мрачного и узкого двора, а от улицы отделялся небольшим каменным строением, с воротами посредине и с двумя большими окнами по бокам, заделанными железными решетками. Судя по меблировке большой залы, находящейся на первом этаже главного здания, ничего не могло быть проще внутреннего убранства этого вечно безмолвного дома. Стены были обшиты старыми деревянными серыми панелями; пол, выложенный плитками и выкрашенный в красный цвет, тщательно натерт; на окнах висели белые ситцевые занавески. Против камина, на тяжелой дубовой подставке стоял громадный глобус, фута в четыре в диаметре. На глобусе большого масштаба повсюду, во всех странах света встречались довольно часто маленькие красные крестики. От севера до юга, от востока до запада, от самых варварских стран, от самых отдаленных островов до самых культурнейших государств и, наконец, до самой Франции не было местности, где не стояло бы крестиков, служивших, вероятно, указательными знаками и обозначавших какие-нибудь известные пункты.
Около камина стоял вплотную к стене большой стол черного дерева, заваленный бумагами; перед ним — пустой стул. Далее, между окнами, помещалось большое ореховое бюро с множеством полок, заполненных папками и бумагами.
В конце октября 1831 года, около восьми часов утра, за бюро сидел и писал какой-то человек. Это и был адресат Морока, господин Роден. Ему можно было дать лет пятьдесят, одет он был в старый, потертый сюртук оливкового цвета, с засаленным воротником; вместо галстука на шее у него висел цветной платок, а жилет и панталоны из черного сукна давно повытерлись и побелели. Ноги, обутые в неуклюжие башмаки, смазанные кремом, покоились на зеленом коврике. Седые волосы, прилизанные на висках, обрамляли лысый лоб, брови были едва заметны, быстрые черненькие глазки еле выглядывали из-под полуоткрытых век, толстых и вялых, точно перепонка пресмыкающегося, а тонкие губы, совершенно бесцветные, сливались с общим безжизненным тоном худого лица. Острый подбородок и острый тонкий нос довершали общее впечатление, производимое этой безжизненной, бесцветной маской, сходство с которой еще более увеличивалось благодаря полной неподвижности физиономии. Если бы его рука не скользила быстро по бумаге, можно было бы легко принять Родена за труп. С помощью шифра (секретного алфавита), лежавшего перед ним и непонятного для тех, кто не обладает ключом к этим знакам, он переписывал некоторые отрывки из длинной находившейся на бюро рукописи.
Среди полного безмолвия, при свете пасмурного дня, придававшего еще более печальный вид большой, холодной и пустой зале, этот человек с безжизненным холодным лицом, ставивший на бумаге какие-то таинственные знаки, казался необыкновенно зловещим.
Пробило восемь часов. У ворот глухо раздался стук молотка, дважды прозвонил колокольчик, несколько дверей открылось и захлопнулось, и новое лицо появилось в комнате. При его входе Роден встал, зажал перо зубами, смиренно и почтительно поклонился и, не говоря ни слова, принялся снова за работу.
Трудно было себе представить двух более несхожих людей. Вновь прибывшему, казалось, не было более тридцати пяти или тридцати восьми лет. Это был элегантный человек высокого роста. Его темно-серые большие глаза сверкали металлическим блеском, и выдержать их взгляд сумел бы не каждый. Нос, широкий при основании, был очень твердо очерчен на конце, выдающийся подбородок был тщательно выбрит, и его синеватый отлив резко контрастировал с ярким пурпуром губ и белизной необыкновенно красивых зубов.
Когда он снял шляпу, чтобы заменить ее черной бархатной шапочкой, можно было увидеть светло-русые волосы, которые время еще не посеребрило. Сюртук у него был застегнут по-военному, до самой шеи.
Глубокий взгляд, открытый широкий лоб обличали необычайную силу ума, а ширина груди и плеч указывала на физическую крепость. Благородство осанки, изысканность обуви и перчаток, легкий запах хороших духов, исходивший от его волос и от всей особы, изящество и свобода каждого движения — все выдавало в нем светского человека и свидетельствовало, что он может еще претендовать на разного рода успехи — от самых легкомысленных до самых серьезных.
Редкое сочетание умственной и физической силы с удивительной элегантностью манер и обращения поражало тем более, что все, что было в этом человеке слишком решительного и энергичного, все, что походило на самовластие и деспотизм, все это смягчалось улыбкой, улыбкой постоянной, но далеко не одинаковой. Смотря по обстоятельствам эта улыбка была то душевной, то лукавой, то дружеской, то игривой, то скромной, то предупредительной и придавала столько вкрадчивой прелести его лицу, что те, кто его видел хоть раз, никогда не могли забыть.
Однако несмотря на такое соединение достоинств, несмотря на то, что невозможно было противостоять его обаянию, к этому примешивалась какая-то смутная тревога, как будто грация и изысканная светскость манер этого человека, очарование его беседы, его деликатность, ласкающая приятность его улыбки прикрывали какую-то опасную западню. Невольно подчиняясь влечению к этому симпатичному человеку, всякий неожиданно задавался вопросом: «Что влечет к нему? Добро… или зло?»
Роден, секретарь вновь прибывшего, продолжал писать.
— Есть новости из Дюнкерка, Роден? — спросил его начальник.
— Почтальон еще не приходил.
— Хотя, по-видимому, матушке тревожиться нечего, ко я все-таки беспокоюсь, пока не получу письма от княгини де Сен-Дизье… моего лучшего друга… Сегодня я надеюсь получить, наконец, хорошие вести…
— Хорошо, хорошо! — сказал секретарь, столь же покорный и смиренный, сколь лаконичный и бесстрастный.
— Конечно, желательно, — продолжал его начальник, — потому что одним из лучших дней в моей жизни был тот день, когда я получил письмо от княгини с уведомлением, что внезапная и опасная болезнь матушки отступила наконец перед заботами и уходом… Ели бы не это известие, то я уже уехал бы в деревню к княгине, хотя мое присутствие необходимо и здесь…
Затем, подойдя к бюро секретаря, он добавил:
— Вы разобрали иностранную корреспонденцию?
— Вот выписки.
— Письма, как всегда, были доставлены по указанным адресам и принесены сюда согласно моим указаниям?
— Так точно.
— Прочтите мне выписки из корреспонденции; если там есть письма, на которые должен ответить сам, я вам скажу.
И, заложив руки за спину, хозяин Родена начал ходить по комнате, диктуя заметки, которые Роден тотчас же записывал.
Секретарь взял довольно объемистую связку и начал так:
— Дон Рамон Оливарес уведомляет из Кадиса о получении письма за N19. Он поступит согласно указаниям и будет отрекаться от соучастия в похищении…
— Хорошо. Отметьте…
— Граф Романов из Риги находится в затруднительном положении.
— Прикажите Дюплесси послать ему во вспомоществование пятьдесят луидоров; я прежде служил капитаном в полку графа. Кроме того, он прислал много полезных сообщений.
— В Филадельфии получен последний груз «Истории Франции», обработанной для верных христиан. Требуют еще новой посылки, ввиду того что первая разошлась.
— Отметить и передать Дюплесси. Продолжайте.
— Господин Шпиндлер из Намюра посылает тайное донесение о господине Ардуэне.
— Рассмотреть.
— Таковое же от господина Ардуэна о господине Шпиндлере.
— Рассмотреть.
— Доктор Ван-Остад из того же города посылает тайное сообщение о господине Шпиндлере и господине Ардуэне.
— Сравнить… Дальше.
— Граф Малипиери из Турина доносит, что дарственная на триста тысяч франков подписана.
— Уведомить Дюплесси… Дальше.
— Дон Станислав отправился в Баден с королевой Марией-Эрнестиной. Он уведомляет, что ее величество с благодарностью примет все известия, какие ей пришлют, и ответит на них собственноручно.
— Отметьте… Я сам напишу королеве.
Пока Роден делал на полях бумаги пометки, его хозяин, продолжавший ходить по комнате, остановился на другом ее конце у большой карты, висевшей на стене и помеченной также маленькими красными крестиками. С минуту он задумчиво разглядывал ее.
Роден продолжал:
— Судя по состоянию умов в некоторых областях Италии, где смутьяны вдохновляются примером Франции, — пишет отец Орсини из Милана, — недурно было бы распространить в стране побольше книжечек, где бы французы выставлялись как нечестивые развратники, кровожадные грабители и так далее.
— Превосходная мысль. При этом можно очень удачно использовать крайности, Какие допускались нашими войсками во время войн Республики. Надо поручить Жаку Дюмулену написать такую брошюрку. Этот человек, похоже, создан из злобы, желчи и яда… Памфлет выйдет ужасным… Я сделаю несколько замечаний… только денег Дюмулену не давать, пока не кончит и не сдаст рукописи…
— Хорошо… Если дать ему плату вперед, то он налижется в стельку и на неделю пропадет в кабаках. Пришлось заплатить ему дважды за его ядовитую записку против пантеистических тенденций философской доктрины профессора Мартена.
— Отметьте и продолжайте.
— Негоциант извещает, что приказчик готов немедленно отправить банкира для предоставления отчетов кому следует.
Произнося эти слова особенным образом, Роден спросил:
— Вы поняли?
— Естественно, — сказал начальник, вздрогнув, — это условные выражения… А дальше?
— Но приказчика сдерживают некоторые сомнения.
После минутного раздумья, причем черты его лица приняли озабоченное выражение, хозяин Родена произнес:
— Продолжать воздействовать на приказчика одиночеством и безмолвием. Затем зачитать ему перечень случаев, когда цареубийство не только прощается, но и оправдывается… Продолжайте…
— Госпожа Сидней из Дрездена ждет инструкций. Между отцом и сыном разыгрываются из-за нее страшные сцены ревности. Но несмотря на взаимную ненависть отца и сына, в рассказах соперников друг о друге нет сведений, которые от нее требуются. Но ее нерешительность может наконец возбудить их подозрения. Кого она должна выбрать: отца или сына?
— Сына. Гнев старика и его ревность будут ужаснее; чтобы отомстить за предпочтение, оказанное молодому человеку, он, быть может, откроет то, что до сих пор так тщательно скрывал… Дальше.
— В течение трех лет у отца Амвросия пропали две служанки, теперь исчезла и третья. В этом маленьком приходе в горах Вале местные протестанты сильно волнуются… Говорят об убийстве и о разных обстоятельствах, внушающих опасение.
— Пока не обнаружатся явные улики, защищать Амвросия против гнусной клеветы партии, которая не брезгует даже самой чудовищной выдумкой. Продолжайте.
— Томсон из Ливерпуля сумел пристроить Жюстена доверенным лицом к лорду Стиверту, богатому ирландскому католику, разум которого час от часу слабеет.
— Если факт подтвердится, выслать пятьдесят луидоров в награду Томсону. Передайте это Дюплесси… Дальше.
— Франк Дихштейн из Вены, — продолжал Роден, — уведомляет, что его отец умер от холеры в маленькой деревне, недалеко от столицы… Эпидемия, похоже, продолжает путь с севера России, через Польшу…
— Это правда! — прервал его хозяин. — Только бы этот ужасный бич пощадил Францию, прекратив свой путь!
— Франк Дихштейн, — продолжал Роден, — уведомляет также, что оба его брата намерены оспаривать дарственную, сделанную их отцом… Он этому противится.
— Посоветоваться с юристом… Затем?
— Кардинал князь д'Альмафи соглашается на три первые условия, но просит избавить его от четвертого.
— Никаких уступок… Все или ничего. А не то война, подчеркните это, слышите? Беспощадная война против него и его друзей… Затем?
— Фра Паоло уведомляет, что патриот Боккари, глава тайного, очень опасного общества, доведенный до отчаяния подозрениями друзей в измене, подозрениями, искусно возбужденными самим Фра Паоло, лишил себя жизни.
— Боккари?.. Да неужели?.. Боккари! Патриот Боккари!! Этот опасный враг! — воскликнул хозяин Родена.
— Патриот Боккари, — по-прежнему бесстрастно повторил секретарь.
— Сказать Дюплесси, чтобы он выслал Фра Паоло чек на двадцать пять луидоров. Отметьте это.
— Гаусман уведомляет, что французская танцовщица Альбертина Дюкорне сделалась любовницей владетельного князя. Он всецело под ее влиянием; через нее можно было бы достигнуть предполагаемой цели, но на нее, в свою очередь, имеет неограниченное влияние один фальшивомонетчик, осужденный во Франции: без него она ни на что не решится…
— Приказать Гаусману договориться с этим человеком, и если его требования не безрассудны, то дать на них согласие. Узнать, нет ли у этой девушки родных в Париже.
— Герцог Орбано уведомляет, что король, его повелитель, дает согласие на создание предполагаемого заведения, но предварительно желает знать, какие будут условия.
— Никаких условий. Или полное согласие, или окончательный отказ. Так познаются друзья и враги. Чем обстоятельства труднее, тем больше следует проявлять твердости: таким образом внушается доверие к нам.
— Он же докладывает, что весь дипломатический корпус принял сторону отца той молоденькой протестантки, которая нашла защиту и убежище в монастыре и не хочет его покидать, пока отец не согласится на ее брак с возлюбленным.
— Ага! И дипломатический корпус продолжает требовать ее выдачи от имени отца?
— Продолжает…
— Ну, так продолжайте ему отвечать, что духовная власть не имеет ничего общего с властью светской.
В эту минуту кто-то позвонил два раза.
— Узнайте: кто там? — приказал начальник.
Роден вышел. Хозяин продолжал ходить с задумчивым видом взад и вперед по комнате. Он приблизился к огромному глобусу и остановился около него.
В течение короткого времени он в глубоком молчании рассматривал бесчисленные крестики. Они как сеткой покрывали всю землю. Вероятно, при мысли о своем могуществе, о той таинственной власти, которая, казалось, распространялась на все страны света, лицо этого человека оживилось, серые глаза гордо заблестели, ноздри раздулись, и вся его мужественная фигура приняла выражение дерзкой отваги и могучей энергии. Горделиво и с презрительной улыбкой приблизился он к глобусу и положил свою руку туда, где находился полюс. При этом повелительном жесте, при эхом движении, которым он, казалось, овладевал всем миром, чувствовалось, что этот человек сознает себя господином Вселенной, на которую он смотрел с высоты своего величественного роста и которую всю держал в своей дерзкой, смелой руке. Теперь он больше не улыбался. Лоб его покрылся морщинами, во взгляде сверкала угроза. Трудно было для художника подыскать лучшую модель, если бы он пожелал передать образ демона гордости и коварства, адского гения ненасытной жажды власти.
При появлении Родена его лицо быстро приняло обычный вид.
— Это почтальон, — сказал Роден, показывая кипу писем. — Из Дюнкерка ничего нет.
— Ничего!!! — воскликнул хозяин. И горестное волнение при этих словах являло разительную противоположность с гордым и Неумолимым выражением, только что оживлявшим его лицо. — Ничего!!! Никаких известий о матери! Еще два долгих дня мучительного беспокойства!
— Мне кажется, что если бы были недобрые вести, княгиня бы вас уведомила; несомненно, ваша матушка поправляется.
— Вы, конечно, правы, Роден. Но мне все-таки не легче… я не могу быть покоен. Если завтра я не получу вполне утешительного известия, то поеду в имение княгини. И зачем надо было матушке уехать туда осенью! Я, право, боюсь, что окрестности Дюнкерка не совсем подходят для ее здоровья…
Через минуту, продолжая ходить, он спросил:
— А это что за письма?.. Откуда?
— Из четырех писем три касаются важного дела о медалях, — ответил Роден, посмотрев на штемпель.
— Слава Богу… только бы хорошие были известия! — воскликнул хозяин Родена с живейшим беспокойством, показавшим, как интересует его это дело.
— Одно из Чарлстона, по-видимому, о миссионере Габриеле, — отвечал Роден, — другое из Батавии, видимо, о Джальме; третье из Лейпцига… Вероятно, оно подтверждает вчерашнее известие, в котором укротитель зверей, прозванный Мороком, сообщал, что, следуя полученным приказаниям, он остался вне подозрений, а дочери генерала Симона не смогут продолжить путешествие.
При имени генерала Симона облако прошло по лицу хозяина Родена.
2. ОРДЕН ИЕЗУИТОВ note 4
Поборов смущение, невольно овладевшее им при имени генерала Симона, хозяин Родена сказал:
— Не открывайте покуда эти письма; сведения, которые в них заключаются, распределятся сейчас сами по себе, и мы избежим лишней траты времени.
Секретарь вопросительно взглянул на него. Тот продолжал:
— Вы покончили с запиской относительно дела о медалях?
— Вот она, я только что ее зашифровал.
— Прочтите ее мне, а затем мы включим в нее по порядку и полученные три письма.
— В самом деле, — сказал Роден, — таким образом эти сведения окажутся на своем месте.
— Я хочу знать, достаточно ли понятна эта записка. Вы не забыли, что лицо, для которого она составляется, не должно знать всего?
— Я это имел в виду при ее составлении.
— Читайте.
Роден принялся читать медленно и степенно:
«Полтораста лет тому назад некая французская семья протестантского вероисповедания, предвидя скорую отмену Нантского эдикта, добровольно удалилась из своего отечества, желая избегнуть строгих, но весьма справедливых преследований, которые уже были предприняты против реформистов, непримиримых врагов нашей святой церкви. Некоторые из членов этой семьи бежали в Голландию, другие — в голландские колонии; кто в Польшу, кто в Германию, кто в Англию, кто в Америку. Теперь вся семья насчитывает семь человек, но так как их предки испытали всевозможные превратности судьбы, то потомки эти находятся на совершенно различных ступенях общества, начиная с монаха и кончая ремесленником.
Эти прямые и непрямые потомки суть:
Со стороны матери:
Девицы Симон, Роза и Бланш, несовершеннолетние (генерал Симон женился в Варшаве на женщине, происходящей из вышеназванной семьи).
Франсуа Гарди, заводчик в Плесси, близ Парижа.
Принц Джальма, сын Хаджи-Синга, раджи Монди (Хаджи-Синг в 1802 г. женился в Батавии, на острове Ява, в голландских владениях, на девице из этой семьи).
Со стороны отца:
Жак Реннепон, ремесленник, по прозванию «Голыш».
Девица Адриенна де Кардовилль, дочь графа Реннепон, герцога де Кардовилль.
Габриель Реннепон, миссионер.
Каждый из членов этой семьи обладает или должен обладать бронзовой медалью со следующей надписью:
Victime de L.C.D.J.
Priez pour moi.
Paris le 13 fevrier 1682
A Paris Rve St.Francoisn 3 Dans vn siecle et demi vovs serez Le is fevrier 1832.
Priez pour moi.
Слова и число указывают, что исходя из важных интересов каждый член семьи должен явиться в Париж 13 февраля 1832 г. и, главное, должен явиться лично, взрослый или юный, женатый или холостой. Но другие лица весьма заинтересованы в том, чтобы на это свидание, назначенное на 13 февраля, не явился никто из этой семьи, кроме Габриеля Реннепона, миссионера. Необходимо во что бы то ни стало, чтобы Габриель был один на свидании, назначенном потомкам этой семьи полтораста лет тому назад.
Многое уже сделано, чтобы помешать остальным шести лицам явиться к назначенному дню в Париж или не допустить их до места свидания, но для успеха дела нужно еще немало потрудиться, так как это весьма для нас важно и сегодня является самым насущным делом, учитывая ожидаемые результаты».
— Все это истинная правда, — сказал, покачивая в раздумье головой, хозяин Родена. — Прибавьте к этому, что благие последствия успеха неисчислимы, а неуспех может быть гибелью, так что о нем страшно и подумать. Речь идет о том, существовать нам… или на многие годы затаиться. Поэтому нельзя отступать ни перед какими средствами, конечно, сохраняя осторожность.
— Готово, — сказал Роден, вписывая продиктованные ему начальником слова.
— Продолжайте…
Роден продолжал:
«Для облегчения этой задачи необходимо дать некоторые подробные и секретные указания относительно семи человек, представляющих эту семью.
Сведения эти вполне достоверны и могут быть дополнены, так как ввиду встретившихся в этом деле противоречивых показаний материалов было собрано весьма много. Мы будем давать сведения в порядке вышеописанного перечня и сообщать только то, что случилось до сего дня.
Записка N 1
Девицы Роза и Бланш Симон, близнецы, около 15 лет от роду. Очень хорошенькие. Похожи друг на друга так, что можно принять одну за другую. Характера застенчивого и кроткого, но склонного к восторженности. Были воспитаны в Сибири умной матерью-деисткой. Не имеют понятия о догматах нашей святой веры.
Генерал Симон оторван от семьи до их рождения, по сию пору он не знает, что у него есть две дочери.
Полагали, что можно помешать им прибыть к назначенному времени в Париж, отправив мать в ссылку еще дальше того места, где они находились. Но после смерти жены генерала Симона генерал-губернатор Сибири, искренне нам преданный, предположив, к несчастью, что меры касаются только жены генерала Симона, позволил его дочерям уехать во Францию в сопровождении их слуги, старого солдата. Этот слуга считается очень верным, решительным и ловким человеком. Для нас он опасен.
Девицы Симон совершенно безвредны. Есть основания предполагать, что они теперь задержаны в окрестностях Лейпцига».
На этом хозяин прервал Родена:
— Прочтите теперь письмо из Лейпцига, и тогда можете пополнить эти сведения.
Роден прочел письмо и воскликнул:
— Новости превосходные! Девушки и солдат пытались бежать из гостиницы «Белый сокол», но их догнали на расстоянии одного лье от Мокерна. Их отправили в Лейпциг и посадили в тюрьму как бродяг. Солдат, сопровождавший их, обвинен, кроме того, в возмущении, самоуправстве и нанесении оскорбления должностному лицу.
— Значит, можно предположить, учитывая медлительность прохождения дел в Германии (да можно этому и поспособствовать), что девицы Симон 13 февраля в Париж не прибудут. Отметьте и это в памятной записке.
Секретарь повиновался и внес в записку краткое содержание письма Морока.
— Готово, — доложил он.
— Продолжайте, — сказал начальник.
Чтение было продолжено.
Записка N 2
«Франсуа Гарди, фабрикант из Плесси, близ Парижа.
Человек твердый, богатый, умный, деятельный, честный, образованный, обожаем своими рабочими за принятие им бесчисленных нововведений по улучшению их быта. Религиозных обрядов никогда не исполняет. Считается весьма опасным. Но против него можно обратить ненависть и зависть, какую питают к нему соседние заводчики и фабриканты, особенно его конкурент барон Трипо. Если понадобятся другие средства против него, можно заглянуть в его досье: оно весьма обширно, так как Гарди давно взят на заметку и за ним постоянно следят.
Касательно дела о медали, его так ловко обманули, что он до сих пор в полном неведении относительно ее важности. Кроме того, он постоянно находится под тщательным надзором; за ним неустанно следят, и один из его лучших друзей вполне нам предан. Поэтому нам известны даже самые сокровенные его мысли.
Записка N 3
Принц Джальма.
Восемнадцати лет, характера энергичного и великодушного. Независимого, гордого и самобытного ума. Любимец генерала Симона, взявшего на себя командование войсками его отца Хаджи-Синга в борьбе, которую тот вел в Индии против англичан. О Джальме упоминается только для полноты картины, так как мать его умерла очень молодой, еще при жизни своих родителей, которые остались в Батавии. После смерти последних ни Джальма, ни раджа, его отец, не потребовали своей доли из оставшегося от них скромного имущества. А так как в числе его была и вышеназванная медаль, то ясно, что ни принц Джальма, ни раджа, его отец, не имеют понятия о важности сопряженных с нею интересов».
Хозяин прервал Родена, сказав:
— Прочтите теперь письмо из Батавии для пополнения сведений о Джальме.
— Еще одна хорошая новость! — сказал Роден, пробежав письмо. — Жозюе Ван-Даэль, негоциант в Батавии, получивший воспитание в нашем заведении в Пондишери, узнал через своего Корреспондента в Калькутте, что отец Джальмы убит в последнем сражении с англичанами, а Джальма лишен престола и заключен в одну из индийских крепостей как государственный преступник.
— Если мы даже предположим, что Джальму выпустят из заключения тотчас же, то и тогда вряд ли он достигнет Парижа к февралю. Ведь теперь уже конец октября, — сказал начальник.
— Господин Жозюе сожалеет, — продолжал Роден, — что не мог ничем быть полезен в этом деле. Если бы, паче чаяния, Джальму освободили, то, несомненно, он отправился бы в Батавию за получением наследства, так как у него больше нет никаких средств. Тогда можно вполне положиться на усердие и преданность господина Жозюе… Взамен своих услуг он просит срочных сведений, касающихся состояния барона Трипо, предпринимателя и банкира, с которым он имеет дела.
— Ответьте уклончиво. Кроме желания быть полезным, господин Жозюе не проявил себя еще ничем. Приложите к бумагам Джальмы эти новые сведения.
Роден записал.
Через несколько секунд хозяин спросил его с особенным ударением:
— А господин Жозюе ничего вам не сообщил о генерале Симоне в связи со смертью отца Джальмы?
— Господин Жозюе ничего не сообщает о нем, — ответил секретарь, продолжая работу.
Хозяин молча ходил по комнате с задумчивым видом.
Через несколько минут Роден сказал:
— Я написал.
— Читайте дальше.
Записка N 4
«Жак Реннепон, по прозванию „Голыш“.
Рабочий на фабрике барона Трипо, конкурента господина Гарди. Пьяница, лентяй, буян и мот. От природы неглуп, но тунеядство и пьянство окончательно его развратили. Один из наших агентов, человек весьма ловкий, сошелся с любовницей Жака, Сефизой Соливо, по прозванию «Королева Вакханок». Благодаря ей он завязал с ним дружбу. Агент сможет исключить Голыша из числа лиц, заинтересованных в свидании 13 февраля в Париже.
Записка N 5
Габриель Реннепон, миссионер.
Отдаленный родственник предыдущего. Не знает о его существовании и родстве. Был подобран Франсуазой Бодуэн, женой солдата, прозванного Дагобер, как брошенный сирота.
Если бы вдруг солдат вернулся в Париж, на него легко можно воздействовать через жену. Она превосходная женщина, невежественная и легковерная, примерной набожности, находящаяся с давних пор под неограниченным влиянием Ордена. Именно она убедила Габриеля, сильно этому противившегося, вступить в орден. Габриелю 25 лет; характер и наружность ангельские; редкие и устойчивые добродетели. К несчастью, воспитывался вместе с Агриколем Бодуэном, сыном Дагобера. Агриколь — поэт и рабочий. Отличный рабочий, служит на заводе господина Гарди, проникнут самыми зловредными идеями, обожает свою мать, честный, трудолюбивый, но лишенный всякого религиозного чувства. Считается весьма опасным, что делало нежелательной его дружбу с Габриелем, который, несмотря на превосходные качества, еще внушает опасения. Пришлось даже отложить открытие ему планов ордена. Ложный шаг в этом направлении может сделать из него также опасного врага. Необходимо вести себя с ним как можно осторожнее, по крайней мере до 13 февраля. От него и от его присутствия в этот день в Париже зависят все надежды на успех великого дела.
Вследствие этого пришлось пойти на уступки и разрешить ему отправиться миссионером в Америку. Несмотря на ангельскую кротость, он неустрашим и обладает хладнокровием, смелостью и предприимчивостью, удовлетворить которые можно было, только позволив ему избрать исполненную опасностей жизнь миссионера. К счастью, его начальнику в Чарлстоне даны самые строгие инструкции оберегать его драгоценную жизнь. Его должны прислать в Париж за месяц или за два до 13 февраля».
Хозяин прервал Родена словами:
— Прочтите теперь письмо из Чарлстона. Что пишут оттуда? Пополним и его досье.
Роден, прочитав письмо, заметил:
— Габриеля ждут со дня на день со Скалистых гор, куда он непременно пожелал в одиночку отправиться миссионером.
— Какая неосторожность!
— Несомненно, он избежал опасности, потому что сам известил о своем скором возвращении в Чарлстон… Тотчас по его приезде, приблизительно в середине октября, его немедленно отправят во Францию.
— Прибавьте и это к его делу, — сказал начальник.
— Готово, — ответил Роден через несколько минут.
— Продолжайте…
Роден продолжал:
Записка N 6
«Девица Адриенна Реннепон де Кардовилль.
Дальняя родственница (не подозревающая об этом родстве) Жака Реннепона, по прозванию «Голыш», и Габриеля Реннепона, миссионера. Скоро ей исполнится двадцать один год. Самое интересное лицо в мире, редкая красота, хотя волосы у нее рыжие. Замечательный и оригинальный ум. Колоссальное состояние. Очень чувственная. Нельзя не опасаться за будущее этой особы из-за необычайной смелости характера. К счастью, ее опекун, барон Трипо (барон с 1829 г., а ранее управляющий делами покойного графа Реннепона, герцога де Кардовилль), находится в полной зависимости от тетки девицы де Кардовилль. На эту достойную и почтенную особу, а также и на барона возлагают весьма основательные надежды, чтобы обуздать девушку и уберечь ее от сумасбродных намерений, о которых она имеет дерзость повсюду говорить… К несчастью, ими нельзя воспользоваться в интересах известного дела, так как…»
Легкий стук в дверь прервал чтение Родена.
Секретарь пошел посмотреть, кто стучится, и через несколько минут вернулся с двумя письмами в руках.
— Княгиня воспользовалась отправкой сюда нарочного, чтобы послать…
— Давайте скорее письмо княгини, — перебил его хозяин, не давая докончить, — наконец-то я получу известия о матери! — прибавил он.
Едва прочитав несколько строчек, он страшно побледнел. На его лице выразились глубокое и горестное изумление и раздирающая скорбь.
— Матушка! О Боже! Моя мать! — воскликнул он.
— Произошло какое-нибудь несчастье? — обеспокоенно спросил Роден, вставая при восклицании хозяина.
— Надежды на ее выздоровление оказались ложными, — с унынием ответил тот. — Теперь состояние безнадежно. Впрочем, врач предполагает, что мое присутствие может ее спасти, так как она меня постоянно призывает. Она хочет видеть меня в последний раз, чтобы умереть спокойно. Конечно, это желание свято, не исполнить его — значить стать матереубийцей… Только бы вовремя поспеть: ведь до имения княгини два дня безостановочной езды.
— Какое несчастье! — сказал Роден, всплеснув руками и возведя глаза к небу.
Хозяин быстро позвонил и сказал пожилому слуге, открывшему дверь:
— Уложите сейчас же в ящик кареты самое необходимое. Пусть привратник на извозчике спешит за почтовыми лошадьми. Я должен уехать не позже чем через час.
Слуга торопливо вышел.
— Матушка!.. матушка!.. Не видеть тебя больше… это было бы ужасно! — воскликнул начальник Родена, падая на стул и в отчаянии закрывая лицо руками.
Горе было вполне искренно. Он нежно любил свою мать. Святое чувство оставалось неизменным и чистым в течение всей его полной треволнений, а подчас преступной жизни.
Через несколько минут Роден рискнул ему напомнить о втором письме.
— Его только что принесли от господина Дюплесси. Дело очень важное и спешное…
— Прочтите и ответьте сами… я ничего не могу теперь сообразить.
— Это письмо строго конфиденциальное, — отвечал Роден, подавая его хозяину, — я не могу его вскрыть… Видите, знак на конверте…
При взгляде на этот знак на лице начальника Родена появилось выражение почтительного страха. Дрожащей рукой он вскрыл печать.
В письме заключалось только несколько слов: «Бросьте все… Не теряйте ни минуты… Выезжайте и являйтесь сюда… Господин Дюплесси вас заменит. Приказания ему посланы».
— Великий Боже! — воскликнул он в отчаянии. — Уехать, не повидав матери, — это ужасно… это невозможно… это значит ее убить… Да, это будет матереубийство!
Пока он это говорил, его взгляд случайно упал на огромный глобус, испещренный красными крестиками. При виде их с этим человеком мгновенно произошло превращение. Казалось, он раскаялся в живости своей реакции и снова сделался спокоен и ровен, хотя на лице его была еще видна грусть. Он подал письмо секретарю и сказал, подавляя вздох:
— Занести за надлежащим номером в реестр.
Роден взял письмо, поставил на нем номер и положил в отдельный ящик.
После минутного молчания хозяин продолжал:
— Вы будете получать приказания от господина Дюплесси и будете работать с ним. Ему же вы вручите заметки о деле относительно медалей; он знает, кому их надо передать. В Батавию, в Лейпциг и в Чарлстон вы напишете ответы в том духе, как я указал. Приезду дочерей генерала Симона в Париж надо помешать изо всех сил, а возвращение Габриеля ускорить. В случае маловероятного появления в Батавии принца Джальмы уведомить господина Жозюе, что мы рассчитываем на его усердие и послушание и надеемся, что он сумеет его там задержать.
И этот человек, отдававший хладнокровно приказания в ту минуту, когда его мать тщетно призывала его к своему смертному одру, вошел в личные апартаменты.
Роден принялся за указанные ему ответы, переписывая их шифром.
Через три четверти часа послышался звон бубенчиков, и старый слуга, осторожно постучав, явился доложить:
— Карета подана.
Роден кивнул головой, и тот вышел.
Секретарь, в свою очередь, встал и постучался в ту дверь, куда вошел хозяин.
Последний тотчас же появился, по-прежнему спокойный и величественный, но страшно бледный. В руках у него было запечатанное письмо.
— Сейчас же отправить курьера с этим письмом к моей матери… — сказал он Родену.
— Немедленно пошлю, — отвечал секретарь.
— Письма в Лейпциг, Батавию и Чарлстон должны быть отправлены обычным путем сегодня же… Вы знаете, что это крайне важно.
Это были его последние слова.
Безжалостный исполнитель безжалостных требований, он уезжал, даже не пытаясь увидеть мать.
Секретарь почтительно проводил его до кареты.
— Куда прикажете?.. — спросил с козел кучер.
— В Италию!.. — отвечал он, не будучи в состоянии сдержать вздоха, похожего на сдавленное рыдание.
Когда карета исчезла с глаз, Роден, низкими поклонами провожавший хозяина, пошел назад в холодную, неуютную залу.
И вид, и походка, и физиономия этого человека разом изменились.
Казалось, он вырос. Не оставалось ничего похожего на тот безжизненный автомат, который беспрекословно и безучастно исполнял чужие приказания. Бесстрастные черты оживились, полузакрытые глаза разом загорелись, и выражение дьявольского коварства появилось на бледной физиономии. Казалось, какая-то злобная радость разгладила даже морщины на его мертвенном лице, а сардоническая улыбка искривила тонкие бледные губы. В свою очередь, он остановился перед глобусом и молча, пристально на него посмотрел, как это делал хозяин…
Затем он нагнулся над глобусом и охватил его руками, лаская его взглядом пресмыкающегося; он провел по лакированной поверхности корявым пальцем, а в тех местах, где виднелись красные крестики, даже щелкнул своим плоским грязным ногтем.
По мере того как он отмечал каждый из городов, находившихся в разных странах, он громко называл их, мрачно хихикая:
— Лейпциг… Батавия… Чарлстон…
Затем он замолчал, погрузившись в размышления.
Этот маленький, отвратительный, дурно одетый человек с мертвенным синеватым лицом, который словно прополз по глобусу, как пресмыкающееся, казался куда страшнее и опаснее своего начальника, когда тот, стоя у этого же глобуса, горделиво положил на него властную руку, как бы подчиняя весь мир своей гордости, силе и дерзости.
Один напоминал орла, который парит над своей добычей и может ее иногда упустить, потому что летает слишком высоко… Роден же, напротив, походил на удава, который молча ползет во тьме за жертвой и в конце концов душит ее в своих смертоносных кольцах.
Через несколько минут Роден подошел к бюро и, радостно потерев руки, принялся писать письмо особенным шифром, неизвестным даже хозяину.
«Париж, 9 3/4 ч. утра.
Он уехал… но он колебался!!!
Когда он получил приказ, умирающая мать призывала к себе; говорят, его присутствие могло ее спасти… И он воскликнул: «Не поехать к матери… значит стать матереубийцей!..»
Тем не менее… он уехал… но он колебался…
Я продолжаю за ним наблюдать.
Эти строки придут в Рим одновременно с его приездом.
P.S. Скажите князю-кардиналу, что он может на меня рассчитывать, но пусть и он, в свою очередь, деятельно мне помогает. С минуты на минуту мне могут понадобиться 17 голосов, имеющиеся в его распоряжении. Необходимо, чтобы он постарался увеличить число своих единомышленников».
Сложив и запечатав письмо, Роден положил его в карман.
Пробило десять часов.
Это был час завтрака Родена.
Он спрятал бумаги в ящик, ключ от которого положил в карман. Затем, почистив локтем замасленную шляпу, он взял в руки старый, заплатанный зонтик и вышел note 5.
В то время как в тиши этого угрюмого дома два человека плели сеть, чтобы запутать семь потомков семьи изгнанников, таинственный покровитель задумывал их спасение. Семья изгнанников была также семьей этого странного, необыкновенного покровителя.
3. ЭПИЛОГ
Суровая и дикая местность… Высокий холм, усеянный громадными глыбами песчаника, среди которых тут и там возвышаются березы и дубы с пожелтевшими осенними листьями. Деревья эти вырисовываются на красном, точно отблеск пожара, зареве заката.
С высоты глаза погружаются в глубокую, тенистую плодородную долину, слегка окутанную вечерним туманом… Тучные луга, густые чащи деревьев, поля после жатвы — все это сливается в однообразной темной окраске, резко отличающейся от прозрачной глубины бледного неба.
В долине рассеяно несколько деревень; об этом свидетельствуют возвышающиеся кое-где шпили церковных колоколен, построенных из серого камня… Эти деревни расположены по краям длинной дороги, идущей от севера к западу.
Это час отдыха, час покоя, — час, когда в окнах хижин загорается веселый огонек, отражаясь от пылающего очага, и мерцает издалека сквозь тьму ночи и листву деревьев, а дым от труб медленно поднимается к небесам.
Странное дело: можно было бы сказать, что в этой стране все очаги заброшены или все разом потухли. Еще более странным и зловещим кажется то, что со всех колоколен несется, мрачный похоронный звон.
Казалось, жизнь и движение сосредоточились в одном этом звоне, раздающемся вдали.
Но вот в неосвещенных, темных деревнях начинают мелькать огоньки…
Но они не похожи на радостный отсвет крестьянского очага… Они какого-то красноватого оттенка, точно свет разведенного пастухом костра, видимый сквозь туман.
Кроме того, они движутся, эти огни, медленно движутся в одну сторону, — в сторону деревенских кладбищ.
Погребальный звон усиливается. Воздух дрожит от быстрого колебания колоколов… С небольшими перерывами начинают доноситься звуки похоронного пения, слабо доходящего до вершины холма.
Откуда столько умерших?.. Что это за долина отчаяния и смерти, где вместо песен, раздающихся после тяжелого трудового дня, звучат угрюмые похоронные напевы?.. Почему вечерний покой заменяется вечным покоем смерти? Что это за долина отчаяния, где в каждой деревне разом оплакивают столько мертвецов и разом хоронят их в полночный час?
Увы! Смертность так велика, что для погребения умерших не хватает живых. Днем остающиеся пока на ногах Должны работать, чтобы почва не осталась невозделанной, и только ночью, измученные тяжелым трудом, должны они вырывать другие борозды, где тела умерших братьев тесно ложатся, как семена в земле.
Эта долина, видевшая столько горя и отчаяния, не была единственной.
В течение нескольких окаянных лет много деревень, местечек, городов и даже целых стран видели, как гаснут и сиротеют домашние очаги! Они видели, как и в этой долине, что радость сменялась горем, что похоронный звон заменял шум пиршеств… И они также хоронили своих мертвецов среди ночного мрака при зловещем свете факелов…
В эти проклятые годы страшная гостья посетила многие страны, от одного полюса до другого, медленно шагая из глубины Индии до льдов Сибири, от льдов Сибири до французского побережья океана. Эта путница, таинственная, как сама смерть, медленная, как вечность, неумолимая, как судьба, карающая, как бич Божий… Это была холера!!!
Как громкая жалоба, доносились до вершин холма звон колоколов и звук похоронных гимнов.
Все еще виднелся сквозь ночной туман свет погребальных факелов.
Сумерки еще продолжались. Странный час, который самым отчетливым формам придает неопределенный, неуловимый, фантастический вид.
Вдруг по каменистой, звонкой почве горы раздались медленные, ровные, твердые шаги… Между большими черными стволами деревьев мелькнула человеческая фигура…
Это был высокий человек с опущенной на грудь головой. Его лицо было печально, кротко и благородно; сросшиеся брови тянулись от одного виска к другому, проведя на лбу зловещую черту…
Казалось, он не слышал отдаленного звона погребального колокола… А между тем два дня тому назад счастье, спокойствие, здоровье и радость господствовали в этих деревнях, через которые он медленно проходил, оставляя их после себя печальными и опустошенными.
А он продолжал свой путь и думал печальную думу.
«Приближается 13 февраля… приближаются дни, когда потомки моей бедной возлюбленной сестры, последние отпрыски нашего рода, должны собраться в Париже… Увы! в третий раз уже, полтораста лет тому назад, гонения разбросали по белому свету эту семью, за которой я с любовью следил год за годом в течение восемнадцати столетий, — среди ее изгнаний, переселений, перемен религии, состояния и имен! О! сколько величия, сколько унижении, сколько мрака и сколько света, сколько горя и сколько славы пало на долю этой семьи, происходящей от моей сестры, сестры бедного ремесленника!note 6 Сколькими преступлениями она себя запятнала, сколькими добродетелями прославила!
История этой семьи — история всего человечества.
Кровь моей сестры, пройдя через столько поколений, переливаясь по жилам богатых и бедных, государей и разбойников, мудрецов и сумасшедших, трусов и храбрецов, святых и атеистов, сохранилась до сих дней.
Кто остался от этой семьи?
Семь отпрысков!
Две сироты, дочери матери-изгнанницы и отца-изгнанника. Принц, лишенный трона. Бедный аббат-миссионер. Человек среднего достатка. Молодая, знатная и богатая девушка. Рабочий.
В них соединяются все добродетели, мужество, пороки и нищета нашей расы!
Сибирь… Индия… Америка… Франция… вот как раскидала, их судьба!
Инстинкт меня предупреждает, когда кто-нибудь из них в опасности… Тогда я иду к ним, иду с севера на юг, с востока на запад, иду… Вчера я у полярных льдов, сегодня в умеренном поясе, завтра под знойным небом тропиков. И часто в ту самую минуту, когда мое присутствие могло бы их спасти, невидимая рука толкает меня, какой-то вихрь увлекает и…
— Иди!.. Иди!
— Дайте мне хотя бы выполнить свой долг!
— Иди!
— Один час только… только час отдыха!
— Иди!
— Увы! я оставляю на краю пропасти тех, кого люблю!
— Иди! Иди! Такова кара!.. Тяжка она… Но еще более тяжек мой грех!..
Я был ремесленником, обреченным на лишения и нужду. Невзгоды озлобили меня. О! проклят, проклят тот день, когда я работал, мрачный, полный ненависти и отчаяния, — потому что, несмотря на упорный труд, моя семья нуждалась во всем… Христос прошел мимо моей двери!
Измученный, избитый, оскорбляемый, Он изнемогал под тяжестью Своей ноши! Он просил меня позволить Ему отдохнуть на каменной скамье…
Пот струился по Его челу, ноги были в крови, Он падал от усталости. С раздирающей душу кротостью Он сказал:
— Я страдаю!..
— Я тоже страдаю!.. — ответил я, отталкивая Его с гневом и жестокостью. — Я страдаю, и никто не хочет мне помочь. Безжалостные плодят безжалостных! Иди!.. Иди!.. Тогда, вздохнув с глубокой грустью, Он мне сказал:
— И ты будешь ходить не останавливаясь, пока не придет день искупления: такова воля Господа Бога, сущего на небеси! И с той минуты началось мое наказание…
Слишком поздно прозрели мои глаза… Слишком поздно познал я раскаяние… Слишком поздно познакомился я с милосердием… Слишком поздно понял я те слова, которые должны быть законом для всего человечества:
«Любите друг друга».
Напрасно в течение столетий, стараясь заслужить прощение и черпая силу и красноречие в этих Божественных словах, учил жалости и любви людей, сердца которых исполнены гнева и зависти. Напрасно зажигал в душах священный жар ненависти к насилию и несправедливости. День прощения еще не настал!..
И как первый человек, падение которого обрекало его потомство на несчастье и горе, я, простой ремесленник, обрек своих братьев, ремесленников, на вечные страдания. Они искупают мое преступление. Они одни в течение восемнадцати столетий не получили освобождения. Восемнадцать веков сильные мира сего говорят труженикам то, что я сказал страдающему и молящему Христу: «Иди!.. Иди!..» И этот народ, как Он, изнемогая от усталости, как Он, неся тяжелый крест, как Он, молит с горькой печалью:
— О! сжальтесь!.. Дайте минуту отдыха… мы выбились из сил!..
— Иди!
— Но если мы умрем под тяжестью непосильного труда, что станется с детьми, со старыми матерями?
— Иди!.. Иди!..
И вот уже сотни лет и они, и я — мы идем, мы страдаем, и не раздается милосердного голоса, который сказал бы нам: «Довольно!»
Увы! таково наказание… Оно ужасно… Вдвойне ужасно…
Я страдаю за все человечество при виде несчастного народа, осужденного на бессрочный неблагодарный и тяжелый труд. Я страдаю за свою семью, так как, нищий-скиталец, я не могу прийти на помощь моим близким, потомкам любимой сестры!
Но когда страдание превышает силы… когда я предчувствую для близких приближение какой-нибудь неведомой опасности, тогда мысль моя, пролетая миры, ищет женщину… проклятую, — как и я… дочь царицы note 7, приговоренную, как и я, сын ремесленника, к тому же наказанию: она тоже должна идти… идти до дня искупления.
Один раз в столетие, как две планеты в своем круговом обращении, мы можем встречаться с этой женщиной… в течение роковых дней Страстной недели.
И после этого свидания, исполненного страшных воспоминаний и безысходной горести, мы снова, как блуждающие светила вечности, продолжаем наш беспредельный путь.
И эта женщина, единственная, кроме меня, свидетельница конца каждого века, провожающая его словом: «Еще!!!» — эта женщина с одного конца мира на другой отвечает мне…
Она, единственная в мире, кто разделяет мою участь, пожелала разделить и единственную привязанность, утешающую меня в течение долгих веков… Она так же полюбила потомков моей сестры… она так же им покровительствует. Для них так же приходит она с востока на запад, с севера на юг… она идет… она приближается…
Но, увы! ее, как меня, отталкивает невидимая рука… вихрь уносит и ее… И…
— Иди!
— Дайте мне хотя бы выполнить свой долг! — так же говорит она.
— Иди!
— Один час… только час отдыха!
— Иди!
— Я оставляю тех, кого люблю, на краю гибели!
— Иди!.. Иди!!!
Пока предавшийся горестным думам вечный странник поднимался на гору, вечерний прохладный ветерок усиливался, крепчал и переходил в бурю, молния начала прорезывать тучи… Долгое, протяжное завывание ветра и глухой шум указывали на приближение урагана.
Вдруг человек, над которым тяготело проклятие, человек, который не мог больше ни плакать, ни смеяться… задрожал.
Хотя ему недоступно было ощущение физической боли, он с живостью прижал руку к сердцу, как будто почувствовал жестокий удар.
— О! — воскликнул он, — я чувствую, что в этот момент многие из моих близких… потомки моей дорогой сестры… страдают и подвергаются большим опасностям: один в глубине Индии… другой в Америке… третьи здесь… в Германии… Снова началась борьба… снова возбудились низменные страсти… О ты, внимающая моему призыву, отверженная и странствующая, как я, Иродиада, помоги мне защитить их!.. Пусть моя мольба долетит до тебя в глубину Америки, где ты теперь должна находиться… Только бы нам не опоздать!
И тогда произошло нечто необыкновенное.
Ночь наступила. Странник хотел повернуть назад, но невидимая сила помешала этому и повлекла его в противоположном направлении…
В эту минуту разразилась буря во всем своем грозном величии.
Страшный ураган, один из тех ураганов, которые с корнем вырывают деревья и сотрясают скалы, пронесся над горами, извергая гром и молнии. И среди урагана при свете молний на скате горы виден был человек с черной полосой на лбу, спускающийся большими шагами со скал, идущий среди склоненных бурей деревьев.
Но походка этого человека была непохожа на прежнюю твердую, медленную и спокойную походку… Она была тягостна, прерывиста, неровна, как походка человека, влекомого непреодолимой силой против его воли… Ужасный ураган точно уносил его в своем вихре.
Напрасно он умоляюще воздевал руки к небесам. Он скоро исчез среди мрака ночи и грохота бури.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДУШИТЕЛИ
1. АЖУПА
Пока Роден рассылал с улицы Милье-Дез-Урсэн, в Париже, письма по всему свету, пока дочери генерала Симона, пойманные после бегства из гостиницы «Белый сокол», были посажены вместе с Дагобером в тюрьму в Лейпциге. В это самое время на другом конце света происходили сцены, затрагивающие интересы всех этих лиц… Это происходило в глубине Азии, на острове Ява, недалеко от города Батавия, где жил господин Жозюе Ван-Даэль, один из корреспондентов Родена.
Ява! — великолепная и зловещая страна, где под красивейшими цветами скрываются отвратительные гады, где чудесные плоды содержат в себе сильный яд, где растут роскошнейшие деревья, тень которых убивает, где вампир, эта исполинская летучая мышь, высасывает кровь из своих жертв, усыпляя их свежестью и ароматами, навеваемыми его большими крыльями, пахнущими мускусом, с быстротой взмаха которых не сравнится самое проворное опахало…
Октябрь 1831 года подходил к концу.
Был полдень — почти смертельный час для тех, кто находится под жгучими лучами солнца, разливающего по темно-синей эмали неба целые волны ослепительного света.
Ажупа, род беседки, устроенный из тростниковых циновок, укрепленных на толстых бамбуковых палках, глубоко вбитых в землю, возвышается в голубоватой тени, падающей от кроны деревьев, с блестящей, как зеленый фарфор, листвой. Эти деревья — странных, причудливых форм: то округленные в виде аркад, то завершающиеся острыми стрелами или раскинутыми зонтиками, — обладают таким обилием листьев, ветви так страшно перепутаны, что свод их совершенно непроницаем для дождя.
Несмотря на адскую жару, почва здесь болотистая. Она покрыта непроходимой чащей лиан, папоротников и густого тростника необыкновенной свежести, мощи и настолько разросшихся, что они доходят почти до кровли беседки, которая скрывается среди них, точно гнездо в траве.
Ничего нельзя себе представить удушливее этой атмосферы, густо насыщенной влажными испарениями, как пар от горячей воды, и пропитанной самыми резкими и сильными запахами, где корица, имбирь, гардения, смешиваясь с запахом других деревьев и лиан, разносят повсюду проникающий аромат.
Беседка покрыта крышей из банановых листьев, а четырехугольное отверстие, служащее в ней окном, затянуто сеткой из растительных ниток, для того чтобы туда не влетали насекомые или не вползла змея.
В глубине чащи возвышается огромный остов засохшего дерева, вершина которого склонена над беседкой. Из каждой трещины почерневшей, мшистой коры выбегает цветок странного, необыкновенного вида. Ткань крыла бабочки не так легка, не обладает таким ярким пурпурным цветом и такой бархатистой чернотой, как эти цветы. Никогда самая богатая фантазия не могла бы представить себе таких неведомых птиц, с причудливыми крылышками, как лепестки орхидей, этих крылатых цветов, которые, кажется, вот-вот вспорхнут со своих хрупких безлиственных стеблей. Длинные, гибкие и округлые кактусы словно змеи обвивают ствол этого дерева и свешивают с него зеленые кисти зонтообразных серебристых цветов, окрашенных внутри в яркий оранжевый цвет; цветы распространяют сильный запах ванили.
Над одной из этих больших благовонных цветочных чаш приподнимает свою плоскую голову маленькая змея красно-кирпичного цвета, тоненькая — не толще пера — и длиной до шести дюймов. Она угнездилась в цветке, свившись клубком.
В глубине ажупы спит крепким сном на циновке молодой человек.
По золотистости его прозрачной кожи можно было бы принять его за статую из светлой меди, позлащенную солнечным лучом. Поза спящего проста и изящна; согнутая правая рука поддерживает голову, немного приподнятую и повернутую в профиль. Широкая кисейная одежда с висячими рукавами не скрывает плеч и груди, достойных Антиноя. Мрамор не глаже и не тверже его кожи, золотистый оттенок которой резко отличается от белизны одежды. На широкой выпуклой груди виден глубокий шрам: он получил эту огнестрельную рану, защищая жизнь генерала Симона, отца Розы и Бланш.
На шее у него маленькая медаль, точно такая же, какую носят и эти девушки.
Этот индус — Джальма.
Его черты исполнены благородства и чарующей красоты; черные волосы, разделенные на лбу, падают мягкими, но не вьющимися прядями до самых плеч. Смело и тонко очерченные брови — такого же черного цвета, как и длинные ресницы, тень которых падает на щеки, еще лишенные растительности. Сквозь слегка полуоткрытые ярко-пунцовые губы вырывается стесненное дыхание. Сон молодого человека тяжел и неспокоен, так как жара становится все более и более удушливой.
Кругом полная тишина. В воздухе не чувствуется ни малейшего ветерка. Тем не менее через несколько минут огромные папоротники, покрывающие почву, начинают слегка колебаться, почти неуловимо, точно под ними медленно ползет кто-то, слегка сотрясая их стебли у основания. Время от времени это слабое колебание резко прекращается, и все остается по-прежнему недвижимым.
После смены шелеста глубокой тишиной, среди густой зелени, близ ствола засохшего дерева показывается человеческая голова.
Это человек со зловещей головой зеленовато-бронзового оттенка, длинными заплетенными в косички черными волосами, диким блеском горящих глаз и звериным, но удивительно умным их выражением. Затаив дыхание, человек несколько минут оставался неподвижным. Затем, неслышно раздвигая высокую траву, он медленно и осторожно подполз на руках, совершенно бесшумно передвигаясь, к самому стволу засохшего дерева, вершина которого почти касалась крыши беседки.
Этот человек, малаец по происхождению, принадлежал к секте «Душителей» note 8. Он еще некоторое время прислушивался, а затем выполз из зарослей. Кроме белых коротеньких бумажных штанов, стянутых на поясе пестрым кушаком, он был совершенно обнажен. Бронзовые гибкие и мускулистые члены были покрыты толстым слоем масла.
Растянувшись на огромном стволе, так что за лианами и толщей дерева из беседки его не было видно, он осторожно, ловко и бесшумно пополз по стволу. Волнообразные движения его позвоночника, сдерживаемая усилием воли сила, проявление которой, наверно, было ужасно, — все это заставляло вспомнить о тигре, коварно подстерегающем свою жертву. Совершенно незаметно достигнув, таким образом, покатой части дерева, соприкасавшейся с крышей беседки, он оказался на расстоянии какого-нибудь фута от маленького окна. Он осторожно вытянул шею, приподнял голову и заглянул в глубину ажупы, обдумывая, как лучше в нее проникнуть.
При виде крепко спящего Джальмы блестящие глаза душителя засверкали сильнее; нервная судорога, или, скорее дикий немой смех, стянул углы рта и открыл два ряда зубов, острых, треугольных, как зубья пилы, и выкрашенных в блестящий черный цвет.
Джальма лежал так близко к двери (открывавшейся внутрь), что отворить ее, не разбудив спящего, было почти невозможно.
Душитель, все еще прячась за деревом, желая поближе разглядеть, нет ли какой возможности попасть в хижину, не нарушая сна Джальмы, нагнулся еще ниже и, чтобы соблюсти равновесие, оперся рукой о край окна. Это движение раскачало большой цветок кактуса, где гнездилась змейка; она бросилась на душителя и быстро обвилась вокруг кисти его руки.
От боли и от изумления он слегка вскрикнул… Но, откинувшись при этом назад, все еще цепляясь за ствол дерева, он успел заметить, что Джальма пошевелился…
Действительно, молодой индус, не меняя непринужденной позы, полуоткрыл глаза, повернул голову к окну и два раза глубоко вздохнул, потому что жара и духота становились невыносимыми под густым сводом влажной зелени.
Лишь только Джальма пошевелился, в ту же минуту из-за дерева послышался короткий звонкий, резкий крик райской птицы, который она испускает при полете, — крик, напоминающий крик фазана. Этот крик повторился еще и еще, постепенно ослабевая, как будто блестящая птичка улетала. Джальма, полагая, что именно этот крик его и разбудил, слегка потянулся и снова заснул, почти не переменив позы.
Снова настала безмолвная тишина. Все оставалось неподвижно. Подражая крику райской птицы, душитель загладил неосторожное восклицание, вызванное болью от неожиданного укуса змеи. Убедившись, что Джальма заснул, малаец так же осторожно спустился с дерева, хотя рука у него сильно опухла, и скрылся в тростнике.
В эту минуту издалека послышалась грустная и медленная мелодия. Душитель выпрямился, прислушался, и на лице его появилось выражение гнева и изумления.
Мелодия слышалась все яснее, так как поющий приближался к беседке.
Действительно, через несколько секунд на поляне показался индус. Он пересекал ее в том месте, где спрятался душитель, снявший с пояса тонкую и длинную веревку, на конце которой была привязана металлическая плашка в форме яйца; укрепив другой конец веревки на правой руке, душитель снова начал прислушиваться и ползком исчез в густой траве по направлению к молодому индусу, который, не прерывая грустной протяжной песни, медленно приближался.
Ему не было и двадцати лет, этому юноше, рабу Джальмы. Пестрый пояс стягивал просторную одежду синего цвета, красная чалма выразительно оттеняла смуглую кожу, а в ушах и на руках красовались широкие серебряные кольца.
Он нес письмо своему господину, который во время дневного зноя отдыхал в ажупе, расположенной недалеко от дома, где он жил.
Дойдя до того места, где дорога расходилась, раб пошел прямо по дорожке, которая вела к беседке, находившейся не далее чем в сорока шагах.
В это время одна из громадных, до восьми дюймов длины, яванских бабочек, с двумя вертикальными золотистыми полосками по ярко-лазоревому фону, перепархивая с листка на листок, села на куст душистой гардении, вблизи от юноши.
Тот прекратил пение, осторожно переставил ногу, вытянул руку и схватил бабочку.
Но в эту минуту перед ним возникла зловещая фигура душителя. Раздался свист, как во время метания пращи, и веревка три раза мгновенно обвилась вокруг шеи несчастного, причем свинцовый шар нанес ему тяжелый удар в затылок.
Нападение было так быстро и неожиданно, что слуга Джальмы не успел ни охнуть, ни крикнуть.
Он покачнулся, душитель потянул веревку… Бронзовое лицо раба приобрело темно-красный оттенок… он упал на колени, широко взмахнув руками…
Душитель повалил его на землю и еще сильнее затянул веревку, так что кровь брызнула из-под кожи… После нескольких конвульсивных движений все было кончено…
Во время этой краткой, но мучительной агонии убийца, стоя на коленях перед жертвой, следил воспаленным. жадным взором за предсмертными судорогами, как бы испытывая звериное наслаждение… Ноздри его расширились, вены на висках и на шее вздулись, и та же зловещая гримаса, тронувшая его губы при виде спящего Джальмы, снова обнажила острые черные зубы, причем заметно было, как сильно дрожала нижняя челюсть, так громко и сильно стучали его зубы.
Потом он скрестил на груди руки, склонил голову и прошептал несколько таинственных слов, похожих на молитву или заклинание… Покончив с этим, он снова погрузился в созерцание трупа. У гиены, дикой тибетской кошки, присаживающейся перед своей жертвой, прежде чем начать ее пожирать, не могло быть более свирепого, более кровожадного выражения, чем у этого человека…
Однако он вспомнил, что его дело еще не совсем окончено. С сожалением оторвавшись от страшного зрелища, душитель снял веревку с шеи трупа, обмотал ее вокруг талии, и, оттащив труп в сторону, в кусты, оставил его там, не сняв ни одно из украшений. Затем он с прежней осторожностью пополз к беседке Джальмы, устроенной, как мы уже говорили, из тростниковых циновок.
Прислушавшись, не проснулся ли принц, душитель вытащил из-за пояса длинный нож с острым концом и разрезал им циновку фута на три от земли. Благодаря необыкновенно острому лезвию операция эта произвела меньше шума, чем при резке стекла алмазом. Видя в проделанное отверстие, что Джальма продолжает спать, душитель с невероятной смелостью вполз в саму хижину.
2. ТАТУИРОВКА
Небо, до той поры прозрачно-голубое, приняло теперь аквамариновый оттенок, а солнце скрылось за зловещими багровыми тучами.
Этот странный свет придавал всему необыкновенную окраску: как если бы смотреть на пейзаж сквозь медно-красное стекло. Подобное явление в связи с усилением тропического зноя предвещает приближение грозы.
В воздухе чувствовался легкий сернистый запах… Листья по временам вздрагивали, точно под влиянием электрической искры… Затем снова все погружалось в безмолвие и в мертвенную неподвижность. Воздух, насыщенный острым ароматом цветов, становился невыносимо тягостным; сон Джальмы был тяжелым и нервным, на его лбу выступили крупные капли пота.
Душитель проскользнул вдоль стен ажупы, как змея; ползком, на животе, он добрался до циновки Джальмы и распластался на полу, стараясь занять как можно меньше места. И тут началось нечто невыразимо ужасное, посреди глубокого безмолвия и таинственности.
Жизнь Джальмы была в руках душителя, съежившегося в комок. Опираясь на колени и кисти рук, с вытянутой шеей и с пристально уставившимися расширенными глазами, он был похож на хищного зверя, подстерегающего добычу… Только легкое конвульсивное дрожание челюстей оживляло бронзовую маску лица…
Затем его отвратительные черты отразили страшную борьбу, происходившую в душе, — между страстной жаждой убийства, возбужденной еще сильнее видом только что убитого раба… и приказанием щадить жизнь Джальмы, хотя цель, которая привела душителя в ажупу, была, быть может, ужаснее самой смерти.
Два раза душитель с горящими глазами хватался правой рукой за веревку… и оба раза убирал ее. Инстинкт убийства уступил, наконец, той всемогущей воле, которую испытывал на себе малаец. Но все-таки жажда убийства доходила у него до помешательства… Только это оправдывало потерю драгоценного времени… С минуты на минуту Джальма, сила, ловкость и мужество которого были известны и внушали страх, мог проснуться; несмотря на то, что при нем не было оружия, он был бы опасным противником для душителя.
Наконец, подчиняясь и подавляя вздох сожаления, тот принялся за дело… невообразимое для кого-нибудь другого… Судите сами.
Джальма лежал на левом боку, головой на согнутой руке. Надо было заставить его повернуться во сне на правый бок, чтобы, в случае если бы он проснулся, его взгляд не упал сразу на душителя, которому было необходимо пробыть в хижине несколько минут, чтобы исполнить свой план.
Небо все больше и больше заволакивало… Жара становилась абсолютно невыносимой; это благоприятствовало планам душителя, потому что сон Джальмы становился схожим с оцепенением… Встав на колени перед спящим, малаец начал водить по его лбу, вискам и векам кончиками своих гибких, смазанных маслом пальцев. Соприкосновение кожных покровов было почти неощутимо. Только раз или два Джальма слегка поморщился, потому что хотя прикосновение было слишком легко, чтобы разбудить спящего, но оно все-таки возбуждало неприятное ощущение. Последствием этих магнетических чар явились тревожные вздохи и усиливавшийся обильный пот на лбу молодого индуса…
Наблюдая беспокойным и пылающим взглядом за своими движениями, малаец продолжал так ловко и терпеливо, что Джальма, не просыпаясь окончательно, но чувствуя раздражение от неопределенного, неприятного ощущения, в котором он не отдавал себе отчета, машинально поднес правую руку к лицу, чтобы отогнать беспокоившее его насекомое…
Но сил на это у него не хватило, и рука упала на грудь, отяжелевшая и неподвижная…
Поняв, что он приближается к желанной цели, душитель, все с той же ловкостью, участил свои прикосновения к векам, лбу и вискам.
Тогда Джальма, все более впадавший в тяжелое оцепенение, не имея, по-видимому, силы и воли поднять руку к лицу, машинально повернул голову, и она поникла к правому плечу. Этой переменой позы он хотел отделаться от неприятного ощущения, которое его преследовало.
Достигнув исполнения первой задачи, душитель мог действовать свободнее. Желая сделать сон Джальмы, наполовину им прерванный, глубоким как только возможно, он попытался уподобиться вампиру и стал быстро махать раскрытыми руками, как веером, вокруг горящего лица молодого индуса.
При неожиданном ощущении свежести, такой упоительной среди удушающей жары, лицо Джальмы прояснилось, грудь его расширилась, полуоткрытые губы вдохнули благодетельное дуновение, и он погрузился в сон, который был тем крепче, что до этого прерывался.
Быстрая вспышка молнии осветила пламенным блеском тенистый свод, скрывавший ажупу. Боясь, как бы при первом ударе грома Джальма не проснулся, душитель приступил к исполнению плана.
Джальма, лежа на спине, склонив голову на правое плечо, вытянул левую руку. Душитель, примостившись с левой стороны, постепенно перестал его обмахивать. Затем, благодаря невероятной ловкости пальцев, ему удалось приподнять до сгиба локтя широкий длинный белый муслиновый рукав, который скрывал левую руку Джальмы.
Вытащив из кармана штанов маленькую медную коробочку, он вынул из нее необыкновенно тонкую и острую иголку и какой-то черный корешок.
Иголкой он сделал несколько уколов на корешке, на месте которых проступила клейкая беловатая жидкость.
Когда иголка была достаточно смочена этим составом, душитель, склонившись, начертил на руке Джальмы, подув на нее предварительно, чтобы освежить ее, несколько таинственных, символических знаков.
Это было сделано так быстро и ловко, острие иглы было таким острым, что Джальма не почувствовал даже легкого раздражения кожи. Сперва эти символические знаки, тонкие, как волосок, имели нежно-розовый оттенок, но ядовитая сила сока была настолько сильна, что через несколько времени розовый цвет перешел в темно-красный и знак ясно и заметно вырисовался на коже.
Завершив работу, душитель бросил последний взгляд, хищный и жадный, на спящего юношу…
Затем он, снова ползком, достиг отверстия, в которое и вылез, тщательно его прикрыв, чтобы сделать незаметным, и исчез в тот момент, когда вдали глухо начал греметь гром note 9.
3. КОНТРАБАНДИСТ
Утренняя гроза прекратилась уже давно. Солнце приближалось к закату. Прошло несколько часов после того, как душитель, забравшись в беседку к Джальме, начертал на его руке таинственный знак.
По длинной аллее, обсаженной густыми деревьями, быстро двигался всадник.
Тысячи птиц, скрытых в густой древесной листве, приветствовали радостным пением и щебетанием наступивший сияющий вечер. По розовым акациям, цепляясь крючковатым клювом, ползали зеленые и красные попугаи; синие, с золотистым горлом и длинным хвостом майна-майну преследовали бархатисто-черных с оранжевым отливом королевских иволг; лиловато-радужные голубки нежно ворковали рядом с райскими птицами, блестящие крылья которых переливались изумрудом и рубином, топазом и сапфиром.
Аллея шла вдоль берега небольшого пруда, где отражалась зелень прибрежных тамариндов и смоковниц; голубоватый хрусталь воды был точно инкрустирован золотыми рыбками с пурпуровыми, голубыми и розовыми плавниками — до того эти рыбки были неподвижны под поверхностью воды, где им было так хорошо в заливающем их солнечном свете и тепле; тысячи насекомых, похожих на летающие драгоценные камни, с огненными крылышками, скользили, летали, жужжали над прозрачной водой, где отражались пестрые листья и цветы прибрежных водяных растений.
Невозможно передать все нюансы картины бьющей через край природы, описать роскошь запахов, красок, яркость солнца, которые служили достойной рамкой блестящему молодому всаднику, приближавшемуся из глубины аллеи. Это был принц Джальма.
Он не заметил несмываемых знаков, начертанных на его руке душителем.
Черная, как ночь, небольшая, но сильная и горячая яванская кобыла покрыта красным узким ковром вместо седла. Джальма сдерживает ее бешеные порывы с помощью маленькой стальной уздечки, шелковые плетеные красные поводья которой легки, как нитка. Ни у одного из блестящих всадников, искусно изваянных на фризе Парфенона, не встретишь такой свободной, непринужденной грации и гордой посадки, какими отличался молодой индус. Прелестное лицо юноши, освещенное косыми лучами заходящего солнца, сияет счастьем и душевным спокойствием. Глаза его радостно блестят, губы полуоткрыты, ноздри расширены, и он с наслаждением вдыхает ветер, напоенный ароматом цветов и запахом зелени, так как деревья еще влажны после душистого дождя, который последовал за грозой.
На голове у Джальмы надета пунцовая шапочка, похожая на греческую феску, оттеняющая черный цвет волос и золотистую окраску кожи. Шея молодого человека обнажена, белая кисейная одежда с широкими рукавами стянута ярким красным поясом, из-под широких белых шаровар виднеются бронзовые ноги, вырисовываясь чистыми линиями на черных боках лошади, идущей без стремян, узкие маленькие ноги принца обуты в красные сафьяновые сандалии.
Казалось, он невольно передавал лошади волновавшие его мысли, то сдерживаемые, то пылкие. Она беспрестанно меняла свой аллюр, повинуясь движению руки всадника. То мчалась без удержу, как пылкая мечта разгоряченного юноши; то шла тихим, размеренным шагом, каким шествует разум следом за безумными видениями.
Но всякое движение индуса было запечатлено гордой, независимой и несколько дикой грацией.
Джальму, лишенного отцовских земель, выпустили из темницы, куда он был посажен (как писал Жозюе Ван-Даэль Родену) как государственный преступник, после смерти отца, убитого с оружием в руках. Покинув после этого Индию, он приехал в Батавию вместе с генералом Симоном, не оставившим города, где был заключен сын его друга. Джальма явился на остров Яву, чтобы получить оставшееся после деда с материнской стороны небольшое наследство.
В этом наследстве, о котором раньше отец его не думал, нашлись, между прочим, важные бумаги и медаль, точно такая же, как у Розы и Бланш.
Генерал Симон был и удивлен и очень доволен открытием, так как это устанавливало родственную связь между его женой и матерью Джальмы, а главное — обещало молодому человеку удачу в будущем. Теперь генерал Симон, оставив Джальму в Батавии для окончания некоторых дел, уехал на соседний остров Суматру, где надеялся найти отходящее прямо в Европу быстроходное судно, потому что необходимо было как можно скорее отправить Джальму в Париж, чтобы он поспел к 13 февраля 1832 года. Джальма со дня на день ждал возвращения генерала и ехал теперь на берег моря к месту прибытия парохода из Суматры.
Следует сказать несколько слов о детских и юношеских годах сына Хаджи-Синга. Он рано потерял мать и воспитывался отцом в строгости и простоте. С детства он сопровождал отца на большие охоты на тигров, не менее трудные и опасные, чем сражения, а в отроческие годы принимал участие и в настоящей войне, кровавой и жестокой войне, защищая отечество.
Среди лесов и гор, среди опасностей и трудов честная и могучая натура принца сохранила чистоту и целомудрие, и он вполне заслужил прозвище «Великодушный». Это был принц, принц в полном смысле слова, — явление редкое. Даже у английских тюремщиков он невольно возбуждал почтение своим молчаливым достоинством. Ни упрека, ни жалобы не слыхал от него никто: он постоянно был одинаково горделиво-спокоен, меланхоличен и ничем иным не протестовал против несправедливого и варварского обращения, которому подвергался до самого освобождения.
Привыкнув к патриархальным обычаям воинственного горского племени, он совершенно не был знаком с цивилизованной жизнью.
Все черты характера принца достигали каких-то исключительных пределов. Так, например, он был упорен в исполнении обетов, доводил преданность до крайности, доверчивость до ослепления, доброту до самозабвения; зато к лжецу, коварному обманщику, к неблагодарному он был неумолимо строг. Ему ничего не стоило убить изменника, потому что он и себя считал бы достойным смерти, если бы совершил подобное преступление.
Словом, это была вполне цельная натура, со всеми достоинствами и недостатками. Несомненно, что подобный человек стал бы любопытным объектом для изучения в таком городе, как, например, Париж, где он должен был бы столкнуться и вступить в борьбу с различными темпераментами, расчетами, неискренностью, разочарованиями, хитростью, обольщениями, уклонениями и притворством утонченного общества.
Мы потому делаем такое предположение, что Джальма, с тех пор как было принято решение о поездке во Францию, был охвачен одной страстной мечтой: быть в Париже! В Париже, в том сказочном городе, о котором даже в Азии, этой стране чудес, рассказывали дивные вещи. Особенно возбуждали живое воображение пылкого и до сих пор целомудренного юноши мечты о французских женщинах… о блестящих, обольстительных парижанках, представляющих собою чудеса элегантности, грации и очарования, способных затмить все пышное великолепие всемирной столицы.
И в эту минуту, под влиянием дивного теплого вечера, среди опьяняющего аромата цветов, усиливавшего биение пылкого и молодого сердца, Джальма мечтал об этих волшебницах, наделяя их обольстительностью и красотой.
Ему казалось, что там, вдали, в пространствах золотистого света, обрамленных зеленью деревьев, проносятся белые, стройные, очаровательные и соблазнительные призраки, которые, улыбаясь, посылают ему поцелуи на кончиках розовых пальцев. И не в силах совладать с охватившим его страстным порывом, Джальма, в припадке какого-то ликующего исступления, испустил торжествующий, полный мужества и дикой отваги радостный крик, передавая возбуждение и своей кобыле, которая бешено помчалась.
Солнечный луч, пробившись сквозь зеленую листву, озарил всадника и лошадь.
В это время на конце тропинки, пересекавшей под углом аллею, где ехал Джальма, показался быстро идущий человек.
При виде Джальмы он с изумлением остановился.
Действительно, трудно было себе представить что-нибудь чудеснее этого красивого, загорелого, пылкого молодого человека в белой развевающейся одежде, легко сидящего на гордой черной лошади с разметавшейся густой гривой, длинным хвостом и покрытыми пеной удилами.
Вдруг произошла обычная для человека неожиданная смена настроения. Джальму разом охватила какая-то неопределенная и сладостная тоска, он прикрыл рукой затуманившиеся слезами глаза и бросил поводья на шею послушной лошади. Та сразу остановилась, вытянула свою лебединую шею и повернула голову к пешеходу, которого она увидела сквозь чащу кустарника. Путник был одет так, как одеваются европейские матросы: в куртку и белые холщовые штаны с широким красным поясом; на голове была плоская соломенная шляпа. Его звали Магаль — контрабандист. Он приближался к сорока годам, но на его темном открытом лице не было ни бороды, ни усов.
Магаль подошел к молодому индусу.
— Вы принц Джальма? — спросил он его на довольно скверном французском языке, почтительно прикладывая руку к шапке.
— Что тебе надо? — сказал индус.
— Вы сын Хаджи-Синга?
— Да, что тебе надо, повторяю?
— Вы друг генерала Симона?
— Генерала Симона?! — воскликнул Джальма.
— Вы едете его встречать, как ездите каждый вечер, в ожидании его возвращения с Суматры?
— Но откуда ты это знаешь? — с любопытством и недоумением спрашивал Джальма контрабандиста.
— Он должен был приехать в Батавию сегодня или завтра?
— Ты разве прислан им?
— Может быть… — сказал Магаль с видом недоверия. — Но вы действительно сын Хаджи-Синга?..
— Ну да… а где ты видел генерала?
— Ну, хорошо; если вы сын Хаджи-Синга, — продолжал Магаль, недоверчиво поглядывая, — то какое у вас прозвище?
— Моего отца звали «Отцом Великодушного», — с грустью в голосе отвечал Джальма.
Казалось, эти слова рассеяли сомнения контрабандиста; но, желая окончательно удостовериться, он задал новый вопрос:
— Два дня тому назад вы должны были получить письмо от генерала Симона… с Суматры?
— Да… но к чему эти вопросы?
— К тому, что прежде, чем исполнить данное мне приказание, я должен убедиться, действительно ли вы сын Хаджи-Синга.
— Чьи приказания?
— Генерала Симона.
— Где же он сам?
— Когда я удостоверюсь, что вы принц Джальма, тогда я вам это и скажу. Правда, мне сказали, что у вас вороная кобыла и красные поводья… но…
— Да будешь ли ты говорить, наконец?
— Сейчас отвечу… если вы мне скажете, какая бумажка лежала в последнем письме генерала с Суматры?
— Отрывок из французской газеты.
— А какая заключалась в нем новость: приятная для генерала или нет?
— Конечно, приятная. Там сообщалось, что за ним признали право на звание маршала и титул, пожалованные ему императором. Такая же справедливость была оказана и другим его друзьям по оружию, изгнанным, подобно ему.
— Ну, действительно, вы принц Джальма, и, кажется, я могу говорить… — сказал контрабандист, подумав. — Генерал Симон сегодня ночью высадился на острове, но в тайном от всех месте.
— В тайном месте?..
— Да, он вынужден скрываться!..
— Он?! — воскликнул с изумлением Джальма: — скрываться? Но почему?
— Этого я не знаю…
— Но где же он? — спросил молодой человек, бледнея от беспокойства.
— В трех лье отсюда… близ берега моря… в развалинах Чанди…
— Зачем ему скрываться? Не понимаю! — повторял все с большим и большим беспокойством Джальма.
— Не знаю точно… Но, кажется, дело идет о какой-то дуэли, в которой генерал участвовал на Суматре! — таинственно произнес контрабандист.
— Дуэль?.. С кем же это?
— Не знаю… я вообще ничего точно об этом не знаю… А вы знаете, где находятся развалины Чанди?
— Да.
— Генерал велел вам сказать, что он будет вас там ждать…
— Ты, значит, приехал с ним вместе?
— Я служу лоцманом на небольшом судне у контрабандистов, на котором он прибыл с Суматры. Генерал знал, что вы каждый вечер выезжаете его встречать по дороге, идущей к молу, — поэтому я шел наверняка. Он сообщил мне подробности о полученном вами письме, чтобы доказать, что я действительно послан от него. Написать же он не мог…
— Он ничего тебе не говорил, почему он вынужден скрываться?
— Ничего… Из нескольких слов, невольно вырвавшихся у него, я решил, что речь идет о дуэли.
Зная вспыльчивый нрав генерала Симона и его храбрость, Джальма подумал, что предположения контрабандиста можно считать не совсем безосновательными.
После минутного молчания он сказал ему:
— Не отведешь ли ты мою лошадь?.. Мой дом на выезде из города, за деревьями, около новой мечети!.. Мне неудобно верхом взбираться на гору Чанди… лошадь будет мешать. Пешком я дойду скорее.
— Я знаю, где вы живете, мне говорил генерал… Если бы я вас не встретил на дороге, я пошел бы прямо туда… Пожалуйте вашу лошадь…
Джальма спрыгнул с коня, бросив поводья Магалю, размотал конец пояса и, достав оттуда небольшой шелковый кошелек, передал его контрабандисту, сказав:
— Ты исполнителен и предан… на тебе за это… Я знаю, что это немного… но больше у меня нет ничего.
— Хаджи-Синга недаром звали «Отцом Великодушного»! — с благодарностью и почтением заметил Магаль. И он направился по дороге в Батавию, ведя под уздцы лошадь принца, который углубился в чащу и быстро пошел по направлению к развалинам горы Чанди, куда он мог добраться только к ночи.
4. ЖОЗЮЕ ВАН-ДАЭЛЬ
Господин Ван-Даэль, корреспондент Родена, был голландский негоциант и уроженец столицы Явы — Батавии. Родители отправили его воспитываться в Пондишери в иезуитскую школу, существовавшую там с давних пор. Он вступил в конгрегацию в качестве послушника, носящего мирское платье и называющегося в просторечии светским коадъютором.
Господин Жозюе считался безукоризненно честным человеком, исключительно аккуратным в делах, холодным, сдержанным, скрытным, ловким и чрезвычайно проницательным; ему обыкновенно везло в финансовых предприятиях, потому что какой-то влиятельный покровитель предупреждал его о всех переворотах, которые могли повлиять на ход его коммерческих операций. Иезуитская школа в Пондишери была заинтересована в его делах; она поручала ему экспорт и обмен продовольствия, получаемого в обширных владениях, которые у нее были в этой колонии.
Не внушая никому особенной симпатии, господин Жозюе пользовался, подобно всем ригористам, холодным уважением, какого заслуживал его правильный и безукоризненный образ жизни, особенно заметный среди общей распущенности жителей колонии. Он говорил очень мало, никогда не спорил, был исключительно вежлив и с толком умел оказывать помощь. В его наружности была сдержанная суровость, которая всегда так сильно импонирует.
Следующая сцена происходила в Батавии в то время, когда Джальма пробирался к развалинам Чанди для свидания с генералом Симоном.
Господин Жозюе только что ушел в свой кабинет, где стояли шкафы с бумагами, а громадные счетные книги были разложены на пюпитрах.
Единственное окно кабинета, расположенного на первом этаже, выходило на пустынный двор и было прочно заделано железной решеткой. Вместо стекол в нем были сделаны раздвижные решетчатые ставни: как известно, климат на Яве очень жаркий. Господин Жозюе поставил на письменный стол зажженную свечу в стеклянном колпачке, взглянул на часы и промолвил:
— Половина десятого… Магаль должен скоро явиться.
Затем он вышел в переднюю, открыл вторую массивную дверь, окованную по-голландски большими шляпками гвоздей, осторожно, чтобы никто не слыхал, спустился во двор, отпер секретный замок в калитке прочной и высокой ограды с железными острыми шпилями наверху и, оставив ее полуоткрытой, вернулся так же осторожно назад в кабинет.
Там он сел за бюро, вынул из потайного ящика длинное письмо, или, лучше сказать, целую тетрадь, в которую он с некоторого времени вносил изо дня в день записи (излишне говорить, что письмо было адресовано господину Родену, в Париж, улица Милье-Дез-Урсэн, и было начато еще до освобождения Джальмы и до его приезда в Батавию).
Господин Жозюе продолжал вносить новые заметки:
«Опасаясь скорого возвращения генерала Симона, о чем я узнал из его писем к Джальме (я уже писал вам, что он сам просил меня передавать их принцу), прочитывая эти письма и затем передавая Джальме, я был вынужден временем и обстоятельствами прибегнуть к крайним мерам, конечно, вполне сохраняя внешние приличия, поскольку знал, что, делая это, делаю услугу всему человечеству.
Новая опасность вынудила меня действовать так. Пароход «Рейтер» вошел вчера в гавань и должен завтра отплыть в Европу. Пароход этот совершает прямой рейс до Суэца через Аравийское море, и его пассажиры, достигнув сушей Александрии, садятся там на другое судно, которое идет во Францию.
На такое путешествие времени тратится не очень много: семь-восемь недель самое большее. Теперь конец октября. Если бы принц выехал теперь, то в начале января он был бы во Франции, а между тем я знал из ваших приказаний, что интересы общества сильно пострадают из-за присутствия Джальмы в Париже 13 февраля. Не имея понятия о причинах этого, я все-таки, с обычной мне преданностью и усердием, готов помешать, чего бы это ни стоило, отъезду принца. Если, как надеюсь, мне удастся помешать ему выехать на завтрашнем пароходе, то ему не удастся попасть во Францию раньше чем через пять-шесть месяцев, так как другие суда, кроме «Рейтера», совершают рейс раз в четыре-пять месяцев.
Прежде чем сообщить вам о способе, к которому я вынужден прибегнуть для достижения цели, я считаю нужным поставить вас в известность о некоторых фактах.
В английской Индии открыли недавно существование одного общества, члены которого зовут себя «Братьями доброго дела», или «Фансегарами». Буквальный перевод последнего слова: «Душители». Эти убийцы не проливают крови: они душат людей не столько с целью ограбления, сколько как жертвы, предназначенные их адскому божеству, называемому ими «Бохвани». Отчет полковника Слимана, преследовавшего с неутомимым усердием членов этой секты, был опубликован два месяца назад. Вот дословная выдержка из него:
«В период моего управления Нерсингпурским округом, с 1822 по 1824 год, не случилось не только ни одного убийства, но даже малейшей кражи без того, чтобы я не узнавал тотчас же об этом. Между тем, если бы кто-нибудь тогда сказал мне, что в четырехстах метрах от моей резиденции жила целая шайка убийц в деревне Кюндели и что там это „ремесло“ переходит по наследству; что прелестная роща при деревне Мандесур, на расстоянии одного дня пути от меня, была самым страшным местом во всей Индии; что бесчисленные шайки „братьев доброго дела“, приходя из Индостана и Декана, ежегодно собирались под этими деревьями, как на торжественные праздники, чтобы творить зло на всех дорогах, скрещивающихся в этой местности, — я счел бы этого индуса за сумасшедшего, помешавшегося на страшных сказках. Между тем это была сущая правда. Сотни путешественников каждый год погибали в роще Мандесур, и целое племя убийц жило у порога моего жилища, верховного судьи провинции, и распространяло свою опустошительную деятельность до пределов Пуны и Хайдарабада. Я никогда не забуду, что для того, чтобы меня заставить поверить этому, один из вожаков секты, сделавшийся доносчиком, приказал выкопать из земли, на том самом месте, где стояла моя палатка, тринадцать трупов и вызвался выкопать неограниченное их количество» note 10.
Из этих немногих слов полковника Слимана вы можете понять, как ужасно сообщество, законы и обычаи которого идут вразрез со всеми человеческими и Божескими законами. Страшной сетью покрыли последователи секты всю Индию; связанные между собой преданностью, доходящей до самоотречения, они слепо повинуются своим вожакам, считая их непосредственными представителями зловещего Божества, и очень быстро распространяют учение путем проповеди, увлекающей за собой множество приверженцев.
Трое из вождей секты и один из ее членов, избегнув упорного преследования английского правительства, достигли северной оконечности Индии, Малаккского пролива, находящегося недалеко от нашего острова. Один контрабандист и отчасти пират, по имени Магаль, принадлежащий к числу сектантов, перевез их на своем судне на Яву, где они и скрываются, по его совету, в густом лесу, окружающем развалины древних храмов. Бесчисленные подземелья служат им пока вполне безопасным убежищем.
Среди трех вожаков, весьма неглупых, особенно выделяется один. Это человек замечательного ума, характера и энергии, делающих его очень опасным. Он родом метис, сын белого и индианки, зовут его Феринджи; долго жил в больших городах, где много европейцев, и прекрасно владеет английским и французским языками.
Второй из вождей — негр, третий — индус, а их последователь — малаец.
Магаль, рассчитывая получить хорошее вознаграждение за выдачу четырех главарей и зная мои дружеские отношения с лицом, оказывающим большое влияние на нашего губернатора, пришел два дня тому назад и предложил мне, на известных условиях, передать их в руки властей. Условия следующие: значительная сумма денег и возможность беспрепятственно и немедленно уехать в Европу или Америку, чтобы избежать неумолимого мщения «душителей». Я с удовольствием согласился на все условия ввиду важности поимки страшных убийц, но поставил со своей стороны тоже одно условие, касающееся Джальмы. Я с минуты на минуту жду прихода Магаля; опишу вам, что именно я предпринял, когда буду убежден в успехе плана. А пока, прежде чем запечатать письмо, отправляющееся завтра с пароходом «Рейтер», на котором я обеспечил место Магалю в случае удачи, я должен упомянуть об одном лично для меня важном деле.
В моем последнем письме, где я сообщил вам о смерти Хаджи-Синга и аресте Джальмы англичанами, я просил дать мне сведения относительно финансового положения банкира и заводчика барона Трипо, имеющего отделение в Калькутте. Теперь я не нуждаюсь более в этих сведениях, так как имею основания предполагать, что мои сомнения относительно его несостоятельности были, к несчастью. обоснованы. Если это так, то я попрошу вас принять во Франции меры.
Дело в том, что калькуттское отделение господина Трипо должно нам, то есть мне и моему сотоварищу в Пондишери, очень крупные суммы. Между тем нам известно, что борьба, затеянная Трипо с его конкурентом, очень дельным заводчиком и фабрикантом Франсуа Гарди, которого он хотел разорить постройкой новой фабрики, значительно подорвала состояние барона Трипо, потерявшего на этой конкуренции громадные капиталы, причем, конечно, ему удалось повредить отчасти делам и Ф.Гарди; но если он обанкротится, то его несчастье роковым образом отзовется и на нас, поскольку он должен крупную сумму не только мне, но и нашим.
При таком положении вещей желательно добиться любыми средствами полнейшей дискредитации и краха торгового дома Франсуа Гарди, и без того уже пошатнувшегося благодаря яростной конкуренции со стороны Трипо. Удача в этом начинании дала бы последнему возможность вернуть в короткий срок то, что он потерял; разорение конкурента упрочило бы процветание предприятия Трипо, а наши векселя могли бы быть оплачены.
Конечно, тяжело и грустно прибегать к таким мерам, но в наше время поневоле приходится бороться тем же оружием, что и наши враги. Если нас вынуждает к этому несправедливость и людская злоба, нужно подчиниться, утешаясь тем, что, собирая земные блага, мы делаем это во славу Божию, а в руках наших врагов они послужили бы только грехопадению. Впрочем, я не имею собственной воли: как все мое достояние, она принадлежит тем, кому я должен слепо повиноваться. Поэтому вполне полагаюсь на ваше решение в этом вопросе».
Легкий шум отвлек внимание Жозюе от письма. Он быстро встал и подошел к окну. По ставню три раза легонько стукнули.
— Это вы, Магаль? — тихо спросил господин Жозюе.
— Да, я, — был тихий ответ.
— А малаец?
— Ему удалось.
— Правда? — промолвил Жозюе с глубоким удовлетворением. — Это точно?
— Совершенно точно. Он необыкновенно ловкий и смелый дьявол.
— А Джальма?
— Подробности относительно последнего письма генерала Симона убедили его, что я действительно послан его другом с приглашением явиться в развалины Чанди.
— Так что теперь?..
— Джальма уже там. Он встретит и негра, и метиса, и индуса. Они ждут там малайца, сделавшего татуировку принцу.
— Вы изучили подземный проход?
— Я там был вчера… Один из камней Пьедестала статуи поворачивается кругом… проход достаточно широк.
— А главари вас ни в чем не подозревают?
— Нисколько: я виделся с ними сегодня утром… А вечером малаец, прежде чем идти к развалинам, приходил ко мне и обо всем рассказал… он до вечера сидел в кустах, опасаясь днем идти к Чанди.
— Магаль, если это правда… и задуманное удастся, то вас ждет большая награда… Я заказал вам место на пароходе «Рейтер», завтра вы уедете… и избежите мщения душителей за смерть их вожаков, ведь милость провидения дала вам возможность отдать этих злодеев в руки правосудия… Бог наградит вас за это… Ждите меня у дома губернатора… Я вас сейчас к нему отведу… Дело так важно, что я не боюсь потревожить его среди ночи… Идите скорее… я следую за вами…
Послышались быстрые шаги удалявшегося Магаля, и снова все смолкло.
Господин Жозюе вернулся к бюро и приписал к письму несколько слов:
«Во всяком случае, Джальма отсюда теперь не уедет… Он не сможет быть в Париже 13 февраля, будьте спокойны на этот счет… Как я и предвидел, мне всю ночь придется бодрствовать. Сейчас тороплюсь к губернатору, завтра припишу о том, что произойдет, и письмо отправится с пароходом „Рейтер“ в Европу».
Затем господин Жозюе закрыл бюро, громко позвонил, оделся и, к великому изумлению служителей, ушел среди ночи из дома.
Мы поведем теперь читателя к развалинам Чанди.
5. РАЗВАЛИНЫ ЧАНДИ
После полуденной грозы, которая помогла душителю осуществить замыслы в отношении Джальмы, наступила светлая, тихая ночь.
Лунный диск медленно выплывал из-за величественных развалин, расположенных на горе, среди густой чащи, на расстоянии трех лье от Батавии.
Серебристый свет, сливающийся на горизонте с прозрачной синевой неба, мощно обрисовывает широкие каменные уступы, высокие кирпичные стены, зазубренные временем, и обширные портики, обвитые вьющимися растениями.
Сквозь отверстие одного из таких портиков лунный свет озарял две колоссальные статуи, стоящие у подножия широкой лестницы, растрескавшиеся плиты которой почти совершенно исчезли под мхом, травой и кустарником. Одна статуя наполовину разбита. Ее обломки валяются тут же на земле. Другая совершенно цела и представляет ужасное зрелище…
Она изображает человека гигантских размеров. Одна голова его имеет три фута вышины. Выражение лица свирепо. Серый камень инкрустирован двумя кусками блестящего черного сланца, изображающего глаза. Широкий, глубокий рот раскрыт; в каменных устах свили гнезда пресмыкающиеся, и луна освещает омерзительный змеиный клубок.
Вокруг туловища идет широкий пояс с символическими украшениями. За поясом заткнут длинный меч. У великана четыре распростертые руки. В одной он держит голову слона, в другой свернувшуюся змею, в третьей череп человека, а в четвертой птицу, похожую на цаплю. Луна, озаряя ярким светом статую с одной стороны, придает ей еще более свирепый и причудливый вид.
Среди развалин виднеются на стенах полуразрушенные барельефы, высеченные из камня с большим искусством. Один из них, сохранившийся лучше других, изображает фигуру человека с головой слона и крыльями летучей мыши, пожирающего ребенка.
Трудно себе представить что-нибудь более мрачное, чем эти развалины, окруженные чащей густого леса и освещенные ярким светом луны, среди полного безмолвия тихой летней ночи.
К одной из стен древнего храма, посвященного какому-то таинственному кровожадному яванскому Божеству, прислонилась маленькая хижина, сложенная из обломков кирпича и камней. Дверь, сделанная из плетеного тростника, открыта; из нее вырывается красноватый свет, бросающий яркие отблески на высокую траву, изобильно растущую у ее порога.
Три человека находятся в этой лачуге, освещенной глиняной лампой с фитилем из кокосовых нитей, пропитанных пальмовым маслом.
Один из них одет очень бедно, но по-европейски. На вид ему лет сорок; бледный, почти белый цвет кожи указывает на его смешанное происхождение. Это метис — сын европейца и индианки.
Другой — африканский негр: сильный мужчина с толстыми губами, широкими плечами и тощими ногами. В курчавых волосах проглядывает седина. Одежда его вся в лохмотьях. Он стоит около индуса.
Третий спит в углу на циновке.
Эти три человека — главари секты душителей, бежавшие из Индии и скрывшиеся на Яве по совету контрабандиста Магаля.
— А малайца все еще нет, — сказал метис, по имени Феринджи, самый опасный из всей этой шайки убийц. — Быть может, Джальма убил его, пока он исполнял наш приказ?
— Гроза выгнала из-под земли много змей, — заметил негр, — быть может, одна из них ужалила малайца, и он стал гнездом для гадин?
— Нечего бояться смерти, когда служишь доброму делу! — мрачно проговорил Феринджи.
— И приносить смерть — тоже бояться нечего! — прибавил негр.
Полусдавленный крик привлек внимание собеседников к их спящему товарищу. Последнему было не больше 30 лет. Чистая раса индуса проявлялась у него во всем: и в бронзовой окраске безбородого лица, и в одежде, и в полосатой коричнево-желтой чалме. Казалось, его мучило какое-то страшное сновидение — по судорожно искривленному лицу крупными каплями струился обильный пот. Он бредил, из уст его вырывались отрывистые слова, руки судорожно сжимались.
— Все тот же сон, — сказал Феринджи, обращаясь к негру, — все то же воспоминание об этом человеке.
— Оком?
— Разве ты забыл, как пять лет тому назад свирепый полковник Кеннеди, бич несчастных индусов, приехал на берега Ганга охотиться за тиграми? С пятьюдесятью служителями, двадцатью лошадьми и четырьмя слонами?
— Да, да, как же, — отвечал негр, — а мы трое, охотники за людьми, поохотились лучше него? Кеннеди, со всей своей свитой, не убил тигра, а мы своего убили! — прибавил он со злобной насмешкой. — Мы убили Кеннеди, этого тигра в образе человека; он попал в засаду, и братья доброго дела принесли его в жертву богине Бохвани.
— А ты помнишь, как в ту минуту, когда мы затягивали петлю на шее Кеннеди, перед нами появился странник?.. Необходимо было отвязаться от непрошеного свидетеля… и мы его убили… И вот со времени этого убийства его и преследует во сне, — сказал Феринджи, указывая на спящего, — воспоминание об этом человеке.
— А также и наяву! — выразительно взглянув на Феринджи, прибавил негр.
— Слышишь, — сказал Феринджи, прислушиваясь к бреду индуса, — он повторяет слова этого странника, которыми тот отвечал на наше предложение или умереть, или вступить в число братьев доброго дела… Как сильно это впечатление!.. Он до сих пор находится под его влиянием.
Действительно, индус громко повторял во сне какой-то таинственный диалог, сам отвечая на задаваемые им же вопросы:
— Путник, почему черная полоса на твоем челе тянется от одного виска к другому? — говорил он отрывисто и с большими паузами. — «Это роковая отметка!..» Как смертельно печален твой взор… Ты жертва!.. Пойдем с нами… Бохвани отметит за тебя… Ты страдал? — «Да, я много страдал». — Давно и долго? — «Да, очень долго». — Ты и теперь страдаешь? — «Да!» — Что ты чувствуешь к тому, кто тебя заставляет страдать? — «Сострадание!» — Разве ты не хочешь отплатить ударом за удар? — «Я хочу платить любовью за ненависть!» — Кто же ты сам тогда, если ты платишь добром за зло? — «Я тот, кто любит, страдает и прощает!»
— Ты слышишь, брат, — сказал негр товарищу, — он не забыл ни одного слова из предсмертных речей этого человека!
— Его преследуют видения… Слушай… он снова говорит… Как он бледен!
Индус продолжал бредить:
— Путник, нас трое, мы сильны и смелы, смерть в наших руках. Присоединяйся к нам, или… умирай… умри… умри!.. О! как он смотрит… Не гляди так… не гляди на меня…
С этими словами индус сделал какое-то быстрое движение, как бы отталкивая кого-то рукой, и проснулся. Проведя ладонью по лбу, орошенному потом, он блуждающим взглядом посмотрел на окружающих.
— Все те же видения, брат? — спросил его Феринджи. — Право, для храброго охотника за людьми… у тебя слишком слаба голова. Хорошо еще, что сердце и рука тверды!..
Индус сжал голову руками и с минуту не отвечал. Затем он промолвил:
— Давно я не видал во сне этого путника.
— Да ведь он уже мертв… не ты ли сам затянул петлю на его шее? — сказал, пожимая плечами, метис.
— Да!.. — отвечал, дрожа, индус.
— Ведь мы же вырыли ему могилу рядом с могилой Кеннеди, под песком и тростником, где и могила палача-англичанина, — сказал негр.
— Да… мы вырыли могилу… — произнес индус, продолжая дрожать, — но… год тому назад… я стоял у ворот Бомбея… ждал одного из братьев… Был вечер… солнце склонялось к закату и скрывалось за пагодой, построенной на небольшом холме… я как сейчас все это вижу… Я сидел под фиговым деревом… Вдруг послышался спокойный, ровный, твердый шаг… я оборачиваюсь… и что же?! Это был он!.. Он шел из города.
— Видение! — сказал негр. — Без сомнения, видение!
— Или видение, — прибавил Феринджи, — или случайное сходство!
— Я узнал его по знаку на лбу, по этой черной полосе я узнал бы его всюду. Это был он… Я окаменел от ужаса… а он остановился возле меня… и поглядел печальным взором… Невольно я вскрикнул: — Это он! — «Да, это я, — отвечал он кротким голосом. — Все убитые тобой возрождаются, как и я, — и он указал на небо. — Зачем убивать? Слушай… я иду с острова Ява… иду на край света… в страну вечных снегов… и там, и тут… и на земле, иссохшей от горячих лучей солнца… и на земле, окованной морозом… везде я буду одним и тем же! Так и с душами тех, кто погибает от твоей петли… В этом мире или в том… в той или другой оболочке… душа остается душой… ее ты не убьешь… Зачем же тогда убивать?» — и, грустно покачав головой, он ушел; медленно, тихо подвигаясь вперед, склонив голову, он поднялся на вершину холма. Я следил за ним глазами, не будучи в состоянии двинуться с места. В момент заката он остановился на самой вершине. Его высокая фигура с опущенной головой вырисовывалась на фоне неба… и затем он исчез… О! это был он! — добавил, трепеща, после долгого молчания индус. — Это был он!
Индус часто рассказывал своим товарищам подробности этого странного приключения, и всегда рассказ был один и тот же. Эта настойчивость уже поколебала их сомнения, но они старались подыскать этому, по-видимому, сверхъестественному явлению какие-нибудь обычные причины.
— Быть может, петля не была плотно затянута или воздух проник в могилу, — говорил Феринджи, — тогда он мог ожить.
— Нет, нет!.. — воскликнул индус, — это не человек!..
— Что ты хочешь сказать?
— Теперь я в этом убедился!
— Ты убедился?
— Слушайте же! — торжественным голосом начал индус. — Число жертв, убитых в течение всех веков сыновьями Бохвани, ничто в сравнении с количеством умерших и умирающих, которых оставляет за собой этот страшный странник на своем, смертоносном пути.
— Он?! — воскликнули негр и метис.
— Да, он! — с убеждением ответил их товарищ. — Слушайте дальше и трепещите. Когда я видел его у ворот Бомбея, он мне сказал, что идет с Явы на север… На другой день в Бомбее свирепствовала холера… и она пришла туда с Явы… Слышите?
— Это правда! — сказал негр.
— Слушайте дальше, — говорил индус, — он сказал мне: «Я иду на север в страну льдов»… и холера также прошла на север… через Маскат, Исфаган, Тавриду и Тифлис, достигнув Сибири…
— Верно! — задумчиво заметил Феринджи.
— И холера шла, как идет человек, — продолжал индус, — как человек, она делает не больше пяти-шести лье в день; она не появляется в двух местах разом… а медленно, тихо двигается вперед… как идет обыкновенно пешеход…
При этом странном сопоставлении негр и метис переглянулись. Через несколько минут испуганный негр обратился к индусу с вопросом:
— И ты думаешь, что этот человек…
— Я думаю, что убитый нами человек был возвращен к жизни каким-нибудь адским Божеством, которое за это обязало его разносить по всему миру этот бич, не щадящий никого: холеру… а сам он умереть не может… Вспомните, — с мрачным воодушевлением добавил индус, — что этот ужасный путник прошел по Яве — и холера опустошила Яву; путник прошел по Бомбею… холера опустошила Бомбей; путник пошел к северу… холера опустошила север…
После этих слов он впал в глубокую задумчивость; негр и метис молчали от охватившего их изумления.
Индус говорил правду относительно таинственного (до сих пор необъясненного) движения этого ужасного бича, который, как известно, никогда не преодолевал в день свыше пяти-шести лье и не появлялся одновременно в двух местах.
Действительно, нет ничего более странного, чем проследить по картам, составленным в то время, медленное и словно прогрессирующее движение этого страшного путешественника, которое представляется изумленному взору настоящим человеческим путем со всеми его причудами и случайностями.
Выбирая одну дорогу, а не другую, выбирая провинцию в стране, город в провинции, квартал в городе, улицу в квартале, дом в улице, имея свои пункты отдыха и местопребывания, холера затем продолжает свой медленный, таинственный, ужасный путь.
Слова индуса сильно подействовали на сообщников. Негр и метис, свирепые по натуре люди, дошли, благодаря своей преданности страшному учению секты, до мании убийства.
Да… действительно, в Индии существует такая отвратительная секта, члены которой убивают без всякого повода… без страсти… единственно из желания убийства ради убийства… из наслаждения убийством… чтобы «сделать из живого человека труп», как они сами поясняли на допросах. Мысль отказывается понять причину таких ужасных аномалий… Каким путем может человек дойти до подобного обоготворения убийства?.. Конечно, это может процветать только в тех странах, где, как в Индии, царствует самое жестокое рабство, самая безжалостная эксплуатация человека человеком. Не является ли такая религия выражением ненависти отчаявшегося человечества, доведенного до крайности господством насилия? И, быть может, подобная секта, происхождение которой теряется в глубине веков, удержалась в Индии так долго потому, что она составляла единственный протест рабов против деспотизма. А может быть, Господь, в своих неисповедимых путях, создал фансегаров с той же целью, что змей и тигров… Связь между членами этой секты тем теснее, что все их отделяет от других людей. У них не может быть отношений с инакомыслящими, поэтому они и держатся друг за друга так крепко. У них нет ни родины, ни семьи… и слушаются они только своей неведомой, страшной богини, слепо ей повинуясь и проникая повсюду с единственной целью служения ей — для того, чтобы «делать трупы», по их дикому выражению note 11.
Некоторое время душители хранили глубокое молчание.
А луна по-прежнему разливала своей серебристый свет, бросая исполинские синеватые тени от развалин. На небесах засияли звезды, и легкий ветерок шевелил листья деревьев.
Пьедестал гигантской статуи, которая не была разбита, стоял с левой стороны портика и покоился на широких плитах, до половины заросших травой.
Вдруг одна из этих плит бесшумно опустилась книзу. Из углубления, образовавшегося на этом месте, показалась голова человека, одетого в военный мундир. Он внимательно огляделся вокруг и начал прислушиваться. Увидав хижину и свет, он сделал какой-то знак; затем он и двое других людей, одетые так же, как он, в молчании и с большими предосторожностями поднялись по последним ступенькам подземной лестницы и проскользнули в развалины.
Это было сделано без всякого шума, только длинные тени скользили по освещенным луной местам. Когда плита снова опустилась, в отверстие можно было видеть головы других солдат, скрывавшихся в засаде, в подземелье.
Три душителя, погруженные в свои думы, не заметили ничего.
6. ЗАСАДА
Феринджи, желая, похоже, прогнать тяжелые мысли, пробужденные рассказом индуса о ходе холеры, резко переменил предмет разговора. Его глаза загорелись мрачным огнем, лицо одушевилось, и он воскликнул со свирепым возбуждением:
— Над нами, охотниками за людьми… бодрствует Бохвани!.. Смелее, братья, смелее!.. Обширен мир… и всюду, везде есть для нас жертвы… Англичане изгнали из Индии нас троих — вождей доброго дела?.. Подумаешь!.. Разве там мало осталось наших братьев, таящихся в тиши, как черные скорпионы, которые дают о себе знать только смертельным укусом? Их там много; они сильны и без нас… Изгнание лишь расширит наши владения… Тебе, брат, будет принадлежать Америка, — продолжал он с каким-то вдохновением, указывая на индуса, — тебе, брат, Африка, — прибавил он, указывая на негра, — а мне, братья, Европа! Везде, где есть люди, есть и палачи, и жертвы… Везде, где есть жертвы, есть и наполненные злобой сердца… Нам остается только зажечь эту злобу огнем ненависти и мести!!! Нам надо хитростью и обольщением привлечь на свою сторону всех, чье усердие, мужество и храбрость могут быть полезны. Будем соперниками в усилиях, братья, и будем в то же время самоотверженно помогать друг другу всеми силами. Те же, кто будет не с нами, те будут считаться врагами, и мы удалимся ото всех, чтобы сплотиться против всех. У нас нет семьи, нет отечества. Семья наша — наши братья, отечество — весь мир.
Дикое, увлекательное красноречие Феринджи всегда сильно действовало на его товарищей. Несмотря на то, что они были главарями кровавого союза, они уступали метису в уме и в развитии и невольно подчинялись его влиянию.
— Да! ты прав, брат! — воскликнул, разделяя восторженное возбуждение Феринджи, молодой индус, — ты прав… Нам принадлежит весь мир… Мы должны и здесь, на Яве, оставить следы своего пребывания, мы и здесь заложим основы «доброго дела»: здесь оно разрастется очень быстро. Голландцы — такие же хищники, как англичане… Братья! я видел здесь на болотистых рисовых плантациях, поражающих смертельным недугом тех, кто на них работает, я видел, повторяю, людей, обрабатывающих их из нужды, обрекающей их на губительный труд. На них, бедных, изнуренных усталостью, голодом и болезнью, страшно смотреть. Многие из них падали на землю, чтобы уже больше не встать… Братья!.. несомненно, наше общество… наше доброе дело пустит глубокие корни в этой стране.
— Однажды вечером, — сказал метис, — я сидел здесь на берегу, за утесом. К озеру подошла молодая женщина, исхудалое, обожженное солнцем тело которой было едва прикрыто рубищем. У нее на руках лежало дитя; с горькими слезами прижимала она его к иссохшей груди; она три раза поцеловала ребенка и, воскликнув: «Ты будешь там счастливее родителей!», — бросила его в воду. Ребенок вскрикнул и исчез под водой… А услыхав этот крик, в озеро весело прыгнули скрывавшиеся в тростнике крокодилы… Братья! здесь матери из жалости убивают детей… Несомненно, наше учение найдет благодатную почву в этой стране…
— Сегодня утром, — сказал негр, — я видел, как в кровь избили плетьми черного раба, а в это время его хозяин, маленький старикашка, купец из Батавии, отправился в город по делам. Двенадцать рослых молодых рабов несли паланкин, где лежал старик, небрежно принимая робкие, подневольные ласки двух молодых рабынь из своего гарема. Гаремы наполняют здесь, покупая дочерей за кусок хлеба у голодной семьи. Значит, братья, здесь есть матери, которых нужда заставляет продавать свою плоть и кровь; есть рабы, которых терзают плетьми, есть люди, служащие вьючными животными для других людей. Доброе дело не погибнет в этой стране!..
— В этой стране, как и во всякой другой, где царствует угнетение и рабство, нищета и разврат!
— Хорошо, если бы нам удалось привлечь на свою сторону Джальму, — сказал индус. — Совет Магаля был очень разумен, и наше пребывание на острове принесло бы двойную выгоду. Такой смелый и энергичный человек, как принц, нам может быть очень полезен. Смелости и храбрости ему не занимать, а ненависть к людям должна возникнуть непременно: слишком много у него для этого причин.
— Он должен сейчас прийти… Постараемся влить яд мщения в его душу.
— Напомним ему о смерти отца.
— Об истреблении его племени!
— О его заточении!
— Пусть только гнев овладеет им! Тогда он наш!
В этот момент негр, погруженный до той поры в задумчивость, вдруг сказал:
— А что, братья, если контрабандист нас обманул?
— Он! — почти с негодованием воскликнул индус. — Он нас привез на своем судне, помог бежать, он обещал отвезти нас в Бомбей, где мы найдем корабли, чтобы уехать в Америку, Европу и Африку.
— И какой ему интерес нас обманывать? — в свою очередь, заметил Феринджи. — Он знает, что в таком случае ему не избежать мести сынов Бохвани!
— Верно, — сказал негр, — он обещал привести сюда Джальму, заманив его хитростью. А раз он придет сюда, то должен сделаться нашим… или…
— Он же дал нам совет: «Пошлите малайца к Джальме… пусть он заберется к нему во время сна и, вместо того чтобы убить, пусть он начертит у него на руке имя Бохвани. Лучшего доказательства силы, ловкости и решимости наших братьев Джальме не надо… он поймет, на что мы способны… чего можно ждать и чего нужно опасаться со стороны таких людей… Из удивления… или из страха, но он сделается нашим!
— Ну, а если он откажется быть с нами, несмотря на то, что у него есть причины ненавидеть людей?
— Тогда… Бохвани решит его судьбу, — мрачно заметил Феринджи. — У меня уже готов план…
— Удалось ли только малайцу воспользоваться сном Джальмы? — сказал негр.
— Я не знаю никого ловчее, проворнее и смелее малайца, — ответил Феринджи. — У него хватило дерзкой отваги войти в логовище черной пантеры в то время, как она кормила своего детеныша! Он убил мать, а маленькую пантеру продал потом капитану европейского судна.
— Малайцу удалось это! — воскликнул индус, прислушиваясь к странному крику, внезапно раздавшемуся среди ночной тишины.
— Да, да, это крик коршуна, уносящего добычу, — подтвердил негр, — этим криком наши братья дают знать, что добыча не ушла из их рук!
Вскоре на пороге хижины появилась фигура малайца, завернутого в пестрое покрывало.
— Ну что? — беспокойно спросил его негр. — Удалось тебе выполнить задуманное?
— Джальма всю жизнь будет носить знак доброго дела, — с гордостью отвечал малаец. — Чтобы добраться до него, я вынужден был принести Бохвани жертву… я убил человека, ставшего мне на дороге. Тело я спрятал в кустах около беседки. Но Джальма все-таки носит наш знак. Магаль, контрабандист, узнал об этом, первый.
— И Джальма не проснулся? — спросил индус, пораженный ловкостью сообщника.
— Если бы он проснулся, то я был бы трупом! — спокойно отвечал тот. — Ты знаешь, что я должен был щадить его жизнь.
— Потому что его жизнь нам нужнее его смерти! — заметил метис. Затем, обратись к малайцу, прибавил, — брат, ты рисковал своей жизнью для нашего дела; ты сделал то же, что вчера делали мы и что завтра же, быть может, мы снова будем делать… Сегодня ты повиновался, но придет день, когда настанет твоя очередь приказывать.
— Мы все принадлежим Бохвани! — сказал малаец. — Что надо делать еще? Я готов!
Малаец стоял лицом к двери. Произнеся последние слова, он быстро обернулся и шепнул товарищам:
— А вот и Джальма, он идет сюда. Контрабандист, значит, не обманул!
— Он не должен меня пока видеть, — сказал Феринджи, прячась в углу хижины за циновкой: — Постарайтесь его убедить… Если он заупрямится, то на этот случай у меня есть план…
Едва метис успел скрыться, как на пороге хижины показался Джальма.
При виде трех зловещих физиономий Джальма отступил в изумлении назад. Но не имея понятия о том, что эти люди принадлежат к секте фансегаров, и зная, что в этой стране, за неимением гостиниц, путешественники нередко проводят ночи в Палатках или в развалинах, он скоро справился со смущением и сделал шаг по направлению к ним.
Заметив соотечественника, Джальма обратился к нему с вопросом на родном языке:
— Я думал встретить здесь одного европейца… француза…
— Француза еще нет, — отвечал индус, — но он не замедлит прийти.
Угадав по вопросу Джальмы, под каким предлогом заманил его сюда Магаль, индус желал оттянуть время, поддерживая его заблуждение.
— Ты знаешь… этого француза? — спросил Джальма фансегара.
— Он назначил нам также здесь свидание, — отвечал индус.
— Зачем? — с изумлением спросил Джальма.
— Узнаешь… когда он придет…
— Генерал Симон велел вам ждать его здесь?
— Да, генерал Симон! — отвечал индус.
Прошло несколько минут, пока Джальма старался сообразить, что значит это таинственное приключение.
— А кто вы? — подозрительно спросил он индуса, потому что мрачное молчание остальных двух фансегаров внушало некоторое опасение.
— Кто мы? — сказал индус. — Мы твои… если ты хочешь быть нашим.
— Я в вас не нуждаюсь… и вы не нуждаетесь во мне…
— Кто знает?
— Я знаю это…
— Ты ошибаешься… Англичане убили твоего отца… Он был раджа… Тебя бросили в темницу… затем изгнали… у тебя больше ничего нет…
При этом жестоком напоминании черты Джальмы омрачились, он вздрогнул, и горькая улыбка искривила губы.
Фансегар продолжал:
— Твой отец был храбрый воин, справедливый правитель… подданные любили его… его звали «Отец Великодушного», и это прозвище было вполне заслуженно… Неужели ты не отомстишь за его смерть? Неужели та ненависть, что гложет твое сердце, останется бесплодной?
— Мой отец умер с оружием в руках… я там же на поле битвы отомстил за него, убивая англичан… Тот, кто заменил мне отца и сражался за него, ясно доказал мне, что пытаться отвоевать мои владения теперь — дело безумное… Когда англичане выпустили меня из тюрьмы, я дал им клятву не возвращаться больше в Индию… и обычно я держу свои клятвы…
— Те, кто тебя обобрал, кто лишил свободы, кто убил твоего отца… это ведь все люди… Отомсти же за их преступление другим… мсти людям вообще… пусть твоя ненависть падет на все человечество!
— Да сам-то ты разве не человек, что решаешься говорить так?
— Я… и мне подобные — мы больше, чем люди… Хотя мы и принадлежим к человеческой расе, но отличаемся от прочих тем, что являемся смелыми преследователями людей… Мы смелые охотники, выслеживающие людей, как диких зверей в лесах… Хочешь ли и ты быть таким же?.. Хочешь ли безнаказанно утолять свою ненависть? После всего зла, которое тебе причинили, сердце твое должно быть полно ею…
— Твои слова для меня непонятны: у меня в сердце нет ненависти, — сказал Джальма. — Если мой враг достоин меня, я вступаю с ним в бой… если недостоин, я его презираю… Так что ненавидеть мне некого… ни храбрых… ни трусов…
— Измена! — быстро указывая на дверь, крикнул негр.
При возгласе негра Феринджи, невидимый до той минуты, внезапно раздвинул циновки, которые его скрывали, выдернул кинжал и одним прыжком, как тигр, выскочил из хижины. Видя, что к ней с предосторожностями приближается отряд солдат, метис одним ударом поразил ближайшего к нему солдата, другой пал жертвой второго удара, и прежде чем остальные успели опомниться, Феринджи скрылся среди развалин.
Все это случилось так неожиданно и быстро, что Джальма не успел обернуться, как метис исчез. Несколько солдат, столпившихся у двери, навели винтовки на душителей и Джальму, а остальные солдаты бросились вслед за Феринджи.
Негр, малаец и индус, видя, что сопротивление бесполезно, быстро обменялись несколькими словами и сами протянули руки к веревкам, которыми хотели их связать солдаты.
В эту минуту в хижину вошел командовавший отрядом голландский капитан.
— А этого что же? — сказал он, указывая солдатам на Джальму.
Занятый связыванием трех фансегаров, сержант ответил:
— Всякому свой черед, господин капитан! Сейчас и за него примемся.
Ничего не понимая в том, что происходило вокруг него, Джальма окаменел от изумления. Но когда солдаты, покончив с фансегарами, направились с веревкой к нему, он гневно и презрительно оттолкнул их от себя и бросился к двери, где стоял капитан.
Солдаты никак не ожидали такого отпора. Они были уверены, что Джальма так же смиренно покорится, как и сообщники. Поэтому они отступили, пораженные исполненным величия и благородства видом сына Хаджи-Синга.
— Зачем хотите вы меня вязать… как их? — спросил Джальма на хинди офицера, понимавшего этот язык благодаря продолжительной службе в колониях.
— Зачем тебя вязать, негодяй? Да затем, что ты один из этой шайки убийц! А вы что, — обратился офицер по-голландски к солдатам, — струсили, что ли? Затягивайте ему на руках петлю хорошенько, пока ее еще на шее ему не затянули!..
— Вы ошибаетесь, — со спокойным достоинством и хладнокровием, удивившими офицера, возразил Джальма. — Я только что пришел сюда… я этих людей не знаю… я желал встретить здесь одного француза…
— Ты не фансегар? Кого ты хочешь надуть так нахально?
— Как! — воскликнул молодой принц с жестом такого искреннего ужаса и отвращения, что офицер невольно остановил знаком солдат, бросившихся вязать пленника. — Эти люди члены ужасной шайки убийц?.. и вы думаете, что я их сообщник?.. Это так нелепо, что я даже не могу протестовать! — прибавил Джальма, с презрением пожимая плечами.
— Не слишком это убедительно! — продолжал офицер. — Да и обмануть нас мудрено: мы знаем, как отличить вашего брата… нам известны ваши знаки!
— Повторяю вам, что я не меньше вашего презираю этих убийц… Я пришел сюда только затем, чтобы…
Негр прервал речь Джальмы. С злобной радостью он обратился к офицеру:
— Тебе верно донесли: братьев доброго дела узнают по знакам, нататуированным на их теле… Наш час настал… мы протягиваем свои шеи к петле… немало мы, в свою очередь, затянули петель на шеях врагов… Взгляни же на наши руки и на руки этого юноши…
Офицер, не понявший, к чему клонил злодей, обратился к Джальме:
— Если этих знаков у вас нет, как говорит негр, то мы вас не задержим… Конечно, после того, как вы достаточно убедительно докажете, отчего вы здесь. Через час, через два вы можете быть свободны.
— Ты меня не понял, — сказал негр. — Принц Джальма из наших… на левой руке у него имя Бохвани!
— Да, он так же, как и мы, брат доброго дела! — прибавил малаец.
— Он фансегар, как и мы! — сказал индус.
Все трое, разозленные тем презрением, с каким относился к их секте молодой принц, злорадно старались доказать, что сын Хаджи-Синга из числа их сообщников.
— Что вы на это скажете? — спросил офицер у Джальмы.
Последний с презрением пожал плечами и, откинув свой широкий рукав, показал левую руку.
— Какая дерзость! — воскликнул офицер.
Действительно, повыше локтевого сгиба на руке принца ясно выделялись ярко-красные буквы, составлявшие на индусском языке слово «Бохвани». Офицер осмотрел руку малайца. Те же знаки, то же имя. Не довольствуясь этим, он взглянул на руки индуса и негра и увидал то же самое.
— Негодяй! — воскликнул он с яростью, обращаясь к Джальме. — Ты в тысячу раз хуже их! Свяжите его крепче, этого убийцу и презренного труса, который врет на краю могилы, — а ждать ему ее придется недолго!
Джальма, пораженный и испуганный, некоторое время не мог отвести глаз от роковой татуировки. Он был бессилен произнести слово или сделать движение. Он никак не мог объяснить этот непостижимый факт.
— Не осмелишься ли ты отрицать существование этого знака и теперь? — с негодованием спросил его офицер.
— Я не могу отрицать то, что вижу своими глазами, что есть в действительности… но… — отвечал Джальма с отчаянием.
— Удивительно, как это ты теперь решился признаться в своей виновности, негодяй! Смотрите за ним в оба! — крикнул капитан солдатам. — Вы за них ответите… за него и за его товарищей!
Джальме казалось, что злую шутку с ним играет диковинное сновидение. Он больше не сопротивлялся и спокойно дал себя связать и увести. Офицер, надеясь найти в развалинах и Феринджи, остался с частью солдат, но вскоре, убедясь в безуспешности поисков, догнал конвой и пленных, ушедших довольно далеко вперед.
Через несколько часов после этого Жозюе Ван-Даэль заканчивал длинное послание к Родену:
«Обстоятельства сложились так, что нельзя было действовать иначе. Небольшая жертва была необходима для достижения благой цели. Трое убийц находятся теперь в тюрьме, а арест Джальмы зачтется ему, когда его невиновность будет доказана.
Я был уже сегодня у губернатора ходатаем за молодого принца. «Так как правосудие только благодаря мне могло захватить в руки преступников, — сказал я губернатору, — то смею надеяться, что хотя бы из чувства признательности ко мне вы постараетесь доказать невиновность принца Джальмы, внушающего особенное сочувствие своими несчастиями и высокими душевными качествами. Мне и в голову не могло прийти, — прибавил я, — когда пришел вчера предупредить вас о сборище фансегаров в развалинах Чанди, что могут забрать с ними, как их сообщника, приемного сына моего благородного друга и прекрасного человека, генерала Симона. Необходимо во что бы то ни стало дознаться, как Джальма попал в столь странную ситуацию. Я так уверен в невиновности юноши, что не прошу другой милости, кроме самого строгого дознания. Он с достоинством и мужеством перенесет заключение, а истина будет восстановлена!» Как видите, я не погрешил против истины, так как в моих словах заключалась подлинная правда. Никто больше меня не может быть уверен в невиновности принца! Губернатор, как я и ожидал, ответил, что в душе он не меньше меня уверен в этом и что он будет оказывать принцу должное уважение, но необходимо дать ход правосудию, чтобы доказать ложность обвинений и открыть, как мог очутиться на руке Джальмы таинственный знак.
Контрабандист Магаль, единственный человек, в руках которого ключ к тайне, через час покинет Батавию. Он передаст капитану «Рейтера» мою записку с удостоверением, что Магаль и есть то лицо, которому заказано оплаченное место; он захватит на борт парохода и это длинное письмо к вам. Последняя выемка почты в Европу была вчера вечером, но я хотел повидать губернатора, прежде чем запечатать письмо.
Итак, цель достигнута. Джальма задержан по крайней мере на месяц, и после отхода «Рейтера» ему будет абсолютно невозможно попасть во Францию к 13 февраля.
Вы видите… вы приказали — я слепо действовал теми способами, которые только имелись в моем распоряжении, имея в виду только ту цель, которая их оправдывает, — так как вы мне сказали, что дело представляет большой интерес для общества.
Я был тем, чем должен быть каждый из нас в руках старшего… я был только орудием… так как известно, что во славу Божию наши начальники делают из нас трупы, то есть убивают личную волю note 12. Пусть же никто не подозревает о нашем согласии и могуществе: времена нам не благоприятствуют… но времена изменчивы, а мы… мы останемся все теми же!
Послушание и мужество, тайна и терпение, хитрость и смелость, преданность и единение между нами, кому родиной служит весь мир, семьей служит союз, а вершителем судеб является Рим!
Ж.В.»
В 10 часов утра Магаль отправился с этим посланием на пароход «Рейтер». В 11 часов труп Магаля, удушенного так, как душат фансегары, лежал в тростниках у того места, где стояла его лодка, на которой он должен был ехать к пароходу. Когда труп был найден после отхода «Рейтера», письма господина Ван-Даэля при нем не нашлось, а также не нашлось и записки к капитану парохода. Поиски Феринджи тоже оказались тщетными. Нигде на Яве не могли найти страшного главаря душителей.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗАМОК КАРДОВИЛЛЬ
1. ГОСПОДИН РОДЕН
Три месяца прошло с тех пор, как Джальма был заключен в тюрьму Батавии за принадлежность к секте душителей. Следующая сцена переносит нас во Францию, в начало февраля 1832 года, в замок Кардовилль. Это старинное феодальное жилище построено на высоких утесах Пикардии, близ Сен-Валери, опасного места в проливе Ламанш, где нередко разбиваются корабли из-за господствующих здесь северо-западных ветров.
В замке слышен вой и шум бури, поднявшейся за ночь. Волны с грохотом и треском, напоминающим артиллерийские залпы, яростно разбиваются о высокие утесы, над которыми господствует древний замок… Уже около семи часов утра, но так темно, что свет не проникает сквозь окна обширной комнаты, расположенной в нижнем этаже замка. Несмотря на раннее время, в этой комнате, при свете одинокой лампы, сидит за шитьем добродушная старушка лет шестидесяти, одетая, как обыкновенно одеваются зажиточные фермерши в Пикардии. Неподалеку от нее, за большим столом сидит ее муж, вероятно ровесник по летам, и раскладывает по сортам в небольшие мешочки пробы ржи и овса. Лицо старика отражает ум и честность; открытое, доброе, оно не лишено, однако, добродушного, наивного лукавства. На нем домашняя темно-зеленая куртка, а высокие охотничьи сапоги надеты поверх черных бархатных панталон.
Буря, свирепствующая на улице, подчеркивает уют тихой комнаты. Яркий огонь горит в большом беломраморном камине и бросает блестящие отсветы на тщательно натертый пол, а пестрые занавески старинного, в китайском вкусе, красного узора на белом фоне и несколько картин из пастушеской жизни в манере Ватто над дверьми производят необыкновенно приятное и веселое впечатление. Часы севрского фарфора и массивная изогнутая, пузатая, с зелеными инкрустациями мебель из розового дерева дополняют убранство комнаты.
Буря продолжала бушевать и ветер по временам врывался в камин или колебал ставни окон.
Мужчина, сидевший за столом, был господин Дюпон, управитель поместья и замка Кардовилль.
— Пресвятая Богородица! — вымолвила госпожа Дюпон. — Какая ужасная буря, мой друг! Нечего сказать, плохое выбрал времечко для визита этот господин Роден, о приезде которого нас уведомил управитель княгини Сен-Дизье.
— Да, я не много помню таких бурь!.. Если господин Роден не видывал раньше разъяренного моря, так сегодня он может насладиться этим зрелищем сколько угодно.
— Зачем он сюда едет, этот господин?
— Право, не знаю! Управитель княгини пишет, чтобы я принял его как можно лучше и повиновался ему, как настоящему хозяину. Значит, господин Роден сам выскажет свои желания, и мне останется только их выполнить, поскольку он является от имени княгини.
— Собственно говоря, он должен был бы явиться от имени госпожи Адриенны… ведь именье-то стало ее после смерти господина графа, герцога де Кардовилль.
— Да, это так, но княгиня ей тетка, а управляющий княгини занимается делами госпожи Адриенны… Так что это решительно все равно — от ее ли имени или от имени княгини он действует.
— Может быть, господин Роден хочет купить имение?.. А между тем я думала, что его купит та толстая дама, что была на прошлой неделе. Ей замок очень понравился…
При последних словах жены управитель насмешливо захохотал.
— Отчего ты смеешься? — спросила старушка, которая при всей своей доброте не отличалась особенным умом или проницательностью.
— Я смеюсь, — отвечал Дюпон, — потому, что вспомнил лицо и фигуру этой толстой, огромной женщины… И при таких-то, черт возьми, физических качествах такая фамилия! Право, нельзя носить фамилию Сент-Коломб, когда имеешь такую физиономию… Нечего сказать, — ведь это означает: святая голубка, — хороша же святая и хороша голубка! Толста, как бочка… голос хриплый и седые усы, как у старого гренадера… Я нечаянно услыхал, как она крикнула своему слуге: «Ну, ты, каналья, поворачивайся!» И при этом зваться Сент-Коломб!
— Какой ты странный, Дюпон! Не виновата же она, что у нее такая фамилия… да и за усы ее винить нельзя, эту бедную даму!
— Положим, что голубкой-то она сама себя прозвала… Ведь только ты, моя деревенская простота, могла поверить, что это ее настоящая фамилия!..
— А у тебя ужасно злой язык, мой милый… Это препочтенная особа. Знаешь: ее первый вопрос был о часовне при замке… она даже хотела заняться ее украшением. И когда я сказала ей, что здесь нет приходской церкви, она была очень огорчена, что нет постоянного священника…
— Еще бы! У этих выскочек первое удовольствие разыгрывать из себя знатную прихожанку… важную барыню.
— Ей нечего из себя знатную барыню разыгрывать, когда она и без того знатная дама!
— Она-то? Она знатная?
— Конечно. Стоит только взглянуть на ее пунцовое платье и лиловые перчатки… точно у архиепископа! А когда она шляпу сняла, так у нее на парике оказалась громадная бриллиантовая диадема, в ушах серьги с громадными бриллиантами, не говоря уже о кольцах, которым и числа нет. Если бы она не была знатной дамой, так разве она носила бы такую кучу драгоценностей с самого утра?
— Сразу видно, что ты знаток в этом деле!
— Да это еще не все…
— Вот как… что же еще?
— Она только и говорила, что о герцогах да маркизах, рассказывала о разных важных богатых особах, очень часто ее посещающих, видно, что, вообще, знать с ней дружна. А потом, когда она меня спросила о беседке в саду, которую сожгли пруссаки, после чего граф не захотел ее восстанавливать, и я сказала ей, что беседка сгорела во времена нашествия союзников, то она воскликнула: «Ах, моя милая!.. ах, эти союзники голубчики!.. милейшие союзники!.. Дорогие союзники… Они и Реставрация положили начало моему благополучию!» Я тогда сразу поняла, что несомненно это бывшая эмигрантка.
— Госпожа де ла Сент-Коломб эмигрантка! — разразился громким смехом Дюпон. — Ах ты, бедняжка!.. простота ты, простота деревенская!
— А ты воображаешь, что ты уж и мудрец, потому что прожил три года в Париже!
— Оставим этот разговор, Катрин: есть вещи, о которых такие хорошие и честные женщины, как ты, никогда и знать не должны.
— Я не понимаю, что ты этим хочешь сказать! А только, по-моему, тебе неплохо бы придержать язык; ведь если эта барыня купит замок, ты, небось, рад будешь остаться у нее управителем?
— Это верно… стары мы с тобой, Катрин. Вот уж двадцать лет с лишком прожили здесь, а ничего не нажили, уж больно честны были, чтобы награбить на старость… Тяжеленько будет в наши годы искать новое пристанище… да и найдем ли мы его? Эх, обидно, что госпожа Адриенна продает замок… Похоже, это ее желание… княгиня была против этого.
— А что, Дюпон, тебя не удивляет, что такая молодая барышня, как мадемуазель Адриенна, и вдруг сама распоряжается таким громадным состоянием?
— Что же тут удивительного? У нее нет ни отца, ни матери, и она сама себе голова! А голова у нее неглупая! Помнишь, давно уже, лет десять тому назад, когда они жили здесь летом, что это была за девочка? Настоящий бесенок! и умненькая, и лукавая! Глазенки-то так и горят! Помнишь?
— Да, мадемуазель Адриенна и тогда не походила ни в чем на своих сверстниц!..
— Если ее миленькая плутовская рожица сдержала обещания, то она должна быть прехорошенькая девушка! Да, прехорошенькая, несмотря на довольно рискованный цвет волос… потому что, говоря между нами, будь она не знатная барышня, ее бы попросту звали рыжей!
— Опять ты злословишь!
— Избави, Господи… особенно я не хотел бы сказать ничего дурного о мадемуазель Адриенне; она обещала быть столь же доброй, как и красивой!.. Я вовсе не насмехаюсь над ее волосами… напротив, как вспомнишь, какие они были тонкие и красивые, каким золотым ореолом окружали они ее белое лицо, как шли к чудным черным глазам, так невольно подумаешь, что было бы жаль, если бы они были другого цвета! Я убежден, что они даже придают определенную пикантность красоте Адриенны. Мне кажется, что она похожа, благодаря им, на настоящего очаровательного бесенка!
— О, если насчет этого, то она действительно бесенка напоминает!.. Лазит, бывало, по деревьям, дразнит гувернантку, бегает по парку… словом, ни шагу без шалостей!
— Это правда, не спорю, что касается проказ, она настоящий чертенок! Но зато какая умница, ласковая, добрая! Помнишь, что это за добрая душа?
— Верно, что очень добрая. Не забыл, как она сняла с себя шаль и платье и отдала бедной девочке, а сама прибежала домой в одной юбчонке, с голыми плечами…
— Видишь, какое доброе сердце! Ну, а уж головка… головка шалая!
— И опасная! Это не могло хорошо кончиться, особенно в Париже… Ну, кажется, она там и наделала дел!.. таких дел!..
— Что такое?
— Видишь, мой друг, я не смею…
— Расскажи, пожалуйста.
— Видишь, мой друг, — начала госпожа Дюпон с замешательством: заметно было, что ее даже страшило повторять рассказы о таких ужасах. — Видишь… говорят, что она ни ногой в церковь… что она живет одна в каком-то языческом храме, в саду теткиного особняка… что ей прислуживают женщины в масках, одевающие ее языческой Богиней, а она их бьет и царапает целыми днями… потому что напивается допьяна… Не говоря уж о том, что она ночами напролет играет на громадном золотом охотничьем роге… нарочно, чтобы сводить с ума несчастную княгиню, которая в полном отчаянии от всего этого!..
Управляющий громким взрывом хохота прервал речь жены.
— Откуда ты все это выкопала? — спросил он, справившись с припадком смеха. — Кто тебе насказал подобных сказок?
— Да жена Рене, которая ездила в Париж наниматься в кормилицы. Она была у госпожи Гривуа, своей крестной матери… а ты знаешь, что мадам Гривуа — старшая горничная княгини Сен-Дизье… вот она-то все это и рассказала… а уж кому лучше знать, раз она так давно живет в доме!
— Тонкая бестия эта мадам Гривуа!.. Ловкая была шельма в прежние годы… видала виды!.. а теперь, по примеру своей барыни, в святоши записалась!.. Вот уж правда-то, что каков поп, таков и приход!.. Ведь и сама-то княгиня; такая теперь святая недотрога, в свое время ловко кутила… нечего сказать… не стеснялась!.. Лет пятнадцать тому назад это была такая ветреница, что только держись! Небось, ты сама помнишь того красивого гусарского полковника, что стоял в Аббевиле? Помнишь, он еще служил в русской армии, когда эмигрировал… а потом Бурбоны после Реставрации дали ему полк?
— Помню, помню! Экий у тебя злой язык, друг мой!
— Отчего же злой? Я говорю истинную правду!.. Полковник вечно торчал в замке, и все говорили, что он в очень близких отношениях с княгиней, что не мешает ей теперь представляться святой!.. Славное было времечко!.. Всякий вечер или бал, или спектакль… А уж какой весельчак был этот полковник, как славно он играл на сцене!.. Я помню, раз…
Дюпону не удалось докончить рассказ. В комнату вбежала толстая служанка в деревенском наряде и торопливо обратилась к своей госпоже:
— Мадам… там какой-то господин приехал… ему нужно видеть месье Дюпона… Он на почтовых приехал из Сен-Валери… зовут его месье Роден…
— Месье Роден! — воскликнул, вскочив с места, управляющий. — Зови его сюда… проси…
Роден вошел в комнату. Он, по обыкновению, был одет более чем просто и смиренно раскланялся с Дюпоном и с его женой, которая тотчас же исчезла из комнаты, повинуясь знаку мужа.
Безжизненное лицо Родена, тонкие, почти незаметные губы, крошечные глазки, полуприкрытые толстыми веками, почти нищенское платье… все это не располагало в его пользу. Но этот человек умел, когда нужно, с таким дьявольским искусством надеть на себя личину добродушия и прямоты, слова его дышали такой искренностью и лаской, что неприятное впечатление, производимое его отталкивающей внешностью, невольно исчезало, и он ловко вводил в заблуждение доверчивых людей, опутывая их совершенно незаметно своими вкрадчивыми, елейными, коварными речами. Уродливость и зло обладают такой же силой обольщения, как красота и добро!
Честный Дюпон невольно с изумлением взглянул на появившегося странного господина. Его вид вовсе не вязался со строгими приказаниями и наставлениями о всяческом почете, предписанном управляющим княгини. Он даже не удержался и, еле скрывая изумление, спросил:
— С вами ли, господин Роден, я имею честь говорить?
— Да, месье!.. Вот вам еще письмо от управляющего княгини Сен-Дизье.
— Не угодно ли вам, месье, погреться у камина, пока я прочитаю письмо; сегодня ужасная погода, — хлопотал услужливый управляющий. — Не прикажете ли чего закусить?
— Благодарю вас, месье… весьма обязан… не хлопочите. Я должен через час уехать назад…
Пока Дюпон читал письмо, Роден с любопытством оглядывал комнату; часто по самому незначительному признаку, по какой-нибудь мелочи в обстановке ему удавалось составить мнение о хозяевах дома и их характере. Здесь это было сделать невозможно.
— Отлично, милостивый государь, — сказал Дюпон, прочитав письмо, — господин управляющий приказывает мне оказать вам все требуемые вами услуги… Я готов. Что прикажете?
— Мне многого не потребуется… я вас недолго буду затруднять…
— Помилуйте, месье… это для меня честь, а не труд…
— Ну, что вы говорите! Я знаю, как вы заняты. Достаточно войти в замок, чтобы по его порядку, по особенной чистоте понять вашу заботливость и усердие.
— Вы мне льстите, месье… мне совестно, право…
— Льстить! я… помилуйте! Подобная вещь и в голову не придет такому старому простаку, как я… Однако вернемся к делу. Имеется здесь комната под названием «зеленая комната»?
— Да, месье. Это был прежде кабинет графа де Кардовилля.
— Вы будете добры проводить меня туда?
— К несчастью, месье, это невозможно… После смерти графа и после снятия печатей в эту комнату сложили множество бумаг и заперли дверь на ключ, который был увезен доверенным лицом княгини в Париж.
— Ключи у меня, — сказал Роден, показывая два ключа, большой и маленький.
— А! тогда дело другое… Вы приехали взять бумаги?
— Да, некоторые из них… и, кроме того, небольшую шкатулку из кипариса с серебряным замком. Вы ее видали?
— Да, месье, очень часто на письменном столе графа. Она стоит на том бюро, ключ от которого у вас в руках…
— Значит, в соответствии с позволением княгини, вы не откажетесь провести меня в эту комнату?
— Пожалуйте… А как здоровье княгини?
— Слава Богу… она, по обыкновению, погружена в благочестие.
— А мадемуазель Адриенна?
— Увы! — подавленно и горестно вздохнул Роден.
— Неужели с доброй мадемуазель Адриенной случилось какое-нибудь несчастье?
— Что вы под этим подразумеваете?
— Ну, болезнь, что ли.
— К несчастью, она здорова… красива и здорова!..
— К несчастью! — повторил с изумлением управитель.
— Увы, да! Когда красота, здоровье и молодость соединены с таким непокорным и развращенным умом и характером, то лучше, если бы их не было!.. а то это лишний повод к погибели!.. Но, прошу вас… оставим этот разговор… поговорим о другом… мне слишком неприятна эта тема…
И Роден, взволнованным голосом произнеся эти слова, смахнул с глаз левой рукой несуществующую слезу.
Управитель слезы не видал, но движение заметил, а также слышал горестное волнение в голосе Родена… Он растрогался и продолжал:
— Простите меня за нескромное любопытство… я не знал…
— Нет, вы меня простите за неуместную, невольную чувствительность… Знаете, старики редко плачут… Но если бы вы видели отчаяние добрейшей княгини… а между тем она ведь ни в чем не виновата, кроме как в излишней доброте… и слабости к племяннице… в том, что недостаточно ее сдерживала… Но оставим этот разговор, милейший господин Дюпон…
После нескольких минут молчания, справившись со своим волнением, Роден сказал:
— Ну-с, я исполнил, значит, часть своего поручения, что касается «зеленой комнаты»; остается другая часть… Прежде чем я туда пойду, я должен вам напомнить об одной вещи, которую вы, быть может, давно забыли… Не помните ли вы, как здесь гостил лет пятнадцать или шестнадцать тому назад маркиз д'Эгриньи… гусарский полковник… стоявший с полком в Аббевиле?
— Как же! Такой красивый офицер! Я даже недавно говорил о нем с женой! Такой веселый… он всех здесь забавлял своими затеями… И как прекрасно он играл на сцене… особенно разных волокит и шалопаев… знаете в «Двух Эдмондах». Он просто всех уморил со смеху в роли пьяного солдата… И какой у него был чудный голос!.. Он пел здесь в «Джоконде» так, как, пожалуй, и в Париже не споют…
Роден, слушавший с любезной улыбкой Дюпона, сказал ему наконец:
— Вы, значит, знаете и то, что после-ужасной дуэли с бешеным бонапартистом, генералом Симоном, маркиз д'Эгриньи (у которого в данную минуту я имею честь быть личным секретарем) променял саблю на рясу и сделался духовным лицом?
— Как? Неужели?.. такой красивый полковник?
— Да, этот красавец-полковник, храбрый, благородный, богатый, пользовавшийся в свете громадным успехом, все бросил, чтобы надеть черную рясу. И, несмотря на свое знатное имя, свои связи, положение, славу красноречивого проповедника, он и через четырнадцать лет остался тем же, чем и был: бедным, простым священником… вместо того, чтобы сделаться архиепископом или кардиналом, как многие другие, не имеющие ни его заслуг, ни его добродетелей, — Роден рассказывал все это так благодушно и уверенно, факты говорили сами за себя, что Дюпон невольно воскликнул:
— Но ведь это совершенно бесподобно!..
— Что же тут особенного? Господи! — продолжал Роден с наивным видом. — Это абсолютно просто и понятно, когда знаешь, что за человек маркиз д'Эгриньи… Главное, впрочем, его качество — это никогда не забывать хороших людей, честных, верных и добросовестных… вот почему он вспомнил и о вас, господин Дюпон!
— Как? Господин маркиз удостоил…
— Три дня тому назад я получил от него письмо, где он говорит о вас.
— Значит, он теперь в Париже?
— Его там ждут со дня на день. Вот уже скоро три месяца, как он в Италии… за это время его поразило страшное несчастье: он потерял мать, умершую в одном из поместий княгини де Сен-Дизье.
— Боже мой!.. я и не знал!..
— Да, это для него тяжелое испытание, но надо уметь покоряться воле Провидения!
— По какому поводу господин маркиз оказал мне честь, упомянув обо мне?
— Сейчас я вам скажу… Во-первых, должен вас предупредить, что замок продан… Накануне моего отъезда из Парижа была подписана купчая…
— Ах, месье… вы вновь пробудили во мне тревогу!
— Как так?
— Да я боюсь, что новый владелец не захочет меня оставить управляющим.
— Видите, как славно, я ведь только что собирался с вами потолковать об этом месте…
— Неужели, месье? Разве так можно устроить?
— Конечно… Зная, как вами интересуется господин маркиз, я, конечно, употреблю все силы, чтобы оставить вас здесь… я сделаю все возможное…
— Ах, месье! как я вам благодарен… вот уж поистине сам Бог вас сюда привел!
— Вы мне льстите!.. Однако, должен вам сказать, обязан поставить одно условие… без которого я не смогу вам быть полезен…
— Помилуйте, я готов исполнить… прошу вас, говорите скорей…
— Особа, которой принадлежит теперь замок, некто госпожа де ла Сент-Коломб. Имя этой почтенной…
— Как, месье, так это она купила замок?.. госпожа де ла Сент-Коломб?
— Разве вы ее знаете?
— Да… она приезжала сюда с неделю тому назад осмотреть поместье… Моя жена утверждает, что эта дама принадлежит к высшему обществу… но, между нами сказать… судя по некоторым ее словечкам… я…
— Вы очень проницательны, господин Дюпон… Госпожа де ла Сент-Коломб знатной дамой сроду не бывала… Мне кажется, она просто была модисткой в Пале-Рояле. Видите, я говорю вам вполне откровенно.
— Но она похвалялась, что ее постоянно посещали знатные и важные особы.
— Вероятно, чтобы заказать жене шляпку!.. Во всяком случае, она скопила большие деньги… и, будучи до сего времени, к несчастью, очень безразличной… или даже хуже того… к спасению своей души… в последнее время она, благодаря Богу, ступила на путь истинный… Это, конечно, не может не внушить к ней самого глубокого почтения, потому что ничего не может быть выше искреннего раскаяния… особо, если оно прочно… Но вот для укрепления ее на пути истинном нам и нужна ваша помощь, господин Дюпон!
— Моя помощь?.. Что же я могу сделать?..
— Многое. И вот каким образом. Как вам известно, в замке нет церкви… На совершенно равном от него расстоянии находятся два прихода… Госпожа де ла Сент-Коломб, желая сделать между ними выбор, конечно, обратится за советом к вам и к вашей жене как к местным старожилам…
— О! Совет немудрено дать! Лучше аббата Даникура человека на свете нет!
— Вот об этом-то и следует умолчать!
— Но как же?
— Напротив, надо всеми силами расхваливать священника из другого прихода, из Руавиля; необходимо, чтобы госпожа де ла Сент-Коломб избрала в духовники его…
— Но почему именно его?
— Почему? А вот почему: если вы убедите госпожу де ла Сент-Коломб сделать желаемый мною выбор, то место управителя останется за вами… Я вам это обещаю, а я умею держать обещания!
— Я не сомневаюсь в этом, — ответил Дюпон, смущенный авторитетным тоном Родена, — но мне бы желательно знать, почему…
— Позвольте… еще одно словечко, — прервал его Роден. — Я веду игру открытую и объясню вам причины настоятельного требования… Я не хочу, чтобы вы хоть минуту думали, что тут какая-нибудь интрига. Напротив, желаю сделать доброе дело. Священником в Руавиле, о котором я вас прошу, очень интересуется маркиз д'Эгриньи. Это очень бедный человек, и на его руках старуха-мать. Если бы он взял на себя обязанность руководить госпожой де ла Сент-Коломб, никто бы усерднее его не занялся делом спасения ее души, в этом порукой его благочестие и терпение… а кроме того, небольшая денежная помощь богатой особы дала бы ему возможность усладить последние дни старухи-матери. Вот вам и весь секрет! Когда я узнал, что дама покупает данное имение, лежащее невдалеке от прихода нашего протеже, я сейчас же написал об этом маркизу, а он поручил мне попросить вас об услуге. Услуга за услугу, и вы останетесь здесь управляющим.
— Видите ли, — после нескольких минут раздумья ответил Дюпон, — вы так добры, так откровенны, что я также обязан быть откровенным. Видите, аббат Даникур любим и уважаем всеми в округе… между тем священник в Руавиле… о котором вы просите… нелюбим за его нетерпимость… кроме того…
— Кроме того?
— Да видите ли… говорят…
— Ну, смелее… что же говорят?
— Говорят, что он иезуит!..
При этих словах Роден разразился хохотом так громко и беззаботно, что Дюпон взглянул на него с изумлением. Действительно, физиономия Родена принимала в ту минуту, когда он смеялся, очень странное выражение.
— Иезуит! Ха-ха-ха, — продолжал смеяться Роден. — Иезуит! Ах вы, мой милейший господин Дюпон, как это вы с вашим умом можете верить таким сказкам?.. Иезуит! Да разве теперь есть иезуиты? В наше-то время?.. Как вы можете верить якобинским россказням, этим оборотням былого либерализма? Я уверен, что вы все это вычитали в газете… конечно, в «Конститюсьоннеле»!
— Однако месье, говорят…
— Мало ли глупостей говорят! Но люди дельные, умные, словом, такие, как вы, не обращают внимания на подобные сплетни; они делают свое дело, не вмешиваясь в чужие дела и не причиняя никому вреда. А главное — они не жертвуют хорошим местом, обеспечивающим их старость во имя нелепых предрассудков. Между тем, как мне ни грустно, а я должен вас предупредить, что если госпожа де ла Сент-Коломб выберет себе духовником другого священника, то остаться вам здесь не придется!
— Но помилуйте! — воскликнул несчастный Дюпон. — Разве моя вина, если этой даме кто-нибудь другой расхвалит того священника? Что же я-то могу тогда сделать?
— Что? Ну, видите, я знаю, что если люди, живущие здесь издавна, люди, достойные доверия, которых она будет видеть ежедневно… станут хвалить ей как можно чаще моего протеже, а другого священника бранить, рассказывая о нем разные ужасы… то несомненно она им поверит… и вы останетесь здесь управляющим!
— Но… ведь это будет уже клевета! — вскричал Дюпон.
— Ах, милейший месье Дюпон! — с грустным упреком заметил Роден. — Как вы могли подумать, что я способен дать вам дурной совет?.. Я просто высказал предположение! Вы желаете остаться здесь управляющим, и я указываю вам способ им сделаться… Способ этот самый верный… а остальное в вашей воле!
— Но, месье…
— Позвольте, позвольте… Еще одно условие… и более обязательное, чем первое… К несчастью, случается, что недостойные служители церкви, пользуясь слабостью престарелых особ, уговаривают их завещать или передать имение себе или другому подставному лицу. Я твердо надеюсь, что тот, за кого я хлопочу, этого не сделает… Но все-таки, чтобы снять с меня ответственность, а главное, снять ее с себя — так как этот священник попадет сюда благодаря вашим же хлопотам… вы должны будете еженедельно два раза писать мне подробные письма, касающиеся занятий, привычек, гостей и даже книг госпожи де ла Сент-Коломб… Влияние духовника отражается на всей жизни кающейся, и я хочу знать все о поведении моего протеже, так, чтобы он и не подозревал об этом… И если случатся какие-либо события… то, благодаря сведениям, получаемым от вас еженедельно, я буду знать все вовремя!
— Но ведь это целая система шпионажа! — воскликнул в ужасе Дюпон.
— И как вам не стыдно, мой милый господин Дюпон, таким позорным именем пятнать самую чистую, самую благородную склонность человека… склонность к доверию?.. О чем я вас прошу? Только о том, чтобы вы с полным доверием писали мне про все, что здесь происходит!.. При точном исполнении двух условий вы останетесь управляющим… Если же нет… то, как мне это ни больно, я должен буду рекомендовать госпоже де ла Сент-Коломб другого человека!
— Месье, умоляю вас, — взволнованным голосом начал Дюпон. — Будьте великодушны… не ставьте мне таких условий… Мы с женой слишком стары, чтобы искать новое место… Пожалейте нас, не испытывайте сорокалетнюю честность угрозой голода и нищеты… Страх — дурной советник.
— Вы просто большое дитя, милейший господин Дюпон… Я даю вам неделю на размышление… затем буду ждать ответа…
— Пожалейте нас… прошу вас, умоляю!..
Эта беседа была прервана страшным гулом; береговое эхо повторило его несколько раз.
Затем, снова и снова повторилось то же явление.
— Пушка!.. — воскликнул, вскочив с места, Дюпон. — Пушка! Должно быть, какое-нибудь судно гибнет или требует лоцмана!..
— Друг мой, — сказала, вбегая в комнату, госпожа Дюпон, — с террасы видны два корабля, пароход и парусное судно, почти без мачт… волны гонят его прямо на берег… парусник дает пушечные сигналы в знак того, что гибель близка… Несчастные погибли!..
— О! какой ужас! и не иметь возможности оказать какую-нибудь помощь! Стоять и смотреть на гибель людей не будучи в состоянии помочь! — воскликнул управляющий, схватив шляпу и направляясь к выходу.
— Разве нельзя им никак помочь? — спросил Роден.
— Если буря гонит их на скалы, то человеческая помощь совершенно бессильна… никто не может их спасти… Вот уже два корабля погибли здесь после осеннего равноденствия!
— Погибли люди и имущество? Это ужасно! — заметил Роден.
— Мало шансов на спасение и этих несчастных в такую бурю… Но все-таки я побегу на берег: быть может, мы с работниками кого и спасем; а ты, — сказал Дюпон, обращаясь к жене, — иди скорее затопи камин в двух-трех комнатах, приготовь белье, платье… чего-нибудь согревающего… Я не надеюсь на успех, но попробовать все-таки необходимо… Вы пойдете со мной, господин Роден?
— Если бы я мог быть вам полезен, то, конечно, пошел бы, — отвечал Роден, не имевший ни малейшего желания подвергать себя опасности, — но старость и слабость делают меня непригодным ни к чему. Я попрошу вашу жену указать мне, где зеленая комната, возьму то, что мне нужно, и затем поеду обратно… Я ведь должен торопиться.
— Хорошо, месье. Катрин вас проводит, а ты, — обратился Дюпон к служанке, — иди позвони в большой колокол; пусть рабочие захватят веревки и крюки и идут ко мне на берег…
— Хорошо, хорошо. Только уж очень не рискуй!
— Ладно, жена; поцелуй меня на дорогу: авось это принесет мне счастье… Но надо бежать… а то от этих несчастных кораблей и следа не останется!..
— Не угодно ли вам будет, мадам, проводить меня в зеленую комнату? — сказал с полным равнодушием Роден.
— Пожалуйста! — отвечала Катрин, утирая слезы.
Бедная женщина боялась за мужа: она знала, как он отважен и смел.
2. БУРЯ
Страшен вид бушующего моря… Громадные волны темно-зеленого цвета с белыми гребнями пены, то вздымаясь, то падая, вырисовываются на огненно-красной полосе горизонта. Тяжелые черные тучи мчатся, подгоняемые яростным ветром, по мрачному небу; под ними пробегают обрывки облаков красновато-серого цвета. Бледное зимнее солнце, готовое спрятаться за облаками, из-за которых оно медленно поднимается, бросая косые лучи на бушующее море, золотит прозрачные гребни высоко взлетающих волн.
Вокруг утесов, которыми усеян скалистый и опасный берег, волнуется и кипит пояс белоснежной пены.
Вдали, на косогоре мыса, выдающегося в море, возвышается замок Кардовилль, окна которого горят огнем, отражая лучи солнца. Его кирпичные стены и шиферная кровля резко вырисовываются среди прозрачного тумана.
Огромный корабль с лоскутьями парусов и перебитым рангоутом несется к берегу.
Он то всплывает на хребты бунтующих волн, то стремительно погружается в глубину страшных разверзающихся пропастей.
Сверкнула молния… Среди громового раската раздался глухой шум, едва слышный среди рева бури. Это пушечный выстрел — сигнал бедствия несчастного корабля, несущегося к верной гибели.
В эту минуту к востоку шел пароход, окруженный облаком черного дыма, всеми силами стараясь уклониться от страшного берега, скалы которого оставались у него с левой стороны.
Корабль с поломанными мачтами должен был пройти с минуты на минуту под носом парохода, несясь, по воле ветра и прилива, на береговые утесы.
Вдруг пароход страшным порывом бури положило набок, огромная разъяренная волна обрушилась на палубу; в одну минуту труба опрокинулась, барабан разбился и одно из колес сделалось негодным для работы… Второй напор волны, следуя за первым, ударил пароход в борт и настолько увеличил повреждения, что пароход, потерявший управление, понесло к скалам вслед за кораблем.
Парусник, хотя и был далеко от утесов, предоставлял ударам ветра и моря свой борт и опережал пароход в приближении к опасности; вскоре он настолько сблизился с пароходом, что возможность столкновения стала практически неизбежной… Новая беда вдобавок к кораблекрушению становилась несомненной.
Трехмачтовый английский корабль «Белый орел» шел из Александрии, где он принял пассажиров с парохода «Рейтер», прибывших из Индии и с Явы и переправившихся через Суэцкий перешеек. По выходе из Гибралтарского пролива «Белый орел» должен был сделать остановку на Азорских островах, а затем идти на Портсмут, но северо-восточный ветер задержал его в проливе Ламанш.
Пароход под названием «Вильгельм Телль», шел из Германии по Эльбе; пройдя Гамбург, он направлялся к Гавру.
Оба судна, сделавшись игрушкой ветра, волн и прилива, неслись к утесам с ужасающей быстротой. Потрясающее зрелище представляла палуба того и другого судна. Неизбежная смерть угрожала пассажирам, об этом можно было судить по той неистовости, с какой суровые волны разбивались об утесы у подножия скалы.
Капитан «Белого орла» мужественно и хладнокровно отдавал последние приказания, стоя на корме и держась за обрывки снастей. Шлюпки сорвала буря. Впрочем, если бы они и сохранились, то спустить их не было никакой возможности. Оставалось одно средство спасения: связаться с берегом с помощью каната. Средство опасное и возможное лишь в том случае, если бы корабль не разбился о гряду скал.
Пассажиры, покрывавшие палубу, испускали отчаянные крики, еще больше усиливая всеобщее смятение. Некоторые, впрочем, не кричали. Одни из них, оцепенев от ужаса, держались за канаты, обломки мачт и ждали смерти в каком-то бесчувственном состоянии; другие ломали руки и бились в отчаянии на палубе, испуская страшные проклятия.
Женщины в ужасе закрывали лицо руками, чтобы не видеть приближения смерти, или, стоя на коленях, молились. Одна молодая мать с отчаянием бегала от матроса к матросу, умоляя спасти жизнь ее ребенку и предлагая драгоценности и кошелек, полный золота.
Все это смятение, крики и слезы разительно отличались от молчаливой и суровой покорности моряков. Признавая очевидность гибели, ужасной и неизбежной, одни из них снимали одежду, чтобы сделать последнее усилие для спасения жизни, другие, отказавшись от всякой надежды, стоически ожидали конца.
На мрачном фоне отчаяния и ужаса происходили сцены, трогательные и страшные.
Завернувшись в плащ, прислонясь спиной к обломку мачты и упираясь ногами в какой-то деревянный брус, стоял молодой человек лет восемнадцати или двадцати, с черными блестящими волосами, с правильным, красивым смуглым лицом медного оттенка и с выражением грустного спокойствия на челе. Такое выражение бывает обыкновенно у людей, привыкших к большим опасностям. Несчастная мать, тщетно молившая о спасении ребенка, заметила этого человека, столь спокойного среди общего смятения, и бросилась перед ним на колени, протягивая к нему в порыве невыразимого отчаяния свое дитя и золото. Молодой человек принял ребенка из рук несчастной, но, покачав печально головой, показал ей на разъяренные волны; затем выразительным жестом дал понять, что сделает все возможное для спасения малютки… Тогда женщина, в безумном опьянении пробудившейся надежды, начала целовать и поливать слезами руки молодого человека с лицом медного цвета.
Другой пассажир «Белого орла» оказал более активную помощь товарищам по несчастью. Казалось, ему не более двадцати пяти лет. Длинные белокурые локоны падали до плеч, обрамляя ангельское лицо. Одежда его состояла из длинной черной рясы и белого воротника. Он переходил от одного пассажира к другому, избирая тех, кто выказывал наибольшее отчаяние, утешая словами надежды или покорности. Слушая, как он ободрял одних и утешал других речью, исполненной нежности и любви, со спокойной кротостью и твердостью духа, можно было подумать, что он презирает опасность, которой подвергались в эту минуту все.
На прекрасном молодом лице лежало выражение такой святости и холодной неустрашимости, что, казалось, он вполне отрекся от всякого земного чувства. Напротив, во взоре его голубых глаз можно было прочесть столько любви и душевного спокойствия, что он как будто был даже благодарен Богу, подвергающему его такому испытанию, где мужественный и сердечный человек мог, жертвуя собой, если не спасти своих собратьев, то по крайней мере умереть с ними, указывая им на небо. Казалось, Творец послал этим несчастным одного из своих ангелов, чтобы облегчить удары неизбежной судьбы.
И рядом с ним, прекрасным, как архангел, находился другой человек, казавшийся исчадием ада. Трудно себе представить более резкий контраст!..
Отважно взобравшись на вершину обломка одной из мачт, этот человек, казалось, царил над сценой ужаса и отчаяния, которая разыгрывалась на палубе. Желтое лицо этого человека, метиса, по всем признакам выражало какую-то злобную, дикую радость. На нем была надета только рубашка и холщовые штаны, а на шее, на шнурке, висела жестяная коробка, похожая на те, которыми пользуются солдаты, пряча в них свои отпускные бумаги. Чем более увеличивалась опасность, чем сильнее несло корабль к утесам, чем ближе грозило страшное столкновение с пароходом, тем сильнее сияло выражение адской радости на его лице. Казалось, он ждал гибели корабля с каким-то хищным нетерпением. Видя, до какой степени наслаждался он сценами ужаса и отчаяния, можно было подумать, что это — посланник какого-нибудь кровожадного Божества варварских стран, требующих человеческих жертвоприношений.
Вскоре «Белый орел», подгоняемый ветром, так приблизился к пароходу «Вильгельм Телль», что пассажиры одного судна могли различить пассажиров другого.
Не много оставалось их на пароходе. Волна, оторвав барабан и колесо, унесла в море планшир и проделала такую брешь, что каждая из последующих волн отбирала все новые и новые жертвы.
В числе оставшихся, обреченных на не менее страшную участь — быть разбитыми о скалы или раздавленными при столкновении кораблей, — одна группа привлекала к себе особенно грустное и нежное внимание.
В задней части парохода, привязав себя к борту концом длинной веревки, стоял высокий старик с большой лысиной на голове и седыми усами. Он крепко прижимал к груди двух девушек, лет пятнадцати или шестнадцати, укутанных в тяжелую шубу из оленьего меха. У ног их сидела большая собака, с которой ручьями стекала вода и которая яростно лаяла на волны.
Девушки, обвитые руками старика, крепко прижимались одна к другой. На их лицах не видно было ни ужаса, ни боязни; их взоры, полные упования и надежды, обращены были к небу, как будто они доверчиво и с надеждой ожидали, что будут спасены в результате вмешательства какой-то сверхъестественной силы.
Вдруг раздался душераздирающий крик пассажиров обоих судов, казалось, покрывший грохот бури. Пароход, погрузясь в пучину волн, открыл боковую поверхность кораблю, который, поднявшись на самой высокой волне, висел над «Вильгельмом Теллем» в течение секунды, предшествовавшей столкновению…
Описать подобную сцену наивысшего ужаса абсолютно невозможно…
Во время таких катастроф, быстрых, как мысль, запечатлеваются иногда мимолетные картины, которые словно видишь при вспышке молнии. На корабле молодой человек с ангельски прекрасным лицом вскочил на борт, чтобы, ринувшись в море, спасти хоть кого-нибудь.
В эту минуту он увидел на борту парохода девушек, с мольбой простирающих к нему руки.
Казалось, они знали его давно и смотрели на него с неизъяснимым чувством восторга и благоговения.
Среди грохота бури, на краю гибели, взгляды этих трех существ на секунду встретились.
Черты молодого человека выразили глубокое сострадание: девушки умоляли его так, как если бы он был их ожидаемым спасителем.
Старик, сбитый с ног падением оснастки, свалился на палубу. Вскоре все исчезло.
Огромная масса воды, среди облака белой пены, опрокинула «Белого орла» на пароход.
Послышался страшный треск от столкновения громадных масс железа и дерева. Треск этот сопровождался страшным криком агонии и смерти погибавших в морской пучине.
Затем ничего не стало видно. Только несколько минут спустя среди разъяренных волн показались обломки кораблей, тут и там виднелись руки, мелькали посинелые, полные отчаяния лица нескольких уцелевших путешественников, пытавшихся вплавь достигнуть берега, с риском быть раздавленными под напором яростно разбивавшихся об утесы волн.
3. ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Пока управляющий бежал на берег моря, чтобы попытаться оказать помощь пассажирам, которые могли спастись после неминуемого кораблекрушения, Роден, проведенный Катрин в зеленую комнату, взял там вещи, за которыми приехал из Парижа.
Роден провел в зеленой комнате часа два и вернулся в комнату, прилегавшую к длинной галерее; его нисколько не заботила судьба гибнущих кораблей, волновавшая в данный момент всех обитателей замка. Он принес с собой почерневшую от времени шкатулку с серебряным замком, а из бокового кармана у него торчал красный сафьяновый бумажник. В комнате в ту минуту не было никого.
Размышления Родена были прерваны появлением мадам Дюпон, которая усердно готовилась оказать помощь потерпевшим крушение.
— Теперь разведи и в соседней комнате огонь; да поставь вино греться, — говорила Катрин служанке. — Месье Дюпон должен скоро вернуться.
— Ну что, — спросил Роден, — можно надеяться на спасение этих несчастных?
— Увы! не знаю, месье… Вот уже два часа как мужа нет… Я в смертельной тревоге: он до безрассудства отважен, когда речь идет о спасении людей…
— Отважен… до безрассудства, — раздраженно прошептал Роден. — Это мне совсем не нравится!
— Я там все приготовила, — продолжала Катрин, — и согретое белье, и лекарства… Дал бы только Бог, чтобы это кому-нибудь пригодилось!
— Не следует никогда терять надежды, мадам. Мне очень жаль, что я не мог помочь вашему супругу: годы уже не те!.. Еще больше жаль, что я даже и дождаться его не могу, чтобы узнать об исходе его трудов… и порадоваться с ним, если они будут удачны… К несчастью, мне надо ехать: у меня каждая минута на счету… Будьте добры, прикажите заложить мне лошадей.
— Сейчас.
— На одно словечко, мадам Дюпон… Вы женщина добрая и умная… Я предложил вашему мужу остаться здесь управителем…
— Неужели, месье? Ах, какое счастье, как мы вам благодарны! Мы просто бы погибли без этого места…
— Я только поставил ему два условия… пустяшные… он вам потом расскажет…
— Ах, месье! Вы нас спасаете!
— Вы слишком добры!.. Но вот эти два маленьких условия.
— Мы не два, а сто условий выполнить готовы! Подумайте: у нас решительно нет ничего… и если потеряем это место, не имея ни гроша…
— Значит, я рассчитываю на вас… Учитывая ваши собственные интересы, я вам советую… повлиять на вашего супруга…
— Господин Дюпон возвращается! — воскликнула, вбегая в комнату, служанка.
— Ведет он кого-нибудь?
— Нет, мадам, он один.
— Один?.. Как один?
В эту минуту в комнату вошел господин Дюпон. С платья его струилась вода, шляпу он был вынужден привязать к голове при помощи галстука, а гетры были до колен в грязи.
— Наконец-то ты вернулся, мой друг. Я страшно беспокоилась! — воскликнула Катрин, нежно обнимая мужа.
— Пока спасли троих!
— Ну, слава Богу, господин Дюпон, — заметил Роден, — хоть недаром вы потрудились.
— Боже мой! Трое… только трое! — сказала Катрин.
— Я говорю только о тех, кого я видел в заливе Гоэланд. Может, и в других местах кого-нибудь еще спасли.
— Ты прав… Берег не везде одинаково опасен.
— А где же те, кого спасли? — сказал Роден, невольно задерживаясь с отъездом.
— Они поднимаются сюда… им помогают наши люди. Так как они быстро идти не могут, то я побежал вперед, чтобы все здесь приготовить. Во-первых, жена, необходимо принести женские платья…
— Значит, спаслась и женщина?
— Даже двое: молоденькие девочки лет пятнадцати-шестнадцати… совсем еще дети и такие хорошенькие!..
— Бедные, малютки! — сокрушенно заметил Роден.
— С ними идет и тот, кто спас их жизнь… вот уж настоящий герой!
— Герой?
— Да… представь себе…
— Ну, ты мне это расскажешь после… А теперь надень покуда хоть халат… ведь ты совсем промок… нитки сухой не осталось… И еще… выпей подогретого вина…
— Не откажусь… я совсем промерз… Так я тебе говорю, спаситель этих девушек — настоящий герой!.. Он показал просто беспримерную храбрость. Когда мы, я и работники с фермы, спустились к подножию утеса, к маленькому заливу Гоэланд, отчасти защищенному выступами скал от сильного прибоя, то увидели этих самых девушек, ноги которых были еще в воде, а тела на суше. Естественно, их вытащили из воды и положили на берег…
— Бедные девочки… это ужасно! — сказал Роден, привычным жестом смахивая несуществующую слезу.
— Меня поразило, во-первых, что малютки так походят друг на друга, — продолжал управляющий, — что их, не зная, невозможно различить…
— Верно, близнецы, — заметила его жена.
— Одна из девушек держала в руке небольшую бронзовую медаль, висевшую у нее на шее, на бронзовой же цепочке.
Господин Роден держался обыкновенно сгорбившись. При последних словах Дюпона он невольно выпрямился, и краска на минуту оживила его мертвенное лицо. У человека, привыкшего к сдержанности, каким был Роден, подобные признаки волнения, совершенно ничего не значащие у другого, указывали на сильнейшее смятение. Подойдя поближе к Дюпону, он спросил слегка изменившимся голосом, но сохраняя безразличный вид:
— А вы не заметили, что было написано на этой медали?.. вероятно, это какой-нибудь образок?
— Я, знаете ли, месье, об этом не подумал.
— И девушки, вы говорите… очень похожи друг на друга?
— Удивительно похожи!.. верно, это сиротки, потому что они в трауре…
— А! в трауре?.. — переспросил Роден, вновь испытывая волнение.
— Увы!.. такие молоденькие и уже сиротки! — воскликнула госпожа Дюпон, утирая слезы.
— Они были в обмороке, и мы перенесли их подальше, на более сухое место… Когда мы этим занимались, то увидали у скалы голову человека, употреблявшего неимоверные усилия, чтобы на нее взобраться. Мои люди подбежали к нему и схватили его за руки… и вовремя: как раз в эту минуту он потерял сознание. Я потому назвал его героем, что он, не довольствуясь спасением девушек, снова бросился в море, чтобы спасти еще одну жертву… Но силы ему изменили, и не будь наших работников, ему бы не удержаться на утесе.
— Да… это настоящий подвиг!
Месье Роден, казалось, не слушал больше разговора управляющего с женой. Он опустил голову и крепко задумался. И чем больше он размышлял, тем сильнее возрастали его смятение и ужас: спасенные девушки имели на вид по пятнадцати лет, были в трауре, поразительно походили друг на друга, и на шее у одной оказалась бронзовая медаль: без сомнения, это были дочери генерала Симона. Но как они попали сюда? Как они вышли из Лейпцигской тюрьмы? Почему его об этом никто не уведомил? Не сбежали ли они? Или их освободили? Но почему ему не дали знать? Все эти мысли теснились в голове Родена, причем их подавляла одна главная мысль: «Дочери генерала Симона во Франции», — указывавшая на то, что интрига, так хитро задуманная, не удалась.
— Когда я говорю о спасителе молодых девушек, — продолжал Дюпон, обращаясь к жене и не замечая озабоченности Родена, — ты, быть может, представляешь себе Геракла?.. Ничуть не бывало… Это совсем еще юноша, почти дитя. Как он хорош со своими длинными белокурыми локонами! Бедняга был в одной рубашке, и я оставил ему свой плащ. Меня удивило, что на нем были длинные черные чулки и такие же панталоны…
— Правда… моряки так не одеваются.
— Впрочем, хотя судно было и английское, но этот молодой человек несомненно француз: он говорит на нашем языке не хуже меня… Но что было необыкновенно трогательно, — это когда молодые девушки пришли в себя… Увидав своего спасителя, они бросились перед ним на колени и начали благодарить его с таким выражением, как будто молились Богу… затем, оглядевшись кругом, как бы кого-то отыскивая, они перемолвились несколькими словами и, заплакав, бросились друг другу в объятия.
— Боже ты мой, какое кораблекрушение! Сколько же жертв!
— Море выкинуло уже семь трупов, прежде чем мы ушли… выброшено также множество обломков, ящиков. Я дал знать таможенникам… они будут там караулить весь день. Если еще кто-нибудь спасется, их пришлют сюда же… Но послушай… мне послышались голоса?.. Да, да, это наши спасенные!
И оба, муж и жена, побежали к дверям, выходившим в галерею, между тем как Роден грыз с досады свои плоские ногти, сердито и беспокойно ожидая прибытия спасшихся от кораблекрушения. Вскоре его глазам представилась следующая картина.
Из глубины довольно длинной и темной галереи — она освещалась только с одной стороны узкими окнами — медленно приближались три человека в сопровождении крестьянина. Это были две девушки и их отважный спаситель. Роза и Бланш поддерживали с двух сторон молодого человека, который, с трудом передвигая ноги, опирался на плечи девушек. Несмотря на то, что ему минуло уже двадцать пять лет, он казался гораздо моложе. Длинные и мокрые пепельно-белокурые волосы, разделенные спереди пробором, падали на воротник широкого коричневого плаща, в который его укутали. Трудно было бы описать необыкновенную красоту бледного и кроткого молодого лица. В самых лучших своих творениях кисть Рафаэля не создавала ничего прекраснее. Но только такой Божественный художник и мог бы передать грустную прелесть этого дивного лица, чистоту небесного взора, ясного и глубокого, как очи архангела или мученика, возносящегося на небо. Да, мученика, потому что кровавый венец уже опоясывал это прелестное чело.
Грустное впечатление производил глубокий рубец, покрасневший от холода, охватывавший его лоб над бровями точно красным шнуром. На руках были также следы глубоких ран, точно следы распятия; такие же раны были и на ногах. Он двигался с таким трудом оттого, что раны раскрылись во время борьбы с морем, когда он спешил на помощь утопающим, ступая по острым камням утесов.
Это был Габриель, миссионер, приемный сын жены Дагобера. Габриель был одновременно священником и мучеником, так как и в наши дни есть еще мученики, как во времена цезарей, когда первых христиан бросали львам и тиграм в цирке. И в наши времена храбрые сыны народа, — потому что обыкновенно из них вербуются такие люди, — идут под влиянием бескорыстного и героического усердия, повинуясь святому призванию, во все страны света, чтобы, не страшась ни мучений, ни смерти, распространять святую веру.
И сколько из них падают безвестными жертвами варваров в пустынях двух континентов! И этих скромных солдат святого креста, богатых только отвагой и верой, по возвращении не ждут ордена и награды от духовной власти — а возвращаются они редко. Ни пурпур, ни митра не украшают их покрытого шрамами чела, их изуродованных членов: как большинство знаменосцев, они падают не известные никому note 13.
В порыве благодарности дочери генерала Симона, когда они пришли в себя, никому не позволяли помочь миссионеру, вырвавшему их из рук смерти и еле державшемуся на ногах.
С черных платьев сестер вода бежала ручьями. Их бледные лица выражали глубокую печаль, следы недавних слез виднелись на щеках. Бедные девочки дрожали от волнения и холода и казались совсем убитыми печалью. С потухшими глазами и отчаянием в душе, они думали, что никогда им уж больше не видать их друга и покровителя, старика Дагобера, — так как Габриель именно его и хотел спасти, когда сам чуть не погиб, сорвавшись с утеса; у него не хватило сил на последнее усилие, и волна отнесла в море несчастного солдата.
Появление Габриеля было новой неожиданностью, поразившей Родена, который отошел в сторону, чтобы спокойно наблюдать. Но на этот раз новость была столь радостна, что почти сгладила неприятное впечатление, вызванное появлением дочерей генерала Симона. Спасение Габриеля было настоящим благодеянием судьбы, так как для ордена было в высшей степени необходимо присутствие молодого миссионера 13 февраля в Париже.
Управляющий и его жена с нежным участием занялись сиротами.
— Хозяин… хозяин… хорошие вести!.. — кричал работник, вбегая в комнату. — Еще двоих спасли…
— Слава тебе, Господи! — воскликнул миссионер.
— Где же они? — спросил Дюпон, направляясь к выходу.
— Один сам идет с Жюстеном, а другой сильно ранен, разбившись об утес, и его несут на носилках.
— Я пойду устрою его внизу, — сказал управляющий, уходя, — а ты, жена, позаботься о барышнях.
— А где же тот, кто может идти? — спросила госпожа Дюпон.
— Вот он! — сказал работник, указывая на приближавшегося по галерее человека. — Когда он узнал, что барышень спасли и они ушли сюда, так, несмотря на то, что он старик и ранен в голову, он так быстро пошел, что я еле его обогнал!
Не успел крестьянин закончить речь, как Роза и Бланш бросились к дверям, и в это самое время на пороге показался Дагобер.
Солдат не мог произнести ни слова от волнения.
Он упал на колени и открыл объятия дочерям Симона, между тем как Угрюм скакал вокруг них и лизал руки… Бедный Дагобер не смог перенести волнения, охватившего его при виде детей; покачнулся и упал бы навзничь, если бы его не подхватили… Решено было перенести солдата в соседнюю комнату, и девушки последовали за ним, несмотря на замечание Катрин, что они сами устали.
При виде Дагобера Родена передернуло. Он надеялся, что верный покровитель сирот погиб.
Габриель, страшно усталый, оперся о стул. Он еще не заметил Родена.
В комнату вошел желтолицый человек и направился к Габриелю, на которого ему указал провожавший его крестьянин. На желтолицего успели уже надеть крестьянское платье, и он, подойдя к миссионеру, сказал довольно хорошо по-французски, только с иностранным акцентом:
— Принца Джальму только что принесли… он просил позвать вас.
— Что говорит этот человек? — воскликнул Роден, приблизясь к Габриелю.
— Господин Роден! — произнес Габриель, сделав от изумления шаг назад.
— Господин Роден! — воскликнул вновь прибывший, и с этой минуты уже не сводил глаз с корреспондента Жозюе.
— Вы… здесь? — сказал Габриель с боязливой почтительностью.
— Что вам сказал этот человек? — повторил Роден изменившимся голосом. — Не произнес ли он имени принца Джальмы?
— Да, месье. Принца Джальмы, одного из пассажиров английского судна, которое шло из Александрии и потерпело крушение. Этот корабль делал остановку на Азорских островах, где я находился. Судно, которое везло меня из Чарлстона, вынуждено было, вследствие больших повреждений, остаться там. Я пересел на «Белого Орла», на котором ехал принц Джальма. Мы направлялись в Портсмут; оттуда я намеревался возвратиться во Францию.
Роден не прерывал рассказа Габриеля, потому что его совершенно ошеломило новое известие. Наконец он решился задать еще один вопрос, хорошо понимая, что ответ будет неблагоприятный:
— А вы знаете, откуда этот принц Джальма и кто он такой?
— Молодой человек, столь же добрый, как и отважный… сын индийского раджи, изгнанный из владений англичанами…
Затем, обернувшись к желтолицему, Габриель спросил:
— Как здоровье принца? Как его раны? Не опасны ли они?
— Нет, он, правда, очень сильно контужен… но смертельной опасности нет.
— Слава Богу! — сказал Габриель, обращаясь к Родену. — Видите, еще один спасен.
— Тем лучше! — коротко и властно ответил Роден.
— Я пойду к принцу, — сказал покорно миссионер. — У вас нет никаких приказаний?
— В состоянии вы будете ехать со мной часа через два или три, несмотря на вашу усталость?
— Да… если это нужно!
— Нужно!
Габриель поклонился и вышел в сопровождении крестьянина, а Роден тяжело опустился в кресло, подавленный всеми этими известиями.
Желтолицый человек оставался в углу комнаты. Роден его не заметил. Это был Феринджи, метис, один из трех главарей секты душителей, ускользнувший в развалинах Чанди от преследовавших его солдат. Убив Магаля, он захватил письмо Жозюе Ван-Даэля к Родену, а также рекомендательное письмо к капитану, благодаря которому и попал вместо контрабандиста на «Рейтер». Шеринджи убежал из развалин Чанди раньше, чем Джальма его заметил, и тот, не подозревая, что имеет дело с фансегаром, относился на корабле к метису как к земляку.
Роден с застывшим взглядом, с мертвенно-бледным от немой злобы лицом яростно грыз ногти чуть не до крови. Он не видел, как метис подошел к нему и, фамильярно положив на его плечо руку, спросил:
— Вас зовут Роденом?
— Что такое? — воскликнул тот, подняв голову и вздрогнув от неожиданности.
— Вас зовут Роденом? — повторил метис.
— Да… что вам надо?
— Вы живете в Париже, на улице Милье Дез-Урсэн?
— Ну да… но что вам надо, повторяю?
— Пока ничего… брат!.. потом очень много…
И Феринджи, медленно удаляясь, оставил Родена в состоянии испуга.
Этот человек, не боявшийся ничего, невольно был поражен мрачным взглядом и свирепой физиономией душителя.
4. ОТЪЕЗД В ПАРИЖ
В замке Кардовилль царила глубокая тишина. Буря мало-помалу утихла, и слышался только отдаленный шум прибоя, грузно обрушивавшегося на берег.
Дагобера и сирот поместили в теплых и удобных комнатах второго этажа.
Джальму нельзя было перенести наверх: слишком опасна была его рана, и ему предоставили комнату на первом этаже. В минуту кораблекрушения несчастная мать вручила принцу своего ребенка. Тщетно стараясь вырвать малютку из неминуемой смерти, Джальма не смог бороться с волнами и чуть было не разбился об утесы, на которые его выбросило море.
Феринджи, успевший убедить принца в своей преданности, остался наблюдать за больным.
Габриель, сказав Джальме несколько слов утешения, поднялся к себе в комнату и, ожидая приказаний Родена по поводу отъезда через два часа, не ложился в приготовленную постель. Он слегка задремал в кресле с высокой спинкой, стоявшем у пылающего камина.
Эта комната помещалась рядом с комнатами девушек и Дагобера.
Угрюм, вероятно решивший, что в таком хорошем замке совершенно излишне караулить Розу и Бланш, улегся у камина, рядом с креслом миссионера. Он отдыхал, растянувшись перед огнем после перенесенных опасностей на суше и на море. Мы не станем утверждать, что он был по-прежнему верен воспоминанию о своем друге, бедном Весельчаке, если не принимать за доказательство верности того, что он яростно бросался на всех лошадей белой масти, чего прежде за ним никогда не водилось.
Вдруг дверь в комнату Габриеля тихонько отворилась, и робко вошли молодые девушки. Они поспали и отдохнули, а затем, проснувшись, решили одеться и идти спросить кого-нибудь о здоровье Дагобера, рана которого внушала им беспокойство, несмотря на то, что мадам Дюпон передала им заключение врача, не нашедшего в ней и вообще в состоянии здоровья Дагобера ничего опасного.
Высокая спинка старинного кресла скрывала от них того, кто спал в этом кресле, но, видя, что у ног спящего лежит Угрюм, сестры не сомневались, что они нашли как раз самого Дагобера. Девушки на цыпочках подошли к креслу.
Но при виде спящего Габриеля они страшно изумились и не смели сделать ни шагу ни вперед, ни назад из страха его разбудить. Длинные волосы миссионера высохли и вились крупными белокурыми локонами по плечам. Бледность прекрасного чела еще сильнее выступала на темно-красном шелке обивки. Казалось, что Габриеля мучит тяжелое сновидение или привычка скрывать свое горе невольно изменила ему под влиянием сна. Несмотря на выражение глубокой тоски, лицо его было по-прежнему ангельски прекрасно и кротко; оно было невыразимо прекрасно… а что может быть трогательнее страдающей доброты?
Молодые девушки опустили глаза. Они покраснели и обменялись тревожным взглядом, указывая на спящего юношу.
— Он спит, сестра, — тихо прошептала Роза.
— Тем лучше, — также тихо ответила Бланш, — мы можем им дольше любоваться!
— Идя сюда с моря, мы не смели и посмотреть на него!
— Мне кажется, что это он являлся нам в наших сновидениях…
— Обещая покровительствовать нам…
— И на этот раз он не обманул нас…
— Но теперь мы по крайней мере можем его видеть.
— Не то что в Лейпцигской тюрьме, где было так темно.
— Он снова спас нас сегодня!
— Без него мы бы погибли!
— Однако помнишь, сестра, в наших сновидениях его окружало сияние?
— Да… оно нас почти ослепляло!
— Кроме того, он не казался таким печальным.
— Но тогда он приходил к нам с неба… а теперь он на земле.
— Сестра… что значит этот шрам? Видела ты его раньше?
— О нет!.. мы не могли бы его не заметить.
— А руки… Смотри, как они изранены.
— Но если он ранен… значит, он не архангел?
— Почему бы нет? Он мог получить раны, защищая или спасая кого-нибудь.
— Ты права… Было бы хуже, если б он не подвергся опасностям, делая добро…
— Как жаль, что он не открывает глаз…
— У него такой добрый, нежный взгляд!
— Отчего он ничего не сказал о нашей матери, пока мы шли сюда?
— Мы были с ним не одни… он не хотел…
— Теперь мы одни…
— А что, если мы его попросим рассказать нам о ней?
Сестры переглянулись с трогательным простодушием; щеки их пылали ярким румянцем, девственные груди трепетали под черным платьем.
— Ты права… попросим его.
— Господи, сестрица, как бьются наши сердца! — заметила Бланш, не сомневаясь, что ее сестра чувствовала то же, что и она. — И как приятно это волнение! Как будто нас ждет большая радость!
И сироты, приблизясь к креслу на цыпочках, опустились на колени по обеим его сторонам. Они набожно сложили руки, как на молитву. Картина была очаровательна. Подняв свои милые лица к Габриелю, девушки произнесли тихим, тихим голосом, который был так же свеж и нежен, как и их пятнадцатилетние лица:
— Габриель! Поговори с нами о нашей матери!..
При этих словах Габриель сделал легкое движение и полуоткрыл глаза. Прежде чем окончательно проснуться, молодой миссионер в полусне заметил прелестное видение и, не отдавая себе в нем отчета, любовался молодыми девушками.
— Кто меня зовет? — спросил он, наконец проснувшись совсем и подняв голову.
— Мы!
— Роза и Бланш!
Пришла очередь покраснеть и Габриелю. Он узнал спасенных им девушек.
— Встаньте, сестры мои, — сказал он наконец, — на коленях стоят только перед Богом…
Сироты повиновались и встали, держа друг друга за руки.
— Вы, значит, знаете мое имя? — спросил Габриель, улыбаясь.
— О! мы его не забыли!
— Кто же вам его сказал?
— Вы…
— Я?..
— Когда вы приходили к нам от нашей матери…
— Сказать нам, что она вас к нам послала и что вы всегда будете заботиться о нас!
— Я?! — удивился миссионер, ничего не понимая в этих речах. — Вы ошибаетесь… Сегодня я увидел вас впервые…
— А в наших сновидениях?
— Да, вспомните, во сне?
— В Германии… три месяца тому назад… Посмотрите на нас хорошенько!
Габриель не мог сдержать улыбки при наивной просьбе девушек вспомнить сон, который видели они. Все более и более изумляясь, он спросил:
— В ваших снах?
— Ну, конечно… и вы нам давали такие хорошие советы…
— Так что и потом, в тюрьме… когда мы так горевали… ваши слова служили нам утешением и поддержкой.
— Разве не вы вывели нас из тюрьмы в Лейпциге… в ту темную ночь, когда не было видно ни зги?
— Я?!
— Кто же другой пришел бы помочь нам и нашему старому другу?
— Мы ему говорили, что вы будете любить и его за то, что он нас любит… а он не хотел сперва верить ангелам!
— Так что сегодня во время бури мы почти что нисколько не боялись…
— Мы ждали вас.
— Да… сегодня Бог действительно помог мне спасти вас. Но я возвращался из Америки и в Лейпциге не был никогда… значит, и из тюрьмы вывел вас не я… Скажите мне, сестры, — прибавил он, улыбаясь, — за кого вы меня принимаете?
— За доброго ангела, которого мы видели еще раньше в снах… и которого прислала к нам наша мать заботиться о нас!
— Дорогие сестры!.. я только бедный священник… Случайно я оказался похож на ангела, которого вы видели во сне… и видеть которого вы только во сне и могли, так как ангелы для нас невидимы!
— Как? ангелов нельзя видеть? — спросили сироты, переглядываясь с грустью.
— Это ничего, мои милые сестры! — сказал Габриель, ласково взяв их за руки. — Сны, как и все другое, посылает нам Бог… а раз тут замешана и ваша мать, то вы вдвойне должны благословлять свое сновидение.
В эту минуту открылась дверь, и в комнату вошел Дагобер.
До сих пор сироты в своей наивной гордости, что о них заботится архангел, совершенно забыли, что у жены Дагобера был приемный сын, которого звали Габриелем и который был священником и миссионером.
Как ни спорил солдат, что его рана не стоит внимания, что это просто-напросто белая рана, деревенский хирург ее перевязал и надел черную повязку, которая скрывала большую часть лба, придавая физиономии Дагобера еще более суровый вид, чем обыкновенно. Войдя в залу, он изумился, видя, что какой-то незнакомец фамильярно держит девушек за руки. Изумление солдата было вполне понятно. Он не подозревал, что миссионер спас жизнь сестер и пытался спасти его самого.
Среди бури и волн у Дагобера, цеплявшегося за скалу, не было возможности разглядеть, кто помог девушкам и пытался помочь ему взобраться на утес. Придя в замок и увидав Розу и Бланш, он от усталости, волнения и от раны потерял сознание и не успел заметить миссионера.
Ветеран начал уже хмурить свои густые седые брови под черной повязкой при виде такого фамильярного обращения, но девушки, заметив своего друга, с чисто дочерней любовью бросились в его объятия. Но как он ни был тронут, он все-таки искоса поглядывал на Габриеля, который стоял так, что он не мог хорошо разглядеть его лица.
— Ну, как твоя рана? — спросила Роза. — Нам сказали, что опасного ничего нет.
— Тебе еще больно? — прибавила Бланш.
— Да нет, деточки… Только этот деревенский лекарь обмотал меня всеми этими тряпками… право, если бы моя голова была изрублена саблей, больше бы перевязывать ее не пришлось! Меня приняли за неженку, а между тем это просто белая рана, и мне очень хочется… — и солдат тронул рукой голову.
— Оставь, пожалуйста! — воскликнула Роза. — Как ты неблагоразумен… словно маленький!
— Ну, ладно! Не бранитесь… будь по-вашему… придется носить эту повязку… — Затем, отведя девушек в угол комнаты, он их спросил, указывая глазами на молодого священника: — А это что за господин? Он держал вас за руки, когда я вошел… священник ли он?.. Видите, деточки… с ними надо быть поосторожнее… потому что…
— Да ты знаешь, что если бы не он, то тебе не пришлось бы обнимать нас, — воскликнули Роза и Бланш, — ведь он нас спас!
— Как! — воскликнул солдат, выпрямляясь, — это он… наш ангел-хранитель?
— Без него мы бы погибли сегодня в море!
— Как! это он… он?
Дагобер не мог больше ничего выговорить. Он подбежал к миссионеру и со слезами на глазах, протягивая к нему руки, воскликнул с необыкновенным волнением:
— Месье… я вам обязан жизнью этих детей… я знаю, как я вам обязан… я ничего не говорю… нечего сказать… — Вдруг его точно осенило воспоминание, и он прибавил: — Но позвольте… подождите… когда я цеплялся за утесы, чтобы волны меня не унесли… не вы ли это протянули мне руку?.. Ну да, да… это были вы… я узнаю вас… то же юное лицо… белокурые волосы… Конечно, это были вы!
— К несчастью, силы мне изменили: я не смог удержать вас, и вы упали снова в море.
— Я не знаю, как вас и благодарить, — с трогательной простотой продолжал Дагобер. — Тем, что вы спасли этих девочек, вы сделали для меня больше, чем если бы спасли меня самого… Но какая храбрость!.. Какая отвага! — с восторгом повторял солдат. — И такой юный при этом… с лицом девушки.
— Как! — воскликнула Бланш, — наш Габриель помог и тебе?
— Габриель? — спросил Дагобер, обращаясь к священнику. — Вас зовут Габриелем?
— Да.
— Габриель, — повторил солдат с изумлением. — И вы священник? — прибавил он.
— Да, священник, миссионер.
— А кто вас воспитывал? — спрашивал солдат.
— Добрейшая и благороднейшая женщина, которую я почитаю за лучшую из матерей!.. Потому что она пожалела меня, покинутого ребенка, и воспитала, как сына!
— Это Франсуаза Бодуэн, не так ли? — сказал растроганный солдат.
— Да! — ответил, в свою очередь, изумленный Габриель. — Но как вы могли это узнать?
— Жена солдата? — продолжал Дагобер.
— Да… отличного человека, который из преданности к командиру по сей день живет в изгнании… вдали от жены, от сына — моего славного приемного брата… я горжусь, что могу называть его так!
— Мой Агриколь… моя жена!.. Когда вы их покинули?
— Как!.. вы отец Агриколя?.. Боже, я не догадывался, как ты ко мне милостив!.. — воскликнул Габриель, молитвенно складывая руки.
— Ну, что же с моей женой, с моим сыном? — дрожащим голосом спрашивал Дагобер. — Давно ли вы имели о них известия? Как они поживают?
— Судя по тем известиям, какие я имел три месяца тому назад, все хорошо.
— Нет… уж слишком много радостных событий… право, слишком много! — воскликнул Дагобер.
И ветеран, не будучи в силах продолжать дальше, упал на стул, задыхаясь от волнения.
Только теперь Роза и Бланш вспомнили о письме их отца относительно покинутого ребенка по имени Габриель, взятого на воспитание женой Дагобера. Они дали теперь волю своему ребяческому восторгу.
— Наш Габриель и твой… один и тот же Габриель… какое счастье! — воскликнула Роза.
— Да, деточка, он и ваш, и мой; он принадлежит нам всем!
Затем, обращаясь к Габриелю, Дагобер воскликнул:
— Твою руку… еще раз твою руку, мой храбрый мальчик… Извини уж… я говорю тебе ты… ведь мой Агриколь тебе брат…
— Ах… как вы добры!..
— Еще чего недоставало! Ты вздумал меня благодарить… после всего, что ты для нас сделал!
— А знает ли моя приемная мать о вашем возвращении? — спросил Габриель, чтобы избежать похвал солдата.
— Пять месяцев назад я писал ей об этом… но я писал, что еду один… потом я тебе объясню причины… А она все еще живет на улице Бриз-Миш? Ведь там родился мой Агриколь!
— Да, она живет все там же.
— Значит, мое письмо она получила. Я хотел ей написать из тюрьмы в Лейпциге… да не удалось!
— Как из тюрьмы?.. Вы были в тюрьме?
— Да… я возвращался из Германии через Эльбу и Гамбург… Я бы и до сих пор сидел в тюрьме в Лейпциге, если бы не одно обстоятельство, заставившее меня поверить в существование чертей… то есть добрых все-таки чертей…
— Что вы хотите сказать? — объясните, пожалуйста.
— Трудно это объяснить, так как я сам ничего не понимаю! Вот эти девочки, — и, лукаво улыбаясь, он показал на сестер, — считали, что понимают больше меня… Они меня уверяли: «Вот видишь, нас вывел отсюда архангел, а ты еще говорил, что охотнее доверишь нас Угрюму, чем архангелу»…
— Габриель!.. я вас жду! — послышался отрывистый голос, заставивший миссионера вздрогнуть.
Дагобер и сестры живо обернулись… Угрюм глухо заворчал. Это был Роден. Он стоял в дверях коридора. Лицо его было спокойно и бесстрастно, он бросил быстрый и проницательный взгляд на солдата и обеих сирот.
— Что это за человек? — спросил Дагобер, которому очень не понравилась отталкивающая физиономия Родена. — Какого черта ему от тебя надо?
— Я еду с ним! — грустно и принужденно ответил Габриель. Затем он прибавил, обращаясь к Родену: — Простите, сейчас я буду готов.
— Как, ты уезжаешь? — с удивлением спросил Дагобер. — В ту минуту, когда мы нашли друг друга? Нет, уж… извини… я тебя не пущу, нам надо многое обсудить. Мы вместе поедем… это будет настоящий праздник.
— Невозможно… он старший по званию… я обязан повиноваться!
— Твой начальник? Но одет как буржуа.
— Он не обязан носить духовное платье…
— Ну, а раз он не в форме и раз тут нет полицейских, пошли-ка его к…
— Поверьте мне, что если бы можно было остаться, я бы ни минуты не колебался!
— Действительно, что за противная рожа! — прошептал Дагобер сквозь зубы.
Затем он прибавил:
— Хочешь, я ему скажу, что он доставит нам большое удовольствие, если уедет один?
— Прошу вас, не надо, — сказал Габриель. — Это бесполезно… Я знаю свои обязанности… и согласен во всем с моим начальником. Когда вы приедете в Париж, я приду повидать вас, матушку и брата Агриколя.
— Ну, нечего делать. Недаром я солдат и знаю, что за штука субординация, — с досадой заметил Дагобер. — Надо покоряться. Значит, послезавтра мы увидимся в Париже?.. Однако у вас дисциплина-то строгонька!
— О да! очень строга! — подавляя вздох, сказал Габриель.
— Ну, так поцелуй меня скорее и до скорого свидания: двадцать четыре часа быстро пройдут.
— Прощайте, прощайте, — с волнением говорил Габриель, обнимая ветерана.
— Прощай, Габриель, — прибавили сестры со слезами в голосе.
— Прощайте, сестры! — сказал Габриель и вышел вместе с Роденом, не пропустившим в этой сцене ни слова, ни жеста.
Через два часа Дагобер и сироты выехали из замка, чтобы отправиться в Париж, не зная, что Джальма задержался в Кардовилле, так как раны его были опасны.
Метис Феринджи остался с молодым принцем, так как, по его словам, он не хотел покинуть земляка.
Теперь мы проводим нашего читателя на улицу Бриз-Миш к жене Дагобера.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. УЛИЦА БРИЗ-МИШ
1. ЖЕНА ДАГОБЕРА
Следующие события происходили в Париже, на другой день после того, как спасшихся после кораблекрушения приютили в замке Кардовилль.
Улица Бриз-Миш, упираясь с одной стороны в улицу Сен-Мерри, а с другой, выходя на небольшую площадь Клуатр, имела необыкновенно мрачный и угрюмый вид.
Конец улицы, выходивший на площадь, имел в ширину не более восьми футов и был вдобавок сдавлен возвышавшимися с обеих сторон громадными грязными черными и растрескавшимися стенами. Они были так высоки, что на улицу почти не проникало ни света, ни воздуха. Только изредка, в летние долгие дни попадали туда немногие солнечные лучи, а во время сырой, холодной зимы там клубился ледяной пронизывающий туман, делая совсем темным это подобие колодца с его грязной мостовой.
Было около восьми часов вечера; при бледном сиянии фонаря, красноватый свет которого еле проникал сквозь сырую мглу, два человека, стоявшие у угла одной из стен, обменивались следующими словами:
— Итак, — говорил один, — вы будете стоять, как условлено, на улице, пока не увидите, что они вошли в дом N5.
— Хорошо.
— И когда они войдут, то, чтобы удостовериться окончательно, вы подыметесь к Франсуазе Бодуэн…
— Под тем предлогом, что мне нужен адрес горбатой швеи, сестры той особы, которой дано прозвище Королевы Вакханок.
— Отлично… Кстати ее адрес необходимо получить у Горбуньи. Ведь женщины этой категории, как птицы, снимаются с гнезда и пропадают бесследно…
— Будьте спокойны. Я постараюсь добиться от Горбуньи сведений о сестре.
— А чтобы придать вам бодрости, скажу, что буду вас ждать в кабачке напротив монастыря, где мы и выпьем подогретого винца.
— Это будет очень кстати: такой дьявольский холод!
— Не говорите! У меня сегодня в кропильнице вода замерзла, а сам я от стужи превратился в мумию, сидя на стуле при входе в церковь. Эх, поверьте, не так-то легко ремесло подавальщика святой воды…
— Хорошо, что есть и доходы… Ну, ладно… желаю успеха. Не забудьте, N5… узенький коридор рядом с лавкой красильщика…
— Ладно… ладно…
И собеседники расстались.
Один из них направился к площади Клуатр, а другой пошел в противоположную сторону к улице Сен-Мерри, и вскоре увидел номер дома, который ему был нужен. Дом этот, как и все на этой улице, был высокий, узкий и производил впечатление какой-то печали и нищеты.
Найдя дом, человек стал прогуливаться около его ворот.
Если внешность этих зданий поражала своим отталкивающим видом, то ничто не могло сравниться с их тошнотворной, мрачной внутренностью. Дом под N5 особенно выделялся неопрятностью и запущенностью: на него просто страшно было взглянуть…
Вода, струившаяся со стен, стекала на темную и грязную лестницу; на третьем этаже для обтирания ног было положено несколько охапок соломы, но эта солома, превратившаяся в навоз, еще более увеличивала отвратительный, невыносимый смрад, порожденный недостатком воздуха, сыростью и гнилыми испарениями сточных труб, так как несколько отверстий, устроенных на лестнице, еле пропускали редкие тусклые лучи бледного света.
В этой части Парижа, одной из самых населенных, в омерзительных, холодных, вредных для здоровья домах, скучилось в ужасной тесноте множество рабочего люда. Жилище, о котором мы говорим, принадлежало к их числу. Нижний этаж занимал красильщик, и зловонные испарения его мастерской еще более усиливали тяжелый запах этого полуразвалившегося дома.
В верхних этажах расположилось несколько рабочих семей и несколько артелей. Одну из квартир пятого этажа занимала Франсуаза Бодуэн, жена Дагобера. Свечка освещали убогое жилище, состоявшее из комнаты и чулана. Агриколь жил в мансарде под крышей.
Сероватые старые обои на стене, у которой стояла кровать, кое-где лопнувшие по трещинам стены; занавесочки на железном пруте, прикрывавшие окна; пол, не натертый, но чисто вымытый и сохранивший свой кирпичный цвет; в углу комнаты печка с котлом для варки еды; на комоде из простого дерева, выкрашенного в желтый цвет с коричневыми жилками, железная модель дома, шедевр терпения и ловкости, все части которого были сделаны и пригнаны одна к другой Агриколем Бодуэном.
Распятие из гипса, висевшее на стене и окруженное ветками освященного самшита, и несколько грубо раскрашенных изображений святых указывали на набожность жены солдата. Почерневший от времени ореховый шкаф, неуклюжий, довольно большой по размерам, помещавшийся в простенке, старое кресло, обитое полинялым трипом (первый подарок Агриколя матери), несколько соломенных стульев, рабочий стол с грудой грубых холщовых мешков довершали всю меблировку комнаты с плохо прикрывавшейся старой дверью; в чулане хранились кухонные и хозяйственные принадлежности.
Как ни печальна и бедна казалась эта обстановка, она указывала еще на относительное благосостояние, которым могли похвалиться только немногие рабочие. На кровати было два матраца, чистые простыни и теплое одеяло; в шкафу хранилось белье.
Наконец, в этой комнате жена Дагобера жила одна, между тем как обыкновенно в таком помещении ютилась целая семья, вынужденная спать вместе, считая большим счастьем, если можно было поместить девочек на отдельной постели от мальчиков. Большой удачей считалось и то, если одеяло и простыни не были сданы в ломбард.
Франсуаза Бодуэн, сидя у печки, готовила ужин сыну. В эту сырую, холодную погоду в комнате с плохо закрытой дверью крошечный очаг давал мало тепла.
Жене Дагобера было около пятидесяти лет. Она носила кофточку из синего с белыми цветочками ситца и бумазейную юбку; белый чепчик покрывал голову и завязывался под подбородком.
Бледное и худое лицо с правильными чертами выражало необыкновенную доброту и покорность судьбе. Действительно, трудно было отыскать мать лучше и добрее: не имея ничего, кроме своего заработка, она не только вырастила и воспитала сына, но и Габриеля, несчастного брошенного ребенка, у нее хватило мужества взять его на попечение. В молодости она, так сказать, взяла вперед все свое здоровье и посвятила его двенадцати годам неутомимого, изнуряющего труда, который из-за лишений, которым она себя подвергала, был просто убийственным, так как и тогда (имея по сравнению с нынешним временем прекрасную заработную плату) ей только путем страшного труда и бессонных ночей удавалось заработать иногда до пятидесяти су в день, на что она и воспитывала сына и приемыша. За двенадцать лет здоровье Франсуазы разрушилось, силы пришли к концу; но по крайней мере оба ребенка не чувствовали недостатка и получили то образование, какое люди из народа могут дать своим детям. Агриколь поступил в ученье к господину Гарди, а Габриель готовился в семинарию, благодаря предупредительной протекции господина Родена, вступившего с 1820 года в весьма близкие сношения с духовником Франсуазы, набожность которой всегда была слишком преувеличенной, малопросвещенной.
Женщина эта принадлежала к простым, поразительно добрым натурам, к мученицам самопожертвования, доходящего подчас до героизма… Наивные, святые души, разумом которых является сердце!
Единственным недостатком или, скорее, следствием этого доверчивого простодушия было неодолимое упорство, с каким Франсуаза считала себя обязанной слушаться духовника на протяжении уже многих лет. Она считала его влияние самым возвышенным, самым святым, и никакая человеческая сила, никакие доводы не могли ее переубедить. Когда возникал об этом спор, ничто не могло поколебать превосходную женщину; молчаливое сопротивление, без гнева и горячности, со свойственной ее характеру кроткостью, было спокойно, как совесть Франсуазы, но… так же непоколебимо.
Словом, жена Дагобера принадлежала к числу тех чистых, невежественных и доверчивых созданий, которые, помимо воли, могут стать ужасным орудием в руках злых и ловких людей.
Уже в течение весьма долгого времени благодаря своему расстроенному здоровью и сильно ослабевшему зрению жена Дагобера могла работать не больше двух-трех часов в день. Остальное время она проводила в церкви.
Через некоторое время Франсуаза встала, освободила угол стола от наваленных грубых серых холщовых мешков и с нежной материнской заботливостью начала накрывать стол для сына. Вынув из шкафа кожаный футляр, в котором находились погнутый серебряный кубок и серебряный прибор, истертый от времени, так что ложка резала губы, она тщательно перетерла и положила около тарелки это серебро, свадебный подарок Дагобера. Это и были все драгоценности Франсуазы как по ценности предметов, так и по связанным с ними воспоминаниям. Много горьких слез пришлось ей пролить, когда необходимость, вызванная болезнью или перерывом в работе, заставляла нести в ломбард священные для нее вещицы.
Затем Франсуаза достала с нижней полки шкафа бутылку воды и начатую бутылку вина; поставив их около прибора, она вернулась к печке, чтобы присмотреть за ужином.
Хотя Агриколь и не очень опаздывал, лицо бедной женщины выражало живейшее беспокойство, а покрасневшие глаза доказывали, что она плакала. Бедная женщина после долгих, тяжелых сомнений поняла наконец, что ослабевшее уже давно зрение скоро не позволит ей работать даже те два-три часа в день, к чему она привыкла в последнее время.
В молодости Франсуаза была превосходной белошвейкой, но по мере того, как ее утомленные глаза слабели, ей приходилось заниматься все более грубым шитьем, причем, конечно, соответственно понижался и ее заработок; теперь она могла шить только грубые армейские мешки со швом около двенадцати футов и она, при своих нитках, получала два су за штуку. Работа была не из легких, более трех мешков в день она сшить не могла, и ее заработок равнялся шести су. Содрогаешься от ужаса при мысли о великом множестве несчастных женщин, истощение, лишения, возраст и болезни которых настолько ослабили их силы и разрушили здоровье, что работа, на которую они способны, едва может приносить им ежедневно эту ничтожную сумму… Таким образом, заработок снижается по мере возрастания потребностей, связанных со старостью и болезнями…
К счастью для Франсуазы, ее сын был достойной поддержкой в старости. Агриколь был превосходный работник, и благодаря справедливому распределению заработка и прибыли, установленному господином Гарди, он зарабатывал от пяти до шести франков в день, то есть вдвое больше работников других фабрик, так что мог бы жить с матерью безбедно, если бы она даже ничего не зарабатывала… Но бедная женщина, способная отказать себе даже в необходимом, к несчастью, делалась страшно расточительной в церкви, с тех пор, как стала ежедневно ее посещать. Не проходило дня, чтобы она не заказывала несколько молебнов, не ставила свечей: то за здравие Дагобера, с которым она так давно была в разлуке, то за спасение души сына, который, казалось ей, был на пути к гибели. Агриколь был так добр и великодушен, он так любил и почитал мать, чувства, которые она ему внушала, были так трогательны, что он не жаловался на то, что отдаваемый им каждую субботу матери заработок шел большей частью на религиозные жертвы. Только иногда, с почтением и нежностью, он замечал Франсуазе, как прискорбна ее невнимательность к собственным нуждам, невнимательность, явно опасная, учитывая состояние ее здоровья, и все из-за неуемных трат на церковь. Но что мог он ответить этой чудной женщине, когда она возражала ему со слезами на глазах:
— Дитя мое, это во имя спасения твоей души и твоего отца.
Оспаривать целесообразность молебнов, сомневаться во влиянии свечей на нынешнее или будущее спасение старого Дагобера означало бы затронуть щекотливые вопросы, о которых Агриколь дал себе слово не говорить с матерью из уважения к ней и к ее верованиям; поэтому он заставлял себя молчать, хотя его очень огорчало, что он не мог окружить ее всеми удобствами.
В дверь слегка постучали.
— Войдите! — ответила Франсуаза.
2. СЕСТРА «КОРОЛЕВЫ ВАКХАНОК»
В комнату Франсуазы вошла молодая девушка, лет восемнадцати, небольшого роста, уродливо сложенная. Не будучи совершенно горбатой, она была страшно кривобока, со впалой грудью, сутуловатой спиной и сильно приподнятыми плечами, так что голова как бы тонула в них. Продолговатое и худощавое лицо отличалось довольно правильными чертами, но было очень бледно и испорчено оспой. Выражение его было чрезвычайно грустное и необыкновенно кроткое. Голубые глаза светились умом и добротой. По странному капризу природы она обладала такою роскошной длинной темной косой, что ей позавидовала бы любая красавица. В руках она держала старую корзину. Несмотря на крайнюю бедность одежды, чистоплотность и аккуратность молодой девушки как могли боролись с нищетой; хотя стоял страшный холод, на ней было надето ситцевое платье неопределенного оттенка, с беленькими крапинками, утратившее от частой стирки свой первоначальный цвет и рисунок. На болезненном и кротком лице бедняжки лежал отпечаток всевозможных страданий — горя, нищеты и людского пренебрежения. Со времени печального рождения ее преследовали насмешки. Как мы уже сказали, она была безобразно сложена, и вот, по грубому простонародному выражению, ее окрестили «Горбуньей», что напоминало ей ежеминутно об уродстве. Имя это так привычно звучало для всех, что даже Агриколь и его мать, сочувственно относившиеся к девушке и никогда не обращавшиеся с ней презрительно и насмешливо, как другие, не звали ее иначе, как Горбунья.
Горбунья, — будем так называть ее и мы, — родилась в этом же доме, где жена Дагобера поселилась более двадцати лет тому назад. Молодая девушка, так сказать, и воспитывалась вместе с Агриколем и Габриелем. Бывают несчастные создания, с самого рождения обреченные на горе. У Горбуньи была сестра, необыкновенно хорошенькая девушка; их мать, Перрина Соливо, вдова разорившегося торговца, отдала красавице всю свою слепую и безумную любовь, а на долю некрасивой дочери оставила только презрение и жестокую брань. Бедная девочка убегала к Франсуазе, чтобы излить горе в слезах, и последняя, обласкав ее и утешив, принималась по вечерам учить Горбунью шить и читать, чтобы развлечь бедного ребенка. Привыкшие, как и мать, к страданию, Агриколь и Габриель не только не преследовали Горбунью насмешками, как другие дети, Которые забавлялись, мучая и даже избивая бедную девочку, но всегда и всюду являлись ее любящими защитниками и покровителями.
Ей было пятнадцать лет, а сестре Сефизе семнадцать, когда мать умерла, оставив девушек в страшной нищете. Сефиза была неглупая, ловкая и проворная девица, но, в противоположность сестре, она принадлежала к тем живым, беспокойным и пылким натурам, у которых жизнь бьет через край, а потребность в движении, в воздухе, удовольствиях становится абсолютно непреодолимой. Она была, пожалуй, доброй девушкой, хотя и сильно избалованной. Сначала Сефиза слушалась благоразумных советов Франсуазы, переломила себя, выучилась шить и целый год работала вместе с сестрой. Но жизнь, полная страшных лишений, когда самый упорный труд вознаграждался так плохо, что девушке приходилось терпеть голод и холод, не могла удовлетворить неспособную к сопротивлению Сефизу. Она была слишком молода, хороша и пылка для подобных страданий, а кругом столько соблазна, ей делали так много блестящих предложений, которые подавали надежду быть ежедневно сытой, не дрожать от холода, прилично и чисто одеваться, не гнуть спины над работой в течение пятнадцати часов в темной и вредной для здоровья конуре. Сефиза не устояла и уступила желаниям клерка из нотариальной конторы, который, конечно, не замедлил ее бросить. Тогда она перешла к приказчику из магазина, бросила его, в свою очередь, наученная горьким опытом и сошлась с коммивояжером. Затем и его она покинула ради новых поклонников. Словом, после целого ряда измен и переходов от одного к другому Сефиза, через год или два, сделалась кумиром в среде гризеток, студентов и приказчиков, приобрела такую репутацию на загородных пирушках благодаря решительности характера, оригинальности ума и неутомимой страсти к наслаждениям всякого рода, а главное — благодаря безумной и шумной веселости, что ее единодушно назвали Королевой вакханок, и она оказалась вполне достойной своего безумного королевства.
Со времени шумной коронации бедняжка Горбунья очень редко получала известия о старшей сестре. Она горько о ней сожалела и продолжала свой неустанный труд, еле-еле дававший ей четыре франка в неделю. Выучившись у Франсуазы шить белье, молодая девушка занималась приготовлением грубых рубашек для простонародья и солдат. Платили за них три франка за дюжину. Рубашку надо было сшить, отделать каймой, приладить воротник, обметать петли, пришить пуговицы — короче говоря, работать от двенадцати до пятнадцати часов в сутки; в неделю больше четырнадцати или шестнадцати штук сделать было невозможно. Таким путем и зарабатывала она до четырех франков в неделю.
Несчастная девушка не являлась исключением: напротив, тысячи девушек и прежде, и теперь зарабатывают не больше. Это происходит оттого, что плата за женский труд является возмутительной несправедливостью и диким варварством: за их труд принято платить вдвое меньше, чем за такой же труд мужчины. Портные и перчаточники получают вдвое больше, вероятно, потому, что, хотя женщины работают наравне, они слабее, болезненней, а материнство часто удваивает их нужды.
Итак Горбунья существовала на четыре франка в неделю.
Она существовала… то есть это значит, что, усиленно работая от двенадцати до пятнадцати часов в день, она добивалась того, что не умирала сразу от голода, холода и нищеты, но испытывала постоянные жестокие лишения.
Лишения ли?! Нет!
Слово лишения слишком плохо выражает то ужасное состояние, когда у человека не хватает того, что необходимо для сохранения здоровья, для поддержания дарованной Богом жизни: здорового жилья и воздуха, здоровой и достаточной пищи, теплой одежды. Слово измор лучше выразит полный недостаток тех жизненно необходимых вещей, которые справедливо цивилизованное общество обязано было бы предоставлять каждому труженику, поскольку его лишили права на землю, и он приходит в мир с единственным наследством: парой рабочих рук.
Дикарь не пользуется благами цивилизации, но у него есть по крайней мере звери, птицы, рыбы, плоды для утоления голода и деревья в лесах, где он может получить убежище и обогреться.
Цивилизованный человек, лишенный этих Божьих даров, уважающий собственность, как неприкосновенную святыню, имеет, наверно, право в награду за ежедневный тяжелый труд, обогащающий страну, на такой заработок, какой давал бы ему возможность жить здоровой жизнью, ни больше, ни меньше!
Можно ли назвать жизнью вечную борьбу на грани, отделяющую бытие от могилы, борьбу с холодом, голодом и болезнями?
И чтобы показать, до чего может дойти этот измор, которому общество безжалостно подвергает тысячи честных, трудолюбивых людей жестоким невниманием ко всем вопросам, касающимся справедливого вознаграждения за труд, мы займемся разбором того, как может существовать бедная работница на четыре франка в неделю.
Быть может, при этом по крайней мере хоть оценят тех несчастных людей, которые мирятся со столь жестоким прозябанием, оставляющим им жизни ровно настолько, чтобы они могли чувствовать все эти страдания. Да… жить в подобных условиях — это добродетель! И общество, спокойно переносящее и даже поощряющее эту несправедливость, не имеет права осуждать тех несчастных, которые не из разврата, а от голода и холода продаются за деньги.
Вот как жила эта девушка на свои четыре франка в неделю:
3 килограмма хлеба 2-го сорта ……… 84 сантима 2 ведра воды …………………….. 20 сантимов Сало или жир (масло слишком дорого) … 50 — « — Соль серая ……………………….. 7 — « — Уголь …………………………… 40 — « — Сухие овощи ……………………… 30 — « — Три килограмма картофеля ………….. 20 — « — Свечи …………………………… 33 — « — Нитки и иголки …………………… 25 — « — Итого: …………………… 3 франка 9 сантимов
Чтобы сберечь уголь, Горбунья варила похлебку два-три раза в неделю на жаровне, на лестничной площадке пятого этажа. Остальные дни она ела ее не подогревая. И все-таки на квартиру и платье у нее оставалось только 91 сантим в неделю note 14.
Но эта девушка, по счастью, находилась еще в исключительном положении. Она платила всего 12 франков в год за маленький чуланчик на чердаке, где еле помещались стол, стулья и крошечная кровать. Впрочем, стоимость была ненастоящей: комната обходилась 30 франков в год, но Агриколь доплачивал 18 франков из собственного кармана, тщательно скрывая это от Горбуньи, чтобы не задеть ее болезненного самолюбия. Так что благодаря дешевизне жилья у молодой девушки оставалось еще около 1 франка 70 сантимов в месяц на прочие расходы.
Что касается многих других работниц, зарабатывающих не больше Горбуньи, но не имеющих столь счастливых условий, то если у них нет ни жилища, ни семьи, они могут позволить себе в день кусок хлеба и еще что-нибудь; за один-два су в ночь они делят постель с какой-нибудь товаркой в жалких меблированных комнатах, где таких кроватей стоит обычно пять-шесть в одной комнате, причем некоторые заняты мужчинами, поскольку их больше, чем женщин. И, несмотря на жуткое отвращение, которое несчастная скромная девушка испытывает от совместного житья, ей приходится подчиняться, так как хозяин комнат не может поместить отдельно мужчин и женщин.
Чтобы обзавестись собственным хозяйством и мебелью, как бы ни были они плохи, работница должна затратить 30 или 40 франков. Откуда же собрать такую сумму при заработке в 4 франка, едва достаточном, повторяем, чтобы кое-как одеться и не умереть окончательно с голоду? Конечно, это абсолютно недостижимо, и девушки вынуждены терпеть отвратительное сожительство, которое постепенно ведет к потере чувства стыдливости, предохраняющее женщину от соблазнов и порока, врожденное целомудрие исчезает… Она начинает видеть в разврате одну лишь возможность хоть сколько-нибудь улучшить свое невыносимое положение… она падает… И первый попавшийся биржевой игрок, имеющий возможность нанять дочерям гувернантку, считает себя вправе кричать о разложении, о полном упадке нравов среди детей народа.
И все-таки, несмотря на весь ужас такого состояния, работницы относительно счастливы…
Представьте, что работы нет день-два…
Или постигнет болезнь, — болезнь, вызванная именно недостатком и недоброкачественностью пищи, отсутствием чистого воздуха, ухода, покоя: болезнь, настолько изнуряющая, что мешает работать, но не настолько опасная, чтобы заслужить койку в больнице… Что же тогда делается с этими несчастными?.. По правде говоря воображение не в состоянии нарисовать столь потрясающие картины.
Нищенский заработок, единственный и ужасный источник множества страданий… подчас даже порока, является уделом преимущественно женщин. Еще раз повторяем, что тут речь идет не о страдании отдельных лиц, а о бедствиях целых классов. Тип работницы, какой мы хотим показать в Горбунье, исходит из нравственных и материальных условий тысяч человеческих существ, вынужденных жить в Париже на 4 франка в неделю.
Итак, бедняжка, несмотря на неведомую ей великодушную помощь Агриколя, жила очень плохо. Ее здоровье, слабое уже и без того, сильно пошатнулось благодаря постоянным лишениям. Но по врожденной, исключительной деликатности Горбунья, не подозревая даже о маленькой жертве Агриколя, делала вид, что зарабатывает больше, дабы избавиться от предложения услуг и помощи, которые были для нее вдвойне тяжелы: и потому, что она знала стесненное положение Франсуазы и ее сына, и потому, что это больно задевало бы ее природную щепетильность, еще более развитую унижениями и несчастьями, преследовавшими ее без конца.
Но, что бывает редко, уродливое тело вмещало в себе любящую и благородную душу и развитой ум, способный даже понимать поэзию, благодаря совместному воспитанию и примеру Агриколя, у которого был сильно развит поэтический дар.
Бедной девушке первой доверил молодой кузнец свои литературные опыты. И когда он рассказал ей, какое наслаждение, какой чудесный отдых доставляют ему после тяжелого дневного труда поэтические грезы, молодая работница, одаренная исключительным природным умом, тотчас же поняла, каким источником наслаждения может быть для нее подобное занятие, именно для нее, вечно одинокой и презираемой.
И вот однажды, когда Агриколь только что прочел ей одно из своих стихотворений, Горбунья, к его великому удивлению, покраснев и смутившись, созналась ему в том, что и она последовала его примеру. Стихи бедной девушки грешили, быть может, в области размера и рифмы, но были задушевны и просты, как тихая жалоба, без горечи доверенная сердцу друга… С этого дня Агриколь и Горбунья обменивались взаимными советами и поощрениями. Но никому другому не поверяла она тайны своего творчества; впрочем, никто бы об этом и не догадывался: из-за дикой застенчивости большинство считало ее дурочкой.
Но как высока и прекрасна была душа этой несчастной! Ни в одной из ее никому неведомых песен не вылилось ни единого слова гнева или злобы против роковой участи, жертвой которой она стала с рождения. Это была грустная, но кроткая жалоба; в ней звучали безнадежность и покорность. А главными были звуки бесконечной нежности, грустного сочувствия, ангельского милосердия, обращенные ко всем несчастным, обездоленным, несущим, как она, двойную тяжесть уродства и нищеты.
Впрочем, в ее стихах часто выражалось наивное и искреннее поклонение красоте, без малейшей примеси зависти или горечи. Красотой она любовалась так же, как и солнцем.
Но, увы!.. многие стихи, написанные Горбуньей, были не известны даже Агриколю. И он никогда не должен был узнать о них. Молодой кузнец, не обладавший совершенной красотой, отличался мужественной, открытой внешностью, выражавшей доброту и смелость; сердце у него было благородное, пылкое и великодушное, ум выдающийся, веселость, мягкая и искренняя.
Немудрено, что Горбунья, выросшая вместе с ним, полюбила его так, как может любить несчастное создание, осужденное, из страха показаться слишком смешным, прятать это чувство в самых глубоких тайниках сердца… Горбунья знала, что она сумеет скрыть свое чувство, и потому не старалась его подавлять. И к чему? Кто и когда об этом узнает? Ее привязанность к Агриколю приписывалась привычке и братским отношениям, существовавшим между ними с детства; вот почему мучительное беспокойство, которое девушка не могла скрыть, когда в 1830 году молодого рабочего принесли после битвы окровавленного к матери, ни у кого не возбудило подозрения.
Обманутый, как все, внешним спокойствием, Агриколь не мог даже и заподозрить, что Горбунья его любила. Таков был нравственный облик бедно одетой девушки, вошедшей к Франсуазе, пока та готовила ужин сыну.
— А, это ты, Горбунья! — сказала жена Дагобера. — Ты не больна, бедняжка? Мы с утра не видались, поцелуй-ка меня!
Молодая девушка обняла мать Агриколя и ответила:
— У меня была срочная работа, и мне не хотелось терять ни минуты; но теперь я закончила и пошла за углем. Не надо ли вам чего принести?
— Нет, дитя мое, мне ничего не надо… Я только очень встревожена: вот уже половина девятого, а Агриколя все еще нет. — Затем Франсуаза прибавила со вздохом: — Он просто убивается на работе из-за меня… Ах, как я несчастна, бедная Горбунья… Знаешь, я совсем слепну; мои глаза отказываются служить после двадцати минут работы… я не могу шить даже мешки. Придется совсем сесть на шею бедному сыну! Это приводит меня в отчаяние…
— Ах, госпожа Франсуаза! Что если бы Агриколь вас слышал!
— Да, я это хорошо знаю… Бедный мальчик только обо мне и думает… но это еще больше огорчает меня. А потом меня не может не беспокоить то, что он из-за меня лишает себя тех удобств, которые предоставляет своим рабочим господин Гарди, достойный и превосходный хозяин. Подумай только, что вместо своей душной мансарды, где и днем темно, он мог бы за небольшую плату жить, как все его товарищи, в хорошей светлой комнате, теплой зимой и прохладной летом, с садом под окнами! А он так любит зелень! Я уж не говорю о том, как далеко ему отсюда ходить до фабрики и как это его утомляет…
— Но его усталость разом проходит как только он целует вас, госпожа Бодуэн! Он хорошо знает, как вы привязаны к этому дому, где он родился. Впрочем, господин Гарди предлагал ведь вам поселиться в Плесси вместе с Агриколем?
— Да, дитя мое… но тогда мне бы пришлось покинуть мою приходскую церковь! А на это я решиться не могу.
— Ну, а теперь успокойтесь, госпожа Франсуаза, — сказала, краснея, Горбунья. — Вот он… Я слышу его голос.
Действительно, на лестнице раздавалось звонкое, веселое пение.
— Только бы он не заметил, что я плакала, — сказала бедная мать, тщательно вытерев глаза. — У него только и есть один свободный часок, когда он может успокоиться и отдохнуть… Избави Бог отравить ему и эти немногие минуты!..
3. АГРИКОЛЬ БОДУЭН
Поэт-кузнец был высокий парень, лет двадцати четырех, ловкий и дюжий, с загорелым лицом, с черными волосами и черными глазами, орлиным носом, смелой, открытой и выразительной физиономией. Сходство его с Дагобером усиливалось вследствие того, что он носил, по моде времени, густые черные усы, а подстриженная остроконечная бородка закрывала ему только подбородок, щеки же были тщательно выбриты от скул до висков. Оливкового цвета бархатные панталоны, голубая блуза, прокопченная дымом кузницы, небрежно повязанный вокруг мускулистой шеи черный галстук и суконная фуражка с коротким козырьком — таков был костюм Агриколя. Единственным, что представляло разительную противоположность с рабочим костюмом, был роскошный и крупный цветок темно-пурпурного цвета, с серебристо-белыми пестиками, который он держал в руке.
— Добрый вечер, мама… — сказал Агриколь, войдя в комнату и обнимая Франсуазу; затем, кивнув дружески головой девушке, он прибавил: — Добрый вечер, маленькая Горбунья!
— Мне кажется, ты очень запоздал, дитя мое, — сказала Франсуаза, направляясь к маленькому очагу, где стоял приготовленный скромный ужин сына: — Я уже стала беспокоиться…
— Обо мне, матушка, или о еде? — весело вымолвил Агриколь. — Черт возьми… Ты мне не простишь, что я заставил тебя ждать из-за хорошего ужина, который ты мне приготовила, потому что боишься, как бы он не стал хуже… Знаю я тебя, лакомку!
И, говоря это, кузнец пытался еще раз обнять мать.
— Да отстань ты, гадкий мальчик… Я из-за тебя опрокину котелок!
— А это будет уж обидно, мама, потому что пахнет чем-то очень вкусным… Дай-ка взглянуть, что это такое.
— Да нет же… подожди немножко…
— Готов об заклад побиться, что тут картофель с салом, до чего я такой охотник!
— В субботу-то, как же! — сказала Франсуаза с нежным упреком в голосе.
— Ах, правда! — произнес Агриколь, обменявшись с Горбуньей простодушно-лукавой улыбкой. — А кстати, о субботе… — прибавил он, получай-ка, матушка, жалованье…
— Спасибо, сынок, положи в шкаф.
— Ладно, матушка.
— Ах! — воскликнула молодая работница в ту минуту, когда Агриколь шел с деньгами к шкафу, — какой у тебя чудесный цветок, Агриколь!.. Я таких сроду не видала… да еще в разгар зимы… Взгляните только, госпожа Франсуаза.
— А! каково, матушка? — сказал Агриколь, приближаясь к матери, чтобы дать ей посмотреть на цветок поближе. — Поглядите-ка, полюбуйтесь, а главное — понюхайте… Просто невозможно найти более нежного, приятного запаха… это какая-то смесь ванили и флердоранжа note 15.
— Правда, дитя мое, замечательный запах! Бог ты мой, какая красота! — сказала Франсуаза, всплеснув руками от удивления. — Где ты это нашел?
— Нашел, мама? — отвечал Агриколь со смехом. — Черт возьми! Ты, пожалуй, думаешь, что такое можно найти по дороге от Мэнской заставы до улицы Бриз-Миш?!
— Откуда он у тебя? — спросила Горбунья, разделявшая любопытство Франсуазы.
— А! Так вот!.. Вам, верно, очень хочется узнать… Ладно уж, сейчас я удовлетворю ваше любопытство… заодно ты узнаешь, мама, почему я так поздно вернулся… Правда, меня еще одно задержало: сегодня поистине день приключений… Я спешил домой, дошел до угла Вавилонской улицы, вдруг слышу слабый, жалобный визг. Было еще довольно светло… Гляжу… на тротуаре воет хорошенькая, маленькая собачка, какую только можно представить; не больше кулака, черная с подпалинами; уши и шерсть по самые лапки.
— Верно, заблудившаяся собака, — сказала Франсуаза.
— Именно. Взял я эту крошечную собачонку, и она принялась лизать мне руки. На шее у собачки была надета широкая пунцовая лента, завязанная большим бантом. Но кто же ее хозяин? Заглянул я под ленту, вижу узенький ошейничек, сделанный из позолоченных или золотых цепочек с маленькой бляхой… Вынул я из моей коробки с табаком спичку, чиркнул и при ее свете прочитал: «Резвушка, принадлежит мадемуазель Адриенне де Кардовилль, Вавилонская улица, дом N7».
— К счастью, ты как раз был на этой улице, — сказала Горбунья.
— Совершенно верно. Взял я собачку под мышку, осмотрелся, поравнялся с длинной садовой оградой, которой, казалось, конца не было, и очутился, наконец, у дверей небольшого павильона, несомненно принадлежавшего громадному особняку, находящемуся на другом конце ограды парка, — так как этот сад явно похож на парк, — и, подняв голову, увидал надпись: дом N7, недавно подновленную на дверях небольшой калитки с окошечком. Я позвонил; через несколько мгновений, во время которых, вероятно, меня разглядывали, мне казалось, что сквозь решетку смотрит пара глаз, — дверь отворилась… Ну, а что произошло дальше… Вы просто мне не поверите…
— Почему, сынок?
— Да потому, что это будет похоже на волшебную сказку.
— На волшебную сказку? — спросила Горбунья.
— Несомненно. Я до сих пор ослеплен и поражен тем, что видел. Осталось как бы смутное впечатление сна.
— Ну, дальше, дальше, — сказала добрая женщина, до такой степени заинтересовавшись, что не заметила даже, как ужин сына начал слегка пригорать.
— Во-первых, — продолжал кузнец, улыбаясь нетерпеливому любопытству, который он возбудил, — мне открыла дверь молоденькая барышня, такая хорошенькая, мило и кокетливо одетая, что ее можно бы было принять за очаровательный старинный портрет. Я еще не сказал ни слова, как она воскликнула: «О, сударь, да это Резвушка; вы ее нашли, вы ее принесли; как будет счастлива мадемуазель Адриенна! Пойдемте скорей, пойдемте; она будет очень сожалеть, если не сможет доставить себе удовольствие поблагодарить вас лично!» И, не давая мне времени ответить, девушка сделала знак следовать за ней. Ну, мама, поскольку она шла очень быстро, мне трудно было бы описать все то великолепие, которое поразило меня в маленькой зале, слабо освещенной и полной аромата. Но открылась другая дверь… Ах! что это было! Я был сразу ослеплен. Я не могу ничего вспомнить, кроме какого-то сверкания золота, света, хрусталя, цветов, а среди всего этого блеска — девушка необыкновенной красоты! О! красоты идеальной, но с волосами совсем рыжими… то есть скорее блестящими, как золото… Это было. Я в жизни таких волос не видал! При этом черные глаза, пунцовые губы и ослепительная белизна, вот все, что я могу припомнить, потому что, повторяю вам, я был так удивлен, так поражен, что видел точно сквозь дымку. «Госпожа, — сказала провожавшая меня девушка, которую я уж никак бы не принял за горничную, так изящно она была одета, — вот Резвушка, этот господин ее нашел и принес!» — «Ах, господин, как я вам благодарна! — сказала мне нежным, серебристым голосом девушка с золотыми волосами. — Я до безумия привязана к Резвушке! — Затем, решив, вероятно, по моей одежде, что она может и даже должна меня поблагодарить не только словами, она взяла лежащий возле нее шелковый кошелек и, я должен сознаться, не без колебания прибавила: — Вероятно, сударь, возвращение Резвушки доставило вам беспокойство; быть может, вы потеряли дорогое время… позвольте мне…» И с этими словами она протянула мне кошелек.
— Ах, Агриколь! — грустно промолвила Горбунья: — как она могла так ошибиться!
— Выслушай до конца… и ты ее простишь, эту барышню. Заметив, вероятно, сразу по моему лицу, как меня задело ее предложение, она взяла из великолепной фарфоровой вазы, стоявшей возле нее, этот роскошный цветок и с выражением, полным любезности и доброты, обратилась ко мне и сказала, желая показать, как ей досадно, что она меня оскорбила: «По крайней мере не откажитесь принять от меня этот цветок!».
— Ты прав, Агриколь, — грустно улыбаясь, промолвила Горбунья. — Нельзя лучше поправить невольную ошибку.
— Благородная девушка! — сказала, вытирая глаза, Франсуаза, — как хорошо она поняла моего Агриколя!
— Не правда ли, матушка? В ту минуту когда я брал цветок, не смея поднять глаз, — потому что, хотя я не из робкого десятка, но эта барышня, несмотря на свою доброту, внушала мне какое-то особенное почтение, — дверь отворилась, и другая, красивая молодая девушка, высокая брюнетка, в странной, но очень красивой одежде, доложила рыжей барышне: «Госпожа, он здесь»… Та тотчас же поднялась и обратилась ко мне: «Тысячу извинений, господин… Я никогда не забуду сколь я обязана вам за испытанное удовольствие… Будьте любезны и на всякий случай потрудитесь запомнить мой адрес и мое имя: Адриенна де Кардовилль». С этими словами она скрылась. Я не нашелся, что и ответить; молодая девушка проводила меня до калитки, сделала восхитительный реверанс, и я очутился на Вавилонской улице, повторяю вам, в таком изумлении и ослеплении, как будто вышел из заколдованного замка.
— А и правда, сынок, совсем как в сказке, не правда ли, милая Горбунья?
— Да, госпожа Франсуаза, — ответила молодая девушка рассеянным и задумчивым тоном, которого, однако, Агриколь не заметил.
— Меня особенно тронуло, — продолжал он, — что как ни рада была эта барышня увидать свою маленькую собачку, она не только не забыла обо мне, как сделали бы многие на ее месте, но даже не занялась с ней, пока я был там. Это доказывает ее сердечность и деликатность, не правда ли, Горбунья? Словом, думаю, что барышня так добра и великодушна, что я ни минуту не задумался бы обратиться к ней в каких-нибудь сложных обстоятельствах…
— Да… ты прав, — отвечала Горбунья все более и более рассеянно.
Бедная девушка сильно страдала… Она не испытывала ни зависти, ни ненависти к этой молодой незнакомке, принадлежавшей, казалось, по ее красоте, богатству, изящности поступков к такой блестящей и высокой сфере, куда не мог достичь даже взор нашей Горбуньи… Но невольно, с болью оглянувшись на себя, несчастная девушка никогда, быть может, так сильно не чувствовала бремени своей нищеты и уродства…
И все-таки эта благородная девушка из-за обычной для нее скромной и кроткой покорности судьбе, только за одно слегка рассердилась на Адриенну де Кардовилль: за то, что она предложила Агриколю деньги; но изысканный поступок, каким была исправлена эта ошибка, глубоко тронул Горбунью…
А все-таки она чувствовала, что сердце ее разрывается на части; все-таки она не могла удержаться от слез, любуясь на дивный цветок, столь великолепный и ароматный, который, должно быть, так дорог Агриколю, потому что подарила его прелестная рука.
— А теперь, матушка, — продолжал со смехом молодой кузнец, не замечая грустного волнения Горбуньи, — вы изволили скушать раньше супа пирожное, что касается рассказов, я вам сообщил одну из причин моего замедления… а вот и другая… Сейчас, войдя в дом, я внизу на лестнице встретился с красильщиком; рука у него была окрашена в превосходный зеленый цвет; он меня остановил и объявил с испуганным видом, что заметил бродившего около нашего дома какого-то довольно хорошо одетого господина, который, казалось, за кем-то подсматривал… «Ну, так что же нам-то до этого, папаша Лорио? — сказал я ему. — Уж не боитесь ли вы, что у нас украдут секрет прекрасной зеленой краски, в которой у вас рука по локоть точно в перчатку затянута?»
— А что это в самом деле за человек, Агриколь? — сказала Франсуаза.
— Да, право, матушка, не знаю, да и не хочу знать: я посоветовал папаше Лорио, который болтлив, как сойка, вернуться к своему чану, потому что ему так же безразлично, как и мне, шпионит кто за нами или нет…
Говоря это, Агриколь положил маленький кожаный кошелек с деньгами в средний ящик шкафа.
В то время пока Франсуаза ставила на угол стола котелок с кушаньем, Горбунья, выйдя из задумчивости, налила воды в таз и, подав его молодому кузнецу, сказала нежным и робким голосом:
— Это для рук, Агриколь!
— Спасибо, крошка… Ну, и милая же ты девушка!.. — И затем совершенно просто и непринужденно Агриколь прибавил: — На тебе за труды этот красивый цветок…
— Ты отдаешь его мне! — воскликнула изменившимся голосом девушка, между тем как яркая краска залила ее бледное и привлекательное лицо. — Ты отдаешь его мне… этот прелестный цветок… цветок, подаренный такой красивой, богатой, доброй и ласковой барышней?! — и бедная Горбунья повторяла все с увеличивающимся изумлением: — И ты мне его отдаешь!
— А на кой черт он мне? На сердце, что ли, положить? Или заказать из него булавку?.. — сказал со смехом Агриколь. — Я был очень тронут, это правда, тем, как любезно отблагодарила меня эта барышня. Я в восторге, что нашел ее собачку, и очень счастлив, что могу подарить тебе этот цветок, если он тебе нравится… Видишь, какой сегодня удачный день!
И пока Горбунья, трепеща от счастья, волнения и удивления, принимала цветок, молодой кузнец, продолжая разговор, мыл руки, причем они оказались такими черными от железных опилок и угольной копоти, что прозрачная вода превратилась в черную жидкость. Агриколь, указав Горбунье взглядом на это превращение, шепнул ей, улыбаясь:
— Вот и дешевые чернила для нашего брата бумагомарателя… Вчера я окончил одно стихотворение, которое показалось мне не совсем уж плохим; я тебе его прочту.
Говоря это, Агриколь простодушно вытер руки о свою блузу, пока Горбунья ставила таз на комод, благоговейно укладывая на один из его краев свой цветок.
— Разве ты не можешь попросить полотенце? — заметила Франсуаза сыну, пожимая плечами. — Вытирать руки блузой, можно ли так!
— Она целый день печется у пламени горна… значит, ей вовсе не вредно освежиться вечерком!.. А! Экий я у тебя неслух, мама!.. побрани-ка меня хорошенько… если хватит храбрости!.. Ну-ка!
В ответ на это Франсуаза, обхватив руками голову своего сына, славную голову, прекрасную, честную, столь решительную и умную, посмотрела на него с материнской гордостью и несколько раз крепко поцеловала в лоб.
— Ну садись же! Ты целый день на ногах в кузнице, а теперь уже так поздно.
— Опять твое кресло… ежевечерне пререкание начинается вновь!.. Убери его, пожалуйста, мне и на стуле удобно.
— Ну, уж нет, по крайней мере дома-то ты должен хорошенько отдохнуть после тяжелой работы.
— Ну, не тиранство ли это, Горбунья? — весело шутил Агриколь, усаживаясь в кресло. — Впрочем, я ведь притворяюсь: мне, конечно, очень удобно сидеть в кресле и я очень рад его занять. С тех пор как я отдыхал на троне в Тюильри, мне нигде не было так удобно!
С одной стороны стола Франсуаза резала для сына хлеб, с другой Горбунья наливала ему вина в серебряный бокал. В этой нежной предупредительности двух прекрасных женщин к их любимцу было нечто трогательное.
— А ты разве со мной не поужинаешь? — спросил Горбунью Агриколь.
— Спасибо, Агриколь, — отвечала швея, потупив глаза, — я только что пообедала.
— Ну, да ведь я тебя только так, из вежливости и приглашал; точно мне неизвестны твои маленькие странности, что ты, например, ни за что на свете не станешь у нас есть… Это вроде матушки: она, видите ли, предпочитает есть одна… чтоб я не видел, как она на себе экономит…
— Да нет же, Боже мой! Мне просто полезнее обедать пораньше… Ну, как тебе нравится это блюдо?
— Просто превосходно! Как оно может не понравиться!.. ведь это треска с репой… А я обожаю треску; мне явно нужно было родиться рыбаком на Ньюфаундленде!
Доброму малому, напротив, казалось не очень сытным после целого дня тяжелой работы это безвкусное и к тому же подгоревшее во время его рассказа кушанье, но он знал, какое удовольствие доставляет матери его постничание по определенным дням, и поэтому ел рыбу с видом полного наслаждения, так что славная женщина была совершенно обманута и с довольным видом заявила:
— О да! Я вижу, с каким удовольствием ты ешь, милый мальчик: подожди, я тебя этим угощу на следующей неделе в пятницу и в субботу.
— Спасибо, мама, только уж не два дня подряд, а то меня избалуешь… Ну-с, а теперь давайте придумывать, как мы проведем это воскресенье. Надо хорошенько повеселиться, а то ты, мама, что-то последние дни печальная, а я этого не выношу… Когда ты грустна, мне все кажется, что ты мной недовольна.
— Недовольна таким сыном? тобой? самым примерным…
— Хорошо, хорошо! Так докажи мне, что ты абсолютно счастлива и повеселись завтра немножко. Быть может, сударыня, и вы удостоите нас своей компании, как в прошлый раз? — сказал Агриколь, расшаркиваясь перед Горбуньей.
Девушка покраснела, опустила глаза и не отвечала ни слова; на лице ее выразилось глубокое огорчение.
— Ведь ты знаешь, сын мой, что по праздникам я всегда хожу в церковь, — отвечала Франсуаза.
— Ну, хорошо, но ведь по вечерам службы нет?.. Я ведь тебя не зову в театр, мы пойдем только посмотреть нового фокусника: очень, говорят, хорошо и занятно.
— Это все-таки своего рода зрелище… Нет, спасибо.
— Матушка, право, вы уж преувеличиваете!
— Но, дитя мое, я, кажется, никому не мешаю делать, кто что хочет.
— Это правда… прости меня, матушка… Ну что же, пойдемте тогда просто прогуляться по бульварам, коли погода будет хорошая: ты, я и бедняжка Горбунья; она около трех месяцев не выходила с нами, а без нас она тоже не выходит…
— Нет уж, сынок, иди гулять один; ты заслужил, кажется, право погулять в воскресенье!
— Ну, Горбунья, голубушка, помоги мне уговорить маму.
— Ты знаешь ведь, Агриколь, — сказала девушка, краснея и не поднимая глаз, что я не могу больше выходить ни с тобой… ни с твоей матушкой…
— Это почему, госпожа? Позвольте вас спросить, если это не нескромно, что за причина подобного отказа? — засмеялся Агриколь.
Девушка грустно улыбнулась и отвечала:
— Потому что я вовсе не желаю быть причиной ссоры.
— Ах, извини, милая, извини!.. — воскликнул кузнец с искренним огорчением и с досадой ударил себя по лбу.
Вот на что намекала Горбунья.
Иногда, очень нечасто, — бедная девушка боялась стеснить их, — Горбунья ходила гулять с кузнецом и его матерью. Для швеи эти прогулки являлись ни с чем несравнимыми праздниками. Много ночей приходилось ей недосыпать, много дней сидеть впроголодь, чтобы завести приличный чепчик и маленькую шаль: она не хотела конфузить своим нарядом Агриколя и его мать. Для нее те пять или шесть прогулок под руку с человеком, которому она втайне поклонялась, были единственными в жизни счастливыми днями. В последнюю прогулку какой-то неотесанный грубиян так сильно ее толкнул, что молодая девушка не могла удержаться и слегка вскрикнула. «Тем хуже для тебя, противная Горбунья!» — отвечал он на ее возглас. Агриколь, как и его отец, был наделен кротким и терпеливым характером, часто встречающимся у людей сильных, храбрых, с великодушным сердцем. Но если ему случалось иметь дело с наглым оскорблением, он приходил в страшную ярость. Взбешенный злостью и грубостью этого человека, Агриколь оставил мать и Горбунью, подошел к грубияну, казавшемуся ему вполне ровней как по годам, так и по росту и силе, и закатил ему две самые звонкие оплеухи, какие только может дать большая и могучая рука кузнеца. Наглец хотел ответить тем же, но Агриколь, не давая ему опомниться, ударил его еще раз, чем вызвал полное одобрение толпы, среди которой грубиян поспешил скрыться, сопровождаемый свистками и насмешками. Об этом-то происшествии и напомнила Горбунья, говоря, что не желает доставлять Агриколю неприятности.
Огорчение кузнеца, невольно напомнившего об этом грустном происшествии, совершенно понятно. Воспоминание о нем было для молодой девушки еще тяжелее, чем Агриколь мог предположить: она его страстно любила, а причиной ссоры было как раз ее жалкое и смешное уродство. Агриколь, при всей своей силе и мужестве, обладал нежным сердцем ребенка; поэтому при мысли о том, как грустно девушке вспоминать эту историю, у него навернулись на глаза крупные слезы, и, раскрыв ей братские объятия, он вымолвил:
— Прости меня за глупость… Иди сюда, поцелуй меня… — и с этими словами он крепко поцеловал Горбунью в ее похудевшие, бледные щеки.
При этом дружеском объятии сердце девушки болезненно забилось, губы побелели, и она ухватилась за стол, чтобы не упасть.
— Ну, что? Ты меня ведь простила? Да? — спросил Агриколь.
— Да, да, — говорила она, стараясь победить свое волнение, — в свою очередь, прости меня за мою слабость… Но мне так больно при воспоминании об этой ссоре… я так за тебя испугалась… Что, если бы все люди приняли сторону того человека?..
— Ах, Господи! — воскликнула Франсуаза, выручая Горбунью совершенно бессознательно. — Я в жизни никогда не была так напугана!
— Ну, что касается тебя, мама, — прервал ее Агриколь, желая переменить неприятный для него и швеи разговор, — то для жены солдата… конного гренадера императорской армии… ты уж слишком труслива! Ах, молодчина мой отец! Нет… знаешь… я просто не могу и представить, что он возвращается… Это меня… у меня голова идет кругом!
— Возвращается… — сказала Франсуаза, вздыхая. — Дай-то Бог, чтобы это было так!
— Как, матушка, дай Бог? Необходимо, чтобы он дал… сколько ты за это обеден отслужила!
— Агриколь… дитя мое! — прервала его мать, грустно покачивая головой, — не говори так… и потом речь идет о твоем отце.
— Эх… право, я сегодня удивительно ловок! Тебя теперь задел… Просто точно взбесился или одурел… Прости меня, матушка. Я сегодня весь вечер должен только извиняться… прости меня… Ты ведь знаешь, когда у меня с языка срывается нечто подобное, то это происходит невольно… Я чувствую, как тебе бывает больно.
— Ты оскорбляешь… не меня, дитя мое!
— Это все равно. Для меня ничего не может быть хуже, чем обидеть тебя… мою мать! Но что касается скорого возвращения батюшки, то в этом я совершенно не сомневаюсь…
— Однако мы не получали писем более четырех месяцев.
— Вспомни, матушка: в том письме, которое он кому-то диктовал, сознаваясь с прямотой истинного военного, что, выучившись порядочно читать, он писать все-таки не умеет… так именно в этом письме он просил, чтобы о нем не беспокоились, что в конце января он будет в Париже и за три или четыре дня до приезда уведомит, у какой заставы я должен его встретить.
— Так-то так… но ведь уж февраль, а его все нет…
— Тем скорее мы его дождемся… Скажу больше… мне почему-то кажется, что наш Габриель вернется к этому же времени… Его последнее письмо из Америки позволяет надеяться… Какое счастье, матушка… если вся семья будет в сборе!
— Да услышит тебя Бог, сынок! Славный это будет для меня день!
— И он скоро настанет, поверь. Что касается батюшки, раз нет новостей, значит, все нормально…
— Ты хорошо помнишь отца, Агриколь? — спросила Горбунья.
— По правде сказать, я лучше всего помню его большую меховую шапку и усы, которых я до смерти боялся. Меня могли с ним примирить только красная ленточка креста на белых отворотах мундира и блестящая рукоятка сабли! Не правда ли, матушка?.. Да что это? Никак ты плачешь?
— Бедняга Бодуэн!.. Как он страдал, я думаю, от столь долгой разлуки! В его-то годы, в шестьдесят лет!.. Ах, сынок… мое сердце готово разорваться, когда подумаю, что он и здесь найдет ту же нужду и горе.
— Да что ты говоришь?
— Сама я больше ничего не могу заработать…
— А я-то на что? Разве здесь не имеется комнаты и стола для него и для тебя? Только, мама, раз дело зашло о хозяйстве, — прибавил кузнец, стараясь придать самое нежное выражение своему голосу, чтобы не задеть мать, — позволь мне тебе сказать одно словечко: раз батюшка и Габриель вернутся, тебе не надо будет ставить столько свечей и заказывать обеден, не так ли?.. Ну, на эти деньги отец и сможет иметь каждый день бутылочку вина и табака на трубку… Затем по воскресеньям мы его будем угощать обедом в трактире.
Речь Агриколя была прервана стуком в дверь.
— Войдите! — крикнул он.
Но, вместо того чтобы войти, посетитель только приотворил дверь, и в комнату просунулась рука, окрашенная в блестящую зеленую краску, и принялась делать знаки кузнецу.
— Да ведь это папаша Лорио!.. образец красильщиков, — сказал Агриколь. — Входите же без церемоний.
— Не могу, брат… я весь в краске с ног до головы… Я выкрашу в зеленый цвет весь пол у госпожи Франсуазы.
— Тем лучше… он будет похож на луг, а я обожаю деревню!
— Без шуток, Агриколь, мне необходимо с вами поговорить.
— Не о том ли господине, что за нами шпионит? Успокойтесь, что нам до него за дело?
— Нет, мне кажется, он ушел… или за густым туманом я его больше не вижу… Нет, не за тем я… Выйдите-ка поскорее… дело очень важное, — прибавил красильщик с таинственным видом, — дело касается вас одного.
— Меня? — спросил с удивлением Агриколь, вставая с места. — Что это может быть такое?
— Да иди же узнай, — сказала Франсуаза.
— Ладно, матушка; но черт меня побери, если я что-нибудь понимаю.
И кузнец ушел, оставив мать и Горбунью одних.
4. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Агриколь возвратился минут через пять; лицо его было бледно, взволнованно, глаза полны слез, руки дрожали; но выглядел он счастливым и необыкновенно растроганным. Он с минуту оставался у двери, как будто волнение мешало ему подойти к матери.
Зрение Франсуазы настолько ослабло, что она сразу и не заметила перемены в лице сына.
— Ну, что там такое, дитя мое? — спросила она.
Раньше чем кузнец мог ответить, Горбунья, более проницательная, воскликнула громко:
— Агриколь… что случилось? Отчего ты так бледен?
— Матушка, — сказал молодой рабочий взволнованным голосом, бросившись к матери и не ответив Горбунье, — матушка, случилось нечто, что вас очень поразит… Обещайте мне, что вы будете благоразумны…
— Что ты хочешь сказать? Как ты дрожишь! Посмотри-ка на меня! Горбунья права… ты страшно бледен!
Агриколь встал на колени перед матерью и, сжимая ее руки, говорил:
— Милая матушка… надо… вы не знаете… однако…
Кузнец не мог кончить фразы, голос его прервался от нахлынувших радостных слез.
— Ты плачешь, сын мой?.. Боже… но что случилось?.. Ты меня пугаешь!..
— Не пугайся… напротив… — говорил Агриколь, вытирая глаза, — это большое счастье… но прошу тебя еще раз: постарайся быть благоразумной… Слишком большая радость может быть так же гибельна, как и горе!..
— Ну! говори же!
— Я же предсказывал, что он вернется!
— Твой отец!!! — вскрикнула Франсуаза.
Она вскочила со стула. Но радость и изумление были настолько сильны, что бедная женщина схватилась за сердце, как бы стараясь сдержать его биение, и зашаталась.
Сын подхватил ее и посадил в кресло. Горбунья, отошедшая из скромности в сторону во время этой сцены, поглотившей все внимание матери и сына, робко подошла к ним, видя, что помощь будет нелишней, так как лицо Франсуазы все более и более изменялось.
— Ну, мужайся, матушка, — продолжал кузнец. — Удар уже нанесен, теперь остается насладиться радостью свидания с батюшкой.
— Бедный Бодуэн… после восемнадцати лет разлуки! — говорила Франсуаза, заливаясь слезами. — Да правда ли это, правда ли, Бог мой?
— Настолько правда, что если вы мне обещаете не волноваться больше, то я могу вам сказать, когда вы его увидите.
— Неужели… скоро? Да?
— Да… скоро…
— Когда же он приедет?
— Его можно ждать с минуты на минуту… завтра… сегодня, быть может…
— Сегодня?
— Да, матушка… Надо вам сказать все… Он возвратился… он здесь!..
— Он здесь… здесь…
Франсуаза не могла окончить фразы от волнения.
— Сейчас он внизу… он послал за мной красильщика, чтобы я мог тебя подготовить… он боялся, добряк, поразить тебя неожиданной радостью…
— О, Боже!
— А теперь, — воскликнул кузнец, со взрывом неописуемого восторга, — он здесь, он ждет! Ах, матушка… я не могу больше… Мне кажется, в эти последние десять минут у меня сердце выскочит из груди.
И, бросившись к двери, он ее распахнул. На пороге стоял Дагобер: он держал за руки Розу и Бланш.
Вместо того чтобы броситься в объятия мужа, Франсуаза упала на колени и начала молиться. От глубины сердца она благодарила Создателя за исполнение горячих молитв, за высокую милость, которой он вознаградил все ее жертвы.
С минуту все оставались неподвижны и безмолвны.
Агриколь с нетерпением ожидал конца материнской молитвы; он насилу сдерживал, из чувства деликатности и уважения, страстное желание броситься отцу на шею.
Старый солдат испытывал то же, что и кузнец. Они сразу друг друга поняли; в первом взгляде, каким они обменялись, проявилось все их почтение и любовь к превосходной женщине, которая в порыве религиозного рвения забыла для Творца о его творениях.
Роза и Бланш, смущенные и растроганные, с сочувствием смотрели на коленопреклоненную женщину, а Горбунья запряталась в самый темный уголок комнаты, чувствуя себя чужой и естественно забытой в этом семейном кружке, что не мешало ей плакать от радости при мысли о счастье Агриколя.
Наконец Франсуаза встала, бросилась к мужу и упала в его объятия. Наступила минута торжественного безмолвия. Дагобер и Франсуаза не говорили ни слова. Слышны были только всхлипывания и радостные вздохи. Когда старики приподняли головы, на их лицах выражалась спокойная, ясная радость… так как полное счастье простых и чистых натур не влечет за собой ничего лихорадочного и тревожно-страстного.
— Дети мои, — растроганно сказал солдат, указывая сиротам на Франсуазу, между тем как та, немного успокоившись, с удивлением смотрела на них, — вот моя дорогая, добрая жена… Для дочерей генерала Симона она будет тем же, чем был я…
— Значит, вы будете смотреть на нас как на своих дочерей, сударыня! — сказала Роза, подходя с сестрой к Франсуазе.
— Дочери генерала Симона! — воскликнула с удивлением жена Дагобера.
— Да, дорогая Франсуаза, это они… Издалека пришлось мне их везти… и немало труда это стоило… Я расскажу тебе обо всем этом потом.
— Бедняжки… точно два ангелочка… и как похожи друг на друга! — говорила Франсуаза, любуясь сиротами с чувством глубокого участия, равнявшегося восхищению.
— Ну, а теперь… твоя очередь! — сказал Дагобер, обращаясь к сыну.
— Наконец-то! — воскликнул тот.
Описать безумную радость отца и сына, их восторженные поцелуи и объятия невозможно. Дагобер то и дело останавливал сына, клал ему руки на плечи, любуясь его мужественным, открытым лицом, стройной и сильной фигурой, затем снова сжимал в могучих объятиях, повторяя:
— Ну, не красавец ли этот мальчик, как сложен-то! А лицо какое доброе!
Горбунья наслаждалась счастьем Агриколя. Она все еще стояла, притаившись, никем не замеченная, в темном уголке комнаты, и желала так же незаметно исчезнуть, думая, что ее присутствие неуместно. Но уйти было невозможно. Дагобер с сыном почти совершенно заслонили дверь, и Горбунья поневоле должна была оставаться в комнате. Швея не могла оторвать глаз от прелестных лиц Розы и Бланш; ей сроду не случалось видеть таких красавиц, а удивительное сходство сестер окончательно ее поразило. Скромная траурная одежда молодых девушек указывала на их бедность, и это усиливало симпатию Горбуньи к прелестным сиротам.
— Бедные девочки, им холодно; их крошечные ручки совсем ледяные, а печка, к несчастью, погасла!.. — сказала Франсуаза.
Она старалась отогреть маленькие ручки в своих руках, пока Дагобер и Агриколь отдавались излияниям так долго сдерживаемой нежности…
Когда Франсуаза заметила, что печка потухла, Горбунья с радостью ухватилась за предлог, который мог служить извинением ее присутствию; она бросилась в чулан, где хранились дрова и угли, захватила несколько поленьев, положила их в печь и, стоя перед ней на коленях, с помощью оставшихся под пеплом горячих угольков быстро развела огонь, который скоро начал весело потрескивать и разгораться. Затем она налила воды в кофейник и поставила его на очаг, считая, что девушек необходимо напоить чем-нибудь теплым.
Горбунья делала все это так тихо и проворно, ее присутствие было так незаметно среди всеобщей радости, что Франсуаза, занятая молодыми гостьями, только по приятной теплоте, распространившейся по комнате, да по шуму закипевшей в кофейнике воды заметила, что печка уже затоплена. Но даже это странное явление — печка, затопившаяся как будто сама собой, нисколько не поразило Франсуазу: она вся была поглощена мыслью, как ей разместить Розу и Бланш, так как солдат не предупредил ее об их приезде.
Вдруг за дверьми послышался громкий лай.
— Батюшки, да это мой старый Угрюм! — сказал Дагобер, направляясь к дверям. — Он просится, чтобы его пустили. Он тоже хочет со всеми познакомиться.
Угрюм одним прыжком очутился в комнате и через минуту почувствовал себя совершенно как дома. Потершись своей длинной мордой о Дагобера, Розу и Бланш, он так же приветствовал Франсуазу и Агриколя, после чего, видя, что на него не обращают внимания, отыскал в уголке бедную Горбунью и, решив, конечно, что друзья наших друзей — наши друзья, принялся ласково лизать руки забытой всеми девушки. Эта ласка почему-то необыкновенно растрогала Горбунью, у которой даже слезы навернулись на глаза… Она погладила своей длинной, худой и бледной рукой умную голову Угрюма, и, видя, что больше ее услуг никому не потребуется, захватила прелестный цветок, подаренный ей Агриколем, и, отворив потихоньку дверь, незаметно выскользнула из комнаты.
После радостных восторгов свиданья Дагобер и его семья перешли к вопросам житейским.
— Бедняжка жена, — сказал солдат, указывая глазами на Розу и Бланш, — ты не ждала, небось, такого сюрприза?
— Мне только обидно, — отвечала Франсуаза, — что я не могу предложить дочерям генерала Симона лучшего помещения… Ведь вместе с мансардой Агриколя…
— Эта комната составляет весь наш особняк… Конечно, существуют дома и более вместительные!.. Но успокойся: бедные девочки приучены к терпению. Завтра же мы отправимся вместе с сыном, — и, уверяю тебя, не он будет самым добрым и гордым в нашей паре, — прямо на завод к господину Гарди, чтобы поговорить о делах с отцом генерала Симона…
— Завтра, батюшка, вы никого из них не застанете, — возразил Агриколь, — ни господина Гарди, ни отца маршала Симона.
— Как ты сказал?.. Маршала?
— Я сказал правду. В 1830 году друзьям генерала Симона удалось восстановить его права на все титулы и чины, какими его наградил император после победы при Линьи!
— Неужели? — воскликнул растроганный Дагобер. — Впрочем, чему же я удивляюсь?.. Должна же была восторжествовать справедливость… Раз император сказал… я думаю, по меньшей мере, должно было быть так, как он сказал… Но все-таки это меня растрогало… до глубины сердца… — Затем, обращаясь к девушкам, он прибавил: — Итак, девочки, слышите?.. вы явились в Париж дочерьми герцога и маршала!.. Правда, видя вас в этой бедной каморке, никто бы не подумал, что вы герцогини!.. Но подождите, бедные малютки… все устроится!.. Я думаю, старик Симон был очень рад, узнав о возвращении титулов его сыну? Правда?
— Он говорит, что с радостью уступил бы все эти почести за счастье увидеть сына… так как все хлопоты друзей генерала и восстановление справедливости произошли в его отсутствие… Впрочем маршала ожидают, последние письма из Индии говорят о его скором возвращении.
При этих словах Роза и Бланш переглянулись: их глаза наполнились сладкими слезами.
— Ну, слава Богу. Мы сильно рассчитывали на его возвращение, я и девочки! Но отчего же мы никого не застанем завтра на фабрике?
— И господин Гарди и Симон уехали дней на десять для осмотра одного английского завода на юге Франции, но их ждут со дня на день…
— Черт возьми!.. как это досадно… Мне надо было поговорить с отцом генерала об очень важном деле. Впрочем, можно и написать: вероятно, его адрес известен? Так что ты завтра же уведоми его о приезде внучек. А пока, девочки, — прибавил солдат, обращаясь к Розе и Бланш, — жена вас уложит у себя на кровати: на войне — как на войне! В дороге бывало не лучше этого!
— Ты знаешь, с тобой и с твоей женой нам везде будет хорошо! — сказала Роза.
— Кроме того, у нас теперь одна мысль: надежда на скорое свидание с отцом и радость, что наконец мы в Париже… — прибавила Бланш.
— Ну, конечно, с такими надеждами ждать можно! — сказал Дагобер. — Однако все-таки я думаю, что после ваших мечтаний о Париже подобная обстановка вам кажется дикой… непохоже уж вовсе на золотой город ваших грез… Но терпение, терпение… скоро вы убедитесь, что Париж не так плох… как кажется…
— Конечно, — весело засмеялся Агриколь, — для этих барышень достаточно возвращения маршала, чтобы Париж превратился в золотой город!
— Вы совершенно правы, Агриколь, — улыбнувшись, промолвила Роза, — вы нас поняли!
— Как, госпожа… вы изволите знать мое имя?
— Конечно, да. Мы часто говорили о вас с Дагобером, а совсем недавно и с Габриелем, — прибавила Бланш.
— С Габриелем?! — воскликнули одновременно мать и сын.
— Ну да! — прервал их Дагобер, делая знак сиротам. — У нас ведь хватит рассказов на две недели… в том числе и рассказ о встрече с Габриелем… О нем я могу сказать одно: что, в своем роде, он стоит моего мальчика… (не могу удержаться, чтобы не сказать «мой мальчик») они стоят друг друга и могут считаться братьями… А ты славная у меня женщина, право, славная… — прибавил Дагобер с чувством — право, хорошее дело!.. При твоей-то бедности ты еще взяла на себя заботу о несчастном ребенке, воспитала его вместе с сыном… Право, это очень здорово…
— Не говори так… все очень просто…
— Ну, ладно… я тебе отплачу потом, запишу на счет… А пока ты, наверно, с ним увидишься не позже завтрашнего дня…
— Дорогой мой брат… так и он вернулся! — воскликнул кузнец. — Ну вот и скажите после этого, что нет особенных счастливых дней! Да как вы его встретили, батюшка?
— Вот как: «вы»!.. Все еще «вы»?.. Уж не думаешь ли ты, что раз пишешь стихи, так уж стал слишком важным барином, чтобы быть на «ты» с отцом?
— Батюшка!
— Нет, брат, тебе придется много раз сказать мне «ты» да «тебя», чтобы я наверстал их за восемнадцать лет… Что касается Габриеля, я сейчас тебе расскажу, где мы его встретили, потому что если ты рассчитываешь спать, то ты очень ошибаешься: я лягу с тобой, и мы еще поболтаем… Угрюм ляжет у дверей этой комнаты… он уже сыздавна привык охранять девочек…
— Господи, я просто сегодня совсем потеряла голову… но сию минуту… Если ты и барышни хотите покушать, Агриколь сейчас сбегает в трактир…
— Хотите, детки?
— Нет, благодарим, Дагобер: мы так радостно взволнованы, что не можем есть.
— Ну, а уж сахарной-то воды горячей с вином вы выпить должны, чтобы согреться; к несчастью, ничего другого у меня нет, — прибавила Франсуаза.
— Вот что, Франсуаза; бедные девочки устали, уложи-ка их… А я пойду к сыну… Завтра же, рано утром, пока Роза и Бланш спят, я приду поболтать с тобой, чтобы дать отдых Агриколю!
В это время в дверь кто-то сильно постучался.
— Это, верно, добрая Горбунья пришла справиться, не нужна ли нам ее помощь, — сказал Агриколь.
— Да, мне кажется, она была здесь, когда они пришли, — сказала Франсуаза.
— А ведь и правда! Боялась, верно, помешать нам, бедняжка, незаметно исчезла… Ведь она так скромна… Но она не стучит так громко.
— Взгляни же, кто это, — заметила Франсуаза.
Но прежде чем кузнец подошел к двери, она отворилась, и в комнату вошел прилично одетый, почтенной наружности господин; он сделал несколько шагов вперед и быстро огляделся кругом, остановив на минуту взгляд на девушках.
— Позвольте вам заметить, месье, — сказал ему, идя навстречу, Агриколь, — что раз вы постучали, то недурно бы подождать, пока вам позволят войти… Что вам угодно?
— Извините меня, пожалуйста, — очень вежливо отвечал господин, медленно растягивая слова, быть может, для того, чтобы дольше оставаться в комнате, — тысячу извинений… мне очень совестно… я в отчаянии от своей нескромности…
— Ну, дальше, месье, — с нетерпением прервал его кузнец. — Что вам угодно?
— Здесь живет мадемуазель Соливо, горбатая швея?
— Нет, господин, она живет выше, — отвечал Агриколь.
— Ах, месье! — начал снова раскланиваться и извиняться вежливый посетитель, — как мне совестно за мою неловкость… Я пришел к этой швее с предложением работы от одной почтенной особы…
— Теперь слишком поздно, — заметил с удивлением Агриколь, — девушка эта, верно, уже спит… Впрочем, она наша добрая знакомая, и я могу предложить вам прийти завтра…
— Итак, милостивый государь, позвольте повторить мои извинения…
— Хорошо, месье! — отвечал Агриколь, делая шаг к двери.
— Я прошу и вас… принять уверения…
— Знаете, месье, если вы будете так тянуть ваши извинения, то вам придется снова извиняться за их бесконечность… эдак и конца не будет.
При этих словах Агриколя, вызвавших улыбку на устах молодых девушек, Дагобер начал горделиво крутить свои усы…
— Экой умница-парень, — шепнул он своей жене, — тебе-то это, конечно, не в диковинку, ты привыкла!
Между тем церемонный господин вышел, наконец, из комнаты, окинув напоследок внимательным взором и сестер, и Агриколя, и Дагобера.
Через несколько минут, пока Франсуаза, разложив для себя на полу матрац, застлала чистым бельем постель для сирот и стала укладывать девушек с истинно материнской заботливостью, Агриколь с отцом поднимались в мансарду кузнеца.
В то время, когда Агриколь, освещая дорогу, проходил наверх мимо двери Горбуньи, та, скрываясь в тени, быстро шепнула ему:
— Агриколь, тебе грозит большая опасность, нам необходимо переговорить…
Хотя это было сказано так поспешно и так тихо, что Дагобер ничего не слыхал, но внезапная остановка вздрогнувшего от удивления Агриколя обратила его внимание.
— Что такое, сынок, что случилось?
— Ничего, батюшка… Я только боялся, что тебе темно.
— Будь спокоен… Сегодня у меня ноги и глаза пятнадцатилетнего сорванца.
И, не замечая озадаченного лица сына, солдат взошел в маленькую мансарду, где они должны были ночевать.
Выйдя из дома, где он искал в квартире жены Дагобера швею, вежливый господин поспешно направился в конец улицы Бриз-Миш. Он подошел к фиакру, стоявшему на маленькой площади у монастыря Сен-Мерри.
В глубине фиакра сидел закутанный в шубу Роден.
— Ну что? — спросил он.
— Обе девушки и человек с седыми усами вошли к Франсуазе Бодуэн, — ответил тот. — Прежде чем постучаться, я несколько минут подслушивал у дверей; девушки ночуют сегодня в комнате Франсуазы, старик с седыми усами ляжет у кузнеца.
— Отлично! — сказал Роден.
— Я не смел настаивать сегодня на свидании с Горбуньей, чтобы поговорить о Королеве вакханок. Завтра я пойду к ней, чтобы узнать, какое впечатление на нее произвело письмо, полученное сегодня по почте, относительно молодого кузнеца.
— Непременно сходите. Теперь отправляйтесь от моего имени к духовнику Франсуазы Бодуэн. Хотя уже поздно, но скажите ему, что я жду его на улице Милье Дез-Урсэн, чтобы он тотчас туда явился, не теряя времени… проводите его сами. Если меня еще не будет, подождите. Предупредите его, что речь идет о вещах необыкновенно важных.
— Все будет исполнено в точности, — ответил вежливый господин, низко кланяясь Родену, фиакр которого быстро отъехал.
5. АГРИКОЛЬ И ГОРБУНЬЯ
Через час после описанных нами событий глубокая тишина царила на улице Бриз-Миш.
Мерцающий огонек, проходивший сквозь рамы стеклянной двери из комнаты Горбуньи, указывал, что она еще не спит. Ее несчастная конура, лишенная воздуха и света даже днем, освещалась только через дверь, выходившую в полутемный узкий коридор, проделанный под самой крышей.
Жалкая кровать, стол, старый чемодан и стул так заполняли холодную каморку, что два человека не могли бы в ней поместиться, если только один из них не садился на кровать.
Роскошный цветок, подарок Агриколя, бережно поставленный в стакан с водой на заваленном бельем столе, распространял свое сладкое благоухание и развертывал пышные лепестки среди убогой комнатки с сырыми, грязными стенами, слабо освещенной тоненькой свечкой.
Швея сидела на кровати. Лицо ее было встревожено, глаза полны слез. Одной рукой опираясь на изголовье, девушка внимательно прислушивалась, повернув голову к дверям: она с мучительным беспокойством напрягала слух, надеясь с минуты на минуту услышать шаги Агриколя.
Сердце швеи усиленно билось… Глубокое волнение вызвало даже румянец на ее вечно бледном лице. По временам девушка бросала испуганный взгляд на письмо, сжатое в руке; это письмо, прибывшее с вечерней почтой, было положено привратником-красильщиком на ее стол, пока она присутствовала при свидании Дагобера с семьей.
Через некоторое время девушке послышался шум отворявшейся соседней двери.
— Наконец-то он! — воскликнула Горбунья.
Действительно, Агриколь вошел.
— Я ждал, пока заснет отец, — сказал шепотом кузнец. Он, по-видимому, скорее испытывал любопытство, чем тревогу. — Ну, что случилось, милая Горбунья? Как ты взволнована! Ты плачешь… В чем дело? О какой опасности хотела ты со мной поговорить?
— На… читай! — отвечала дрожащим голосом швея, поспешно протягивая ему распечатанное письмо.
Агриколь подошел к огню и прочитал следующее:
«Особа, не имеющая возможности себя назвать, но знающая, с каким братским участием вы относитесь к Агриколю Бодуэну, предупреждает вас, что завтра, по всей вероятности, этот честный молодой рабочий будет арестован…»
— Я?! — воскликнул Агриколь, с удивлением смотря на молодую девушку. — Что это значит?
— Читай дальше, — взволнованно промолвила швея, ломая руки.
Агриколь продолжал, не веря своим глазам:
«Его песня „Освобожденные труженики“ признана преступной; множество экземпляров ее было найдено в бумагах тайного общества, руководители которого арестованы вследствие открытия заговора на улице Прувер».
— Увы! — заливаясь слезами, начала Горбунья, — я все теперь понимаю. Этот человек, подсматривавший около нашего дома, по словам красильщика, был не кто иной, как шпион… он, несомненно, поджидал твоего возвращения!..
— Да полно, это нелепое обвинение! — воскликнул Агриколь. — Не мучь себя понапрасну, милая… Я политикой не занимаюсь… Мои стихи только полны любовью к человечеству. Разве можно мне поставить в вину, что они найдены в бумагах какого-то тайного общества?
И он с презрением бросил письмо на стол.
— Читай дальше… пожалуйста… — попросила Горбунья.
— Изволь, коли хочешь.
Агриколь продолжал:
«Приказ об аресте Агриколя Бодуэна уже подписан. Несомненно, рано или поздно невиновность молодого рабочего будет доказана… Но пока лучше было бы поскорее скрыться от преследования, для того чтобы избежать двух— или трехмесячного заключения, которое нанесет смертельный удар его матери: ведь он — ее единственная поддержка.
Искренний друг, вынужденный оставаться неизвестным».
После минутного молчания кузнец пожал плечами; затем его лицо прояснилось, и он со смехом сказал швее:
— Успокойся, милая Горбунья: злые шутники ошиблись месяцем… Это просто преждевременная первоапрельская шутка!..
— Агриколь, — умоляла его Горбунья, — не относись к этому так легко… Поверь моим предчувствиям… последуй этому совету…
— Да уверяю же тебя, бедняжка, что это глупости… Мои стихи напечатаны уже более двух месяцев… ничего в них нет политического… Да и не стали бы так долго ждать, если бы они заслуживали преследования…
— Но подумай, как изменились обстоятельства… Заговор на улице Прувер был открыт всего два дня тому назад… и если твои стихи, никому до той поры не известные, нашлись у арестованных лиц, замешанных в этом деле… то этого совершенно достаточно, чтобы тебя скомпрометировать.
— Скомпрометировать?.. стихи, где я восхваляю любовь к труду и милосердие?.. Ну, для этого надо, чтобы правосудие было совсем слепым… Тогда ему следует дать палку и собаку, чтобы не сбиться с прямой дороги…
— Агриколь! — вскричала девушка, глубоко огорченная его шутками в такую минуту, — умоляю… выслушай меня. Конечно, ты проповедуешь в своих стихах святую любовь к труду; но там же ты оплакиваешь тяжелую участь рабочего, безнадежно обреченного на житейские невзгоды… Ты проповедуешь христианское братство… но твое благородное сердце возмущается эгоизмом злых людей… Наконец, ты страстно призываешь к скорейшему освобождению тех рабочих, которые не так счастливы, как ты, у которых нет столь честного и великодушного хозяина, как твой. Подумай же, не довольно ли в наше беспокойное время нескольким экземплярам твоих песен оказаться у арестованных заговорщиков, чтобы тебя скомпрометировать?
При этих дельных и горячих словах доброй девушки, сердце которой подсказывало разумные доводы, Агриколь сделал невольное движение: он серьезнее посмотрел на данный совет.
Видя, что он начинает колебаться, Горбунья продолжала:
— А потом: вспомни-ка хоть о Реми, твоем товарище по мастерской!
— Реми?
— Ну да… У лица, замешанного в каком-то заговоре, нашли письмо от Реми… невинное письмо… И что же, бедняга месяц просидел в тюрьме!
— Так-то так, милая моя… но его невиновность была доказана, и его выпустили…
— После месяца тюремного заключения!.. А тебе именно этого-то и советуют избежать… и совершенно разумно… Ты только подумай, Агриколь: целый месяц в тюрьме… Господи… да что станется с твоей матерью!
Эти слова произвели глубокое впечатление на молодого кузнеца. Он снова взял письмо и перечитал его со вниманием.
— А этот человек, бродивший возле дома весь день? — продолжала девушка. — Я не могу не говорить о нем… Согласись, что это неспроста… А какой удар для твоего отца, для твоей бедной матери: ведь она не может даже ничего сама заработать… Ведь ты их единственная надежда… подумай об этом… Что с ними будет без тебя… без твоей помощи и заработка?
— Правда твоя… это было бы ужасно! — сказал Агриколь, бросая письмо. — Ты совершенно права относительно Реми… он был так же невиновен, как и я… а между тем, по ошибке правосудия, вероятно невольной, но все-таки ужасной ошибке… Да нет же, впрочем… не могут же арестовать человека без допроса…
— Сперва арестуют, а потом… и допросят! — с горечью заметила Горбунья. — Затем через месяц, через два выпустят на свободу… Ну, а если у него есть семья, живущая только на его заработок, что будет с ней, пока ее опора в тюрьме?.. Что же… семья голодает, мерзнет, льет слезы.
Наконец эти простые и трогательные слова Горбуньи дошли до сознания Агриколя.
— Месяц без работы… — начал он задумчиво и с грустью. — А что же станет с матерью, с отцом… с девочками, которые до приезда маршала Симона или его отца будут жить у нас?.. Да, Горбунья, ты права, меня невольно страшит эта мысль…
— Агриколь, — воскликнула швея, — а что если бы ты обратился к господину Гарди? Он так добр, пользуется таким почетом и уважением… Несомненно, тебя не тронут, если он за тебя поручится.
— В том-то и беда, что господина Гарди нет в Париже: он уехал с отцом маршала Симона.
Затем, помолчав немного, Агриколь прибавил, стараясь преодолеть тревогу:
— Да нет же… не могу я поверить этому письму… Во всяком случае, лучше выждать, по крайней мере можно будет на первом же допросе доказать свою невиновность. А иначе, бедняжка… подумай… ведь буду ли я в тюрьме или буду скрываться, результат для семьи один и тот же: заработка моего она все равно лишится!
— К несчастью, ты прав, — сказала бедная девушка. — Что же делать? Что делать?
«А отец… — подумал Агриколь, — если это несчастье случится завтра… Какое печальное пробуждение для человека, заснувшего так радостно!»
И кузнец закрыл лицо руками.
К несчастью, страх Горбуньи был весьма основателен. Около 1832 года, до и после заговора на улице Прувер, производилось множество арестов среди рабочих; такова была реакция против демократических идей.
Вдруг, после нескольких секунд молчания, Горбунья встрепенулась, лицо ее вспыхнуло, и не поддающееся описанию выражение надежды, смущения и подавленной горести озарило ее черты.
— Агриколь, ты спасен! — воскликнула она.
— Что ты хочешь этим сказать?
— А красивая и добрая барышня, подарившая тебе этот цветок (и швея указала на него кузнецу)? Раз она сумела так тонко загладить обидное предложение, несомненно, она обладает чутким, великодушным сердцем… Ты должен обратиться… к ней…
Казалось, последние слова Горбунья произнесла со страшным усилием… две крупные слезы покатились по ее щекам.
В первый раз в жизни испытала девушка горькое чувство ревности: другой женщине выпало на долю счастье оказать помощь человеку, которого она, нищая и бессильная, боготворила.
— Ты полагаешь? — сказал Агриколь с изумлением. — Чем же она может быть мне полезна?
— Разве ты забыл ее слова: «Не забудьте моего имени и при случае прямо обратитесь ко мне».
— Помню… но…
— Несомненно, что при своем высоком общественном положении эта барышня имеет много важных знакомых… Они за тебя заступятся… защитят… Нет, завтра же иди к ней… откровенно расскажи ей все… и попроси поддержки.
— Но, повторяю, что же она может сделать, милая Горбунья?
— Слушай!.. Я помню, как-то давно мой отец рассказывал, что спас от тюрьмы товарища, поручившись за него… Убедить эту девушку в твоей невиновности будет, конечно, нетрудно… И, конечно, она за тебя поручится… Тогда тебе нечего будет бояться!
— Ах, милая, просить почти незнакомого человека о такой услуге… не так-то это просто.
— Поверь, Агриколь, — грустно заметила Горбунья, — никогда бы я ничего не посоветовала, что могло бы тебя унизить в глазах кого бы то ни было… а особенно… слышишь ли?.. особенно в глазах этой девушки. Ты ведь не для себя просишь денег… Нужно их только внести как залог, чтобы ты мог кормить семью, оставаясь на свободе. Поверь, что эта просьба и честна, и благородна… Сердце у этой девушки великодушное… она тебя поймет… И что ей стоит это поручительство!.. А для тебя оно все… Речь ведь идет о жизни твоей семьи.
— Ты права, милая Горбунья, — упавшим голосом и с тоской вымолвил кузнец, — пожалуй, надо попытаться. Если эта барышня согласится оказать мне услугу и если уплата залога сможет меня спасти от тюрьмы… то я могу ничего не бояться… Нет, впрочем, нет, — прибавил кузнец, вскакивая с места, — никогда я не осмелюсь ее просить! Какое право имею я ее беспокоить? Разве маленькая услуга, которую я ей оказал, может сравниться с той, о какой я хочу просить?
— Неужели ты думаешь, Агриколь, что великодушный человек станет соразмерять ценность своей услуги с ценностью одолжения? Что касается движений сердца, то можешь полностью довериться мне… Конечно, я — несчастное создание и ни с кем не могу себя сравнивать… я не могу ничего сделать… я — ничтожество… А между тем я уверена… слышишь, Агриколь… я уверена, что в этом случае эта девушка, стоящая неизмеримо выше меня, почувствует то же, что чувствую и я… Она поймет весь ужас твоего положения… и сделает с радостью, с чувством благодарности и удовлетворения все то, что и я бы сделала… если бы могла это сделать… Но, к несчастью, я могла бы только пожертвовать собой, а это ничего не даст!..
Невольно Горбунья придала этим словам душераздирающее звучание. В этом сопоставлении несчастной работницы, неизвестной, презираемой, нищей и уродливой, — с блестящей и богатой Адриенной де Кардовилль, сияющей молодостью, красотой, заключалось нечто столь печальное, что Агриколь растрогался до слез. Протянув руку Горбунье, он сказал ей взволнованным голосом:
— Как ты добра!.. Как много в тебе чуткости, благородства и здравого смысла!
— К несчастью, я могу только… советовать!
— И я последую твоим советам, дорогая. Это советы самой возвышенной души, какую я только знаю!.. Да кроме того, ты меня успокоила, вселив уверенность, что сердце Адриенны де Кардовилль стоит… твоего!
При этом искреннем и невольном соединении двух имен Горбунья почти разом забыла все свои страдания — до того сладко и утешительно было ее волнение. Если на долю несчастных существ, обреченных на вечное страдание, и выпадают не ведомые никому в мире мучения, то наряду с ними у них бывают иногда тоже неведомые, скромные и тихие радости… Малейшее слово нежного участия, возвышающего их в собственных глазах, необыкновенно благотворно действует на несчастных, уделом которых является презрение окружающих и мучительное неверие в самих себя.
— Итак, решено, ты завтра утром идешь к этой барышне! — воскликнула Горбунья с ожившей надеждой. — На рассвете я спущусь вниз и погляжу, нет ли чего подозрительного… чтобы тебя предупредить…
— Ты добрая, чудесная девушка, — повторил Агриколь, все более и более умиляясь.
— Надо уйти пораньше, пока не проснется твой отец… Местность, где эта барышня живет… настоящая пустыня… Пожалуй, идти туда… это все равно что скрыться!
— Мне послышался голос отца, — сказал Агриколь.
Комната Горбуньи так близко примыкала к мансарде кузнеца, что последний и швея ясно услышали слова Дагобера, спрашивающего в темноте:
— Агриколь? Ты спишь, мальчик? Я вздремнул и совсем выспался… до жути поболтать хочется…
— Иди скорее, Агриколь, — сказала Горбунья, — его может встревожить твое отсутствие; но завтра не выходи, пока я не скажу тебе, нет ли чего подозрительного…
— Агриколь, да тебя здесь нет? — переспросил уже громче Дагобер.
— Я здесь, батюшка, — отвечал кузнец, переходя из комнаты швеи в свою. Я выходил, чтобы прикрепить ставень на чердаке: он так хлопал, что я боялся, как бы ты не проснулся от шума…
— Спасибо, мальчик!.. Но меня не шум разбудил, — засмеялся Дагобер, — а жажда… страстная жажда поговорить с тобою… Да, сынок: отец, не видавший своего ребенка восемнадцать лет, поневоле хочет с жадностью наброситься на возможность удовлетворить свое желание…
— Не зажечь ли огонь, батюшка?
— Незачем… излишняя роскошь… Поболтаем пока в темноте… зато завтра я опять смогу на тебя наглядеться вдоволь при дневном свете: мне тогда покажется, что я вновь тебя увидел в первый раз.
Дверь в комнату Агриколя затворилась, и у Горбуньи ничего не стало слышно… Бедняжка бросилась одетая на постель и до утра не смыкала глаз, ожидая рассвета, чтобы позаботиться о безопасности Агриколя. Однако, несмотря на сильное беспокойство за завтрашний день, девушка не могла по временам отогнать от себя мечту, полную горькой тоски, мечту о том, что если бы она была хороша и любима, если бы ее целомудренная и преданная любовь пользовалась взаимностью, то как мало бы походила тайная беседа в тишине глубокой ночи на тот разговор, какой она сейчас вела с человеком, которого втайне обожала!.. Впрочем, вспомнив, что ей никогда не суждено испытать дивной нежности наслаждений разделяемой любви, девушка старалась утешиться надеждой, что она по крайней мере может быть полезной Агриколю.
Как только занялся день, Горбунья на цыпочках спустилась с лестницы, чтобы посмотреть, не грозит ли Агриколю какая-нибудь опасность на улице.
6. ПРОБУЖДЕНИЕ
К утру небо прояснилось. Ночной туман и сырость сменились холодной, ясной погодой. Через маленькое окошечко, освещавшее мансарду Агриколя, виднелся уголок голубого неба.
Комната молодого кузнеца была не богаче с виду комнаты швеи. Единственным ее украшением являлся повешенный на стене, над простым, некрашеным столиком, где Агриколь отдавался поэтическому вдохновению, портрет Беранже, бессмертного поэта, любимого и почитаемого народом за то, что он сам любил народ, учил его, воспевал его подвиги и несчастья.
Хотя было еще очень рано, но Дагобер и Агриколь уже поднялись. У кузнеца было достаточно силы воли, чтобы скрыть беспокойство, которое весьма усилилось после того, как он подумал о деле серьезнее.
Недавняя схватка на улице Прувер повлекла за собой многочисленные аресты, а обнаружение многих экземпляров песни Агриколя «Освобожденные труженики» у одного из вожаков неудавшегося заговора действительно не могло не задеть молодого кузнеца. Но, как мы уже сказали, отец не подозревал о его волнении.
Усевшись рядом с сыном на краю узенькой кровати, солдат, одетый и выбритый с утра, привыкший к военной аккуратности, держал в своих руках руки Агриколя и не сводил с него глаз, причем лицо старика светилось глубокой радостью.
— Ты надо мной будешь трунить, сынок… — говорил он, — но, поверишь, я посылал ко всем чертям эту ночь, не позволявшую мне тебя видеть… наглядеться на тебя… Зато теперь я уж наверстаю потерянное время… А потом… хоть это и глупо, но я ужасно рад, что ты носишь усы. И какой бы из тебя бравый конногренадер вышел! Тебе никогда не хотелось пойти на военную службу?
— А матушка?
— Верно! Потом, знаешь, мне кажется, что время войн прошло! Мы, старики, мы ни на что больше не годны: пора нас поставить в углу у очага, как старое, заржавленное ружье. Наше время миновало.
— Да, ваше время — время героизма и славы! — воскликнул с жаром Агриколь. — А знаешь, батюшка, — прибавил он нежным и глубоко растроганным голосом, — а знаешь, быть вашим сыном и хорошо и почетно.
— Насчет того, почетно ли, не знаю… а хорошо… несомненно, потому что люблю-то я тебя крепко… Как подумаю только, что ведь это лишь начало, Агриколь!.. Я, знаешь, точно голодный, не евший несколько дней… он начинает понемногу, смакует себе полегоньку… Так и я смаковать тебя буду… с утра до вечера, каждый день… Нет, я кажется, сойду с ума от радости… каждый день! Это меня ослепляет, смущает… я не могу привыкнуть… я теряюсь…
Последние слова Дагобера вызвали тяжелое чувство в Агриколе; он невольно подумал, не являются ли они предвестниками грядущей разлуки.
— Ну, как ты поживаешь? Что, господин Гарди по-прежнему к тебе добр?
— Он-то! — отвечал кузнец. — Да добрее, великодушнее, справедливее на свете человека нет! Если бы вы знали, какие чудеса он завел у себя на фабрике! Если сравнить ее с другими, так это точно рай среди окружающего ада!
— Да неужели?
— Вот увидите!.. На лицах всех его служащих лежит печать благосостояния, счастья и преданности… Зато у него и работают с каким усердием!.. с каким удовольствием!
— Уж не чародей ли твой господин Гарди?
— Великий чародей, батюшка!.. Он сумел сделать труд привлекательным… вот в чем секрет… Затем, кроме хорошей заработной платы, он дает нам часть прибылей, в зависимости от способностей каждого: этим объясняется усердие. Но это еще не все: он выстроил громадные и красивые здания, где рабочие могут найти дешевле, чем в любом другом месте, здоровое и уютное жилье… где они пользуются всеми выгодами совместного проживания… Да вот увидите… я вам говорю… увидите!
— Правду говорят, что Париж — город чудес! Наконец-то я здесь и навсегда, неразлучно с тобой и с матерью!
— Да, батюшка, мы больше не расстанемся… — сказал Агриколь, подавляя вздох. — Мы постараемся с матушкой заставить вас позабыть все, что вы перенесли…
— Перенес! Какого черта я перенес? Взгляни-ка на меня. Разве я похож на исстрадавшегося человека? Черт возьми! Как только я попал домой, я почувствовал себя совсем молодцом… Вот увидишь, когда мы с тобой отправимся, я тебя еще загоняю. Ну, а ты принарядишься, мальчуган? И как на нас будут заглядываться! Бьюсь об заклад, что, взглянув на твои черные и на мои седые усы, всякий скажет: «Наверное, отец и сын!» Ну, так условимся относительно сегодняшнего дня… Ты сейчас напишешь отцу маршала Симона о приезде его внучек и о том, что он должен как можно скорее возвратиться, так как речь идет о вещах серьезных… Пока ты пишешь, я спущусь к жене пожелать доброго утра ей и милым девочкам. Позавтракаем вместе. Твоя мать пойдет к обедне: ее, кажется, все еще тянет к этим штукам, славную женщину… Ну, тем лучше, раз это ее успокаивает!.. А мы отправимся с тобой.
— Я, батюшка, — с замешательством ответил Агриколь, — сегодня утром не смогу пойти с тобой.
— Как так? Да ведь сегодня воскресенье!
— Да, но я обещал прийти в мастерскую, — смущенно толковал Агриколь, — я должен докончить одну спешную работу… Если я не приду, то нанесу урон господину Гарди. Но я вернусь быстро.
— Ну, это другое дело… — сказал солдат со вздохом сожаления. — Правда, я надеялся с утра погулять по Парижу вместе с тобой… Ну, что же… пойдем попозднее… Труд — святое дело… тем более что им ты содержишь мать… А все-таки досадно… чертовски досадно… тем более… Однако довольно… я несправедлив… Смотри-ка, как легко привыкаешь к счастью: я, например, разворчался, как старый хрыч, из-за прогулки, отложенной на несколько часов!.. И это я, мечтавший целые восемнадцать лет повидать тебя, почти не надеясь на встречу!.. Право, я старый дурак… Да здравствует радость и мой Агриколь!
И в утешение себе солдат весело и сердечно обнял сына. От этой ласки сердце кузнеца сжалось; он испугался, что с минуты на минуту исполнятся мрачные опасения Горбуньи.
— Ну-с, а теперь, когда я успокоился, потолкуем о делах. Не знаешь ли ты, где я могу заполучить адреса всех парижских нотариусов?
— Не знаю… Но узнать легко.
— Видишь ли, я отправил из России по почте, по приказанию матери этих девочек, которых привез сюда, одному из парижских нотариусов очень важные документы. Я записал его имя и адрес и положил в бумажник, намереваясь отправиться к нему тотчас по приезде в Париж, но его дорогой украли… а это чертово имя у меня, к несчастью, вылетело из головы… Но я думаю, что если оно мне попадется в общем списке, я его вспомню…
В дверь два раза постучали. Агриколь невольно задрожал при мысли, что это, быть может, пришли за ним, но отец, повернувшись на стук к двери, не заметил его испуга и громко ответил:
— Входите!
Дверь отворилась. Это был Габриель в черной рясе и круглой шляпе. Мгновения, быстрого, как мысль, было достаточно для Агриколя, чтобы узнать приемного брата и броситься в его объятия.
— Брат мой!
— Агриколь!
— Габриель!
— Как долго ты отсутствовал!
— Наконец-то я тебя вижу!
Миссионер и кузнец, крепко обнявшись, обменивались этими словами.
Тронутый братскими объятиями, Дагобер чувствовал, что слезы наворачиваются у него на глаза. В привязанности молодых людей, схожих лишь по сердцу, но по виду и по характеру совершенно различных, было действительно нечто трогательное. Мужественная фигура Агриколя еще сильнее оттеняла необыкновенную нежность и ангельское выражение лица Габриеля.
— Меня батюшка предупредил о твоем приезде… — сказал кузнец приемному брату. — Я с часу на час ждал твоего возвращения… А между тем… счастье видеть тебя во сто раз приятнее, чем я думал.
— Ну, а дорогая матушка? — спрашивал Габриель, дружески пожимая руки Дагоберу. — Как вы ее нашли? Здорова ли она?
— Ничего, милый мальчик… Она здорова и будет еще здоровее оттого, что мы все теперь собрались… Ничего нет полезнее для здоровья, чем радость!..
Затем, обратившись к Агриколю, забывшему все страхи и смотревшему на миссионера с глубокой привязанностью, солдат прибавил:
— И не подумаешь, что этот молодец с нежным девичьим лицом обладает мужеством льва!.. Ведь я говорил тебе, с какой неустрашимостью он спас дочерей маршала Симона и пытался спасти меня.
— Но что это у тебя на лбу, Габриель? — воскликнул кузнец, внимательно разглядывая миссионера.
Габриель, сбросивший при входе шляпу, стоял теперь как раз под окном, яркий свет которого освещал его бледное и нежное лицо. При этом рубец, проходивший над бровями от одного виска к другому, стал совершенно ясно виден. Среди разнообразных волнений и чередовавшихся одно за другим событий после кораблекрушения Дагобер во время своей короткой беседы с Габриелем в замке Кардовилль не заметил шрама, опоясывающего лоб миссионера, и, вполне разделяя изумление Агриколя, он также спросил:
— В самом деле, что это за шрам у тебя на лбу?
— Да и на руках тоже… Взгляни-ка, батюшка! — воскликнул кузнец, взяв руку Габриеля, когда тот ее поднял успокоительным жестом.
— Габриель… Милый мой… объясни нам… кто тебе нанес эти раны, — прибавил Дагобер, и, в свою очередь, взяв руку Габриеля, он с видом знатока оглядел рану и сказал: — Однажды в Испании одного из моих товарищей сняли с креста, на котором монахи распяли его, обрекая на голодную смерть… у него остались подобные шрамы.
— А батюшка прав… у тебя рука пробита насквозь, бедняга! — произнес кузнец с глубоким огорчением.
— Боже мой… не обращайте на это внимания… — сказал краснея, в явном замешательстве Габриель. — Меня действительно распяли на кресте дикари Скалистых гор, куда я был послан. Они начали было меня уже и скальпировать… Но провидение спасло меня от их рук.
— Несчастный!.. Значит, у тебя не было ни оружия, ни даже необходимой охраны? — спросил Дагобер.
— Мы не можем носить оружие, а охрана нам не полагается, — улыбаясь, отвечал Габриель.
— А твои товарищи… твои спутники? Почему они тебя не защитили? — с гневом воскликнул Агриколь.
— Я был один.
— Как один?
— Да, один… с проводником.
— Как, ты пошел к этим дикарям один? Даже без оружия? — повторил Дагобер, не веря своим ушам.
— Это необыкновенно благородно! — сказал кузнец.
— Веру нельзя навязывать силой, — возразил совершенно просто Габриель. — Только путем убеждения можно распространить христианское учение среди этих несчастных дикарей.
— А если убеждение не действует? — спросил Агриколь.
— Что же делать? Остается только умереть за веру, жалея о тех, кто оттолкнул от себя это благодетельное для всего человечества учение.
После столь трогательно-простодушного ответа наступило глубокое молчание. Дагобер сам был настолько храбр и мужествен, что мог как подобало оценить спокойный и безропотный героизм; он, а также его сын с изумлением, полным уважения, смотрели на Габриеля. Между тем последний совсем искренно, без всякой ложной скромности не понимал пробудившихся в них после его рассказа чувств и простодушно спросил, обращаясь к старому солдату:
— Что с вами?
— Что со мной! — воскликнул Дагобер. — Со мной то… что, пробыв на войне около тридцати лет, я не считал себя трусливее любого другого… Ну, а теперь вынужден уступить… именно уступить тебе…
— Мне?.. Что вы хотите этим сказать? Что же я сделал?
— Черт побери! Да понимаешь ли ты, что эти благородные раны, — вскричал ветеран, с восторгом сжимая руки Габриеля, — не менее почетны… даже почетнее тех, какие получали мы… рубаки по профессии?
— Конечно… батюшка говорит правду! — воскликнул Агриколь и прибавил с жаром: — Вот таких священников я могу любить и уважать: в них милосердие, мужество и покорность судьбе!
— Ах, прошу вас, не хвалите меня так! — смущенно просил Габриель.
— Не хвалить тебя! — говорил Дагобер. — Скажите, пожалуйста! Уж коли на то пошло, так ведь наш брат, когда идет в огонь, разве он один идет? Разве не видит меня мой командир? Разве не рядом со мной товарищи?.. Если даже нет настоящего мужества, так самолюбие должно поддержать… придать храбрости! Не говоря уже о том, как действуют воинственные крики, запах пороха, звуки труб, грохот пушек, стремительность коня, который не стоит под тобой на месте, вся эта чертовщина! А сознание того, что рядом сам император, что он сумеет ленточкой или галуном перевязать мою простреленную шкуру!.. Вот благодаря всему этому я и прослыл за храбреца… Ладно… Но ты, дитя мое, в тысячу раз меня храбрее: ты пошел один-одинешенек, без оружия, против врагов, куда более жестоких, чем те, с какими мы имели дело, да и на них-то мы шли целыми эскадронами, рубя палашами и под аккомпанемент ядер и картечи!
— Ах, батюшка! — вскричал Агриколь. — Как благородно с твоей стороны, что ты воздаешь ему должное!
— Полно, брат; поверь, что его доброта заставляет преувеличивать значение совершенно естественного поступка…
— Естественного для такого молодца, как ты. Да, с этим я согласен, — отвечал солдат. — Только молодцов-то такого закала на свете немного!..
— Уж это правда… такое мужество — большая редкость… оно достойно удивления больше всякого иного, — продолжал Агриколь. — Да как же? Зная, что тебя ждет почти верная смерть, ты все-таки идешь, один, с распятием в руках, проповедовать милосердие и братство дикарям. Они хватают тебя, предают пыткам, а ты ждешь смерти без жалоб, без злобы, без проклятий… со словами прощения и с улыбкой на устах… И это в глуши лесов, в одиночестве, без свидетелей и очевидцев, с единственной надеждой спрятать под черной рясой свои раны, если тебе и удастся спастись! Черт побери! Отец совершенно прав. Посмей-ка еще оспаривать, что ты не менее его мужествен!
— Кроме того, — прибавил Дагобер, — все это делается бескорыстно: никогда ведь ни храбрость, ни раны не заменят черной рясы епископской мантией!
— О, я далеко не так бескорыстен, — оспаривал, кротко улыбаясь, Габриель. — Великая награда ждет меня на небесах, если я буду достоин!
— Ну, на этот счет, мой милый, я спорить с тобой не стану: не знаток я этих вещей! Я только скажу, что моему кресту по меньшей мере настолько же пристало красоваться на твоей рясе, как и на моем мундире!
— К несчастью, такие отличия никогда не достаются скромным священникам вроде Габриеля, — сказал кузнец. — А между тем, если бы ты знал, батюшка, сколько истинной доблести и достоинств у этого низшего духовенства, как презрительно называют их вожди религиозных партий!.. Как много кроется истинного милосердия и неведомой миру самоотверженности у скромных деревенских священников, с которыми гордые епископы обращаются бесчеловечно и держат под безжалостным ярмом! Эти бедняги — такие же рабочие, как и мы; честные люди должны также стремиться и к их освобождению. Они, как и мы, дети народа, они так же полезны, как и мы; следовательно, и им необходимо отдать должную справедливость!.. Не правда ли, Габриель? Ты не станешь со мной спорить: ты сам мечтал о бедном деревенском приходе, потому что знал, как много добра можно там сделать…
— Я остался верен этому желанию, — с грустью промолвил Габриель, — но, к несчастью… — Затем, как бы желая отвязаться от печальной мысли и переменить разговор, он продолжал, обращаясь к Дагоберу: — А все-таки будьте беспристрастны и не унижайте вашего мужества, преувеличивая наше… Нет… ваше мужество необыкновенно велико… Мне кажется, для благородного, великодушного сердца ничего не может быть ужаснее вида поля битвы, этой бойни, когда сражение кончено… Мы по крайней мере… если нас убивают… сами неповинны в убийстве.
При этих словах миссионера солдат встал и с удивлением на него посмотрел.
— Это очень странно! — сказал он.
— Что странно, батюшка?
— А то, что Габриель сказал сейчас; по мере того, как я старел, мне самому приходилось испытывать подобное во время войны. — Помолчав немного, Дагобер продолжал несвойственным ему печальным и торжественным тоном: — Да… именно… Габриель напомнил мне то, что я сам перечувствовал на войне, когда стал приближаться к старости… Видите ли, детки, не раз стоял я на карауле… один-одинешенек, ночью, при луне, озарявшей своим светом участок поля сражения, хотя и отвоеванный нами, но все-таки усеянный пятью-шестью тысячами трупов, где немало было моих старых боевых товарищей… Тогда эта тяжелая картина, эта мертвенная тишина отрезвляли меня, исчезало желание рубить (а это действительно опьянение не лучше всякого другого), и я невольно говорил себе: «Сколько убитых людей… а зачем все это?.. для чего?» Конечно, это не мешало мне на другой день, при первом сигнале, снова колоть и рубить, как бешеному!.. А все-таки, когда после сражения я обтирал усталой рукой свою окровавленную саблю о гриву коня, я снова повторял: «Вот я опять убивал, убивал и убивал, а для чего?»
Миссионер и кузнец переглянулись, услыхав рассказ Дагобера из воспоминаний былого.
— Да, — сказал Габриель, — всякий человек с благородной душой испытывает то, что испытывали и вы, когда проходит опьянение славой и он остается наедине с теми врожденными добрыми побуждениями, которые вложены в его душу Создателем.
— Это только подтверждает, дитя мое, что ты лучше меня, так как эти врожденные благородные побуждения никогда тебе не изменяли. Но расскажи нам, как ты вырвался из лап бешеных дикарей, уже успевших тебя распять?
При этом вопросе старого солдата Габриель покраснел и так смутился, что Дагобер тотчас же прибавил:
— Если ты не должен или не можешь мне на это отвечать, то считай, голубчик, что я ничего не спрашивал…
— У меня нет тайн от вас или от моего брата, — отвечал изменившимся голосом миссионер. — Но мне трудно будет объяснить вам то, чего я сам не понимаю…
— То есть как это? — удивился Агриколь.
— Несомненно, я был игрушкой обмана чувств, — сказал Габриель, краснея. — В ту торжественную минуту, когда я с покорностью ожидал смерти… вероятно, мой ослабевший ум был введен в заблуждение призраком… Иначе мне, конечно, было бы ясно то, что и теперь осталось непонятным… Я, конечно, узнал бы, кто была эта странная женщина…
Дагобер с изумлением прислушивался к словам Габриеля. Для него тоже осталась совершенно необъяснимой та неожиданная помощь, благодаря которой он и сироты спаслись из тюрьмы в Лейпциге.
— О какой женщине говоришь ты? — спросил кузнец.
— О той, которая меня спасла.
— Тебя освободила из рук дикарей женщина? — спросил Дагобер.
— Да, — отвечал задумчиво Габриель, — прекрасная молодая женщина…
— Кто же она была? — спросил Агриколь.
— Не знаю… Когда я спросил, кто она, она мне отвечала: «Я сестра всех скорбящих».
— Но откуда же она явилась? куда направилась? — спрашивал живо заинтересованный Дагобер.
— «Я иду туда, где страдают», отвечала она мне, — продолжал Габриель, — и направилась к северу Америки, к тем печальным местам, где вечная зима и бесконечные ночи…
— Такие же, как в Сибири! — задумчиво отвечал старый солдат.
— Но каким образом она пришла к тебе на помощь? — допрашивал Агриколь миссионера, все глубже и глубже погружавшегося в свои думы.
Только что Габриель хотел ответить, как в дверь тихонько постучали. Этот стук возродил опасения кузнеца, вылетевшие у него из головы при виде возвратившегося приемного брата.
— Агриколь, мне надо срочно поговорить с тобой, — сказал за дверьми тихий голос, в котором Агриколь узнал голос Горбуньи. Он отворил дверь.
Молодая девушка не вошла в комнату, а напротив — углубилась на несколько шагов назад в темный коридор и взволнованно заговорила:
— Бог с тобой, Агриколь: ведь уже с час как рассвело, а ты все еще не ушел… Какая неосторожность! Я стояла внизу на улице… До сих пор ничего подозрительного не заметно… но могут всякую минуту прийти арестовать тебя… умоляю тебя: поторопись… Иди скорей к госпоже де Кардовилль… нельзя терять ни минуты…
— Если бы не Габриель, я давно бы ушел. Но я не мог устоять против желания провести с ним несколько минут!
— Габриель здесь? — спросила с радостным изумлением Горбунья.
Мы уже упоминали, что она росла вместе с ним и Агриколем.
— Да, — отвечал кузнец, — он здесь со мной и с отцом уже целых полчаса.
— Как я буду рада повидать его! — сказала Горбунья. — Он, наверно, пришел тогда, когда я заходила к твоей матери спросить, не нужна ли помощь девушкам. Но они еще спят, бедняжки, так сильно, очевидно, утомились. Госпожа Франсуаза дала мне письмо твоему отцу… она только что его получила…
— Спасибо, голубушка!
— Ну, а теперь, раз ты побыл уже с Габриелем, не мешкай, уходи… Подумай, какой будет удар для твоего отца, если тебя арестуют в его присутствии…
— Ты права… нужно спешить… Я невольно забыл свои опасения в обществе отца и брата!
— Отправляйся скорее… Быть может, если госпожа де Кардовилль согласится тебе помочь, часа через два ты совершенно спокойно вернешься к своим!
— Верно. Я спущусь через несколько секунд.
— А я пойду покараулю внизу… и если что замечу, то мигом прибегу тебя предупредить. Только не мешкай…
— Будь спокойна!
Горбунья быстро сбежала с лестницы и пошла к воротам, чтобы посмотреть, что делается на улице, а Агриколь вернулся в свою комнату.
— Отец, вот вам письмо; матушка только что его получила, она просит вас его прочесть.
— Ну, так прочти за меня, сынок!
Агриколь прочел следующее:
«Милостивая государыня!
Я получил извещение, что вашему супругу поручено генералом Симоном весьма важное дело. Будьте любезны передайте ему, как только он приедет в Париж, что я прошу его без промедления явиться в мою контору в Шартре. Мне поручено передать ему и только ему лично важные для генерала Симона документы.
Дюрон, нотариус в Шартре».
Дагобер с изумлением посмотрел на сына и сказал:
— Но кто же мог предупредить этого господина о моем возвращении в Париж?
— А может быть, это тот самый нотариус, которому вы посылали бумаги и чей адрес вы потеряли?
— Нет, я хорошо помню, что его звали не Дюран… да и, кроме того, он нотариус в Париже, а не в Шартре… Но, с другой стороны, раз у него имеются важные бумаги, которые он должен вручить мне лично… — продолжал размышлять старый воин.
— …то, конечно, вы должны, не теряя времени, к нему ехать, — сказал Агриколь, почти радуясь двухдневной разлуке с отцом, во время которой его собственное положение как-нибудь определится.
— Дельный совет, сынок!
— А это разве расстраивает ваши планы? — спросил Габриель.
— Немножко! Я рассчитывал этот денек провести с вами, детки… но что делать… долг прежде всего. Раз уж я из Сибири сюда добрался, так съездить из Парижа в Шартр — пустяки, когда речь идет о важных делах. Через двое суток я вернусь. Но все-таки это странно. Вот уж, черт меня возьми, не думал я, что мне придется покинуть вас сегодня же ради поездки в Шартр! К счастью, Роза и Бланш останутся у жены, и их ангел Габриель, как они его зовут, будет также с ними.
— К несчастью, это невозможно, — с грустью сказал миссионер. — Мое первое посещение матушки будет и последним: я должен сегодня же с вами проститься!
— Как проститься?! — разом воскликнули отец и сын.
— Увы, да!
— Ты снова отправляешься в миссию? — спросил Дагобер. — Но это немыслимо!
— Я ничего не могу на это ответить, — произнес, подавляя вздох, Габриель. — Но я не могу и не должен приходить в этот дом в течение некоторого времени.
— Вот что, голубчик, — начал с волнением солдат, — в твоем поведении чувствуется какое-то принуждение… как будто что-то тебя давит… Знаешь, я в людях толк знаю… Ну, вот этот господин, которого ты зовешь своим начальником и которого я видел в замке Кардовилль вскоре после кораблекрушения… ну, так, черт побери, мне его рожа не нравится… Мне досадно, что ты попал в команду такого капитана…
— В замке Кардовилль? — воскликнул с изумлением, пораженный совпадением имен, кузнец. — Так вас приютили после кораблекрушения в замке Кардовилль?
— Ну да! Чему ты удивляешься, сынок?
— Нет, так, батюшка. Что же, хозяева этого замка живут там?
— Нет. Когда я спросил о них у управляющего, желая их поблагодарить за оказанное нам гостеприимство, он ответил, что особа, которой принадлежит замок, живет в Париже…
«Какое странное стечение обстоятельств! — подумал Агриколь. — Что, если хозяйкой этого замка окажется именно Адриенна де Кардовилль?..»
Вспомнив при этом данное Горбунье обещание, он обратился к отцу и сказал:
— А теперь, батюшка, извини… но я должен был уже в восемь часов быть в мастерской…
— Хорошо, сынок!.. Ну, нечего делать, иди… Отложим нашу прогулку до моего возвращения из Шартра… Обними меня еще разок и беги!..
После замечания Дагобера о подавленном состоянии Габриеля он впал в задумчивость… Когда Агриколь подошел пожать ему руку и проститься, миссионер обратился к нему со словами, произнесенными серьезным, торжественным и решительным голосом, немало поразившим его слушателей:
— Дорогой брат… еще одно слово… Я пришел с тем, чтобы объявить вам, что на днях… быть может, очень скоро… я буду иметь нужду и в тебе… и в вас, отец, также… Надеюсь, вы позволите мне вас так звать? — прибавил Габриель, обращаясь к Дагоберу.
— Что ты сказал? Что случилось? — воскликнул кузнец.
— Да, — продолжал Габриель, — мне может понадобиться совет… помощь двух честных, решительных людей… Ведь я могу на вас рассчитывать, не так ли? В какое бы то ни было время… когда бы это ни случилось… вы откликнетесь ведь на мой зов… вы ко мне придете?
Дагобер и Агриколь, удивленные словами Габриеля, обменялись взглядом. Сердце молодого кузнеца болезненно сжалось… А вдруг он будет в тюрьме, когда его брату понадобится помощь… что тогда делать?
— В любое время дня и ночи, дорогое дитя, ты можешь рассчитывать на нас обоих, — отвечал Дагобер, — у тебя есть отец и брат… они к твоим услугам!
— Благодарю, благодарю. Вы делаете меня счастливым! — воскликнул Габриель.
— А знаешь… не будь на тебе рясы, я по твоему тону заключил бы, что тебе грозит дуэль… дуэль не на жизнь, а на смерть… Ты так это сказал… — прибавил солдат.
— Дуэль? — вздрогнув, промолвил миссионер. — Да, пожалуй, будет и дуэль… страшная, ужасная дуэль… где мне будут необходимы именно такие свидетели, как вы… отец и брат!..
Через несколько минут Агриколь спешил к мадемуазель де Кардовилль, куда мы и поведем читателя.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ОСОБНЯК СЕН-ДИЗЬЕ
1. ПАВИЛЬОН
Особняк Сен-Дизье являлся одним из самых обширных и красивых домов на Вавилонской улице в Париже. Нельзя было представить себе ничего более строгого, внушительного и печального, чем это древнее жилище: огромные окна с множеством стекол, окрашенные в белесовато-серый цвет, придавали еще больше мрачности почерневшим от времени выступам из тесаного камня.
Здание было похоже на те, какие строились в этом квартале в середине прошлого столетия. Это был громадный корпус со срезанной крышей и с треугольным фронтоном, возвышавшимся над первым этажом, куда вела широкая лестница. Один из фасадов выходил на обширный двор и соединялся с каждой стороны при помощи аркад с просторными службами, а другой фасад был обращен к саду, настоящему парку, занимавшему 12-15 арпанов земли. С этой стороны два флигеля, примыкая к главному зданию, образовывали две боковые галереи.
В глубине сада виднелся маленький отель, или домик, являвшийся обычной принадлежностью громадных дворцов этого квартала.
Это был павильон в стиле помпадур, выстроенный в виде ротонды, со всей прелестной безвкусицей прошлого столетия. Всюду, где только можно было высечь что-нибудь на камне, имелось множество цветов, гирлянд, бантов пухленьких амуров. К этому одноэтажному домику занимаемому Адриенной де Кардовилль, вел невысокий перистиль с несколькими ступеньками; прямо от выхода, через небольшой вестибюль, была расположена круглая гостиная, освещаемая сверху; к ней примыкали четыре следующие комнаты и несколько комнат на антресолях.
Ныне подобные постройки чаще всего заброшены; иногда их перестраивают, устраивая, например, оранжереи. Но как редкое исключение павильон при особняке Сен-Дизье был полностью отреставрирован. Как паросский мрамор, блестели его отчищенные стены из белого камня, и весь его кокетливый и помолодевший вид являл резкий контраст мрачному главному зданию, видневшемуся в конце обширного луга, на котором были рассеяны группы высоких зеленых деревьев.
Следующая сцена происходила на другой день после приезда Дагобера с дочерьми генерала Симона на улицу Бриз-Миш.
На соседней колокольне пробило восемь часов утра. За деревьями, лишенными теперь листьев, но которые летом образовывали зеленый купол над маленьким павильоном в стиле Людовика XV, на голубом небе всходило ярко блиставшее зимнее солнце.
Дверь из вестибюля открылась, и солнечные лучи осветили вышедшее на крыльцо прелестное существо, вернее даже два прелестных существа, потому что хотя второе из них и занимало низшую ступень на лестнице мироздания, но тем не менее отличалось своего рода замечательной красотой.
Выражаясь яснее, на крыльцо выбежали прехорошенькая молодая девушка и восхитительная собачка из породы кинг-чарльзов. Девушку звали Жоржеттой, а собачку — Резвушкой.
Жоржетте минуло восемнадцать лет. Никакая Флорина или Мартон, никакая субретка Мариво не могла обладать более плутовской физиономией, более живым взглядом, улыбкой лукавее, зубами белее, щеками розовее, талией тоньше, ножкой меньше, манерами изящнее чем эта девушка.
Несмотря на ранний час, она была уже одета, притом очень тщательно и с изысканным вкусом. Маленький полудеревенского фасона чепчик из настоящих валансьенских кружев с розовыми лентами, надетый несколько назад на пышные пряди роскошных белокурых волос, обрамлял свежее и задорное лицо. Платье из серой шелковой материи, с батистовой косынкой, приколотой на груди розовым бантом, прекрасно обрисовывало изящно округленные формы. Фартук из тончайшего голландского полотна, с широкими рубцами и прошивками сверкал снежной белизной и стягивал стройную и гибкую, как тростник, талию; короткие и гладкие рукава, обшитые кружевной рюшкой, позволяли видеть пухлые упругие и довольно длинные руки, защищенные от холода доходящими до локтей шведскими перчатками. Чтобы проворнее сбежать со ступеней крыльца, Жоржетта приподняла край платья, и перед глазами совершенно к этому равнодушной Резвушки мелькнули упругая икра и стройная маленькая ножка, обтянутая белым шелковым чулком и обутая в шелковый черный башмачок.
Когда такой блондинке, как Жоржетта, дана еще задорная кокетливость, когда в таких веселых нежно-голубых глазах сверкает живой огонек, а прозрачного и свежего цвета лицо оживлено радостным возбуждением, то она привлекательнее и обольстительнее всякой брюнетки.
Эта бойкая и щеголеватая девушка, проводившая накануне Агриколя в павильон, служила старшей горничной у Адриенны де Кардовилль, племянницы княгини де Сен-Дизье.
Резвушка, найденная и возвращенная кузнецом, носилась с веселым лаем по лужайке. Она казалась с кулак величиной; черная, как смоль, шерсть отливала атласом из-под пунцовой ленты, служившей ей ошейником; лапки, покрытые волнами шелковистой шерсти, были ярко-оранжевого цвета, как и чрезмерно курносая мордочка. Большие глаза сверкали умом, а уши с завитой шерстью были так длинны, что волочились по земле. Девушка и собачка казалось, были одинаково резвы: они с равным удовольствием бегали взапуски, шалили и догоняли друг друга на зеленой лужайке.
Появление нового лица, сурово приближавшегося, разом прекратило игру. Маленькая собачка, находившаяся в эту минуту впереди, смелая, как бес, и верная своему прозвищу, остановилась в вызывающей позе и сделав стойку на своих крепких мускулистых лапках смело ожидала приближения врага, показывая два ряда маленьких клыков, похожих на слоновую кость, но тем не менее чрезвычайно острых.
Врагом оказалась пожилая женщина, медленно приближавшаяся в сопровождении жирного мопса коричневатого цвета. Мопс неторопливо и важно выступал на своих широко расставленных лапах, еле поворачивая жирное туловище, покрытое лоснящейся шерстью, повернув шею на сторону и подняв хвост крючком. Его черная хмурая морда с выдающимися на левой стороне двумя зубами имела какое-то особенно злое и мстительное выражение.
Это неприятное животное являло собой подлинный тип собачки барыни-ханжи и носило прозвище Сударь.
Его хозяйка, женщина лет пятидесяти, среднего роста и довольно полная, была одета в мрачное темное платье, казавшееся протестом против игривого и нарядного костюма Жоржетты. Платье было темно-коричневое, а шляпка и мантилья из черного шелка. Вероятно, смолоду она была недурна, и теперь еще ее цветущие щеки, резко очерченные брови и живые черные глаза мало сочетались с выражением строгой чопорности, которую она старалась напустить на себя.
Эта матрона с медленной и сдержанной походкой была не кто иная, как госпожа Августина Гривуа, занимавшая первое место в штате прислуги княгини де Сен-Дизье.
Поразительный контраст являли обе эти женщины и по годам, и по лицу, и по платью. Различие это еще больше бросалось в глаза при сравнении их собачек: между Резвушкой и Сударем разница была не меньше, чем между Жоржеттой и госпожой Гривуа.
При виде маленького кинг-чарльза матрона не смогла удержаться от невольного жеста удивления и замешательства, не ускользнувшего от внимания Жоржетты.
Резвушка, не отступившая ни на шаг при приближении другой собаки, вызывающе оглядела ее и даже двинулась по направлению к мопсу со столь враждебным видом, что Сударь, хотя он и был чуть не втрое больше своего врага, жалобно взвизгнул и попытался найти убежище позади госпожи Гривуа, которая язвительно заметила при этом Жоржетте:
— Мне кажется, вы могли бы не брать на себя труда дразнить свою собаку и науськивать ее на Сударя.
— Потому-то, вероятно, вы и постарались вчера, чтобы Резвушка пропала, выгнав ее из сада на улицу. Вам хотелось избавить свое достойное и мерзкое животное от неприятных столкновений? Только, к несчастью, один добрый малый нашел Резвушку на улице и вернул ее барышне… Однако чему я, мадам, обязана счастьем видеть вас так рано?
— Княгиня поручила мне тотчас же повидать мадемуазель Адриенну, — объявила госпожа Гривуа, напрасно стараясь скрыть торжествующую улыбку. — Речь идет об очень важном деле, о чем я должна сообщить ей лично.
При этих словах Жоржетта покраснела и не смогла удержаться от испуганного движения. К счастью, госпожа Гривуа снова занялась своей собакой, к которой Резвушка подбиралась с угрожающим видом, и не заметила волнения девушки, у которой было время с ним справиться и отвечала совершенно спокойно:
— Барышня легла очень поздно… и приказала себя не будить до полудня.
— Может быть!.. Но так как речь идет о приказании княгини, ее тетушки, то потрудитесь разбудить вашу госпожу… сию же минуту!
— Моей госпоже никто приказывать не может… У себя в доме она хозяйка… поэтому я будить ее раньше полудня не стану, как она и приказала.
— Тогда я пойду сама.
— Геба вам не откроет… Вот ключ от гостиной… а иначе как через нее к барышне попасть нельзя…
— Как? Вы осмеливаетесь помешать мне исполнить приказание княгини?
— Да, осмеливаюсь совершить это великое преступление и не хочу будить свою госпожу!
— Вот к чему привела слепая доброта княгини к племяннице! — с печальной миной произнесла матрона. — Госпожа Адриенна не уважает приказаний своей тетки! Она окружает себя, молоденькими вертушками, расфранченными с утра в пух и прах…
— Ах, госпожа, вам ли дурно отзываться о нарядах? Всем известно, что в былые времена вы были самой кокетливой среди служанок княгини… Слава об этом переходит из поколения в поколение до сих пор.
— Что?! Из поколения в поколение? Да разве я столетняя старуха? Вот дерзкая!
— Я говорю о поколениях горничных! Ведь, кроме вас, ни одной из них не удалось больше двух-трех лет выжить у княгини… Уж слишком она хороша… для этих бедняжек…
— Я запрещаю вам говорить таким образом о моей госпоже… Ее имя не следовало бы произносить иначе, как стоя на коленях!
— А между тем… если бы кто захотел позлословить…
— Как вы смеете!
— Не далее, как вчера вечером… в половине двенадцатого…
— Ну, вчера вечером?
— …у ворот особняка остановился экипаж. Из него вышел какой-то таинственный господин, закутанный в плащ; он тихонько постучался, не в ворота, а в окошко к привратнику… В час ночи экипаж еще стоял близ дома, поджидая таинственного человека в плаще… а тот, вероятно… все это время… повторял, как вы говорите, имя княгини… на коленях…
Быть может, госпожа Гривуа и не знала о вечернем посещении Родена, явившегося к княгине после того, как он убедился в приезде в Париж дочерей генерала Симона, а может быть, она должна была делать вид, что не знает об этом посещении. Во всяком случае, она возразила Жоржетте, с презрением пожимая плечами:
— Не понимаю, что вы хотите сказать. Я пришла вовсе не для того, чтобы выслушивать ваши дерзкие выдумки. Еще раз: угодно вам или нет провести меня к мадемуазель Адриенне?
— Повторяю вам, мадам, что барышня спит и приказала не беспокоить себя до полудня!
Разговор этот происходил на определенном расстоянии от павильона, крыльцо которого виднелось в конце аллеи, довольно длинной и обсаженной деревьями, которые были расположены косыми рядами.
Вдруг госпожа Гривуа вскричала, указывая рукой по направлению аллеи:
— Боже мой!.. Возможно ли это?.. Что я видела!..
— Что вы там увидали? Что такое? — спросила, обернувшись, Жоржетта.
— Кого я… видела! — повторила в изумлении госпожа Гривуа.
— Ну да кого же?
— Мадемуазель Адриенну!
— Где это вы ее увидали?
— Я видела, как она взбежала на крыльцо. Я отлично ее узнала и по походке, и по шляпке, и по плащу. Приезжать домой в восемь часов утра! нет… это просто невероятно!
— Барышню? Вы барышню увидали?.. — и Жоржетта расхохоталась во все горло. — Прелесть какая… я понимаю… вы это выдумали в отместку за мои совершенно достоверный рассказ о вчерашнем посетителе… Ловко… очень ловко…
— Повторяю вам, что я ее видела!.. видела сейчас вот…
— Полноте, госпожа Гривуа, вы просто забыли надеть свои очки.
— Слава Богу, у меня хорошее зрение. Из калитки, выходящей на улицу, можно через рощу пройти к павильону… и мадемуазель Адриенна именно этим путем и вернулась… Ах! это поразит хоть кого!.. Что-то скажет княгиня?.. Да, видно, предчувствия ее не обманули… Вот к чему привела ее слабость к капризам племянницы! Это чудовищно… так чудовищно, что если бы я этого не видела собственными глазами, я никогда бы этому не поверила!..
— Ну, если так, госпожа, то теперь я сама настаиваю на том, чтобы вы пошли к барышне и собственными глазами убедились, что ошибаетесь…
— Хитра вы, голубушка… да все ж не хитрее меня! Вы меня приглашаете теперь… когда уверены, что госпожа Адриенна успела уже вернуться, и я ее застану дома…
— Но могу вас заверить…
— А я могу вас заверить лишь в том, что через двадцать четыре часа ни вас, ни Флорины, ни Гебы здесь больше не будет. Княгиня сумеет положить конец этому ужасному скандалу. Я сейчас же пойду и расскажу, что здесь происходит! Уйти из дому ночью и вернуться только утром — каково?! Я совершенно потрясена!.. Повторяю, я ни за что бы не поверила ничему подобному, если б своими глазами не видела… Впрочем, ничего нет удивительного… этого следовало ожидать… Конечно, я уверена, что, кому я это ни скажу, всякий ответит: «Это неудивительно»… Ах, какое горе для уважаемой княгини!.. Какой ужасный удар!
И госпожа Гривуа поспешила назад к дому, причем сопровождавший ее Сударь казался разгневанным не меньше нее.
Проворная Жоржетта, со своей стороны, помчалась к павильону предупредить Адриенну де Кардовилль о том, что госпожа Гривуа видела… или вообразила, что видела, как она украдкой вернулась домой через садовую калитку.
2. ТУАЛЕТ АДРИЕННЫ
Прошел примерно час после того, как госпожа Гривуа видела или ей показалось, что она видела, как Адриенна де Кардовилль откуда-то возвратилась утром в павильон особняка Сен-Дизье.
Не для того, чтобы извинить, а только, чтобы понять эксцентрический характер тех сцен, которые мы сейчас будем описывать, нам следует выявить черты оригинального характера мадемуазель де Кардовилль. Особенным его свойством были исключительная независимость ума и природное отвращение ко всему безобразному, отталкивающему, непреодолимая потребность окружать себя всем, что красиво и привлекательно.
Ни живописец, страстный поклонник колорита, ни ваятель, влюбленный в красоту форм, не могли сильнее Адриенны ощущать тот благородный восторг, какой совершенная красота внушает избранным натурам.
Молодая девушка любила услаждать не только глаза; мелодия инструмента, гармоничный перелив пения, размер стиха — все это доставляло ей глубокое наслаждение, и наоборот, пронзительный голос, дисгармония вызывали тяжелое, почти болезненное чувство, равное тому, которое она испытывала при виде любого отвратительного предмета. Обожая цветы и духи, она наслаждалась ароматом, как музыкой или пластической красотой…
Наконец, даже… — не знаю, как и сознаться в столь ужасной вещи, — Адриенна была лакомка и лучше других умела оценить прохлаждающую мякоть прекрасного плода, нежный вкус хорошо зажаренного, золотистого фазана или букет благородного вина.
Впрочем, всем этим Адриенна пользовалась в весьма ограниченном количестве. Она считала своим долгом развивать и совершенствовать вкус, дарованный ей от Бога. Но она сочла бы черной неблагодарностью, если бы излишествами притупила или унизила его каким-либо недостойным выбором. От чего, впрочем, ее всегда охраняла исключительная и властная изысканность вкуса. Красота и безобразие олицетворяли для нее добро и зло.
Поклонение физической красоте, всему изящному и грациозному привело ее к поклонению красоте душевной. Это вполне естественно, так как низкие страсти страшно уродуют самое красивое лицо, а благородные красят даже самое безобразное.
Одним словом, Адриенна являлась полным, идеальнейшим воплощением чувственности, но не той грубой, пошлой, невежественной, бессмысленной чувственности, развращенной вконец привычкой или потребностью в грубых или неизысканных наслаждениях, но той утонченной чувственности, которая является тем же относительно чувства, чем служит аттическая соль для ума.
Характер этой девушки был совершенно независимым. Адриенну особенно возмущало унизительное подчинение женщины, обязанное ее общественному положению, она смело и гордо решила избежать этого. Однако в ней не было решительно ничего мужского; это была самая женственная из женщин — женщина вполне, и по грации, и по капризам, и по обаятельности, и по ослепительной женственной красоте; женщина как в робости, так и смелости; женщина в своей пылкой ненависти к грубому деспотизму мужчин и в своей потребности безумно, слепо жертвовать собой для того, кто заслужил бы такую преданность; женщина по остроумию и парадоксальности своего ума; наконец, женщина, выдающаяся по своему умению оценивать людей, по тому насмешливому презрению, какое она не стеснялась выказывать многим из самых высокопоставленных и окруженных поклонением людей, которых ей приходилось иногда встречать в гостиной княгини Сен-Дизье, когда она жила вместе с теткой.
После этих необходимых объяснений мы приглашаем читателя присутствовать при утреннем туалете Адриенны де Кардовилль, только что вышедшей из ванны.
Надо было бы владеть ярким колоритом венецианской школы для того, чтобы верно передать ту прелестную картину, какую мы увидим в Париже в феврале 1832 года, в Сен-Жерменском предместье, которая лучше бы подошла XVI веку, какому-нибудь дворцу во Флоренции или Болонье.
Комната Адриенны представляла собой храм, воздвигнутый в честь красоты… Это было выражение признательности Создателю, одарившему женщину столькими прелестями совсем не для того, чтобы она пренебрегала этим даром, посыпала, главу пеплом, терзала тело грязной и грубой власяницей, но, напротив, хотя бы из чувства горячей благодарности за дарованную красоту окружала себя всеми прелестями грации, наряда и роскоши, чтобы прославить Божественное творение во славу Творца.
Свет проникал в эту полукруглую комнату через громадное окно, устроенное по немецкой моде, так что оно в то же время являлось и оранжереей. Толщина стен павильона, построенного из тесаного камня, позволила сильно углубить окно, которое снаружи заканчивалось рамой, сделанной из цельного стекла, а с внутренней — большим матовым стеклом; в промежутке около трех футов ширины, остававшемся между этими стеклянными стенами, поставили ящик, наполненный землей и вереском; в нем были посажены вьющиеся лианы, поднимавшиеся по матовому стеклу и образовывавшие гирлянду из листьев и цветов.
Толстая шелковая материя темно-гранатового цвета, с арабесками более светлого тона, покрывала стены. Такого же цвета пушистый ковер лежал на полу. Темный, однообразный фон особо подчеркивал все оттенки остальных украшений комнаты.
Под окном, обращенным на юг, стоял туалет Адриенны, шедевр золотых дел мастера.
На широкой доске из ляпис-лазури были расставлены разные драгоценные ящички с крышками, покрытыми эмалью, флаконы из горного хрусталя и другие принадлежности туалета из перламутра, черепахи и слоновой кости, с превосходными по работе золотыми инкрустациями. Две большие серебряные фигуры, моделированные с античной чистотой, поддерживали овальное вращающееся зеркало, у которого вместо резной или чеканной рамы имелся бордюр — гирлянда свежих цветов, менявшихся каждый день, как букет на балу. По обеим сторонам стола, на ковре, стояли две громадные, фута по три в диаметре, японские вазы, синие с золотом и пурпуром, наполненные гардениями и камелиями в полном цвету, так что казалось, что стол стоит в цветнике, пестреющем самыми яркими тонами.
В глубине комнаты, прямо против окна, в другом таком же цветнике стояла дивная группа из белого мрамора — Дафнис и Хлоя, чистый идеал целомудренной грации и юношеской красоты. Два золотых жертвенника курились благовониями на цоколе из малахита, на котором стояла очаровательная группа.
Большой серебряный с чернью ящик на золоченых бронзовых ножках, украшенный разноцветными камнями и рельефными золотыми фигурами, содержал в себе разные принадлежности туалета. Два больших трюмо с канделябрами по сторонам, несколько превосходных копии с красивых женских и мужских портретов Рафаэля и Тициана работы самой Адриенны, несколько столиков из восточной яшмы, служивших подставками для золотых и серебряных сосудов с душистой водой, мягкий диван, несколько кресел и стол из золоченого дерева довершали убранство комнаты, наполненной нежными благоуханиями.
Адриенна, только что вышедшая из ванны, сидела перед туалетным столиком. Ее окружали три женщины.
Из каприза или, лучше сказать, логического следствия ее поклонения красоте и гармонии Адриенна желала, чтобы служившие ей девушки были хороши собой и одевались как можно кокетливее и с изящной оригинальностью. Мы уже видели Жоржетту, пикантную блондинку, одетую в задорный костюм субреток Мариво. Ее две подруги не уступали ей ни в миловидности, ни в грации. У Флорины, высокой, стройной, бледной брюнетки, с осанкой Дианы-охотницы, с густыми черными косами, сложенными на затылке и заколотыми длинной золотой булавкой, руки были обнажены до локтя, как и у остальных девушек, чтобы не стеснять движений при работе. Флорина носила платье того ярко-зеленого цвета, который так любили венецианские художники. Юбка была очень широкая, а лиф, стягивающий тонкую талию, вырезан четырехугольником на белой батистовой рубашке, сложенной мелкими складками и застегнутой пятью золотыми пуговицами.
Третья прислужница Адриенны обладала столь свежим, наивным лицом и совершенной и изящной фигурой, что хозяйка прозвала ее Гебой. Бледно-розовое платье Гебы сшито было по образцу греческого костюма и оставляло обнаженными ее прекрасную шею и красивые руки до самых плеч.
Лица молодых девушек были радостны и счастливы. Ни зависти, ни скрытой горечи, ни низкой угодливости, ни дерзкой фамильярности, этих обычных спутников рабства, не было и в помине.
В заботах и услугах, которыми они окружали Адриенну, чувствовалось столько же преданности, сколь уважения и расположения. Казалось, им доставляло необыкновенное удовольствие украшать и наряжать свою госпожу, и они занимались этим делом с гордостью и любовью, как произведением искусства.
Солнце ярко освещало туалет, перед которым на кресле с низкой спинкой сидела Адриенна. На ней был капот из бледно-голубой шелковой ткани, затканной листьями того же цвета, стянутый на талии, тонкой, как у двенадцатилетней девочки, развевающимся шелковым шнурком. Стройная лебединая шея, руки и плечи редкой красоты были обнажены. Как ни избито это сравнение, но ни с чем другим, кроме самой лучшей слоновой кости, нельзя было сравнить ее ослепительно белую кожу, атласную, гладкую, столь свежую и упругую, что несколько капелек воды, оставшихся после ванны на волосах Адриенны, скользили и скатывались по извилистой линии плеч, как по белому мрамору. Блеск кожи цвета, встречающегося только у рыжих, усиливался темным пурпуром губ, розовых, прозрачных ушей и расширенных ноздрей нежного розоватого оттенка, так же, как и блестящие, точно отполированные ногти. Словом, везде, где ее чистая, живая и горячая кровь могла окрасить кожу, чувствовались молодость и здоровье.
Глаза Адриенны, большие, бархатисто-черные, то сверкали умом и лукавством, то, полуприкрытые бахромой длинных черных ресниц, томно мерцали. По странной игре природы при рыжих волосах ресницы и резко очерченные тонкие брови Адриенны были совершенно черного цвета. Лоб молодой девушки поднимался над совершенным овалом лица, как у античных статуй. Нос был изящной формы, с небольшой горбинкой, эмаль зубов сверкала, а румяный, приятно чувственный рот, казалось, был создан для сладких поцелуев, веселых улыбок и наслаждений изысканнейшими лакомствами. Наконец, нельзя было представить ничего изящнее гордой и свободной постановки головы благодаря большому расстоянию, отделявшему шею и ухо от широких плеч с ямками.
Мы уже говорили, что Адриенна была рыжая, но это был рыжий цвет волос женщин с портретов Тициана и Леонардо да Винчи. Расплавленное золото не могло так сверкать и переливаться, как шелковисто-тонкие и мягкие кудри, такие длинные-длинные, что, когда Адриенна стояла, они касались земли, и она свободно могла в них завернуться с головы до ног как Венера-Афродита.
В данный момент эти волосы были особенно хороши. Жоржетта, с обнаженными руками стоя позади хозяйки, с трудом могла собрать в своей маленькой белой руке эту восхитительную массу волос, яркий цвет которых усиливал солнечней свет.
Когда хорошенькая камеристка погрузила гребень из слоновой кости в золотистые волны огромной шелковистой копны, оттуда словно брызнули тысячи огненных искр. Свет солнца также бросал розовые отблески на гроздья многочисленных и легких локонов, которые падали с висков Адриенны вдоль щек, лаская белоснежную грудь и следуя ее очаровательным линиям.
В то время как Жоржетта причесывала ее роскошные косы, Геба, встав на одно колено и поставив на другое миниатюрную ножку мадемуазель де Кардовилль, надевала маленький атласный башмачок и завязывала ленты на ажурном шелковом чулке, сквозь который просвечивала розоватая белизна кожи на тонкой и нежной щиколотке. Флорина, стоя несколько позади, подавала в золоченом ящике душистый крем, которым Адриенна слегка натирала свои ослепительные руки с тонкими пальцами, точно окрашенными кармином.
Не следует забывать и о Резвушке. Она сидела на коленях своей хозяйки и, широко раскрыв глаза, казалось, внимательно следила за различными фазами туалета Адриенны.
Раздался серебристый звон колокольчика с улицы. Флорина вышла по знаку своей госпожи и вскоре вернулась с маленьким серебряным подносом, на котором лежало письмо.
Пока служанки занимались ее туалетом, Адриенна принялась за чтение. Письмо было от ее управляющего из поместья Кардовилль. В нем заключалось следующее:
«Милостивая госпожа!
Зная вашу доброту и великодушие, я смело решаюсь обратиться к вам. В течение двадцати лет я верой и правдой служил вашему батюшке, полагаю, что могу вам об этом напомнить…
Теперь замок Кардовилль продан, и мы с женой остаемся без всякого пристанища и без куска хлеба… А это так тяжело, милостивая государыня, в наши преклонные годы…»
— Бедняги! — сказала Адриенна, прерывая чтение. — Я помню, мой отец всегда их хвалил за честность и преданность…
Она вернулась к письму:
«Мы имели возможность остаться на старом месте, но ценой такой низости, на какую ни я, ни моя жена никогда не решимся, как бы нам ни было тяжело… Мы не хотим хлеба, купленного подобною ценой…»
— Они все те же, — сказала Адриенна. — Верны себе во всем. Уменье сохранить достоинство в бедности — это как аромат полевого цветка…
«Чтобы пояснить вам, какого сорта бесчестное дело нам предлагали, я должен начать с того, что два дня тому назад приехал сюда из Парижа господин Роден…»
— А! Роден, — снова прервала чтение Адриенна, — секретарь аббата д'Эгриньи! Тогда я не удивляюсь, что тут замешана низость или какая-нибудь тайная интрига. Ну, что дальше?
«Господин Роден объявил нам, что замок продан, но что мы сохранили бы нашу службу, если бы помогли навязать новой владелице в духовники одного хитрого священника, причем для этого необходимо было оклеветать другого, честнейшего, любимого и почитаемого всеми священника. Кроме этого, я был бы обязан два раза в неделю потихоньку доносить господину Родену обо всем, что происходит в замке. Я должен признаться, что недостойные предложения были довольно искусно прикрыты благовидными и весьма специфическими предлогами, но, несмотря на всю ловкость господина Родена, сущность дела была очень понятна и именно такова, как я имею честь вам доложить…»
«Подкуп, клевета и… измена! — с отвращением подумала Адриенна. — Я просто не могу себе представить этих людей без того, чтобы во мне не пробудилась мысль о чем-то низком, мрачном, о яде и отвратительных пресмыкающихся. Это ужасно… Постараюсь думать только о добродушных физиономиях авторов письма, о Дюпоне и его жене…»
Адриенна продолжила чтение:
«Конечно, вы понимаете, госпожа, что мы не могли согласиться на подобные условия и поэтому должны покинуть замок Кардовилль, где прожили двадцать лет, — но мы покинем его честными людьми. Итак, милостивая госпожа, если с помощью ваших высоких связей и при вашей доброте вы смогли бы найти нам место и дать рекомендацию, — тогда, может быть, вашей милостью мы были бы выведены из затруднительного положения…»
— Конечно, их просьба не останется без ответа… Вырвать честных людей из когтей Родена — долг и удовольствие! Это одновременно дело справедливое и небезопасное, а я так люблю бороться со всеми, кто могуществен и притесняет других!
Она продолжала:
«Рассказав о себе, госпожа, я позволю себе попросить вас и за других. Нельзя думать только о себе, — это нехорошо. Около нашего берега недавно потерпели крушение два судна. Спасли очень немногих. Мы с женой оказали им необходимую помощь, и путешественники уехали в Париж. Остался лишь один. Полученные им раны удерживают его и задержат еще на несколько дней в замке… Это один индийский принц, двадцати лет от роду, доброта которого может сравниться только с красотой его лица, необычайной, несмотря на медно-красный цвет кожи, свойственный, как говорят, всем его соплеменникам…»
— Индийский принц! Молодой, двадцатилетний, красивый и добрый! — весело воскликнула Адриенна. — Прелесть какая! А главное, уж совершенно необычно! Этот потерпевший крушение принц уже завоевал мою симпатию! Я готова ему всем помочь; но в чем могла бы я быть полезна этому Адонису с берегов Ганга, чуть-чуть не погибшему у берегов Пикардии?
Прислужницы Адриенны смотрели на госпожу без особого удивления: они привыкли к ее выходкам. Жоржетта и Геба даже скромно улыбались, а высокая Флорина, бледная красавица брюнетка, присоединилась к ним позже, как бы после некоторого размышления; казалось, она сделала это только затем, чтобы не выделяться, а все ее внимание было сосредоточено на словах госпожи, которые она как будто старалась тщательно слушать и запоминать, пока Адриенна, заинтересованная историей Адониса с берегов Ганга, как она окрестила принца, с Любопытством продолжила чтение письма:
«Один из соотечественников принца, оставшийся при нем для услуг, дал мне понять, что молодой принц потерял при кораблекрушении все свое состояние и теперь не знает, как добраться до Парижа, куда его призывает неотложное и важное дело… Эти подробности я узнал не от принца, конечно, который слишком сдержан и горд, чтобы жаловаться, а от его более общительного соплеменника. Он же сообщил мне, что молодой человек успел уже испытать большие несчастья и что недавно еще был свергнут с престола и убит англичанами его отец, раджа какой-то индийской страны…»
— Удивительно! — сказала, подумав, Адриенна. — Отец мне часто говорил о какой-то нашей родственнице, вышедшей замуж за индийского раджу, в войсках которого служил и генерал Симон, недавно произведенный в маршалы… — Потом, прервав себя, она прибавила с улыбкой: — Как это было бы странно!.. Нет, право, подобные вещи случаются только со мною, а меня еще упрекают в оригинальничаний!.. Но в этом виновата не я, а судьба, подчас слишком затейливая! Однако посмотрим, сообщит ли мне Дюпон имя этого принца.
«Вы, вероятно, простите нам нашу назойливость: ведь не довольствуясь одной просьбой, мы еще решаемся вас просить и за этого молодого человека, но иначе мы считали бы себя эгоистами, так как принц действительно заслуживает сострадания… Поверьте, госпожа, мне, старику: я знаю людей и могу вас уверить, что, только взглянув на благородные, кроткие черты этого юноши, я понял, что он достоин вашего участия. Ему нужна только маленькая сумма денег для покупки европейского платья, так как все его индийские костюмы погибли в море…»
— Каково! Европейское платье!.. — весело вскричала Адриенна. — Бедняжка принц! Избавь его от этого, Боже! Да и меня также! Случай посылает мне из глубины Индии счастливого смертного, никогда не носившего безобразного европейского платья, отвратительных фраков, ужасных шляп, придающих мужчинам такой комичный и некрасивый вид, что, право, незачем приписывать добродетели наше к ним равнодушие… И вот является молодой красавец из страны Востока, где мужчины носят муслин, шелк и кашемир! Конечно, это очень соблазнительно… и я уж ни за что не соглашусь на просьбу Дюпона… Нет, европейского платья он не получит!.. Но где же имя-то, имя этого милого принца?! Нет, право, было бы необычно, если бы он оказался моим кузеном… Кузеном с берегов Ганга! Я в детстве слыхала так много хорошего о царственном его отце, что, конечно, постаралась бы принять его как можно лучше… Ну, посмотрим скорее, как его зовут… — И Адриенна снова принялась за чтение:
«Если, кроме этого, вы дадите ему средства добраться до Парижа вместе с его соотечественником, то окажете громадную услугу несчастному молодому принцу. Зная, милостивая государыня, вашу деликатность, я думаю, что вам, может быть, удобнее оказать помощь принцу, не называя себя; в этом случае соблаговолите, прошу вас, располагать моими услугами и рассчитывайте на мою скромность. В противном случае, если вы пожелаете снестись с ним непосредственно, то вот имя, сообщенное мне его спутником: «принц Джальма, сын Хаджи-Синга, короля Мунди…»
— Джальма! — живо сказала Адриенна, роясь в памяти. — Хаджи-Синг… да, это именно те самые имена, которые так часто упоминал отец!.. Он говорил, что этот старый индийский раджа, наш родственник, образец мужества и отваги… Сын, наверное, не уступит отцу! Да, да, Джальма, Хаджи-Синг — это именно те имена!.. Они ведь не настолько обыденны, чтобы их можно было смешать с другими, — прибавила, улыбаясь, девушка. — Итак, Джальма приходится мне кузеном!.. Он молод, красив, добр и храбр! Кроме того, он никогда не надевал европейского платья, и у него нет ни гроша!.. Это восхитительно… слишком много счастья сразу! Ну, скорее за дело… Сочиним хорошенькую волшебную сказку, героем которой будет этот очаровательный, милый принц! Бедная птичка, созданная из золота и лазури и затерявшаяся в нашем печальном краю! Пусть хоть что-нибудь напомнит здесь страну света и благоухания!..
Затем, обратившись к служанкам, она сказала:
— Жоржетта, бери бумагу и пиши, дитя мое…
Девушка подошла к золоченому столику, где стояли принадлежности для письма, села и ответила госпоже:
— Жду ваших приказаний, госпожа!
Адриенна де Кардовилль, прелестное личико которой сияло радостью, счастьем и весельем, продиктовала следующие строки, адресуя их одному старику художнику, дававшему ей уроки живописи, — так как она занималась и этим родом искусства, выказав в нем не меньшие успехи, чем и во всех других.
«Мой милый Тициан, дорогой Веронезе, достойнейший Рафаэль!.. Вы должны оказать мне величайшую услугу, и я знаю, вы ее мне окажете с вашей обычной милой любезностью…
Вы должны сейчас же повидаться с тем ученым художником, который рисовал мои костюмы в духе XV столетия. Теперь речь идет о современных индийских костюмах для молодого мужчины… Да, господин, для молодого мужчины… Мне кажется, для мерки можно взять Антиноя или, еще лучше, индийского Бахуса…
Необходимо, чтобы костюмы были точны, богаты и нарядны; выбирайте самые дорогие ткани, напоминающие индийские. Для поясов и чалмы возьмите шесть самых великолепных длинных кашемировых шалей, белого, пунцового и оранжевого цвета: они всего больше идут брюнетам.
— Приготовив все это (сроку я вам даю самое большее два-три дня), вы отправитесь на почтовых в моей дорожной карете в хорошо известный вам замок Кардовилль. Управитель, добрейший Дюпон, ваш старый приятель, проведет вас к молодому индийскому принцу Джальме. Вы доложите высокому могущественному владыке иных стран, что явились от неизвестного друга, который желает по-братски избавить его от необходимости прибегать к отвратительной моде Европы. Вы прибавите, что друг этот нетерпеливо ждет его, заклиная как можно скорее прибыть в Париж, а если он будет упрямиться и ссылаться на свои раны, то вам следует уверить его, что моя карета к его услугам, и на кровати, которую можно в ней разложить, он будет чувствовать себя вполне спокойно. Постарайтесь извинить перед принцем его незнакомого друга в том, что он не посылает за ним ни богатого паланкина, ни даже простого слона, так как, увы! паланкины у нас имеются только в опере, а слоны в зверинце! Боюсь, что мой протеже примет нас за это совершенными дикарями.
Как только вы убедите его ехать, сейчас же отправляйтесь в путь и привезите его ко мне в павильон на Вавилонской улице (а ведь это предопределение — жить на улице Вавилона; по крайней мере это имя будет звучать приятно для азиата); итак, повторяю, вы привезете ко мне этого милого принца, счастливого уроженца страны солнца, цветов и бриллиантов.
Не удивляйтесь, добрый старый друг, новому капризу и не стройте никаких странных предположений… Поверьте, что, избрав вас, человека, которого я люблю и уважаю, действующим лицом в этой истории, я хочу вам доказать, что тут дело серьезное, а не глупая шутка…»
Тон Адриенны при последних словах был так же серьезен и полон достоинства, как был весел и шутлив перед этим. Но зятем она продолжала по-прежнему:
«Прощайте, мой старый друг. Знаете ли вы, что в настоящую минуту я необыкновенно похожа на того древнего полководца, героический нос и победоносный подбородок которого вы так часто заставляли меня рисовать? Я шучу и смеюсь в час битвы! Да, не более как через час я даю сражение — и большое — моей тетушке, моей милейшей тетушке-ханже. К счастью, я обладаю избытком смелости и мужества и с нетерпением жду момента ринуться в бой со строгой княгиней!
Тысяча приветствий от всего сердца вашей милой супруге. Уже одно то, что я упоминаю здесь ее высокочтимое имя, должно вас успокоить насчет последствий похищения очаровательного принца. Надо же сознаться в том хоть под конец, с чего требовалось бы начать: принц очарователен!
Еще раз прощайте».
Затем Адриенна спросила Жоржетту:
— Ты написала, малышка?
— Да, госпожа.
— Ну так прибавь в постскриптуме:
«Посылаю вам записку моему банкиру. Не скупитесь на издержки… Вы знаете, что я настоящий вельможа (должна ставить себя в мужском роде, так как вы, вечные наши тираны, завладели этим определением благородной щедрости)».
— А теперь дай сюда лист бумаги, а также и письмо, я его подпишу.
Адриенна взяла перо из рук Жоржетты, подписала письмо и вложила в него следующую записку на имя банкира:
«Прошу уплатить господину Норвалю под его расписку сумму, какую он потребует на расходы по моему поручению.
Адриенна де Кардовилль».
Пока Жоржетта писала, Флорина и Геба продолжали одевать свою госпожу, которая, сбросив капот, надела платье, чтобы идти к тетке.
По непривычно настойчивому, хотя и скрытому вниманию, с которым Флорина слушала продиктованное господину Норвалю письмо, нетрудно было видеть, что у нее была привычка запоминать каждое слово мадемуазель де Кардовилль.
— Геба, — сказала Адриенна, — отправь сейчас же это письмо господину Норвалю.
Снова послышался звук колокольчика.
Геба пошла было к дверям, чтобы исполнить приказание своей госпожи, а заодно узнать, кто звонит, как вдруг Флорина быстро выступила вперед и обратилась к Адриенне:
— Позвольте, сударыня, мне отправить это письмо. Мне надо все равно идти в большой дом…
— Тогда ты, Геба, иди и посмотри, кто там пришел, а ты, Жоржетта, запечатай письмо…
Пока Жоржетта исполняла приказание, Геба успела вернуться.
— Госпожа, — сказала она, — там пришел рабочий, который вчера нашел Резвушку. Он умоляет вас принять его, и лицо у него такое бледное и расстроенное…
— Неужели ему понадобилась моя помощь? Это было бы слишком хорошо, — весело проговорила Адриенна. — Позови этого славного малого в гостиную… а ты, Флорина, скорее отошли письмо…
Флорина вышла.
Мадемуазель де Кардовилль в сопровождении Резвушки перешла в гостиную, где ее ждал Агриколь.
3. РАЗГОВОР
Адриенна, готовясь войти в гостиную, где ее ждал Агриколь, оделась с изящной простотой. На ней было синее кашемировое платье с корсажем, плотно облегавшим ее талию нимфы и округлую грудь; спереди корсаж был, по тогдашней моде, вышит черными шелковыми шнурками. Узенький гладкий батистовый воротничок был обернут пестрой шотландской лентой, заменявшей галстук и завязанной бантом. Белое лицо Адриенны обрамлялось массой легких, пушистых локонов, спускавшихся почти до корсажа.
Сказав отцу, что идет на работу, Агриколь вынужден был надеть рабочий костюм. Только он выбрал чистую блузу, и на его небрежно повязанный черный галстук падал воротник хотя и грубой, но белой рубашки. Под широкими серыми штанами были видны начищенные сапоги, в мускулистых руках он держал красивую фуражку из нового сукна. Эта синяя блуза с красной вышивкой оставляла свободной загорелую и нервную шею молодого кузнеца; обрисовывая его могучие плечи, она падала изящными складками, не стесняя ничем его легкой и непринужденной походки, и шла ему куда больше, чем редингот или сюртук.
Ожидая хозяйку дома, Агриколь машинально разглядывал серебряную вазу великолепной чеканки, на цоколе из крапленого мрамора которой была приделана металлическая дощечка с надписью: «Чеканка рабочего Жан-Мари, 1831 г.».
Адриенна так тихо прошла по ковру гостиной, отделенной от уборной только портьерой, что Агриколь не заметил ее появления; он вздрогнул и живо обернулся при звуке серебристого голоса молодой девушки, сказавшей ему:
— Не правда ли, месье, чудесная ваза?
— Замечательная, — ответил, изрядно смутившись, Агриколь.
— Видите, я люблю справедливость, — прибавила Адриенна, указывая на надпись на доске, — раз художник подписывает свое имя на картине, а писатель на книге, я требую того же и для рабочего.
— Как, госпожа? Это имя…
— Имя того бедняка рабочего, который создал это замечательное произведение искусства по заказу богатого ювелира. И, представьте, тот был очень удивлен, если не обижен, когда я потребовала, чтобы было выставлено имя действительного автора, а не фирмы… По-моему, если рабочий не может получить денег, — пусть он пользуется по крайней мере славой, не так ли, господин?
Разговор начался самым приятным для Агриколя образом, и он, постепенно успокаиваясь, ответил:
— Так как я сам рабочий, госпожа, то меня может только глубоко трогать проявление такой справедливости.
— Если вы рабочий, то я рада тому, что сказала. Но извольте присесть.
И любезным, приветливым жестом Адриенна указала Агриколю на кресло, обитое затканной золотом пунцовой шелковой материей, причем сама села на такую же кушетку.
Агриколь снова смутился; видя, что он теряется, молодая девушка, желая его ободрить, заметила, весело улыбаясь и показывая на Резвушку:
— Этот крошечный зверек, к которому я очень привязана, вечно будет мне живым напоминанием о вашей любезности. Поэтому я считаю ваше посещение прекрасным предзнаменованием; не знаю, почему-то я верю, что могу вам быть чем-нибудь полезной.
— Мадемуазель, — решился наконец заговорить Агриколь, — меня зовут Бодуэн, я кузнец у господина Гарди в Плесси… Вчера вы предложили мне вознаграждение… я отказался… а сегодня я пришел просить вас о сумме, быть может в десять, в двадцать раз большей… Я тороплюсь вам это высказать, так как иначе не решусь… для меня это всего труднее… Слова эти жгли мои губы… теперь мне легче…
— Я очень ценю вашу деликатность… но, право, если бы вы меня больше знали, вы бы могли обратиться ко мне без боязни, — сказала Адриенна. — Сколько вам надо?
— Не знаю, мадемуазель!
— Как не знаете? Вы не знаете суммы?
— Да, не знаю… Я пришел вас просить не только о деньгах, но и о том, чтобы вы сказали мне, сколько мне их нужно.
— Послушайте, — улыбаясь, заметила Адриенна, — сознайтесь сами, что при всем желании я не совсем понимаю, в чем дело.
— Вот в чем дело. У меня есть мать-старуха; она убила свое здоровье, чтобы воспитать меня и сироту, которого она взяла, когда его бросили; теперь она, по болезни, работать не может, и пришел мой черед ее содержать, что мне и радостно. Но все зависит от моего труда: если я буду не в состоянии работать, мать останется без всяких средств.
— Теперь матушка ваша обеспечена всем, раз я принимаю в ней участие!..
— Вы принимаете в ней участие?
— Конечно.
— Разве вы ее знаете?
— Теперь знаю!
— Ах, мадемуазель, — с чувством воскликнул Агриколь после минутного молчания, — знаете, я понимаю вас… у вас благородное сердце… права была Горбунья!..
— Горбунья? — спросила Адриенна с удивлением, так как подобное имя было для нее загадкой.
Рабочий, никогда не стыдившийся своих друзей, ответил прямо:
— Я сейчас вам это поясню, мадемуазель: Горбунья — бедная молодая работница, очень трудолюбивая, воспитанная вместе со мной. Она горбатая, вот отчего ее и прозвали Горбуньей. В этом смысле, видите ли, она стоит неизмеримо ниже вас… но что касается сердца… деликатности!.. Тут я уверен, что вы ее стоите!.. Это сразу пришло ей в голову, когда я вчера рассказал, как вы мне подарили прекрасный цветок.
— Поверьте, — отвечала растроганная Адриенна, — ничто не могло мне быть лестнее этого сравнения. Я тронута и горжусь им. Сохранить чистое, доброе сердце среди тяжелых испытаний — особенное счастье и достоинство. Нетрудно быть добрым, когда молод и красив! Итак, я принимаю ваше сравнение, но с условием, что вы сейчас же дадите мне возможность его оправдать и заслужить. Прошу вас, продолжайте!
Несмотря на простое, дружеское обращение мадемуазель де Кардовилль, в ней чувствовалось так много истинного достоинства, вечных спутников независимого характера, высокого ума и благородного сердца, что Агриколь совершенно забыл об ослепительной красоте молодой девушки и почувствовал к ней какое-то особенное почтение, не гармонировавшее, казалось бы, с юностью и веселостью его покровительницы.
— Если бы у меня на руках была только мать, то я не так бы испугался того, что мне грозит. Мать любят в нашем доме, бедняки охотно друг другу помогают, ее бы не оставили… Но принимать помощь несчастных бедняков, которая будет стоить им так много лишений, очень тяжело, — тяжелее, чем переносить их самому… Кроме того, у меня еще есть для кого трудиться: вчера вернулся к нам после восемнадцати лет разлуки мой отец… Он прибыл из Сибири, где оставался из чувства преданности к своему старому генералу, теперешнему маршалу Симону…
— Маршалу Симону! — с живостью и изумлением воскликнула Адриенна.
— Вы его знаете, мадемуазель?
— Лично не знаю, но он женат на моей родственнице…
— Какое счастье! Значит, его дочки, которых привез из России мой отец, вам приходятся родственниками?
— У маршала есть дочери? — спросила Адриенна, все более и более удивленная и заинтересованная.
— Ах, мадемуазель… просто два ангелочка, близнецы, лет пятнадцати или шестнадцати… похожи друг на друга необыкновенно… и такие хорошенькие, кроткие! Мать их умерла в изгнании… Все, что она имела, было конфисковано… и им пришлось возвращаться из глубины Сибири самым бедственным образом. Конечно, отец старался заменить удобства своей заботой, преданностью… но все-таки им было нелегко… Славный у меня отец, мадемуазель… Вы не поверите… храбрость льва, а сердце… сердце, как у матери!
— Где же эти милые девочки? — спросила Адриенна.
— У нас, госпожа! Вот что и сделало особо трудным мое положение… из-за чего я и решился обратиться к вам… Я могу им помогать только работая, а работать мне будет ведь невозможно, если меня арестуют…
— Арестуют? вас? за что?
— Вот, будьте так добры… прочтите это предостережение, полученное Горбуньей… этой бедной работницей, моей сестрой… — И Агриколь вручил мадемуазель де Кардовилль анонимное послание, адресованное на имя Горбуньи.
Прочитав письмо, Адриенна с удивлением спросила кузнеца:
— Итак, вы поэт?
— У меня нет на это ни претензий, ни честолюбия… Просто, возвращаясь домой к матери, иногда даже работая молотом в кузнице, я забавляюсь для отдыха стихами, подбираю рифмы, и выходит то ода, то песенка!..
— А эта песня, о которой упоминается в письме, — столь опасна и враждебна?
— Да нет, мадемуазель, напротив! Видите, мне посчастливилось попасть к доброму хозяину. Господин Гарди старается настолько же улучшить положение своих рабочих, насколько оно плохо у других. Вот я и вдохновился этим и сочинил искреннее, горячее и справедливое воззвание в защиту той несчастной массы, у которых кроме этого нет больше ничего. Но теперь, в наше смутное время заговоров и восстаний, арестовать человека… обвинить… так, зазря… очень легко… Подумайте, что будет, если на меня обрушится такое горе! Что будет с матерью, с отцом… с этими бедными сиротами, остающимися на нашем попечении до возвращения маршала Симона? Чтобы предупредить это несчастье, я и пришел вас просить, не внесете ли вы за меня залог, если вздумают меня арестовать?.. Тогда, оставаясь в своей мастерской, избежав тюрьмы, я их всех прокормлю. Клянусь вам в этом!..
— Ну, слава Богу, — весело промолвила Адриенна, — все уладится; теперь вы будете, господин поэт, черпать вдохновение в счастье, а не в горе… Слишком печальная это муза!.. Во-первых, залог будет внесен…
— Ах, мадемуазель… вы нас спасаете!
— К счастью, наш домашний врач очень дружен с одним весьма влиятельным министром (понимайте это, как знаете, — прибавила Адриенна улыбаясь, — вы не ошибетесь). Доктор имеет на него громадное влияние, потому что дал министру совет попользоваться, учитывая его здоровье, радостями частной жизни как раз накануне того дня, когда у него отняли министерский портфель. Значит, будьте спокойны: если залога не примут, мы будем действовать иным путем.
— Я буду обязан вам и спокойствием и, быть может, жизнью матери, — проговорил глубоко взволнованный Агриколь. — Поверьте, что я сумею быть благодарным!
— Ну, какой пустяк! Перейдем к другому: те, у кого всего много, обязаны помогать тем, у кого нет ничего… Дочери маршала Симона мне родственницы! Они должны жить у меня… Вы предупредите об этом вашу добрую матушку, и сегодня же вечером я приеду поблагодарить ее за гостеприимство, оказанное моим родным, и увезу их к себе.
В это время, поспешно отдернув портьеру, в комнату вбежала с испуганным лицом Жоржетта.
— Ах, госпожа, — воскликнула она, — у нас на улице происходит что-то необычное!..
— Что такое? Объяснись!
— Я провожала до калитки портниху и вдруг заметила на улице несколько весьма подозрительных личностей, наблюдавших за окнами и стенами домика, примыкающего к нашему павильону. Они, кажется, кого-то подстерегают.
— Я не ошибся, значит, мадемуазель, — печально заметил Агриколь, — это ищут меня…
— Что вы говорите!
— Мне даже показалось, что за мной следит с самой улицы Сен-Мерри… Сомнений быть не может… Видели, как я к вам вошел, и хотят меня арестовать… А теперь, мадемуазель, раз вы приняли такое участие в судьбе моей матери… раз мне нечего заботиться о дочерях маршала Симона, я, чтобы избавить вас от малейшего беспокойства, сейчас пойду и отдамся им в руки сам…
— Поостерегитесь, — с живостью возразила Адриенна, — свобода — слишком драгоценное благо, чтобы ею жертвовать добровольно… Кроме того, Жоржетта могла и ошибиться… Во всяком случае, вы не должны сдаваться, надо избежать ареста… Поверьте, это значительно упростит наши действия… Я почему-то думаю, что правосудие проявляет особую привязанность к тем, кто попал ему в руки…
— Госпожа, — сказала, входя в комнату с тревожным видом, Геба, — сейчас в калитку постучался какой-то господин. Он спросил меня, не входил ли сюда молодой человек в синей блузе… Он назвал его Агриколем Бодуэном и уверял, что должен сообщить ему нечто весьма важное…
— Это мое имя, — сказал Агриколь. — Они хотят выманить меня хитростью…
— Несомненно! — согласилась Адриенна. — Так, следует разрушить их замыслы… Что ты ему ответила, дитя мое? — прибавила она, обращаясь к Гебе.
— Я ответила, что не понимаю, о ком он говорит.
— Отлично! Что же сделал любопытный господин?
— Он ушел.
— Но он сейчас вернется! — сказал Агриколь.
— Очень может быть! — отвечала Адриенна. — Поэтому вам нужно остаться здесь на несколько часов… Я принуждена, к несчастью, на время удалиться: у меня неотложное свидание с княгиней Сен-Дизье, моей теткой. Оно стало еще более необходимым, учитывая сведения, сообщенные вами о дочерях маршала Симона. Значит, вы непременно должны остаться, а то вас сразу же задержат, как только вы выйдете отсюда.
— Простите меня, мадемуазель… но я не могу согласиться… я не могу принять вашего великодушного предложения…
— Почему же?
— Меня попытались вызвать на улицу, чтобы не входить сюда именем закона; но теперь, если я не выйду, они ворвутся к вам… Я никогда не соглашусь подвергнуть вас таким неприятностям. Да и что мне тюрьма, раз я спокоен за мать?
— А ее горя, беспокойства, страха вы в расчет не принимаете? А отец ваш, эта бедная девушка, любящая вас, как брата, вы их забыли? Послушайтесь меня, избавьте вашу семью от лишних терзаний… Оставайтесь здесь; я уверена, что еще до вечера, залогом или чем другим, я добьюсь того, что вас избавят от этой неприятности…
— Но ведь если бы даже я и принял вашу великодушную помощь, все равно меня здесь найдут и арестуют.
— Ну, уж нет! Между прочим, этот павильон служил некогда маленьким домиком! — засмеялась Адриенна. — Видите, в каком оскверненном месте я живу! Так вот в этом самом павильоне есть потайная комната, так ловко устроенная, что никому ее никогда не найти. Жоржетта вас туда проведет, и вы там посидите… Можете на досуге написать мне стихи, если ситуация вас вдохновит.
— Как вы добры! — воскликнул Агриколь. — Чем я заслужил столько милостей?..
— Как чем? Допустим даже, что ни ваше положение, ни ваш характер не вызывали бы во мне интереса. Представим себе, что я ничем не обязана вашему отцу за его трогательные заботы о моих родственницах, дочерях маршала Симона, — но остается Резвушка!.. Подумайте о ней, месье! — сказала, весело улыбаясь, Адриенна. — О Резвушке, которую вы возвратили моей нежной привязанности!.. Видите, мой милый, — прибавила эта странная и сумасбродная девушка, — если я так весела, то это доказывает, что я нисколько за вас не боюсь… Кроме того, я чувствую себя сегодня особенно счастливой. Итак, прошу вас, дайте мне скорее ваш адрес и адрес вашей матери, а затем следуйте за Жоржеттой и сочините для меня какие-нибудь милые стихи, если только не очень соскучитесь в своей тюрьме, куда попали, чтобы избежать тюрьмы же…
Пока Жоржетта провожала кузнеца в тайник, Геба подала своей госпоже серую бобровую шляпку с серым же пером, так как Адриенне надо было пройти через весь парк, чтобы добраться до большого дома, где жила княгиня Сен-Дизье.
Через четверть часа после этой сцены в комнату госпожи Гривуа, главной горничной княгини, таинственно прокралась знакомая нам Флорина.
— Ну, что нового? — спросила Гривуа девушку.
— Вот мои сегодняшние заметки, — сказала Флорина, подавая дуэнье записочку. — Хорошо, что у меня прекрасная память!
— В котором часу вернулась она сегодня утром домой? — с живостью спросила дуэнья.
— Кто?
— Мадемуазель Адриенна.
— Она не выходила, так как принимала ванну в девять часов утра.
— Значит, она вернулась раньше девяти, потому что дома не ночевала! Вот до чего дошла эта особа!
Флорина с удивлением взглянула на госпожу Гривуа.
— Я вас не понимаю.
— Как! Вы скажете, что мадемуазель Адриенна не вернулась сегодня утром в восемь часов через маленькую садовую калитку? Посмейте-ка еще соврать!
— Мне вчера нездоровилось, и я спустилась только в девять часов, чтобы помочь Жоржетте и Гебе одеть вышедшую из ванны барышню… Что раньше было, я не знаю, клянусь вам, мадам.
— Тогда другое дело. Постарайтесь же узнать о том, что я вам сказала, у ваших подруг… Они вам доверяют и расскажут все…
— Да, мадам!
— Что делала сегодня ваша барышня с девяти часов утра?
— Барышня диктовала Жоржетте письмо к господину Норвалю. Я вызвалась его отправить, чтобы иметь время все записать и найти повод выйти из дома…
— Хорошо… Где же это письмо?
— Я сейчас отдала его Жерому, чтобы он отправил письмо по почте…
— Ах ты, разиня! — воскликнула госпожа Гривуа. — Почему же ты его не принесла ко мне?
— Так как барышня, по своему обыкновению, громко диктовала это письмо, я запомнила его и записала дословно.
— Это не одно и то же! Быть может, надо было задержать это письмо… Княгиня очень прогневается…
— Я думала, так будет лучше, мадам…
— Господи, будто я не знаю, что вы сделали это без умысла? Вами очень довольны за эти шесть месяцев… Но все-таки вы совершили большой промах!
— Будьте ко мне снисходительны, мадам… мне и без того нелегко!
И девушка подавила печальный вздох.
— Что ж, моя милая… Не продолжайте, если вас гложут угрызения совести… Ведь вы свободны… можете всегда уйти…
— Вы знаете, что я не свободна, мадам, — сказала покраснев и со слезами на глазах Флорина. — Я в полной зависимости от господина Родена, поместившего меня сюда…
— Так нечего и вздыхать!
— Невольно совесть начинает мучить… Барышня так добра, так доверчива!..
— Словом, она совершенство! Но вас сюда вызвали не для того, чтоб воспевать ей хвалы!.. Что было дальше?
— Затем явился рабочий, который нашел вчера и принес Резвушку; он желал говорить с барышней.
— И он все еще у нее?
— Мне неизвестно, он пришел, когда я уходила с письмом…
— Узнайте, зачем приходил этот рабочий к вашей госпоже… и постарайтесь сегодня же как-нибудь вырваться сюда, чтобы мне об этом доложить.
— Хорошо, мадам.
— А что, ваша барышня очень озабочена, испугана, встревожена ожиданием свидания с княгиней? Ведь не трудно понять, что у нее на уме!
— Она была весела по обыкновению и даже шутила по этому поводу.
— Шутила?.. Смеется тот, кто смеется последний, — сказала дуэнья и прибавила сквозь зубы, так что Флорина не могла ее слышать: — Несмотря на свой дьявольский характер и отчаянную смелость, она затрепетала бы от ужаса… умоляла бы о пощаде… если бы знала, что ее ждет сегодня. — Затем, обращаясь к Флорине, она продолжала: — Ну, теперь идите домой… и постарайтесь отделаться от ваших… угрызений! Право, они могут сыграть с вами прескверную шутку… не забывайте этого.
— Я не могу забыть, что я больше над собой не властна, мадам!
— Ну, то-то!.. До свиданья.
Флорина пошла через парк в павильон, а госпожа Гривуа отправилась к княгине Сен-Дизье.
4. ИЕЗУИТКА
Пока предыдущие сцены происходили в павильоне мадемуазель де Кардовилль, в большом доме княгини Сен-Дизье совершались другие события.
Роскошь и изящество первого жилища составляли разительный контраст с мрачным убранством особняка княгини. Она занимала в нем только второй этаж, так как первый предназначался для балов, а княгиня давно уже отказалась от суетных светских удовольствий. Особенная важность слуг, пожилых и одетых исключительно во все черное, глубокая тишина, господствовавшая в ее жилище, где слова произносились только шепотом, почти монастырский характер всего дома придавали всему окружающему особо печальный и суровый отпечаток.
Один светский человек, обладавший редкой независимостью характера, соединенной с большим мужеством, искренно признался однажды, говоря о княгине Сен-Дизье (которой Адриенна собиралась, как она говорила, задать генеральное сражение): «Для того чтобы не приобрести в госпоже Сен-Дизье врага, я, человек не пошлый и не низкий, сделал в первый раз в жизни пошлость и низость!»
Но госпожа Сен-Дизье не сразу достигла столь важного положения.
Необходимо сказать несколько слов, чтобы осветить со всех сторон различные периоды в жизни этой женщины, опасной и неумолимой по натуре и связь которой с орденом иезуитов придала ей страшное и таинственное могущество. Если есть что-нибудь ужаснее иезуита, то это именно иезуитка, а между тем, посещая известное общество, можно весьма легко убедиться, что подобных членов в «светском платье» note 16 у иезуитов немало.
В последние годы Империи и в начале Реставрации княгиня, замечательно красивая собой, была самой модной женщиной в Париже. Она обладала живым, деятельным, деспотическим и склонным к авантюризму умом, холодным сердцем и сильно развитым воображением. Без всякой сердечной нежности заводила она бесчисленные любовные связи — но единственно из страсти к интригам, ради тех волнений, какие они за собой влекут; так любят игру мужчины.
К несчастью, ее муж, князь де Сен-Дизье (брат графа Реннепона, герцога де Кардовилля, отца Адриенны), вследствие ли ослепления или по беззаботности характера, ни разу за всю жизнь не показал виду, что он подозревает жену в любовных похождениях.
К тому же, не встречая препятствий, так как к подобным похождениям относились легко в эпоху Империи, княгиня, не отказываясь от любовных утех, решила придать им побольше остроты и терпкости, соединив их с политическими интригами.
Вступить в борьбу с Наполеоном, попытаться подвести мину под такого колосса — это обещало по крайней мере достаточно сильных ощущений для самого требовательного характера.
Все шло прекрасно в течение определенного времени. Красивая и остроумная, ловкая и лживая, соблазнительная и коварная, княгиня, окруженная массой поклонников, мечтала вернуть во Франции нравы Фронды. С какой-то жестокой кокетливостью она забавлялась, играя головами своих поклонников, превращая их в фанатиков и вовлекая их в самые опасные заговоры. Она завела деятельнейшую тайную переписку с многочисленными влиятельными людьми за границей, известными своей ненавистью к императору и к Франции. Тогда и возникли ее первые контакты с маркизом д'Эгриньи, полковником русской службы и адъютантом у Моро.
Но в один прекрасный день замыслы эти были раскрыты, многих из поклонников княгини посадили в Венсенскую тюрьму, а ее Наполеон только выслал в одно из поместий близ Дюнкерка, не желая прибегать к более строгому наказанию.
Во время Реставрации преследования, которым подвергалась княгиня, были ей зачтены, и она приобрела даже значительное влияние, несмотря на легкомысленное поведение.
Маркиз д'Эгриньи, перешедший на службу во Францию и оставшийся здесь, тотчас же сделался модным светским львом благодаря своему обаянию. Он вел переписку и вступал в заговоры с княгиней, не зная ее лично; эти обстоятельства способствовали зарождению их связи.
Эти два человека, сходные по природе, были скорее сообщниками, чем любовниками; необузданное самолюбие, склонность к безрассудным удовольствиям, неодолимая жажда власти, гордость и ненависть, коварное очарование зла сближали извращенные натуры, но не позволяли им слиться. Их связи содействовали эгоизм и сознание, что они могут быть друг другу полезны как люди одного закала, причем взаимная помощь им была нужна для борьбы со светом, где у них обоих было много врагов из-за их страсти к интригам, разврату и клевете. Связь эта продолжалась до тех пор, пока маркиз, после своей дуэли с генералом Симоном, не поступил в духовную семинарию; причину столь внезапного решения никто так и не узнал.
Но княгиня еще не считала, что пришло время каяться. С какой-то ревнивой, горькой и злобной жаждой предавалась она вихрю светских наслаждений, сознавая, что приходит конец ее золотому времени. О характере этой женщины можно судить по следующему факту. Желая закончить светскую жизнь с особенным блеском и удалиться с триумфом со сцены, как великая артистка, оставляя после себя сожаление, она, сознавая себя еще прекрасной, решила непременно удовлетворить в последний раз свое ненасытное тщеславие. Жертвой княгиня избрала одну страстно влюбленную молодую чету и с помощью хитрости и лукавства отбила возлюбленного у прелестной восемнадцатилетней, обожавшей его женщины. После того как все узнали об этой победе, княгиня вдруг покинула свет во всем блеске своего триумфа.
Она уехала из Парижа после нескольких долгих бесед с аббатом маркизом д'Эгриньи, уже прославившимся в качестве проповедника, и провела два года в своем поместья близ Дюнкерка, причем ее сопровождала одна лишь госпожа Гривуа.
Когда княгиня вернулась, никто бы не узнал в ней прежнюю ветреную, фривольную и легкомысленную женщину. Превращение было полное, необыкновенное и даже страшное. Дворец Сен-Дизье, былой приют веселья, радости и наслаждений, сделался молчаливым, строгим обиталищем. Вместо так называемого светского общества княгиня принимала лишь дам, известных своей исключительной набожностью, и мужчин, не только занимавших важные посты, но и прославившихся в свете своими монархическими и религиозными принципами. Она окружила себя главным образом лицами из высшего духовенства; под ее председательством очутилась целая духовная женская община. У княгини был собственный духовник, капелла, священник и даже особый духовный наставник. Но последний действовал in partibus, а настоящим духовным руководителем оставался все тот же аббат маркиз д'Эгриньи. Нечего и говорить, конечно, что их любовная связь уже давно прекратилась.
Это неожиданное и необычайное обращение, искусно афишируемое, поразило многих и вызвало чувство уважения и удивления. Более проницательные люди только улыбались.
Мы приведем один из тысячи примеров, чтобы дать понятие о страшном могуществе, достигнутом княгиней благодаря ее принадлежности к ордену иезуитов, по которому можно судить об адском, мстительном и безжалостном характере этой женщины, с которой Адриенна неосторожно решилась вступить в борьбу.
Между теми, кто улыбался при разговорах о внезапном обращении госпожи де Сен-Дизье, была та юная пара, которую княгиня безжалостно разлучила, прежде чем окончательно покинуть любовные подмостки света. Оба влюбленных, еще теснее сблизившиеся после быстро прошедшей бури, ограничили свою месть только несколькими остроумными шутками по поводу внезапного обращения женщины, причинившей им так много зла.
Спустя некоторое время какой-то ужасный рок обрушился на влюбленных.
Муж молодой женщины, ничего до сих пор не подозревавший, вдруг прозрел после нескольких анонимных сообщений… Разыгрался страшный скандал — и молодая женщина погибла.
О любовнике же ее в обществе, неведомо откуда и как, стали распространяться какие-то неопределенные слухи, с массой недомолвок, но так коварно рассчитанные, что они становились в тысячу раз опаснее всякого прямого обвинения, против которого можно по крайней мере бороться и опровергать его. Между тем слухи проникали в общество такими разнообразными путями, так упорно и с такой дьявольской убедительностью, что лучшие друзья молодого человека стали от него отворачиваться, невольно подчиняясь влиянию беспрерывного гула перешептываний, заключавшихся большей частью в таких разговорах:
— Конечно, вы слышали про ***?
— Нет, а что такое?
— Рассказывают скверные истории…
— Что вы говорите! Например?
— Не могу сказать точно… дело касается его чести… Ходят странные слухи…
— Черт возьми! Это не шутка… Так вот почему его теперь так холодно принимают…
— Я, знаете, решился пока держаться от него подальше.
— Я тоже, конечно!
И так далее, и так далее…
Свет так устроен, что иногда довольно таких мелочей, чтобы навсегда погубить репутацию человека, особенно если прежние его удачи породили завистников. С человеком, о котором мы говорим, случилось именно так. Несчастный, чувствуя, как все вокруг него пустеет, как колеблется почва под ногами, метался из стороны в сторону, стараясь найти неведомого врага, наносящего ему неотразимые удары. Ему и в голову не приходило заподозрить княгиню, с которой он даже ни разу не видался со времени их романа. Решившись наконец во что бы то ни стало узнать причину общего отчуждения и презрения, он обратился к одному из прежних друзей. Друг ответил уклончиво и довольно презрительно; молодой человек вспылил и вызвал его на дуэль. Противник ответил:
— Найдите себе двух свидетелей из числа наших общих знакомых — тогда я буду драться с вами.
Несчастный не нашел ни одного!
Дойдя до полного отчаяния, не понимая причины всего происходившего, страдая за погибшую из-за него любимую женщину, он, в минуту горя, гнева и безумного отчаяния, покончил с собой…
В день его смерти госпожа де Сен-Дизье набожно заметила, что такая постыдная жизнь и должна была так кончиться; что человек, долго попиравший все божеские и человеческие законы, обязательно должен был кончить новым преступлением… самоубийством! И друзья княгини повторяли и разносили всюду эти слова с видом лицемерной, смиренной веры в них.
Этого мало. Рядом с наказаниями раздавались и награды.
Наблюдательные люди замечали, что лица, пользовавшиеся покровительством княгини, необыкновенно быстро достигали почестей и отличий. Добродетельные молодые люди и усердные посетители проповедей получали в жены богатых сироток, которых держали для них про запас в Сакре-Кер. Несчастные девушки слишком поздно убеждались в качествах супруга-ханжи, выбранного для них барынями-ханжами, и горькой скорбью искупали обманчивую честь быть принятыми в мир лгунов и лицемеров, где они чувствовали себя чужими и беззащитными, причем им грозила немедленная кара, если они осмеливались оплакивать союз, который им навязали.
В салоне же княгини раздавались места префектов, полковников, сборщиков податей, выбирались депутаты, академики, епископы и пэры Франции, причем взамен оказанной им помощи они обязывались хранить вид крайнего благочестия, внешне соблюдать пост и поклясться участвовать в вечной жестокой борьбе со всем, что отдавало безбожием и революционностью. Главное требование заключалось, впрочем, в том, что они должны были вести тайную переписку с аббатом д'Эгриньи, причем он сам выбирал различные темы для бесед, что, конечно, было даже очень приятно, так как аббат славился как самый светский, милый, умный, а главное — покладистый человек в мире.
По этому поводу вот один исторический факт, который мог бы пополнить сокровищницу горькой и мстительной иронии Мольера и Паскаля.
Это случилось в последний год Реставрации. Один высокопоставленный сановник, человек твердого и независимого характера, не исполнил обрядов, т.е. не говел и не причащался. Такое поведение чиновника, занимающего высокое положение, могло явиться печальным примером; поэтому к нему отправили аббата маркиза д'Эгриньи. Зная возвышенный и благородный характер знатного упрямца, аббат понял, что главное — добиться только того, чтобы он согласился исполнить обряд каким бы то ни было способом, так как эффект все равно был бы впечатляющим.
Как умный человек, он не убеждал своего собеседника в правильности догматов, ни даже в истинах религии, а говорил только о соблюдении приличий и о том, что подобный спасительный пример произведет впечатление на публику.
— Господин аббат, я более, чем вы, уважаю религию, — отвечал сановник, — и счел бы за постыдное шарлатанство исполнять обряды, в которые не верую!
— Ну, полноте, полноте, несговорчивый человек, хмурый Альцест, — тонко улыбаясь, заметил аббат. — Мы постараемся пощадить совестливость и согласовать с ней те выгоды, какие вам принесет то, что вы последуете моему совету. Мы дадим вам неосвященную облатку: нам ведь все равно; главное, чтобы видимость была соблюдена.
Предложение аббата было отвергнуто с негодованием, но сановник потерял место.
Впрочем, не с ним одним это случилось. Все те, кто решался на борьбу с госпожой де Сен-Дизье и ее друзьями, все платились за это дорогой ценой! Рано или поздно, прямо или косвенно, но на них начинали сыпаться градом жестокие, непоправимые удары: одних они поражали в самых дорогих привязанностях, других — в кредите; у одних задевали честь, других лишали мест и средств к существованию. И борьба велась медленно, тихо, с ужасающей размеренностью и выдержкой, таинственно подрывая репутацию, состояние, самое прочное положение, доводя, наконец, до полного, окончательного упадка и катастрофы, поражавших ужасом и изумлением всех окружающих.
Легко понять, что во время Реставрации княгиня приобрела сильнейшее влияние и сделалась весьма опасной женщиной. Но она сумела примкнуть и к Июльской революции. И несмотря на то, что она сохранила и семейные и общественные связи с людьми, оставшимися верными павшей монархии, говорили, что княгиня сумела сохранить влияние и власть.
Надо прибавить еще, что после смерти князя де Сен-Дизье, умершего бездетным, все его состояние досталось младшему брату, отцу Адриенны де Кардовилль. После его смерти, полтора года тому назад, единственной наследницей и представительницей этой ветви семейства Реннепонов осталась его дочь.
Княгиня де Сен-Дизье ожидала племянницу в довольно большой комнате, обитой темно-зеленой парчой, с черной резной мебелью, в числе которой находился такой же книжный шкаф с книгами религиозного содержания. Несколько картин из священной истории и громадное распятие слоновой кости на черном бархатном фоне довершали мрачный и строгий вид комнаты.
Госпожа де Сен-Дизье сидела за большим письменным столом и запечатывала многочисленные письма, так как она вела обширнейшую и разнообразнейшую переписку. Княгине исполнилось сорок пять лет; она была еще очень красива. Конечно, с годами ее некогда изящная талия изменилась, но черное платье с высоким воротником все еще выгодно ее обрисовывало. Простенький чепчик с серыми тентами не скрывал густых, гладко причесанных белокурых волос.
Лицо княгини поражало своим достоинством и простотой. Никому бы и в голову не пришло, что такая сдержанная и серьезная женщина могла быть когда-то героиней всевозможных любовных авантюр; никто не нашел бы и следов бурных волнений на ее спокойном и набожном лице. Если до ее ушей долетало какое-нибудь легкомысленное, вольное слово, черты княгини, действительно вообразившей себя чуть ли не матерью церкви, выказывали сперва простодушное и печальное недоумение, переходившее затем в выражение возмущенного целомудрия и презрительной жалости.
Впрочем, стоило княгине захотеть, и ее улыбка делалась обворожительной, благожелательной и сочувственной. Она умела придать своим голубым глазам ласковый и благосклонный взгляд. Но когда задевали ее гордость или шли против желаний, или мешали планам, лицо госпожи де Сен-Дизье, обыкновенно серьезное и спокойное, принимало выражение непобедимой и холодной злобы. Конечно, это случалось только тогда, когда княгиня не считала нужным сдерживать порывы досады.
В комнату вошла госпожа Гривуа, держа в руках донесение Флорины об Адриенне.
Госпожа Гривуа служила княгине уже двадцать лет. Она знала о своей госпоже все, что может и, должна знать доверенная служанка особы довольно легкого поведения. Неизвестно было, по своей ли воле держит при себе княгиня этого свидетеля многочисленных грехов молодости. Наверняка никто не знал. Ясно было одно: что госпожа Гривуа пользовалась большими преимуществами и на нее княгиня де Сен-Дизье смотрела скорее как на компаньонку, чем как на горничную.
— Вот доклад Флорины, сударыня, — сказала госпожа, Гривуа, подавая бумагу княгине.
— Сейчас просмотрю, — отвечала та. — Когда ко мне придет племянница, вы во время нашей беседы проводите к ней в павильон одного господина, который сейчас явится и спросит вас от моего имени.
— Хорошо, мадам.
— Этот человек произведет опись всего, что там заключается; проследите, чтобы ничего не было пропущено, это очень важно.
— Так, мадам. Но если Жоржетта и Геба не допустят…
— Будьте спокойны. Человек, которому поручено это дело, вооружен такими аргументами, что они не осмелятся ему противиться, лишь только это станет известно… При составлении описи надо особенно настаивать на известных вам подробностях, которые явятся доказательством распространяемых с некоторого времени слухов…
— О, теперь эти слухи вполне похожи на правду, будьте спокойны на этот счет…
— Наконец-то наступает минута, когда эта дерзкая и высокомерная Адриенна будет разбита и присуждена просить пощады… Пощады! и у меня к тому же!
— Господин аббат д'Эгриньи! — доложил вошедший в комнату старый слуга, открывая обе половинки двери.
— Если мадемуазель де Кардовилль придет, попросите ее подождать минутку, — сказала княгиня, обращаясь к госпоже Гривуа.
— Хорошо, сударыня, — ответила та, выходя вслед за слугой.
Госпожа де Сен-Дизье и господин д'Эгриньи остались одни.
5. ЗАГОВОР
Аббат маркиз д'Эгриньи был, как читатель, вероятно, уже угадал, тот самый человек, которого мы видели на улице Милье Дез-Урсэн, откуда он три месяца тому назад уехал в Рим.
Маркиз находился в глубоком трауре. Рясы он не носил и одевался обычно очень элегантно. Хорошо сшитый черный сюртук и жилет, стянутый на бедрах, подчеркивали его стройную фигуру; панталоны из черного кашемира облекали ноги, обутые в прекрасные лакированные туфли. Тонзура была также незаметна благодаря легкой лысине, слегка обнажившей часть головы. Таким образом, ничто во всем его костюме не напоминало о духовном сане. Разве только отсутствие растительности на мужественном лице маркиза могло показаться странным, тем более что свежевыбритый подбородок опирался на высокий черный галстук, завязанный с особым военным шиком, заставлявшим вспомнить, что аббат-маркиз, этот видный теперь проповедник, один из самых деятельных и влиятельных заправил ордена, командовал когда-то гусарским полком при Реставрации, а до той поры сражался в русской армии против Франции.
Маркиз только сегодня утром вернулся из Рима и не видал еще княгиню. Во время его отсутствия, в имении княгини, близ Дюнкерка, скончалась маркиза д'Эгриньи, напрасно призывая сына к своему смертному одру, чтобы смягчить горечь последних минут. Сын должен был пожертвовать самым святым природным чувством для того, чтобы выполнить приказание, неожиданно полученное из Рима — тотчас же ехать туда. Роден все-таки заметил, что приказ вызвал некоторое замешательство у д'Эгриньи, и не преминул об этом донести. Любовь д'Эгриньи к матери была единственным частым чувством, которое неизменно прошло через всю его жизнь.
Только что слуга вышел из комнаты, маркиз бросился к княгине и, протягивая к ней руки, воскликнул взволнованным голосом:
— Эрминия! вы ничего не скрыли в ваших письмах?.. Не проклинала меня мать в последнюю минуту?..
— Нет, Фредерик, нет… Успокойтесь… Она хотела вас видеть, но вскоре впала в бессознательное состояние… и в бреду повторяла только одно ваше имя…
— Да, — с горечью заметил маркиз, — быть может, материнский инстинкт подсказывал ей, что мое присутствие могло бы возвратить ее к жизни…
— Прошу вас, гоните от себя такие мысли… Это несчастье непоправимо.
— Нет… повторите мне еще раз. Мать моя не была убита моим отсутствием?.. Она не догадывалась, что долг, еще более сильный, чем сыновний долг, призывал меня в иное место?
— Да нет же, говорю вам… Вряд ли бы вы и застали ее в полной памяти… Поверьте, что я вам писала обо всем подробно и правдиво… Успокойтесь же, пожалуйста!
— Конечно, совесть моя должна быть спокойна… Пожертвовав матерью, я повиновался своему долгу. Но, несмотря на все мои усилия, я никогда не мог достигнуть такого полного отречения, которого от нас требуют эти ужасные слова: «Тот, кто не возненавидит своего отца и мать и даже свою собственную душу, не может считаться моим учеником» note 17.
— Конечно, это отречение нелегко, но зато, подумайте, Фредерик, какая власть, какое могущество взамен его!
— Верно, — после минутного молчания заметил маркиз, — многим можно пожертвовать за право властвовать во мраке над всеми повелителями, царствующими на земле при свете дня! Я почерпнул из последнего путешествия в Рим новое представление о потрясающей силе нашей власти. Именно там, Эрминия, в Риме, на этой вершине, господствующей над лучшей и громаднейшей частью мира, как бы то ни было, господствующей в силу привычки или традиции, или, наконец, в силу веры, только там можно понять все величие нашего дела… Интересно с этой высоты наблюдать за правильно ведущейся игрой, направляемой тысячами людей, и видеть, как отдельные личности постоянно поглощаются непреложным единством нашего ордена.
Каким могуществом мы обладаем!.. Право, я иногда просто охвачен восхищением; пугаюсь даже, подумав, что человек, прежде чем сделаться нашим, и думал, и действовал, и верил, как хотел, по своей прихоти… А когда он попал к нам, то через несколько месяцев от него остается одна оболочка: и ум, и развитие, и разум, и совесть, и свободная воля парализуются, засыхают, атрофируются благодаря привычке к немому страшному послушанию и благодаря выполнению тайных обязанностей, которыми умерщвляется все, что может остаться свободного и самостоятельного в человеческой мысли. И тогда в эти тела, лишенные души, немые и холодные, как трупы, мы вдыхаем дух нашего ордена. И вот эти трупы начинают двигаться, ходить, действовать, исполнять… но все это не выходя из замкнутого круга, в который они заключены навек. Таким образом они становятся членами гигантского тела, веление которого они исполняют абсолютно механически, не зная ничего о его замыслах. Это руки, которые исполняют самые трудные работы, не зная и не имея даже возможности понять руководящую ими мысль.
При этих словах лицо маркиза выражало невероятную гордость и сознание надменной власти.
— Да, это могущество велико, страшно велико, — вымолвила княгиня, — и его сила увеличивается еще тем, что воздействует на умы и совесть таинственным путем.
— Знаете, Эрминия, — снова начал маркиз, — под моей командой был блестящий полк. Ничто не могло быть ослепительнее гусарского мундира. Часто по утрам, при блеске летнего солнца, на широком поле маневров я испытывал мужественное и глубокое чувство наслаждения как командир. По звуку моего голоса всадники срывались с места, звучали трубы, перья развевались, сабли блестели; сверкая золотым шитьем, летели на конях адъютанты, передавая мои приказы… Все блистало, сияло, шумело… Солдаты, храбрые, пылкие, с шрамами от прежних битв, повиновались каждому моему знаку, каждому слову… Я чувствовал себя сильным и гордым, сознавая, что в моей власти каждый из этих храбрецов, пыл которых сдерживал один я, как сдерживают пыл моего боевого коня… И вот теперь, несмотря на относительно плохие времена, я, человек, который долго и мужественно сражался на поле брани, — в этом я могу сознаться без ложной скромности, — я теперь чувствую себя несравненно сильнее, деятельнее и отважнее, стоя во главе немого воинства, которое думает, желает, идет и повинуется мне совершенно бессознательно; которое по одному моему знаку рассеивается по всему земному шару, вкрадывается в семью через исповедника жены или через воспитателя детей, в семейные отношения — через исповедь умирающих, к самому трону — через встревоженную совесть доверчивого и боязливого короля… наконец, к самому Святому отцу, этому живому представителю Божества, — через оказанные или навязанные ему услуги!.. Еще раз повторяю: не правда ли, что эта таинственная власть, простирающаяся от колыбели до могилы, от смиренного очага рабочего до трона, от трона до священного престола наместника Христа, может зажечь и удовлетворить самое неограниченное честолюбие?.. Какая карьера в мире могла бы мне доставить столь безграничное наслаждение? И какое глубокое презрение должен я теперь питать к блестящей, легкомысленной жизни прошлых лет, которая доставляла нам так много завистников, Эрминия! Помните? — прибавил д'Эгриньи с горькой улыбкой.
— Вы совершенно правы, Фредерик! — с живостью подхватила княгиня. — С каким презрением смотрим мы теперь на прошлое!.. Мне так же, как и вам, часто приходит на ум сравнение настоящего с прошлым, и как я довольна тогда, что последовала вашим советам! Не будь этого, я теперь должна была бы играть жалкую и смешную роль отцветающей красавицы, вспоминающей о прежнем поклонении и обожании! Что мне оставалось бы делать? Употреблять всевозможные средства, чтобы удержать вокруг себя неблагодарное, эгоистическое общество, грубых мужчин, для которых женщина интересна, только пока она красива и льстит их тщеславию. Или я должна была бы задавать балы и праздники, чтобы другие веселились… чтобы мои залы наполнялись равнодушной толпой или служили местом свидания влюбленным парочкам, являющимся к вам не ради вас, а чтобы быть вместе… Право, нелепое удовольствие — давать приют этой цветущей юности, пылкой, смеющейся, влюбленной, которая на весь окружающий блеск и роскошь смотрит только как на обязательную рамку для ее веселья и дерзкого счастья!
В словах княгини звучало так много злобы, на лине отразилась такая ненависть и зависть, что вид ее невольно отразил страшную горечь и сожаление о прошлом.
— Нет, — продолжала она, — благодаря вам, Фредерик, я навсегда порвала, одержав последнюю блистательную победу, с этим светом, для которого была так долго предметом обожания, где я царила, прежде чем он успел меня бросить… Я только переменила свое царство… Вместо светских, суетных людей, над которыми я властвовала только потому, что была легкомысленнее их, меня окружают люди могущественные, знатные, высокопоставленные, подчас правящие государством; я предалась им всей душой, и они платят мне тем же. И только теперь достигла я того, к чему всегда стремилась: я могу участвовать и влиять на все главнейшие житейские сферы; мне известны важнейшие тайны, в моих руках возможность наказывать и мстить врагам, награждать друзей!
— Словом, Эрминия, вы высказали то, что и дает нам силу, привлекая к нам прозелитов… Мы даем полную возможность удовлетворить и ненависть и симпатию. Ценой пассивного повиновения властям ордена покупается право на таинственную власть над остальным миром. Есть много безумных слепых людей, воображающих, что мы побеждены окончательно, потому что для нас настали тяжелые дни… — с презрением заметил д'Эгриньи, — как будто мы не созданы для борьбы, как будто в борьбе мы не черпаем новые силы, не обретаем энергию… Правда, теперь времена плохие… но скоро настанут иные, лучшие времена… И скоро, скоро, как вам известно, наступит 13 февраля, и в наших руках будет могучее средство для восстановления нашей поколебавшейся на время власти…
— Вы говорите о медалях?
— Конечно. Я потому так и торопился с возвращением, чтобы присутствовать при этом важном для нас событии.
— А вы уже знаете, как судьба чуть было не расстроила наши так хорошо задуманные планы?
— Да. Я виделся с Роденом…
— И он вам передал?..
— О необыкновенном появлении в замке Кардовилль индийца и молодых девушек, выброшенных бурей на берег Пикардии в то время, как первый должен был быть на Яве, а последние в Лейпциге? Как же!.. А между тем, казалось, все предосторожности были приняты!.. Право, — прибавил с досадой маркиз, — можно подумать, что эту семью охраняет какое-то таинственное провидение!..
— К счастью, Роден — необыкновенно изобретательный и деятельный человек, — возразила княгиня, — он был у меня вчера, и мы очень долго беседовали.
— Результат вашей беседы превосходен. Солдата на два дня удалят: духовник его жены предупрежден; остальное устроится само собой, — завтра этих девушек бояться будет нечего… Что касается индуса, то он в Кардовилле, тяжело раненный… значит, в нашем распоряжении времени достаточно…
— Но ведь это еще не все… — возразила княгиня, — нам нужно, чтобы не было в Париже еще двух лиц к этому времени, к 13 февраля.
— Да… господина Гарди… Его не будет здесь целый месяц: этому человеку изменил его самый близкий друг и отозвал на юг, откуда ему скоро не выбраться. Что касается этого бродяги-рабочего, прозванного Голышом…
— Ах! — прервала его княгиня с жестом возмущения и стыдливости.
— Мы его не боимся, — продолжал маркиз. — Габриеля, на котором основываются все наши надежды, до наступления великого дня не оставляют ни на минуту!.. Словом, все обещает победу… и победа нам белее чем когда-либо и какой угодно ценой необходима. Здесь вопрос жизни и смерти… Возвращаясь из Рима, я остановился в Форли… Я виделся с герцогом д'Орбано; его влияние на короля совершенно неограниченно… Он овладел его умом окончательно, так что необходимо иметь дело с ним…
— Ну, и что же?
— Герцог хорошо сознает свою силу. Он может обеспечить нам совершенно легальное положение, покровительство государства во владениях короля, исключительные права на народное образование… С его помощью нам достаточно двух-трех лет, чтобы настолько утвердиться в этой стране, что, пожалуй, и самому герцогу д'Орбано придется прибегать к нашей помощи; но пока этого нет, пока он неограниченный властелин, он и пользуется своими правами, ставя условия — взамен услуг.
— Какие же условия?
— Пять миллионов наличными деньгами и ежегодную пенсию в сто тысяч!
— Это много!
— И это мало в то же время, если учесть, что раз мы укрепимся в стране, то очень скоро вернем свои деньги… Ведь это всего восьмая часть того, что может нам дать дело с медалями, если мы доведем его до благополучного конца.
— Да, около сорока миллионов, — заметила с задумчивым видом княгиня.
— И потом ведь эти пять миллионов, требуемые герцогом д'Орбано, в сущности, только аванс… Мы их вернем сторицей добровольными приношениями, учитывая влияние, какое приобретем на воспитание детей… Оно отдаст нам в руки всю семью и мало-помалу полное доверие правящих лиц… И они еще колеблются! — воскликнул маркиз, с презрением пожимая плечами. — И еще есть правительства, которые нас изгоняют из своих владений… Слепцы! разве они не могут понять, что если мы завладеем образованием, — а это составляет нашу главную цель, — то обезличим народ, приучим его к безмолвному, рабскому повиновению, которое, действуя отупляющим образом, приводит его ж неподвижности, что является залогом общественного спокойствия! И подумать только, что большинство людей имущих и знатных нас презирают и ненавидят! Эти болваны не понимают, что когда нам удастся уверить народ, что его нищета есть непреложный, вечный закон судьбы, что всякая мечта об улучшении участи преступна, что даже желание земных благ является преступлением перед лицом Бога, так как блаженство будущей жизни — истинная награда за земные страдания, тогда народ, одурманенный этими заверениями, покорится своей участи — вечно коснеть в грязи и нищете. Тогда заглохнут все его порывы и надежды на лучшие дни, тогда сами собой решатся те грозные вопросы, которые стоят мрачным пугалом перед правительствами… Разве они не видят, что слепая, пассивная вера, которой мы требуем от народа, является в наших руках прекрасной уздой для того, чтобы управлять им и унижать его же, между тем как от сильных мира мы требуем только соблюдения внешних обрядов, лишь для приличия… что могло бы даже придать остроты их наслаждениям, если бы они хоть развратничать умели с толком?
— Не в том дело, Фредерик, — заметила княгиня. — Как вы говорите, близок великий день… Конечно, с сорока миллионами, которые может получить орден при благополучном исходе дела о медалях, можно многое предпринять… В наше время, когда все продается и покупается, это будет рычаг такой силы в руках ордена, что нельзя и предугадать того, что же будет с его помощью достигнуто.
— Кроме того, — прибавил задумчиво д'Эгриньи, — нечего скрывать… реакция продолжается, а пример Франции — все… В Австрии и Голландии мы еле держимся, средства ордена уменьшаются с каждым днем. Наступает кризис… но его можно отсрочить. Так что благодаря этой громадной помощи — благодаря медалям — мы не только сможем успешно бороться, но и прочно утвердимся при содействии герцога д'Орбано… Из этого центра лучи нашего блеска распространятся во все стороны… Ах, 13 февраля, — добавил д'Эгриньи после минутного молчания, покачивая головой, — 13 февраля! Кто знает, быть может, оно будет столь же знаменательной датой, как Собор Тридцати, давший нам новую жизнь!
— Значит, надо все сделать, чтобы добиться успеха, — сказала княгиня. — Из шести опасных нам претендентов — пять повредить нам будут не в состоянии… Остается моя племянница… Вы знаете, что я ждала только вас, чтобы принять окончательное решение на ее счет… У меня все уже подготовлено, и мы начинаем действовать с сегодняшнего дня…
— А что, ваши подозрения подтвердились после вашего последнего письма?
— Да… Я убеждена, что она знает больше, чем показывает… Итак, эта девица является для нас опаснейшим врагом!
— Я всегда так думал… Поэтому-то полгода назад я и просил вас принять меры, которые вы и осуществили, подтолкнув ее к просьбе о признании ее совершеннолетней! Последствия этого облегчают нам то, что казалось раньше невозможным.
— Наконец-то будет сломлен этот неукротимый характер! — вымолвила княгиня с горькой и злобной радостью. — Наконец-то я отомщу за все дерзкие насмешки, которые мне приходилось терпеть, чтобы не возбудить ее подозрений. Я… я столько должна была переносить, потому что Адриенна употребляла все силы, чтобы восстановить меня против нее!
— Кто оскорбил вас, Эрминия, тот оскорбил и меня. Вы знаете, что ваши враги — мои враги!
— Да, и вас, мой друг, и вас сколько раз она избирала мишенью своих колких насмешек!
— Я редко ошибаюсь… я уверен, что эта девушка опасна… это серьезный враг! — прибавил маркиз коротко и сухо.
— Значит, ее надо сделать не опасной! — ответила княгиня, пристально глядя на маркиза.
— Видели вы доктора Балейнье и ее второго опекуна, Трипо? — спросил д'Эгриньи.
— Они будут здесь сегодня… Я их обо всем предупредила.
— Достаточно ли они настроены против нее?
— О, да… Адриенна доктора не опасается: он сумел сохранить ее доверие… до известной степени. Кроме того, к нам на помощь приходит еще одно обстоятельство, объяснить которое себе я никак не могу.
— Что такое?
— Сегодня утром я послала госпожу Гривуа напомнить Адриенне, что я жду ее в полдень… И вот госпоже Гривуа показалось, что она видела, как Адриенна вернулась домой с улицы, через садовую калитку.
— Что вы говорите? Да не может быть! — воскликнул маркиз. — А доказательства есть?
— Пока, кроме слов госпожи Гривуа, никаких. Но, может быть, они найдутся, — прибавила княгиня, взяв бумагу, лежавшую рядом, — в этом письменном отчете, доставляемом мне ежедневно одной из служанок Адриенны.
— Той девушки, которую поместил к вашей племяннице Роден?
— Да. И так как она вполне во власти Родена, то до сих пор служит нам верно…
Бросив взгляд на записку, госпожа де Сен-Дизье воскликнула почти с ужасом:
— Да эта девушка — просто дьявол!
— Что такое?
— Управитель проданного ею поместья в письме, где он просит ее о покровительстве, упомянул о пребывании в замке молодого индийского принца! Она знает, что он ей родня. И она написала своему старому учителю Норвалю, чтобы тот ехал на почтовых и как можно скорее привез молодого принца Джальму, отсутствие которого для нас так важно… сюда, в Париж!
Маркиз побледнел.
— Послушайте, — сказал он госпоже де Сен-Дизье, — если это не новый каприз вашей племянницы, положение очень серьезно. Она, верно, что-нибудь знает о медалях… Почему она поспешно вызывает сюда молодого родственника? Берегитесь: она может все погубить…
— Тогда, — с решимостью заявила княгиня, — мешкать нечего: надо дело завести дальше, чем мы думали… а главное — надо с этим покончить сегодня же!..
— Но это практически невозможно!
— Все возможно! Балейнье и Трипо — свои люди! — воскликнула княгиня.
— Хотя и я не менее вас уверен в них… но серьезного вопроса мы коснемся после разговора с вашей племянницей… Нам нетрудно будет узнать, как бы она ни лукавила, чего мы должны опасаться… Если наши подозрения оправдаются, если она знает больше, чем следует… то ни пощады, ни промедления! Колебаться нечего.
— Предупредили вы известное лицо? — спросила княгиня после минутного молчания.
— Он будет здесь в полдень, не позже.
— Я думаю, что говорить с Адриенной мы будем здесь, а тот господин поместится рядом, за портьерой…
— Прекрасно.
— А это человек верный?
— Вполне верный. Ему не раз уже приходилось действовать в подобных обстоятельствах. Он ловок и скромен…
В эту минуту постучали в дверь.
— Войдите, — сказала княгиня.
— Доктор Балейнье спрашивает, не может ли княгиня его принять, — доложил лакей.
— Конечно. Просите доктора.
— Пришел также какой-то господин, которому господин аббат приказал явиться в полдень. Я проводил его в молельню.
— Это тот самый человек, — оказал маркиз княгине, — надо его позвать первым: пока не нужно, чтобы доктор Балейнье его видел.
— Позовите сюда этого господина, — приказала княгиня, — а после, когда я позвоню, вы введете сюда доктора Балейнье и барона Трипо, если он явится. Затем, кроме мадемуазель Адриенны, меня ни для кого нет дома.
Лакей вышел.
6. ВРАГИ АДРИЕННЫ
Через несколько минут лакей княгини ввел в комнату маленького бледного человечка в черном платье и в очках. Он держал под мышкой довольно объемистый портфель из черной кожи.
— Господин аббат сообщил вам, в чем дело? — спросила княгиня вошедшего.
— Точно так, госпожа! — пискливым голоском отвечал тот, отвешивая низкий поклон.
— Удобно ли вам будет здесь? — спросила госпожа де Сен-Дизье, указывая посетителю на маленькую соседнюю комнатку, отделенную от кабинета портьерой.
— Вполне! — вновь с глубоким поклоном отвечал человек в очках.
— Тогда, будьте любезны, войдите сюда, месье; я дам вам знать, когда наступит время…
— Буду ждать ваших приказаний, княгиня.
— А главное, не забудьте того, что я вам говорил, — прибавил маркиз, опуская портьеру.
— Господин аббат может быть спокоен!..
Человек в очках скрылся за тяжелой портьерой. Княгиня позвонила; через несколько минут дверь отворилась, и доложили о докторе Балейнье, одном из самых важных лиц в этой истории.
Доктору было лет пятьдесят. Среднего роста, довольно полный, он имел круглое красное лоснящееся лицо. Гладко причесанные, довольно длинные седоватые волосы были разделены прямым пробором и приглажены на висках. Быть может, потому, что у него были очень красивые ноги, доктор остался верен коротким черным шелковым панталонам; золотые пряжки подвязок и башмаков из лакированной кожи ярко блестели. Черный цвет всего платья, включая и галстук, придавал ему вид почти духовного лица. Впрочем, белые пухлые руки прятались в белоснежных батистовых манжетах, и весь его костюм, несмотря на солидность, отличался изысканностью.
Доктор Балейнье обладал веселой и умной физиономией; его серые маленькие глазки выражали ум и редкую проницательность. Этот доктор, один из старейших членов конгрегации княгини де Сен-Дизье, являлся человеком вполне светским, тонким гастрономом, остроумным собеседником, предупредительным до приторности, вкрадчивым, ловким и покладистым.
Несмотря на недюжинные научные познания доктора, его никто не знал, пока княгиня, пользующаяся почти безграничной властью, причины которой были никому не известны, не достала для него сразу две выгодные медицинские синекуры, следом за которыми появилась солидная клиентура. Правда, доктор был человек очень ловкий; поступив под покровительство княгини, он сделался вдруг необыкновенно набожен и каждую неделю, у всех на виду, причащался за главной обедней в церкви св.Фомы Аквинского.
Через год больные определенного класса, увлеченные примером единомышленников и друзей госпожи де Сен-Дизье, не хотели обращаться за врачебной помощью ни к кому, кроме доктора Балейнье. От больных не было отбоя.
Понятно, что ордену было весьма важно иметь среди своих членов-экстернов популярнейшего врача в Париже. Врач — тот же духовник. Он входит в самые тесные отношения с семьей, все видит, все замечает. Ему, как и священнику, приходится слышать исповедь умирающих и больных. А когда оба врача, и души и тела, действуют заодно, то для них почти нет невозможного. Пользуясь страхом и слабостью умирающего, они от него добьются всего, не в свою пользу, конечно, — это предусмотрено законом, — а в пользу третьего, подставного лица. И неудача постигает их очень редко.
Итак, доктор Балейнье был одним из самых влиятельных и ценных членов ордена в Париже.
Войдя в комнату, он с изысканной вежливостью поцеловал руку княгине.
— Как всегда пунктуальны, милейший доктор.
— Я слишком счастлив, когда мне представляется случай вас видеть, чтобы не поторопиться им воспользоваться, княгиня… А! наконец-то я вас вижу! — воскликнул врач, обращаясь к маркизу и дружески пожимая ему руку. — Разве можно целых три месяца скрываться от друзей?.. это уж слишком!
— Поверьте, что и для меня время показалось не короче, дорогой доктор… Ну-с, наступил великий день… Сейчас явится мадемуазель де Кардовилль.
— Я не совсем спокойна, — сказала княгиня, — а вдруг она догадается?
— Никогда, — ответил врач, — мы с ней лучшие друзья в мире… Вы ведь знаете, что мадемуазель Адриенна мне всегда доверяла… и еще недавно мы с ней много смеялись… Я сделал ей при этом несколько замечаний относительно странности ее поведения и особенного возбуждения, которое меня в ней иногда поражает…
— Доктор никогда не забывает об этом упомянуть… — вставила многозначительно княгиня.
— О, конечно, это очень важно! — воскликнул маркиз.
— И мадемуазель Адриенна, — продолжал доктор, — ответила на мои замечания градом веселых и остроумных насмешек, потому что, надо признаться, эта Девушка обладает выдающимся-умом.
— Доктор, доктор! — воскликнула княгиня. — Не надо потворствовать…
Вместо ответа Балейнье достал золотую табакерку из жилетного кармана, открыл крышку, взял щепотку табака, медленно втянул ее и посмотрел на княгиню так выразительно, что она совершенно успокоилась.
— Я потворствую! Я, мадам! — вымолвил он наконец, изящно смахивая своей белой, выхоленной рукой табак со складок манишки. — Да разве я не сам, не добровольно предложил свои услуги, чтобы вывести вас из затруднительного положения?
— И никто, кроме вас, не может оказать нам эту важную услугу, — заметил маркиз.
— Ну, так вы могли бы убедиться, что я не из увлекающихся людей, — продолжал доктор, — и хорошо знаю, что от меня требуется… Но, принимая во внимание, что дело идет о важнейших интересах…
— Необыкновенно важных, доктор! — подтвердил д'Эгриньи.
— …то я и не колебался, — продолжал Балейнье. — Так что будьте спокойны; это ничего, что я в качестве человека светского и обладающего хорошим вкусом отдаю справедливость уму и изяществу Адриенны; это мое право… Но что касается дела… вы увидите, умею ли я его делать! Пусть только настанет время…
— Быть может, оно наступит скорее, чем мы думали, — заметила княгиня, обмениваясь взглядом с д'Эгриньи.
— Я всегда готов! — сказал доктор. — Что касается себя самого, я совершенно спокоен… Но я хотел бы быть спокоен во всех отношениях.
— Разве ваша больница уже не в моде? — слегка улыбаясь, заметила княгиня. — Насколько, конечно, больница может быть в моде!
— Напротив… у меня, пожалуй, слишком много больных! Я говорю не об этом. Пока не пришла мадемуазель Адриенна, я сообщу вам нечто, непосредственно ее не касающееся, хотя речь идет об особе, купившей у нее поместье Кардовилль, о госпоже де-ла-Сент-Коломб, при которой я состою врачом благодаря искусным ходам Родена.
— Мне Роден что-то об этом писал, — заметил д'Эгриньи, — но в подробности не входил.
— Вот в чем дело, — начал доктор. — Эта госпожа де-ла-Сент-Коломб, казавшаяся такой податливой, весьма упорствует в деле своего обращения… Два духовника отказались уже привести ее на путь спасения. С отчаяния Роден решился к ней приставить маленького Филипона. Это именно такой человек, какого нужно… ловкий, упрямый, безжалостный и терпеливый… необыкновенно терпеливый! Сделавшись врачом госпожи де-ла-Сент-Коломб, я, естественно, условился обо всем с Филипоном, просившим моей помощи… Мы уговорились повести дело так, будто я совершенно его не знаю… Между тем он должен был давать мне подробный отчет о нравственном состоянии духа его духовной дочери, причем я с помощью безвредных лекарств (так как она страдает только легким недомоганием) мог производить известное давление и, изменяя симптомы по своей воле, согласовывать их с тем, доволен или недоволен ею ее духовник. Это давало ему возможность настаивать: «Видите, мол, сударыня, когда вы обращаетесь к Богу, вам и лучше, а когда не исполняете того, что вам велит религия, то и в здоровье вашем появляется перемена к худшему, — явное доказательство того, что сила веры действует не только на душу, но и на тело!»
— Конечно, неприятно и тяжело прибегать к таким мерам, — совершенно спокойно заметил д'Эгриньи, — но надо же вырывать жертвы из пасти ада и соразмерять свои действия со степенью развития упрямцев.
— Впрочем, — продолжал доктор, — княгиня видала в монастыре св.Марии самые плодотворные для душевного спокойствия и спасения некоторых из наших пациенток последствия этого метода. Средства избираются весьма невинные и только слегка влияют на состояние здоровья, а результаты получаются иногда поразительные… Так было и с госпожой де-ла-Сент-Коломб. Она находилась уже на пути к полному душевному и телесному исцелению, так что Роден решил, боясь соблазнов Парижа, чтобы Филипон уговорил ее ехать в деревню. Советы последнего, а также желание играть в провинции роль дамы-покровительницы побудили ее выгодно купить поместье Кардовилль… Но вдруг вчера приходит известие от несчастного Филипона, что эта особа готова снова впасть в состояние, близкое к гибели… Речь идет о душе, конечно, потому что здоровье, к несчастью, совершенно поправилось. И это ее возвращение к погибели произошло после беседы с неким Жаком Дюмуленом, которого, говорят, вы, дорогой аббат, знаете… Не понимаю, каким путем он к ней пробрался…
— Жак Дюмулен, — с отвращением проговорил маркиз, — это один из тех людей, помощь которых бывает иногда необходима, хотя, кроме презрения, они ничего внушить не могут. Он пишет; желчь, зависть и злоба сообщают его перу известного рода силу и грубое красноречие… Мы часто его нанимаем для нападения на врагов и хорошо его оплачиваем, хотя жаль использовать столь низкое орудие для защиты высоких принципов… Этот мерзавец ведет богемную жизнь… шляется по кабакам, вечно пьяный… Но надо сознаться, что он неистощим в красноречивой грубой брани… и хорошо знает богословие, что делает его очень полезным для нас…
— Ну… недурно было бы сообщить Родену, что, несмотря на шестидесятилетний возраст госпожи де-ла-Сент-Коломб, этот Дюмулен, зная о ее огромном богатстве, имеет намерение вовлечь ее в брачный союз. Надо, я думаю, принять меры против его происков… Однако тысяча извинений, что я так долго занимал вас такими глупостями… Кстати, мы упомянули о монастыре св.Марии… вы давно там не были, княгиня?
Княгиня обменялась с аббатом быстрым взглядом и отвечала:
— Но, право, не помню… с неделю назад, я думаю.
— Там много перемен: стену между монастырем и моей больницей сломали… там будут строить новую часовню: старая слишком мала. И мадемуазель Адриенна, — прибавил доктор со странной улыбкой, — была так мила и любезна, что обещала мне для этой часовни копию с «Мадонны» Рафаэля.
— Очень кстати… — заметила княгиня. — Однако скоро полдень, а Трипо все еще нет!
— Между тем его присутствие необходимо, — заметил с беспокойством маркиз, — он второй опекун мадемуазель де Кардовилль и заведует ее делами в качестве поверенного в делах покойного герцога. Было бы очень желательно, чтобы он пришел сюда раньше Адриенны… а она скоро явится.
— Жаль, что его портрет не может его заменить здесь… — лукаво улыбаясь, заметил доктор, вытаскивая из кармана небольшую брошюру.
— Что это, доктор? — спросила княгиня.
— А это один из анонимных памфлетов, появляющихся время от времени в публике… Он озаглавлен «Бич», и в нем заключается поразительно верный портрет барона Трипо, причем сходство так велико, что перестает быть сатирой, а становится действительностью. Послушайте лучше. Название этого очерка следующее: «Тип дельца-барышника. Барон Трипо». Он настолько же низок и подобострастен с высшими, как груб и нахален с низшими и от него зависящими. В этом человеке живо воплощается тип той отвратительной части буржуазной и промышленной аристократии, которую называют дельцами; это циничный спекулянт без сердца, без веры, без убеждений, способный играть на понижение или на повышение жизнью родной матери, если бы она имела какую-нибудь биржевую ценность. В таком человеке заключаются все отвратительнейшие качества выскочки, добившегося известного обогащения не честным, терпеливым и достойным трудом, а капризом случая и уженьем рыбы в мутных волнах биржевой игры. Достигнув удачи, подобные люди относятся к народу с ненавистью, потому что краснеют за свое происхождение. Чтобы оправдать свой варварский эгоизм, они готовы беспощадно оклеветать простых людей, испытывающих ужасную нищету, обвиняют их в лени и разврате.
Это еще не все. С высоты своего туго набитого сундука, пользуясь двойным правом — избирателя и избираемого, барон Трипо, как и многие другие, оскорбляют бедность и политическую недееспособность несчастного офицера, который после сорока лет военной службы еще существует на крошечную пенсию; судью, всю жизнь трудившегося на неблагодарном поприще и так же скудно вознагражденного; ученого, прославившего страну своими трудами, или профессора, указывавшего целому ряду поколений путь к знанию; скромного и добродетельного сельского священника, самого чистого представителя евангельской истины, в самом милосердном, братском и демократическом ее значении. И так далее, и так далее.
При таком положении вещей как же не потешаться этому промышленнику-барону над глупой толпой честных людей, которые, отдав стране молодость, зрелость, кровь, ум, знания, видят, что им отказывают в правах, которыми пользуется он, потому что он выиграл миллион в запрещенную законами игру — или с помощью нечестных средств!
Впрочем, оптимисты утешают этих несчастных и достойных бедняков, этих парий нашей цивилизации, советом: купите землю, и вы получите избирательные права!
Перейдем теперь к биографии нашего барона. Андрэ Трипо, сын конюха…»
В эту минуту дверь распахнулась, и слуга громким голосом доложил:
— Господин барон Трипо!
Доктор положил брошюрку в карман и сердечно приветствовал финансиста. Он даже приподнялся, чтобы пожать ему руку. Барон еще от самых дверей начал отвешивать поклоны.
— Имею честь явиться по приказанию ее сиятельства княгини… Всегда готов к ее услугам.
— Да, я на вас рассчитываю, господин Трипо, особенно в данном случае.
— Если намерения княгини относительно мадемуазель де Кардовилль не изменились…
— Нисколько. По этому-то случаю мы сегодня и собрались здесь.
— Княгиня может быть уверена, что я всегда готов ей помочь, как обещал… И если необходимо употребить строгие меры… и даже, если нужно…
— Мы совершенно с вами согласны, — прервал его маркиз торопливо; он глазами указал княгине на портьеру, за которой сидел господин в очках, — мы совершенно с вами согласны, — продолжал он, — но нам надо условиться, чтобы интересы этой молодой особы были вполне соблюдены. Все, что мы предпринимаем, все это делается для нее, для ее же пользы… Надо вызвать ее на откровенность… это необходимо.
— Мадемуазель Адриенна спрашивает, может ли княгиня ее принять, — явился снова с докладом лакей.
— Скажите мадемуазель, что я ее жду, — сказала княгиня. — А затем меня ни для кого, без исключения, ни для кого нет дома.
Взглянув за портьеру, княгиня сделала скрытому за ней господину знак и вернулась на свое место.
Странное дело: казалось, все эти люди, ждавшие Адриенну, чего-то тревожились, как будто они ее побаивались. Через несколько секунд Адриенна вошла в кабинет тетки.
7. СТЫЧКА
Войдя в комнату, мадемуазель Де Кардовилль бросила на (Кресло свою серую шляпу, и все увидели золотистые волосы, свитые сзади толстым узлом, а спереди падавшие каскадом длинных золотых локонов по обеим сторонам лица. В манерах Адриенны не было вызывающей смелости, но они были вполне непринужденны и свободны. На лице играла веселая улыбка, и черные глаза блестели, казалось, больше, чем обыкновенно.
Заметив аббата д'Эгриньи, молодая девушка не удержалась от жеста удивления, и слегка насмешливая улыбка мелькнула на ее алых губах. Кивнув дружески головой доктору и не обратив ни малейшего внимания на барона Трипо, мадемуазель де Кардовилль, подойдя к тетке, сделала ей почтительный реверанс.
Несмотря на то, что весь вид и походка Адриенны были необыкновенно благородны, грациозны и женственны, во всей ее фигуре чувствовалось нечто свободное, гордое и независимое, нечто, несомненно, отличавшее ее от других женщин, особенно от девушек ее лет. Манеры ее, совсем не резкие, характеризовались непринужденностью и естественностью и, казалось, носили на себе отпечаток ее прямого, открытого характера. Чувствовалось, что в этой девушке ключом кипит здоровая молодая жизнь и что никакими силами нельзя подчинить условному ригоризму эту непосредственную, честную и решительную натуру.
Маркиз д'Эгриньи, человек светский, замечательного ума, проповедник, известный красноречием, умеющий властвовать и покорять; но — странное дело! — несмотря на все эти качества, маркиз чувствовал себя очень неловко, стеснялся и почти страдал в присутствии Адриенны де Кардовилль. Он, так мастерски владевший собой, привыкший к неограниченному влиянию на других, говоривший от имени ордена как равный со многими коронованными особами, — он терялся и чувствовал смущение в присутствии девушки, отличавшейся откровенностью, прямотой, злой и едкой иронией… Подобно всем людям, привыкшим повелевать, он готов был ненавидеть тех людей, которые не только не подчинялись его влиянию, но противились ему и высмеивали его; понятно, что маркиз не мог питать симпатии к племяннице княгини де Сен-Дизье. Поэтому давно уже, вопреки своему обыкновению, не тратил маркиз своего красноречия, не пытался пленить Адриенну, несмотря на то, что в нем заключалось почти непреодолимое обаяние. Напротив, он был с ней всегда сух, резок, серьезен и скрывал все свои обольстительные качества под ледяной оболочкой высокомерного достоинства и суровой строгости. Адриенну это очень занимало, и неосторожная девушка подшучивала над аббатом, не зная, что иногда самая незначительная мелочь может служить почвой для возникновения непримиримой вражды.
Легко понять после этого предисловия, какие чувства волновали каждого из действующих лиц этой сцены.
Княгиня сидела в большом кресле у камина.
Аббат стоял возле него.
Доктор Балейнье за письменным столом перелистывал биографию барона Трипо.
Сам барон, казалось, внимательно изучал картину на библейский сюжет, висевшую на стене.
— Вы желали меня видеть, тетушка, чтобы побеседовать о каких-то важных делах? — спросила Адриенна, прерывая воцарившееся при ее входе неловкое молчание.
— Да, мадемуазель, — ответила княгиня очень строго и холодно, — дело весьма важное и требует серьезного разговора.
— Як вашим услугам… Не перейти ли нам в библиотеку?
— Незачем. Мы будем говорить здесь. — Затем, обращаясь к маркизу, доктору и барону, княгиня прибавила: — Прошу вас садиться, господа.
Мужчины сели около стола.
— Помилуйте, тетушка, но какое дело этим господам до нашего разговора? — с изумлением спросила Адриенна.
— Это старые друзья нашей семьи. Их интересует все, что касается вас, и вы должны с благодарностью принимать и выслушивать их советы…
— Я не сомневаюсь, тетушка, в искренней любви к нашей семье маркиза д'Эгриньи; еще меньше подлежит сомнению бескорыстная преданность господина Трипо; доктор — один из моих старых друзей, все это так… Но прежде чем согласиться, чтоб они были зрителями или, если вам угодно, поверенными нашей беседы, я желала бы знать, о чем пойдет речь.
— Я думала, что среди всех ваших странных притязаний вы хоть одним владеете по праву. Вы выдавали себя за особу смелую и прямую.
— Ах, тетушка, — с насмешливым смирением проговорила Адриенна, — я не больше претендую на прямоту и смелость, чем вы на искренность и доброту… Примиримся раз и навсегда на том, что мы именно таковы, какими являемся на самом деле… без всяких претензий.
— Положим, что так, — сухо сказала княгиня. — Я ведь давно привыкла к выходкам вашего независимого ума. Но мне кажется, если вы так смелы и прямы, как утверждаете, то вы, верно, не побоитесь сказать в присутствии этих господ, достойных уважения, то, что сказали бы мне наедине…
— Значит, я должна подвергнуться настоящему допросу? По поводу чего?
— Никакого допроса нет. Поскольку я имею право заботиться о вас и так как я слишком долго потворствовала вашим капризам… я решила положить конец всему этому. Все и так слишком затянулось. Я хочу теперь же, в присутствии наших друзей, заявить вам свое непоколебимое решение относительно будущего… У вас до сих пор ложное и весьма неполное представление относительно той власти, которую я над вами имею.
— Уверяю вас, что у меня об этом нет никакого представления, ни правильного, ни ложного: я никогда об этом не думала.
— В этом я виновата. Я должна была, вместо снисходительности ко всем вашим фантазиям, дать вам почувствовать свою власть. Но теперь наступило время, когда вы должны будете покориться. Строгое порицание друзей вовремя открыло мне глаза… Вы обладаете независимым, решительным и цельным характером. Нужно, чтобы он изменился, вы слышите? И он изменится — хотите вы того или нет, в этом я вам ручаюсь.
При этих словах, высказанных так резко в присутствии посторонних людей, Адриенна с гордостью подняла, было, голову, но затем сдержалась и возразила, улыбаясь:
— Вы говорите, тетушка, что я изменюсь… Что ж тут удивительного? Случались более странные… превращения?
Княгиня закусила губы.
— Искреннее обращение никогда не бывает странным, мадемуазель, — холодно заметил аббат, — напротив, оно заслуживает похвалы и достойно подражания.
— Подражания?.. Ну, не всегда, — возразила Адриенна, — а если недостатки превращаются… в пороки…
— Что хотите вы этим сказать? — воскликнула княгиня.
— Я говорю о себе, тетушка! Вы мне ставите в вину, что я независима и решительна… Что, если я сделаюсь злой и лицемерной?.. Нет, знаете… я лучше останусь со своими маленькими недостатками… Я к ним привыкла… и даже люблю их, как избалованные дети… Я знаю, что имею, но не знаю, что могла бы приобрести!..
— Однако, мадемуазель Адриенна, — нравоучительно и самодовольно заговорил барон Трипо, — вы не можете же отрицать, что обращение…
— Я вполне уверена, что господин Трипо — знаток в обращении всеми способами любой вещи в выгодную аферу, — сухим и презрительным тоном оборвала его Адриенна: — но этого вопроса он не должен касаться!
— Однако позвольте, сударыня, — возразил финансист, черпая мужество во взгляде княгини, — вы, кажется, забываете, что я ваш опекун… и могу…
— Действительно; и я даже не знаю, почему господин Трипо имеет честь быть моим опекуном, — с удвоенным высокомерием продолжала Адриенна, не глядя на барона. — Но дело здесь не в разгадывании загадок, а я желала бы знать истинную причину этого собрания. Что это значит, тетушка?
— Сейчас узнаете, мадемуазель, я объясню все ясно и точно. Сейчас вы узнаете, как вы с этих пор должны себя вести; а если вы вздумаете противиться моим требованиям, уважать и исполнять которые вы обязаны… то я посмотрю, что мне делать…
Невозможно передать властность и резкость тона княгини, которые должны были, конечно, вызвать бурный взрыв негодования в молодой, самостоятельной девушке. Однако Адриенна, может быть, наперекор ожиданиям тетки, сдержалась и, вместо того чтобы ответить резкостью, пристально на нее взглянула и промолвила, улыбаясь:
— Да это настоящее объявление войны! Право, становится даже забавно…
— Тут дело не в объявлении войны, — грубо заметил аббат, задетый тоном и словами мадемуазель де Кардовилль.
— Ай-ай-ай, господин аббат, — возразила Адриенна, — для бывшего военного вы слишком строго относитесь к шутке… А ведь вы войне обязаны многим… Благодаря ей вам удалось командовать французским полком после того, как вы так долго воевали с Францией в рядах ее врагов… конечно, с целью изучить их слабые стороны!..
При этих словах, напомнивших ему о вещах неприятных, маркиз покраснел и хотел ответить, но княгиня его перебила, воскликнув:
— Однако, мадемуазель, это просто немыслимо!..
— Такая дерзость…
— Извините, тетушка, я сознаюсь в своей ошибке. Забавного тут нет ничего. Но любопытно очень… и даже, быть может, отчасти смело… а смелость я люблю… Итак, мы можем приступить к обсуждению образа поведения, которого я должна держаться под страхом…
Обращаясь к княгине, Адриенна прибавила:
— Под страхом чего, тетушка?
— Узнаете. Продолжайте.
— Я также сейчас при этих господах выскажу вам как можно более точно и ясно, к какому решению я пришла… Для того чтобы оно стало исполнимо, мне требовалось время, и я вам пока ни о чем не говорила… Вы знаете, я никогда не говорю: я сделаю это… И говорю: я делаю или уже сделала!
— Знаю. Эту-то преступную независимость я и решила сломить.
— Итак, я хотела сообщить вам свое решение позднее… Но не могу себе отказать в удовольствии открыть вам свой план сегодня же… Мне кажется, вы особенно расположены теперь его одобрить и принять… Однако я попрошу вас говорить первой, раньше меня… Быть может, мы пришли к совершенно одинаковому решению…
— Вот так-то лучше, — сказала княгиня, — я вижу по крайней мере, что у вас достаточно смелости признаться в вашей неукротимой гордости и презрении ко всякой власти. Вы говорите об отваге… у вас ее много!
— Да, я по крайней мере решилась сделать то, на что другие, к несчастью, по слабости не осмелятся решиться. Я же осмелюсь… Кажется, это довольно ясно и точно?..
— Очень четко, очень точно, что и говорить, — сказала княгиня, обмениваясь с присутствующими многозначительным и довольным взглядом, — когда позиции сторон ясны, гораздо легче сговориться. Только я должна вас предупредить, в ваших же интересах, что все это очень серьезно, более серьезно, чем вы предполагаете… и что заслужить мое снисхождение вы можете только тогда, когда вместо обычного вашего дерзкого и ироничного тона вы будете говорить скромно и почтительно, как подобает девушке ваших лет.
Адриенна улыбнулась, но промолчала.
Переглядывания княгини и ее друзей и наступившее молчание доказывали, что за этими предварительными, более или менее блестящими стычками начнется серьезная битва. Мадемуазель де Кардовилль была слишком умна и проницательна, чтобы не заметить, что ее тетка придавала огромное значение этому решительному разговору. Одного девушка не могла понять: каким путем надеялась княгиня добиться ее повиновения. Угрозы и наказания казались ей неправдоподобными и смешными. Но, вспомнив о мстительном характере тетки, о ее таинственной власти, об ужасных средствах мщения, к которым она иногда прибегала, наконец, сообразив, что маркиз и доктор, благодаря уже своему положению, никогда не согласились бы присутствовать при таком разговоре, если дело не касалось чего-то очень важного, и приняв все это во внимание, Адриенна призадумалась, прежде чем начать борьбу. Впрочем, очень скоро, может быть, потому, что она чуяла какую-то неведомую опасность, девушка решилась, откинув всякую слабость, на упорную, отчаянную схватку, желая во что бы то ни стало настоять на исполнении того решения, о котором она хотела объявить своей тетке.
8. БУНТ
— Лично для себя, а также и для этих господ, — обратилась к Адриенне княгиня строгим и холодным тоном, — я считаю необходимым напомнить в немногих словах о том, что произошло еще не так давно. Полгода тому назад, по окончании вашего траура, когда вам минуло восемнадцать лет, вы высказали желание самой управлять вашим состоянием и вести самостоятельную жизнь… К несчастью, я проявила слабость и согласилась на это… Вам угодно было оставить мой дом и переселиться в павильон, подальше от моей опеки. С этого времени начинается безрассуднейшее расточительство. Вместо того чтобы удовлетвориться одной или двумя обыкновенными горничными, вы набрали себе каких-то девиц-компаньонок и обрядили их в самые нелепые и дорогие одежды. Правда, вы и сами в тиши вашего павильона меняли беспрестанно разные костюмы прошлых веков… Ваши безумные фантазии, сумасшедшие капризы, казалось, не имели ни границ, ни лимитов. Мало того, что вы не исполняли требуемых церковью обрядов, но еще имели святотатственную дерзость воздвигнуть в одной из зал языческий алтарь и поставили на него какую-то мраморную группу, изображающую молодого мужчину и молодую девушку (княгиня произнесла эти слова так, точно они жгли ей губы)… Быть может, это и высокое произведение искусства… но, во всяком случае, непригодное для комнаты девушки вашего возраста. Вы целые дни проводили у себя дома, запершись и приказав никого не принимать, а доктор Балейнье, единственный из моих друзей, к которому вы еще сохранили какое-то доверие, находил вас, — когда после настойчивых просьб его до вас допускали, — в состоянии исключительного нервного возбуждения, заставлявшего его тревожиться относительно вашего здоровья. Вы выходили всегда одна и не хотели никому давать отчета в своих поступках… Наконец, вы с особенным удовольствием старались делать все наперекор моим желаниям… Правда ли все это?
— Портрет не особенно лестный, — заметила, смеясь, Адриенна, — но отрицать в нем некое сходство нельзя!
— Итак, мадемуазель, — особенно веско и многозначительно начал аббат д'Эгриньи, — вы сознаетесь, что все факты, сообщенные вашей тетушкой, вполне достоверны?
Взгляды всех собеседников с особым вниманием устремились на Адриенну, как бы считая ее ответ необыкновенно важным.
— Конечно, месье; впрочем, я живу так открыто, что этот вопрос, по-моему, излишен…
— Значит, достоверность фактов признана, — обратился аббат к доктору и барону.
— Мы убедились в их достоверности! — удовлетворенно заметил барон.
— Могу я узнать, тетушка, к чему это длинное предисловие? — сказала Адриенна.
— Это длинное вступление, — с достоинством отвечала княгиня, — нужно для того, чтобы, вспомнив прошлое, обосновать будущее.
— Ну это, милая тетушка, что-то во вкусе таинственных предсказаний кумской сивиллы: под этим должно крыться нечто ужасное.
— Возможно, потому что для некоторых натур ничего не может быть ужаснее и страшнее послушания и исполнения долга… а именно вы и принадлежите к подобным натурам, склонным к возмущению…
— Надо признаться — это так! И, верно, я до той поры не изменюсь, пока не наступит время, когда я буду в состоянии любить повиновение и уважать долг…
— Мне все равно, как вы будете относиться к моим приказаниям, — резко и отрывисто прервала ее речь княгиня, — мне достаточно, чтобы они были исполнены. С сегодняшнего же дня вы обязаны покоряться и слепо мне повиноваться. Вы не смеете ничего делать без моего приказания, слышите? Так должно быть, я этого хочу, и так будет.
Адриенна сначала пристально посмотрела на тетку, а затем разразилась взрывом смеха, свежий и серебристый звук которого долго звенел в большой комнате. Д'Эгриньи и Трипо с негодованием пожали плечами.
Княгиня с гневом посмотрела на племянницу.
Доктор поднял глаза к небу и, сокрушенно вздохнув, сложил руки на брюшке.
— Подобный смех неприличен, мадемуазель, — сказал аббат д'Эгриньи. — Слова вашей тетушки серьезны, очень серьезны и заслуживают иного к ним отношения.
— Да кто же в этом виноват, — говорила Адриенна, стараясь сдержать свою веселость, — кто виноват, что я так смеюсь? Разве я могу оставаться равнодушной, когда тетушка говорит мне о слепом повиновении ее приказам?.. Разве может ласточка, привыкшая свободно летать по поднебесью и купаться в солнечных лучах… разве может она жить в норе крота?
Д'Эгриньи сделал вид, что ничего не может понять в этом ответе, и удивленно взглянул на участников собрания.
— Ласточка? Что она хочет этим сказать? — спросил аббат барона, делая последнему знак, который тот хорошо понял.
— Не знаю… что-то говорят о кроте, — глядя, в свою очередь, на доктора, повторил барон. — Непонятно… бессмысленно…
Княгиня, казалось, разделяла общее изумление.
— Итак, это все, что вы мне можете сказать в ответ?
— Несомненно, — отвечала Адриенна, удивленная тем, что все делали вид, будто не понимают ее образного сравнения, обычного в ее поэтическом, красочном языке.
— Ну, княгиня, полноте, — добродушно улыбаясь, заметил Балейнье, — надо быть поснисходительнее… Наши Адриенна ведь такая горячая, взбалмошная головка!.. Право, это прелестнейшая сумасбродка из всех, каких я знаю… Я ей тысячу раз это говорил на правах старого друга, которому многое дозволено…
— Я понимаю, что пристрастие к мадемуазель Адриенне заставляет вас снисходительно относиться к ее выходкам; — промолвил аббат как бы в упрек доктору, казалось ставшему на сторону мадемуазель де Кардовилль. — Но согласитесь, что это более чем странные ответы на очень серьезные вопросы!
— К несчастью, мадемуазель не понимает всей важности нашего собрания, — резко заявила княгиня. — Быть может, теперь, когда я выскажу ей свои приказы, она поймет это.
— Нельзя ли поскорее, тетушка?
И Адриенна, сидевшая на другом конце стола, против тетки, очаровательно и насмешливо оперлась подбородком на свою точеную руку и, казалось, с нетерпением ждала, что ей скажут.
— С завтрашнего дня, — начала княгиня, — вы покинете ваш павильон, отошлете ваших девушек… займете две комнаты в этом доме, пройти в которые можно только через мои покои… Вы не сделаете одна ни шагу, вы станете посещать со мной все церковные службы; управлять своим имуществом до совершеннолетия вы не будете, а относительно срока его наступления мы решим на семейном совете. Пока же я буду заботиться о вашем туалете: он будет скромен и приличен, как подобает… денег в руках у вас не будет… Вот вам мои приказания и моя воля…
— И, кроме полного одобрения, они ничего не заслуживают, — сказал барон. — Можно только пожелать, чтобы вы проявили полнейшую твердость. Пора положить конец всем этим сумасбродствам…
— Самое время покончить с этими скандалами… — прибавил аббат.
— Но оригинальность ума… возбужденный, пылкий нрав могут служить, мне кажется, извинением… — скромно и боязливо вымолвил доктор.
— Конечно, господин доктор, — сухо обратилась княгиня к Балейнье, превосходно игравшему свою роль, — но с таким характером поступают так, как он того заслуживает.
Госпожа де Сен-Дизье говорила с такой твердой уверенностью, что, казалось, она не сомневалась в возможности привести в исполнение то, чем угрожала племяннице… Трипо и д'Эгриньи вполне с ней соглашались, и Адриенна начала догадываться, что дело затеяно весьма серьезное. Ее веселость сменилась тогда горькой иронией и выражением возмущенной независимости; она вскочила с места, слегка покраснев, глаза ее заблистали гневом, розовые ноздри раздулись и, гордым движением головы тряхнув своими золотистыми вьющимися локонами, после минутного молчания она резким тоном сказала тетке:
— Вы говорили о прошлом… Этим вы заставили меня, к моему глубокому сожалению, коснуться его… Вы правы, я оставила ваш дом… Я больше не могла жить в атмосфере низкого коварства и лицемерия… Вот почему я ушла…
— Мадемуазель, — воскликнул д'Эгриньи, — ваши слова дерзки и безумны!..
— Раз вы меня прервали, господин аббат, позвольте мне сказать вам два слова… — возразила с живостью Адриенна, пристально глядя на д'Эгриньи, — скажите, какой пример я могла почерпнуть в доме моей тетки?
— Самый лучший пример.
— Самый лучший? Это не пример ли ее обращения на путь истины, обращения, сходного с вашим обращением?
— Вы забываетесь! — побледнев от гнева, воскликнула княгиня.
— Я не забываюсь: я только не забываю… как и все… У меня не было ни одной родственницы, которая могла бы меня приютить: вот почему я захотела жить одна… Я стала сама тратить свои деньги… Но это потому, что я предпочла их тратить на себя, чем отдавать их на расхищение г-ну Трипо.
— Мадемуазель! — воскликнул барон… — Как вы осмеливаетесь…
— Довольно, — с жестом глубокого презрения прервала его Адриенна, — довольно, я говорю о вас… но не с вами… Итак, — продолжала она, — я стала тратить свои деньги по собственному вкусу: я украсила выбранное мною помещение; вместо безобразных, неловких служанок я нашла себе в прислужницы бедных, но хорошеньких и благовоспитанных девушек: ввиду того, что их воспитание не позволяло им покоряться тому унизительному обращению, с которым относятся обыкновенно к служанкам, я старалась быть с ними доброй и внимательной: они мне не служат, а оказывают услуги; я им плачу деньги, но испытываю, кроме того, признательность… Конечно, вам непонятны все эти тонкие оттенки… я это знаю. Любя все прекрасное и молодое, я придумала им хорошенькие туалеты, подходящие к их миленьким личикам. Относительно моих туалетов: мне кажется, никому до этого нет дела, кроме моего зеркала. Я выхожу одна, потому что люблю идти, куда хочу. Я не посещаю обеден… да, это правда: но если бы была жива моя мать, я объяснила бы ей свои верования, и знаю, что она в ответ наградила бы меня нежным поцелуем… У меня в комнате стоит языческий алтарь в честь юности и красоты… Но это потому, что я поклоняюсь Создателю во всех его дивных творениях… во всем, что Он создал прекрасного, честного, доброго, великого. Я всегда, и днем и ночью, из глубины сердца твержу одну молитву: благодарю тебя, Господи, благодарю!.. Вы говорите, что господин Балейнье часто заставал меня в возбужденном состоянии… Это правда, да… Но это случалось потому, что в эти минуты, отбросив мысли обо всем гадком, низком и злом, что делает для меня таким горьким мое настоящее, я уносилась мечтой в будущее… И тогда мне открывались такие дивные горизонты… я видела такие ослепительно чудные виденья, что невольно приходила в какой-то божественный экстаз… я не принадлежала более земле…
Лицо Адриенны совершенно преобразилось при этих словах, высказанных с пылким увлечением: оно казалось сияющим; чувствовалось, что для девушки в эту минуту не существовало окружающего.
— Это потому, — продолжала она, все более и более возбуждаясь, — что в эти минуты я дышала чистым, животворящим воздухом свободы… Да… воздухом свободы, укрепляющим тело, драгоценным для души!.. Да, в эти минуты я видела женщин, моих сестер… не униженных эгоистичным господством, тем грубым и переходящим в насилие господством, которому они обязаны всеми соблазнительными пороками рабства; господством, прививающим обольстительную лживую кокетливость, пленительное коварство, притворную ласковость, обманчивое смирение, злобную покорность… Нет!.. я видела моих сестер, благородных сестер, спокойными и чистосердечными, потому что они были свободны… Я видела их верными и преданными, потому что им был предоставлен свободный выбор… Я видела их чуждыми высокомерию и угодливости, потому что над ними не было господина, которому нужно была бы льстить… Я видела их, наконец, любимыми, уважаемыми и оберегаемыми, потому что они имели право вырвать из бесчестных рук свою честно данную руку! О сестры мои! дорогие мои сестры!.. Я чувствую и верю, что это не обманчивые, утешительные мечты… Нет, это святые надежды, которые должны когда-нибудь исполниться!
Увлеченная помимо воли этими горячими словами, Адриенна должна была замолкнуть на минуту, чтобы вернуться к действительности. Она не заметила, как радостно сияли лица ее слушателей, переглядывавшихся друг с другом.
— Послушайте, да ведь это великолепно! — шепнул на ухо княгине сидевшей с ней рядом доктор, — она не могла бы лучше говорить, если бы была заодно с нами!
— Ее можно довести до нужного нам состояния, раздражая резкостью, — прибавил д'Эгриньи.
Но, казалось, гневное возбуждение Адриенны мгновенно улеглось, как только ее речь коснулась тех возвышенных чувств, которые она испытывала. И, обратясь к доктору, она заговорила с ним улыбаясь:
— Признайтесь, доктор, что нет ничего смешнее, чем высказывать определенные мысли в присутствии людей, которые не способны их понять. Теперь-то вам представляется случай поднять меня на смех за ту возбужденность ума, которую вы мне так часто ставите в упрек. Позволить себе так увлечься в такую важную минуту! А минута несомненно важная! Но что делать… Когда мне в голову западет какая-нибудь мысль, мне так же трудно устоять против того, чтобы ее не развить, как трудно было в детстве удержаться, чтобы не побежать за летящей мимо бабочкой…
— И Бог знает, куда вас заведут все эти пестрые, блестящие бабочки, появляющиеся в вашей голове. Безумная девочка… безумная головка! — отеческим и снисходительным тоном сказал Балейнье, улыбаясь. — Когда же эта головка сделается настолько же разумной, насколько она прелестна?
— А вот сейчас, доктор, — возразила Адриенна, — вы увидите, что я перейду к действительности, забуду свои грезы и заговорю о вещах реальных.
Обращаясь к тетке, Адриенна прибавила:
— Вы сообщили мне вашу волю, мадам; теперь моя очередь: менее чем через неделю я оставлю павильон и перейду жить в отделанный по моему вкусу собственный дом. Жить я там буду, как хочу… У меня нет ни отца, ни матери, и я ни перед кем не обязана отчитываться в своих поступках.
— Вы говорите вздор, — пожимая плечами, возразила княгиня, — вы, кажется, забыли, что у общества есть свои неоспоримые нравственные права, которыми мы сумеем воспользоваться… будьте в этом уверены!
— Вот как! Значит, вы милейшая тетушка, господин д'Эгриньи и господин Трипо, вы являетесь представителями общественной нравственности?.. Изобретательно, нечего сказать! Не потому ли, что господин Трипо смотрел на мои деньги как на свою собственность? Не потому ли…
— Однако позвольте!.. — прервал ее Трипо.
— Я сейчас, мадам, — продолжала Адриенна, обращаясь к тетке, не отвечая барону ни слова, — поскольку представился случай, задам вам несколько вопросов, касающихся неких моих интересов, которые до сих пор от меня скрывали…
При этих словах Адриенны д'Эгриньи и княгиня вздрогнули. Они обменялись тревожным и смущенным взглядом.
Адриенна не заметила этого и продолжала:
— Но сначала, чтобы покончить с предъявленными мне вами требованиями, вот мое последнее слово. Я буду жить так, как мне заблагорассудится… Не думаю, чтобы мне навязали такое унизительное и жестокое опекунство, каким вы угрожаете, если бы я была мужчиной и вела бы ту честную, свободную и благородную жизнь, какой до сих пор была моя жизнь…
— Но это безумная, нелепая идея! — воскликнула княгиня. — Желать жить так — значит доводить до последней границы забвение всех законов стыдливости: допускать такой разврат немыслимо!
— Позвольте, — возразила Адриенна, — но как же живут бедные девушки из народа, такие же сироты, как и я? Они ведь одиноки и свободны; какого же мнения вы о них? Несмотря на то, что они не получили, как я, такого воспитания, которое возвышает ум и очищает сердце, несмотря на то, что у них нет защищающего от дурных соблазнов богатства, какое имею я, — живут же они, честно и гордо перенося всякие лишения!
— Для этих каналий не существует ни порока, ни добродетели! — с гневом и ненавистью воскликнул Трипо.
— Княгиня, вы выгнали бы лакея, осмелившегося в вашем присутствии так выразиться, — обратилась Адриенна к тетке, будучи не в состоянии сдержать своего отвращения, — а меня вы заставляете выслушивать подобные вещи?
Маркиз д'Эгриньи толкнул под столом барона, забывшегося до того, что в салоне княгини он заговорил языком биржевых маклеров; чтобы загладить грубость Трипо, аббат сказал с особенной живостью:
— Не может быть никакого сравнения между этими людьми и особой вашего положения, мадемуазель Адриенна!
— Для католика такое различие между людьми не очень согласуется с учением Христа, — ответила Адриенна.
— Поверьте, что я могу сам быть судьей своих слов, — сухо возразил аббат. — Кроме того, эта независимость, которой вы добиваетесь, может принести самые непредсказуемые результаты, когда ваша семья захочет в будущем выдать вас замуж…
— Я избавлю мою семью от таких хлопот… Если я захочу выйти замуж, я сама позабочусь об этом… Я думаю, что это будет разумнее… хотя, откровенно говоря, вряд ли мне когда придет охота надеть себе на шею эту тяжелую цепь, которую эгоизм и грубое насилие навязывает…
— Неприлично выражаться так легкомысленно об институте брака, — сказала княгиня.
— В вашем присутствии особенно, не правда ли, княгиня? Извините, пожалуйста! Так вы боитесь, что моя независимая жизнь испугает женихов? Вот лишний повод настаивать на своем решении, так как я испытываю к ним полное отвращение. Я только и желаю напугать их. Но как? Предоставив им возможность составить обо мне самое дурное мнение! А лучший способ для этого — показать, что я живу точь-в-точь, как они. Я рассчитываю, что мои недостатки, капризы и фантазии предохранят меня от этих искателей!
— Этого вам недолго ждать, можете не беспокоиться, — заметила ее тетка, — особенно, если, к несчастью, подтвердятся те слухи, которые носятся о вашем поведении. Я не хочу, не смею верить тому, что рассказывают! Говорят, что вы настолько забыли все приличия, что позволяете себе возвращаться домой утром. Конечно, я не могу верить таким ужасам!
— Напрасно, княгиня… потому что это…
— Итак, вы признаетесь! — воскликнула княгиня.
— Я никогда не отказываюсь от своих поступков!.. Сегодня я возвратилась в восемь часов утра!
— Слышите, господа?! — воскликнула госпожа де Сен-Дизье.
— Ах! — пробасил господин д'Эгриньи.
— Ах! — фальцетом присоединился барон.
— Ах! — со вздохом прошептал доктор.
Услыхав эти жалобные возгласы, Адриенна хотела было объясниться, оправдать свое поведение, но затем гордость взяла верх, и она решила не унижаться до объяснений.
— Итак, это правда! — продолжала княгиня. — Признаюсь, я думала, что вы ничем меня больше не удивите… но такое поведение мне казалось невозможным… и если бы не ваше дерзкое признание, я никогда бы этому не поверила…
— Лгать мне всегда казалось большей дерзостью, чем сказать правду.
— Но откуда же вы возвращались, мадемуазель, где вы были?
— Я никогда не лгу, — прервала княгиню молодая девушка — но я никогда не скажу того, чего не хочу сказать. Оправдываться, когда предъявляют столь гнусные обвинения, по-моему, низость. Оставим же этот разговор: ничто не заставит меня изменить моему слову. Перейдем к другому. Вы хотите учредить надо мной унизительную опеку, а я хочу жить по-своему, Увидим, кто уступит: вы или я. Затем я должна вам напомнить, что дом этот принадлежит мне. Раз я из него ухожу, то мне все равно, останетесь вы в нем или нет Но что касается нижнего этажа, тех двух апартаментов, которые там находятся, кроме приемных комнат, ими я распорядилась: они мне нужны на определенное время.
— Вот как! — заметила княгиня с иронией, изумленно глядя в то же время на аббата. — Могу я узнать, для кого эти помещения вам нужны?
— Для моих трех родственников.
— Что это значит? — с возрастающим изумлением спрашивала госпожа де Сен-Дизье.
— Это значит, что я хочу предложить гостеприимство одному молодому индийскому принцу, родственнику мне по матери, который приедет сюда дня через два или три. К этому времени помещение должно быть готово.
— Слышите, господа? — обратился к доктору и барону аббат с хорошо разыгранным изумлением.
— Это превосходит все ожидания! — сказал барон.
— Побуждения, как всегда, самые великодушные… Но увы! безумная головка!.. — с прискорбием проговорил доктор.
— Превосходно! — заметила княгиня. — Я не могу, конечно, вам помешать высказывать самые сумасбродные желания!.. Вы, вероятно, на этом еще не остановитесь?
— Нет, мадемуазель! Я узнала, что еще две мои родственницы с материнской стороны, дочери маршала Симона, две сиротки, лет пятнадцати или шестнадцати, приехали вчера в Париж после долгого путешествия и остановились у жены одного честного солдата, который привез их сюда, во Францию, прямо из Сибири…
При этих словах Адриенны д'Эгриньи и княгиня вздрогнули и обменялись взглядом, полным ужаса. Для них было громовым ударом известие, что Адриенна знала о прибытии в Париж дочерей маршала Симона: ничего подобного они не ожидали.
— Конечно, вы очень удивлены, что мне все это так хорошо известно, — сказала Адриенна, — но я надеюсь вас еще сильнее удивить! Впрочем, не будем больше говорить о дочерях маршала Симона. Вы, конечно, понимаете, княгиня, что их невозможно оставить у тех великодушных людей, которые их временно приютили. Хотя это — прекрасная, трудолюбивая семья, но им место все-таки не там… Итак, я сегодня же привезу их сюда и помещу в доме вместе с женой солдата, которая будет им прекрасной няней.
Д'Эгриньи взглянул при этих словах на барона, и последний воскликнул:
— Определенно, она помешалась!
Адриенна прибавила, не обращая внимания на возглас Трипо:
— Маршал Симон ожидается в Париже с минуты на минуту. Вы, конечно, поймете, княгиня, что мне будет приятно доказать ему, что его дочери нашли у меня достойный прием. Я завтра же приглашу модисток, портных, чтобы позаботиться об их туалете; надо, чтобы они ни в чем не нуждались. Мне хочется, чтобы отец увидел дочерей во всей их красоте; говорят, они хороши, как ангелы… Ну, а я, простая смертная, хочу сделать из них подлинных купидонов!
— Ну что же… все ли вы, наконец, высказали? — гневным и саркастическим тоном промолвила княгиня, в то время как д'Эгриньи старался под спокойной и холодной личиной скрыть овладевшее им смертельное беспокойство. — Подумайте еще… нет ли у вас на примете еще кого-нибудь из членов этой занятной семейной колонии… Право, даже королева не могла бы действовать более величественно…
— Вы угадали… я и хочу оказать моей семье королевский прием, которого заслуживают сын короля и дочери маршала герцога де Линьи. Так приятно иметь возможность соединить роскошь богатства с роскошью сердечного гостеприимства!
— Что и говорить, это очень великодушно! — все более и более волнуясь, говорила госпожа де Сен-Дизье. — Жаль только, что для выполнения таких планов у вас нет золотых россыпей.
— А вот кстати насчет золотых россыпей. Я не подыщу более удобного случая, как теперь, чтобы поговорить с вами по этому поводу… Как ни велико мое состояние, но сравнительно с тем, какое может достаться нашей семье, оно является ничтожным. Когда это случится, вы, мадам, может быть, извините мне мою королевскую расточительность, как вы это называете.
Д'Эгриньи чувствовал, что под ним колеблется почва… Дело о медалях было настолько важно, что он скрыл его даже от доктора Балейнье, хотя и прибегал к его услугам из-за значительности событий; барон тоже ничего не знал, потому что княгиня тщательно уничтожила в бумагах отца Адриенны все, что могло ее навести на след. Кроме того ужаса, который испытали сообщники, увидев, что тайна известна мадемуазель де Кардовилль, они трепетали от страха, что она ее откроет всем. Испытывая подлинный ужас, княгиня живо перебила речь племянницы:
— Некоторые вещи должны оставаться семейной тайной, мадемуазель; и хотя я не знаю, на что вы тут намекаете, но все-таки требую, чтобы вы прекратили этот разговор!
— Как это, княгиня? Почему?.. Разве мы не в своей семье?.. Я думала так по крайней мере, когда выслушивала милые любезности, которыми меня осыпали.
— Это совсем не то… Есть вещи, касающиеся денег, о которых говорить совершенно излишне, если не имеешь в руках доказательств…
— Да ведь мы только и делали, что говорили об этом! Право, я не понимаю, чему-вы удивляетесь… чем смущаетесь, наконец…
— Я не удивлена и не смущена нисколько… но… вы тут целые два часа заставляете меня слушать такие несообразности, такие нелепости… что мое изумление вполне понятно.
— Извините, княгиня… Вы сильно смущены… да и господин аббат также… В связи с некоторыми имеющимися у меня подозрениями… это наводит меня на мысли…
Помолчав немного, Адриенна прибавила:
— Да… неужели же я угадала?.. Увидим…
— Я приказываю вам замолчать! — окончательно потеряв голову, закричала княгиня.
— Ах, мадам, — сказала Адриенна, — для особы, умеющей собою владеть, вы сильно себя компрометируете.
В этот опасный момент провидение пришло, как говорится, на помощь княгине д'Эгриньи в лице расстроенного и смущенного лакея, быстро вошедшего в комнату.
— Что случилось, Дюбуа? — спросила его госпожа де Сен-Дизье.
— Прошу извинить, княгиня, что я осмелился войти к вам, несмотря на ваше приказание, но господин полицейский комиссар желает видеть ваше сиятельство немедленно. Он ждет внизу, а на дворе стоят полицейские и солдаты.
Несмотря на глубокое изумление, вызванное этим новым событием, княгиня, желая воспользоваться случаем, чтобы быстро посоветоваться с д'Эгриньи по поводу угрожающих намеков Адриенны, сказала аббату, поднимаясь:
— Господин аббат, не будете ли вы столь любезны пойти со мной? Я совершенно теряюсь: что должно означать присутствие у меня полицейского комиссара.
Господин д'Эгриньи последовал за княгиней.
9. ИЗМЕНА
Выйдя в другую комнату, рядом с кабинетом, в сопровождении аббата и Дюбуа, княгиня спросила:
— Где же комиссар?
— Он в голубой гостиной, сударыня.
— Попросите его подождать минутку.
Лакей поклонился и вышел.
Княгиня приблизилась к д'Эгриньи, лицо которого, обыкновенно гордое и надменное, поражало теперь бледностью и угрюмостью.
— Видите, она все знает! — поспешно заговорила княгиня. — Что же теперь делать? Что делать?
— Не знаю, — сказал аббат с удрученным и остановившимся взглядом. — Это страшный удар!
— Неужели все погибло?
— Остается одно спасение… вся надежда на доктора!..
— Но как это сделать… так скоро? сегодня?
— Через два часа будет уже поздно. Эта чертовка увидится с дочерьми маршала Симона и…
— Но ведь это невозможно, Фредерик! доктор не может… надо было заранее все подготовить… как было решено раньше, после допроса…
— А между тем необходимо, чтобы Балейнье попытался это устроить сейчас… не откладывая ни минуты…
— Под каким же предлогом?
— Надо придумать!
— Ну, положим, вы и придумаете, Фредерик, да ведь там-то еще ничего не готово.
— Насчет этого не тревожьтесь… В виду всевозможных случайностей там всегда все готово.
— Но как предупредить доктора? — продолжала княгиня.
— Если его вызвать… это может возбудить подозрение вашей племянницы, — задумчиво говорил д'Эгриньи, — а этого надо избегать…
— Конечно… — сказала княгиня. — Ее доверие к нему — наша основная надежда.
— Вот что! — воскликнул аббат. — Мне пришла мысль… я сейчас напишу Балейнье записку… Кто-нибудь из ваших слуг ему подаст ее, как присланную с нарочным от какого-нибудь больного…
— Великолепная мысль!.. — обрадовалась княгиня. — Вы прекрасно придумали… Пишите, пишите же скорее… здесь на столе все есть для письма… но удастся ли это доктору?
— По правде сказать, я не смею на это надеяться, — усаживаясь за стол, со сдержанной злобой сказал маркиз. — Все это прекрасно бы устроилось, без всякого опасения, благодаря допросу, который был записан слово в слово нашим агентом за портьерой; завтра тоже было бы, конечно, довольно шума и сцен, так что доктор мог бы действовать смело… Но требовать от него этого сейчас… сию минуту… нет, это абсолютно невозможно!.. Нет, Эрминия, безумно на это рассчитывать! — И маркиз, сердито отбросив перо, продолжал с выражением горького и глубокого раздражения. — И подумать, что все погибло в последнюю минуту! Потери неисчислимы!.. Много вреда нанесла нам ваша племянница… да, много…
Невозможно передать словами, сколько ненависти, непримиримой злобы заключалось в том выражении, с каким д'Эгриньи произнес последние слова.
— Фредерик! — встревоженно говорила княгиня, касаясь своей рукой руки аббата, — умоляю вас… не падайте духом… не приходите в отчаяние… У доктора такой гибкий ум… он может что-нибудь придумать… Помните, что он нам так предан… попробуем на всякий случай…
— Пожалуй… попытаться можно… может быть, и удастся! — сказал аббат, снова взяв перо.
— Представим себе самое худшее… ну, положим, Адриенна отправилась бы сегодня за дочерьми маршала Симона… ведь она может уже их там не найти?..
— На это нечего надеяться! Приказания Родена наверняка еще не исполнены… слишком скоро было бы… да и мы бы об этом уже знали!
— Это верно!.. Ну, так пишите же доктору… Я пришлю к вам Дюбуа, он и подаст письмо. Смелее, Фредерик! Справимся же мы, наконец, с этой неукротимой девчонкой! — Затем госпожа де Сен-Дизье прибавила с яростью: — Адриенна, Адриенна, дорого же ты поплатишься за свои дерзкие насмешки и за те муки, на которые ты нас обрекла!
Уходя, княгиня предупредила аббата:
— Подождите меня здесь… Я сообщу вам, что означает посещение комиссара, и мы вместе вернемся в кабинет.
Госпожа де Сен-Дизье вышла, а д'Эгриньи принялся быстро писать дрожащей от волнения рукой.
10. ЗАПАДНЯ
После ухода тетки и аббата Адриенна осталась в кабинете одна с доктором и бароном Трипо.
Нельзя сказать, чтобы молодая девушка нисколько не испугалась, когда доложили о приходе полицейского комиссара. Потому что, как и боялся Агриколь, чиновник пришел просить разрешения на право произвести обыск в особняке и главным образом в павильоне, чтобы найти молодого кузнеца, который там скрывался. Хотя тайник Агриколя и казался ей надежным, Адриенна не могла отделаться от чувства страха и тревоги. На всякий случай она решила воспользоваться присутствием Балейнье и, не теряя времени, попросить его заступиться за молодого кузнеца, так как мы уже упоминали, что доктор был очень дружен с одним из самых влиятельных министров.
Молодая девушка подошла к Балейнье, разговаривавшему вполголоса с бароном, и самым нежным, ласковым голосом сказала:
— Мой милый доктор… мне надо вам сказать два слова. — И взглядом она показала ему на оконный проем.
— К вашим услугам, мадемуазель, — ответил Балейнье и последовал за ней к окну.
Трипо, боявшийся как огня мадемуазель де Кардовилль, не имея теперь поддержки аббата, был очень рад, что ее отвлек Балейнье. Чтобы не утратить присутствия духа, он снова пустился в изучение висевших на стенах картин.
Убедившись, что барон не может слышать их разговора, Адриенна сказала Балейнье, смотревшему на нее с обычной ласковой улыбкой:
— Дорогой доктор, вы всегда были моим другом, вы были другом моего отца… Даже сейчас, как это ни было трудно, вы оставались моим единственным защитником…
— Полноте, мадемуазель Адриенна… полноте… не говорите таких вещей… — шутливо рассердился доктор. — Накличете вы на меня беду… пожалуйста, молчите. «Vadro retro, Satana», что значит: «Прочь, сатана!» — оставь меня в покое, прелестный демон!
— Успокойтесь, — отвечала, улыбаясь, Адриенна, — я вас не скомпрометирую!.. Позвольте вам только напомнить, что вы несколько раз, желая доказать свою преданность, предлагали мне свои услуги…
— Ну что ж, испытайте… увидите тогда, что я предан вам не только на словах!
— Вы можете доказать мне это сейчас же! — с живостью заметила Адриенна.
— Вот и прекрасно. Я люблю, когда меня так быстро ловят на слове… Что я могу для вас сделать?
— Вы по-прежнему дружны с министром?
— Конечно. Я даже лечу его теперь от потери голоса. Это его обычная болезнь накануне того дня, когда от него требуют отчета!
— Ну, так вы должны добыть у вашего министра нечто очень важное для меня.
— Для вас?.. То есть как это?
В комнату вошел лакей и, подавая доктору письмо, почтительно доложил:
— Это письмо принес сейчас нарочный; он говорит, что дело весьма спешное.
Доктор взял письмо; лакей вышел.
— Вот и тернии славы! Обратная сторона медали, — засмеялась Адриенна. — Вам ни на минуту не хотят дать покоя, милейший доктор!
— Не говорите, мадемуазель! — воскликнул Балейнье; он не мог удержаться от жеста изумления, узнав почерк аббата. — Эти чертовы больные воображают, что мы сделаны из железа. Им кажется, что мы завладели всем здоровьем, которого им недостает… Просто безжалостные люди!.. Вы позволите? — спросил доктор, слегка поклонившись Адриенне, которая ответила грациозным кивком головы.
Письмо маркиза д'Эгриньи заключалось в нескольких словах. Мигом прочитав его, доктор, несмотря на всю свою осторожность, пожал плечами и пробормотал:
— Сегодня!.. но это невозможно… он с ума сошел!..
— Верно, дело идет о каком-нибудь бедном страдальце, у которого одна надежда на вас… он вас ждет… он призывает вас? Ну, голубчик доктор, не откажите ему… исполните его просьбу… так приятно оправдать доверие, которое к тебе испытывают…
Доктора Балейнье невольно поразило совпадение слов сочувствия, произнесенных трогательным голосом девушки, и требований ее непримиримого врага; в этом заключалось страшное и удивительное противоречие. Он не мог не смутиться и, пристально глядя на Адриенну, ответил:
— Да, речь идет действительно о человеке, возложившем на меня большие надежды… слишком даже большие, потому что он требует невозможного!.. Но почему вы принимаете участие в человеке, вам совершенно не известном?
— Раз он несчастен… я его знаю! Тот, для которого я вас прошу поддержки министра, был мне тоже незнаком, а теперь ему весьма сочувствую! Знаете, ведь это сын того солдата, который привез сюда дочерей маршала Симона из Сибири!
— Как?.. вы хлопочете за…
— За честного рабочего!.. единственную опору семьи… Да вот я вам расскажу все, как было…
Но ей не удалось окончить своего признания. В комнату, яростно рванув дверь, вошла госпожа де Сен-Дизье в сопровождении аббата.
Княгиня казалась взволнованной и страшно разгневанной, но, несмотря на ее уменье притворяться, выражение едва сдерживаемой адской радости просвечивало сквозь притворный гнев.
Войдя в кабинет, маркиз д'Эгриньи бросил беспокойный и вопросительный взгляд на доктора. Последний ответил, отрицательно покачав головой. Аббат со злостью закусил губы. С отказом врача рушились его последние планы, несмотря на новый страшный удар, который должна была нанести племяннице княгиня.
— Прошу садиться, господа, — заговорила госпожа де Сен-Дизье прерывающимся от злобной радости голосом. — Прошу вас. У меня есть прекрасные и поразительные новости относительно этой молодой девицы!
И она указала на Адриенну жестом, полным неизъяснимого презрения и негодования.
— Ну, деточка, что это еще на вас обрушилось? — вкрадчиво шепнул доктор Адриенне, отходя с ней от окна. — Но помните, что бы ни случилось, рассчитывайте на меня!
Затем доктор занял свое место между аббатом и бароном.
При дерзких, вызывающих словах княгини Адриенна вздрогнула; она гордо выпрямилась и, взволнованная и оскорбленная новыми обвинениями, покраснев от гнева, произнесла:
— Я жду вас к себе как можно скорее, дорогой доктор… Вы знаете, что мне необходимо с вами переговорить.
После этих слов девушка взялась за свою шляпку, лежавшую на кресле.
— Это еще что? — воскликнула княгиня, вскочив с места.
— Я ухожу, мадам… Вы объявили мне свою волю, я объявила вам свою. Этого совершенно достаточно. Что касается денежных дел, я поручу их моему поверенному.
Адриенна стала надевать шляпу.
Видя, что жертва ускользает из ее рук, госпожа де Сен-Дизье забыла всякие приличия и, подбежав к племяннице, с яростью схватила ее за руку и закричала:
— Вы не смеете уходить!
— Мадам! — с грустным негодованием воскликнула Адриенна, — что же здесь происходит?..
— Ага, вы испугались… вы хотите сбежать! — оглядывая ее с гневом и презрением, продолжала княгиня.
Слова «вы испугались» могли заставить молодую девушку броситься в огонь. Жестом, полным благородной гордости, Адриенна высвободила свою руку из рук княгини и, бросив снова на стул свою шляпку, подошла к столу и горячо проговорила:
— Как ни велико мое отвращение ко всему, что здесь происходит, но еще противнее мне ваши подозрения. Говорите… я готова вас выслушать.
Адриенна стояла перед теткой, гордо подняв голову. Ее лицо горело от негодования, грудь волновалась, слезы обиды навертывались на глаза, маленькая ножка нетерпеливо постукивала по ковру; она смотрела на тетку уверенно и твердо. Тогда княгиня, убедившись, что ее жертва теперь не уйдет, решила изводить ее как можно медленнее; она хотела по капле излить накопленный яд.
— Вот что произошло сейчас, господа! — начала она, стараясь сдерживаться. — Полицейский комиссар, о приходе которого мне сейчас доложили, с великим прискорбием извинился передо мной за то, что он вынужден исполнить неприятный долг. Оказалось, что сегодня утром в сад, прилегающий к павильону, вошел человек, который должен был в этот день быть арестован…
Адриенна вздрогнула. Несомненно, разговор шел об Агриколе. Но, вспомнив, как безопасен был тайник, куда она его спрятала, девушка успокоилась.
— Чиновник просил у меня разрешения произвести обыск в доме и павильоне. Он имел на это, конечно, полное право. Я попросила его начать с павильона, куда и сама за ним последовала… Несмотря на невозможное поведение этой девицы, мне в голову не могло прийти, что она может быть замешана в криминальные дела… Однако я ошиблась!
— Что хотите вы этим сказать, мадам? — спросила Адриенна.
— Сейчас узнаете, — с торжеством заявила княгиня. — Всему свой черед. Вы поторопились с высокомерием и насмешками… Итак, я пошла за комиссаром… Можете себе представить удивление этого чиновника при виде трех мерзавок, служанок мадемуазель де Кардовилль, одетых как актерки!.. Конечно, я просила занести это в протокол… Необходимо указать всякому… на подобные сумасбродства!
— Вы поступили весьма разумно, княгиня: необходимо было просветить правосудие на сей счет, — с поклоном заявил Трипо.
Тревожась за участь Агриколя, Адриенна и не подумала ответить достойным образом. Она с беспокойством ждала продолжения рассказа.
— Чиновник приступил к строгому допросу этих девчонок, допытываясь, не видали ли они мужчины, забравшегося в павильон мадемуазель де Кардовилль… С невероятной дерзостью они отвечали, что не видали никого…
«Славные, честные создания! — с радостью подумала Адриенна, — значит, бедняк спасен… заступничество Балейнье сделает остальное».
— К счастью, — продолжала княгиня, — со мной пошла моя горничная, госпожа Гривуа. Эта достойная женщина, вспомнив, что она видела, как мадемуазель де Кардовилль возвратилась домой в восемь часов утра, простодушно заметила комиссару, что мужчина, которого он ищет, мог войти незаметно через калитку… если мадемуазель де Кардовилль… нечаянно… забыла ее за собой запереть!
— Недурно было бы, княгиня, отметить в протоколе, что мадемуазель вернулась домой только в восемь часов утра, — сказал Трипо.
— Совершенно не вижу в этом нужды, — заметил верный своей роли доктор, — это вовсе не касалось поисков, которыми занимался комиссар.
— Однако, доктор! — воскликнул Трипо.
— Однако, господин барон, — твердо возразил доктор, — таково мое мнение!
— Но мое не таково, — продолжала княгиня. — И потому я настояла, чтобы это занесли в протокол. Надо было видеть, как смущен и огорчен был полицейский, когда записывал такие позорные вещи об особе, занимающей столь высокое положение в обществе…
— Ну, конечно, мадам, — с нетерпением сказала Адриенна, — я убеждена, что ваше целомудрие было не меньше оскорблено, чем скромность этого непорочного полицейского. Но мне кажется, что ваша невинность совершенно напрасно возмутилась. Разве вам не могло прийти в голову, что ничего не было удивительного в моем возвращении домой в восемь часов утра, если я вышла из дома в шесть часов утра?..
— Оправдание хотя придумано и поздно, но нельзя не признаться, что ловко придумано! — с досадой промолвила княгиня.
— Я не оправдываюсь, мадам, — с гордостью возразила Адриенна, — но если доктор Балейнье был так добр и заступился за меня, я сочла своим долгом указать на возможность объяснить факт, который я вовсе не собиралась с вами обсуждать.
— Значит, в протоколе факт зафиксирован… до тех пор, пока мадемуазель его не пояснит, — сказал Трипо.
Аббат д'Эгриньи оставался в стороне во время этой сцены. Он сидел, поглощенный в мрачные думы о последствиях свидания Адриенны с дочерьми маршала Симона. Помешать ей выйти сегодня из дома казалось абсолютно невозможным.
Госпожа де Сен-Дизье продолжала:
— Но это все ничто в сравнении с тем, что я расскажу вам дальше, господа… После долгих поисков мы хотели уже уходить, как вдруг госпожа Гривуа обратила мое внимание на то, что в спальне этой девицы, где мы в это время находились, одна из позолоченных резных фигур на стене неплотно к ней примыкала. Я сказала об этом комиссару… Его агенты начали осматривать, искать следы, и вдруг… одна часть стены отодвигается, открывается потайная дверь и… нет, вы не можете вообразить, что представилось нашим глазам!.. это такой стыд!.. такой позор!.. что я не могу решиться сказать!..
— Так я за вас решусь, — перебила ее Адриенна, с горестью убедившаяся, что Агриколь найден. — Я избавлю ваше целомудрие от рассказа о новом скандале… впрочем, то, что я скажу, никак не будет способствовать моему оправданию…
— А не мешало бы! — презрительно заметила княгиня. — В вашей спальне найден спрятанный мужчина!
— Спрятанный в ее спальне мужчина! — с жестокой радостью в душе и с притворным негодованием на лице воскликнул встрепенувшийся аббат.
— Мужчина в ее спальне! — прибавил Трипо. — Надеюсь, это тоже занесено в протокол?
— О да! да! — с торжеством воскликнула княгиня.
— Конечно, это был вор, — лицемерно заметил доктор, — это само собою разумеется! Иное толкование… совершенно неуместно.
— Ваша снисходительность к мадемуазель де Кардовилль вводит вас в заблуждение, — сухо возразила ему княгиня.
— Знаем мы этих воров, — сказал Трипо, — обыкновенно они бывают молодыми, богатыми красавцами!
— И вы ошибаетесь, господин барон, — продолжала госпожа де Сен-Дизье. — Мадемуазель не метит столь высоко… Оказывается, что ее увлечения не только преступны, но и низки… Теперь мне понятно, почему она афиширует симпатию к простонародью… Это тем трогательнее и интереснее, что человек, спрятанный в ее спальне, был одет в рабочую блузу.
— В блузу? — с отвращением заметил барон. — Так, значит, это был простолюдин? Волосы встают дыбом от ужаса!..
— Он сам сознался, что он кузнец, — сказала княгиня, — но следует сказать, этот кузнец очень хорош собой! Зная поклонение этой девицы красоте во всех ее формах, становится понятно…
— Перестаньте, мадам, перестаньте наконец! — вырвалось невольно у Адриенны. Она до сих пор молчала, не удостаивая тетку ответом, хотя гнев и чувство обиды все более и более овладевали ею. — Довольно! Я сейчас чуть было не стала объяснять вам, в ответ на ваши бесчестные намеки, свое поведение… но больше я не поддамся такой слабости!.. Но одно слово, мадам!.. Значит, этого доброго, честного рабочего арестовали?
— Конечно! Его взяли и под конвоем отправили в тюрьму. Это разрывает ваше сердце, не так ли?.. — с торжеством воскликнула княгиня. — Оно и видно… вы разом утратили вашу ироничную беззаботность. Несомненно, ваша нежная жалость к этому красивому кузнецу очень глубока!
— Вы совершенно правы, мадам; насмехаться над бесчестными поступками время прошло. Надо приняться за другое, — ответила Адриенна, чуть не плача при мысли об огорчении и испуге семьи Агриколя.
Затем, надев свою шляпку, она обратилась к Балейнье:
— Доктор, я только сейчас просила вас о протекции у министра…
— Да, дитя мое… и я с удовольствием готов служить вам.
— Ваша карета внизу?
— Да… — протянул доктор с удивлением.
— Так свезите меня к нему сейчас же. Он не может отказать мне в милости, лучше сказать — в правосудии, если я буду представлена ему вами.
— Как? — сказала княгиня, — вы решаетесь на такой поступок, не спросив моего позволения; после всего, что я вам говорила… это невероятная дерзость!..
— Ужасно! — прибавил Трипо, — но чего же иного можно было ожидать?
Когда Адриенна спросила доктора, здесь ли его экипаж, аббат д'Эгриньи вздрогнул. Выражение нежданной радости молнией пробежало по его лицу, и он еле сдержал волнение, когда в ответ на немой вопрос доктор многозначительно подмигнул в знак согласия. Поэтому, когда княгиня гневным голосом повторила Адриенне запрет выходить из дома, аббат торопливо и с особенным выражением в голосе перебил ее:
— Мне кажется, княгиня, мадемуазель Адриенну можно смело поручить заботам доктора.
Маркиз так выразительно произнес слова «заботам доктора», что княгиня, взглянув на него и на Балейнье, разом все поняла и просияла. Стало темно, уже почти наступила ночь, и Адриенна, поглощенная в свои думы, не заметила этого быстрого обмена взглядов и знаков; да если бы и заметила, то ничего бы в них не поняла.
Однако для большей правдоподобности госпожа да Сен-Дизье продолжала возражать:
— Я не против доверить мадемуазель де Кардовилль доктору, несмотря на его снисходительность к ней… Но не хотелось бы делать подобные уступки… мадемуазель должна подчиняться моей воле…
— Позвольте заметить, княгиня, — обиженным тоном заговорил доктор, — никакого особенного пристрастия к мадемуазель Адриенне я не питаю. Но если она меня просит свезти ее к министру, я охотно готов оказать эту услугу в полной уверенности, что она не заставит меня раскаиваться!
Адриенна дружески протянула руку Балейнье и с чувством промолвила:
— Будьте спокойны, мой достойный друг, вы сами будете довольны тем, что помогли мне… вы будете участником благородного поступка!
Трипе, не понимая нового плана сообщников, с удивлением шепнул аббату:
— Как? Ей позволят уехать?
— Ну да! — отрывисто ответил тот, указывая на княгиню и приглашая жестом выслушать, что она скажет.
Госпожа де Сен-Дизье подошла к племяннице и медленным, размеренным тоном, напирая на каждое слово, проговорила следующее:
— Еще одно слово… одно слово в присутствии всех этих господ. Ответьте мне: намерены ли вы противиться моим приказаниям, несмотря на тяжкие обвинения, которые тяготеют над вами?
— Да, намерена.
— Несмотря на открывшиеся позорные обстоятельства, вы не желаете признавать моей власти над вами?
— Да, не желаю.
— Вы решительно отказываетесь вести строгий и благопристойный образ жизни, который я хочу, чтобы вы вели?
— Я ведь сказала уже, сударыня, что желаю жить одна и так, как хочу.
— Это ваше последнее слово?
— Это мое последнее слово.
— Подумайте… остерегитесь… дело очень серьезное!
— Я вам сказала, сударыня, это мое последнее слово… повторять два раза одно и то же я не стану.
— Вы сами были свидетелями, господа! — начала княгиня. — Я напрасно пыталась найти пути к согласию! Пусть мадемуазель де Кардовилль сама себя винит за то, что случится далее… к чему меня заставит прибегнуть ее дерзкое неповиновение.
— Отлично, мадам! — сказала Адриенна.
Обратившись к Балейнье, она с живостью прибавила:
— Ну, едемте же скорее, милый доктор, я умираю от нетерпения. Подумайте: всякая минута промедления может стоить горьких слез несчастной семье!
И Адриенна быстро вышла из кабинета в сопровождении доктора.
Один из слуг княгини велел подавать карету Балейнье.
Усаживаясь в карету с его помощью, Адриенна не заметила, что Балейнье шепнул что-то своему выездному лакею, отворявшему дверцы экипажа. Когда доктор сел на свое место рядом с Адриенной, лакей захлопнул дверь, и через несколько секунд Адриенна услышала его приказание кучеру:
— К министру. С бокового подъезда.
Лошади быстро понеслись.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. СВЕТСКИЙ ИЕЗУИТ
1. ЛЖЕДРУГ
Наступила ночь, холодная, темная.
Небо, ясное перед закатом солнца, все более и более заволакивалось серыми, мрачными тучами. Сильный, порывистый ветер мел снег, падавший крупными хлопьями.
Фонари тускло освещали внутренность кареты, где сидели доктор и Адриенна.
На темном фоне обивки выделялось бледное очаровательное лицо Адриенны, обрамленное маленькой шляпой из серого бобра. В карете веял тонкий, нежный, почти сладострастный аромат, свойственный одежде изысканных женщин. Поза молодой девушки, сидевшей рядом с доктором, была полна грации. Ее изящный, стройный стан, плотно обтянутый синим сукном платья с высоким воротником, передавал мягкой спинке кареты гибкое волнообразное движение. Ножки Адриенны были скрещены на густой медвежьей шкуре, служившей ковром. В ослепительной и обнаженной левой руке она держала великолепно вышитый платок, которым вытирала тихо катившиеся слезы, которых доктор никак не ожидал.
А между тем это была реакция после нервного, лихорадочного возбуждения, которое до сих пор поддерживало энергию Адриенны во время тяжелых сцен в особняке Сен-Дизье. Теперь наступил упадок сил. Столь решительная в независимости, такая гордая в презрении, неумолимая в иронии, смелая в отпоре насилию, Адриенна была одарена исключительно тонкой чувствительностью, которую она тщательно скрывала от тетки и ее друзей. Трудно было найти более женственную натуру, хотя она казалась очень мужественной и смелой. Но как любая женщина, девушка умела подавить в себе проявление всякой слабости, чтобы не обрадовать врагов и не дать им возгордиться.
Прошло несколько минут; Адриенна, к величайшему удивлению доктора, продолжала молча плакать.
— Как, дорогая Адриенна? Как? Вы, такая храбрая еще минуту назад, вы плачете, вы? — спрашивал Балейнье, искренне изумленный волнением девушки.
— Да, — дрожащим голосом говорила Адриенна, — да, я плачу… при вас… при друге… но при тетке… никогда…
— Тем не менее… во время этого разговора… ваши колкости…
— Боже мой… Неужели вы думаете, что мне так приятно блистать в этой войне сарказмов? Она мне невыносима… Но чем же, кроме горькой иронии, могу я защищаться от этой женщины и ее друзей? Вы упомянули о моем мужестве… Уверяю вас, что оно заключалось не в проявлении отрицательных сторон моего характера. Оно было в том, чтобы сдержать и скрыть все, что я чувствовал, испытывая грубое обращение со стороны людей, которых я ненавижу и презираю… Я не причинила им никакого зла и хочу только одного: жить свободно, в одиночестве и видеть вокруг себя счастливых людей…
— Что же поделаешь? Вам завидуют, потому что вы счастливы и доставляете радость другим.
— И подумать, кто возводит на меня столь возмутительные обвинения?! Моя тетушка… моя тетушка, прошлая жизнь которой — сплошной позор! И ведь она прекрасно знает, что я слишком честна и горда, чтобы сделать недостойный меня выбор!.. Господи! да если я полюблю когда-нибудь, то буду перед всем светом гордиться своей любовью, потому что считаю это самым прекрасным чувством в мире… К чему честь и откровенность, если они не могут даже оградить человека от подозрений, которые скорее глупы, чем низки! — прибавила Адриенна с удвоенной горечью и снова поднесла платок к глазам.
— Ну полноте, моя дорогая, — начал доктор самым вкрадчивым и умильным голосом, — теперь все прошло… Успокойтесь… Для вас я преданный друг.
Произнося эти слова, Балейнье невольно покраснел, несмотря на свое дьявольское коварство.
— Да, я это знаю, — продолжала Адриенна. — Я никогда не забуду, что, заступаясь за меня сегодня, вы подвергали себя гневу тетки… так как мне известно, что она могущественна, особенно, когда нужно совершить зло…
— Что касается этого, мы, врачи, ограждены своей профессией от мести врагов… — с притворным равнодушием заметил Балейнье.
— Ах, дорогой доктор, вы не знаете… Госпожа де Сен-Дизье и ее друзья никогда ничего никому не прощают… — и девушка вздрогнула. — Я только потому решилась на открытый разрыв с нею, что не могла более выносить их подлого коварства и злости, из чувства отвращения и ужаса… Даже если бы мне грозила смерть… я бы не удержалась… А между тем, — продолжала она с очаровательной улыбкой, придававшей необыкновенную прелесть ее лицу, — я очень привязана к жизни… я люблю жизнь и боюсь даже, что слишком ее люблю, особенно жизнь блестящую, полную красоты и гармонии… Но вы знаете, что я безропотно покоряюсь своим недостаткам…
— Ну, теперь я спокоен, — весело заметил доктор, — вы улыбнулись… Это хороший признак!
— Часто это самое мудрое… хотя я не знаю, можно ли мне смеяться после угроз тетки?.. Впрочем, что же она может мне сделать? Что значит этот «семейный» совет? Неужели она могла всерьез подумать, что на меня могут повлиять советы каких-то д'Эгриньи и Трипо! Потом эти строгие меры… О каких строгих мерах она говорила? Вы не знаете, что она может предпринять?
— Между нами, я думаю, княгиня хотела вас только припугнуть… Мне кажется, она постарается воздействовать убеждением… она задалась целью обратить вас на путь истины. Вы знаете, что она мнит себя чуть ли не матерью церкви! — лукаво промолвил доктор, которому во что бы то ни стало нужно было успокоить Адриенну. — Но оставим это… Необходимо, чтобы ваши очаровательные глаза обрели весь свой блеск и могли заворожить, обольстить министра, к которому мы сейчас приедем…
— Вы правы, милый доктор… Надо стараться избегать горя уже потому, что одно из его наименьших зол — это забывать о других!.. Однако я пользуюсь вашей любезностью, ничего не объяснив вам толком.
— У нас, к счастью, время есть… министр живет очень далеко.
— Вот в чем дело, — начала Адриенна. — Я уже говорила вам, почему принимаю такое участие в этом достойном рабочем; сегодня утром он пришел ко мне в отчаянии, его хотят арестовать за сочиненные им песни (надо вам сказать, что он поэт). Юноша уверял меня в своей невиновности и умолял внести за него залог, чтобы он получил возможность свободно работать; если его посадят в тюрьму, семья, единственной опорой которой он является, обречена на голодную смерть. Вспомнив о вашей дружбе с министром, я обещала ему помочь, а так как полиция уже напала на след этого юноши, мне пришло в голову спрятать его у себя. Как объяснила тетка мой поступок, вы знаете! Теперь скажите: можно ли надеяться, при вашей рекомендации, что министр возвратит ему свободу, хотя бы под поручительство, если мы с вами его об этом попросим?
— Безусловно… Никаких сложностей быть не может. Особенно, если вы расскажете ему все, как было, с вашим обычным сердечным жаром и красноречием…
— А знаете, дорогой доктор, почему я решилась на такую… пожалуй, странную вещь — просить вас отвезти меня, девушку, к министру?
— Конечно… Чтобы самой похлопотать о вашем протеже.
— Отчасти да… Но главное, чтобы разом оборвать нити гнусной сплетни, которую тетушка не замедлит пустить в ход: вы видели, она уже заставила внести ее в протокол… Оттого я и решилась открыто и прямо обратиться к человеку, столь высокопоставленному, и рассказать ему все, как было… Я уверена, что он мне поверит… голос правды не обманывает…
— Это очень разумно и дельно задумано! Вы одним выстрелом убьете двух зайцев, как говорят… или, лучше сказать, одно доброе дело послужит восстановлению истины в обоих случаях!.. Вы разом развеете гнусную клевету и освободите честного малого!
— Ну вот я и повеселела, ожидая столь блестящую перспективу! — смеясь, воскликнула Адриенна.
— Да ведь и все в жизни зависит от того, как взглянуть на вещи! — философски заметил доктор.
Адриенна не имела ни малейшего понятия о сущности конституционного правления и власти его администраторов. Она слепо верила доктору и ни на минуту не усомнилась в том, что он ей говорил. Поэтому она радостно продолжала:
— Какое счастье! Значит, когда я поеду за дочерьми маршала Симона, я смогу успокоить бедную мать кузнеца, которая, быть может, теперь смертельно тревожится, напрасно поджидая сына?
— Конечно, вы будете иметь это удовольствие, — улыбаясь, сказал Балейнье. — Мы так будем упрашивать и так заинтересуем министра, что он даст вам возможность сообщить бедной старухе об освобождении сына из тюрьмы еще до того, как она узнает, что его туда посадили!
— Какой вы обязательный и добрый! — говорила Адриенна. — Право, если бы дело было, не настолько серьезно, я бы посовестилась отнимать ваше драгоценное время… Но я знаю ваше сердце…
— Я ничего так не желаю, как доказать вам свою глубокую преданность и искреннюю привязанность! — ответил доктор, затягиваясь понюшкой табаку. В эту минуту он случайно взглянул на улицу и сильно испугался, что девушка, несмотря на валивший густой снег, сможет увидеть освещенный фасад Одеона. Ей могло показаться странным, как они попали к этому театру; поэтому Балейнье решил чем-нибудь отвлечь внимание Адриенны от дороги, по которой они ехали.
— Ах, Боже, я и забыл! — воскликнул он, как будто что-то вспомнив.
— Что такое, господин Балейнье? — с беспокойством отозвалась Адриенна.
Балейнье хитро улыбнулся.
— Я забыл про деталь, очень важную для успеха нашего предприятия.
— Что такое? — спросила девушка.
— Видите, дитя мое, у каждого человека есть свои слабости, а у министра их более, чем у всякого другого. У нашего, например, смешное пристрастие к своему служебному званию… Первое впечатление — самое важное… а оно не будет в вашу пользу, если вы не скажете при приветствии слов господин министр и притом как можно выразительнее.
— Ну, если дело за этим, — смеясь проговорила Адриенна, — то я готова называть его даже «ваше превосходительство». Кажется, так и полагается?
— Теперь нет… но это все-таки не будет лишним. А уж если вы сумеете ввернуть раза два «монсеньор», то дело заранее выиграно.
— Будьте покойны. Если есть министры-выскочки, как и мещане во дворянстве, то я постараюсь вспомнить господина Журдена и сполна удовлетворю ненасытное тщеславие вашего государственного человека.
— Предоставляю его вам целиком. Он будет в надежных руках… — продолжал доктор, с удовольствием замечая, что карета ехала теперь по темным улицам, шедшим от площади Одеона к кварталу Пантеона. — Я на этот раз не поставлю в вину министру его спесь, если она может принести нам пользу.
— А мне ничуть не совестно пустить в ход столь невинную хитрость, — заметила мадемуазель де Кардовилль.
Потом, посмотрев в окно, она прибавила.
— Как темно на улице, какой ветер, снег! Да где же это мы едем?
— Как? Неблагодарная парижанка! Неужели вы не узнали, хотя бы по отсутствию магазинов, дорогого для вас Сен-Жерменского предместья?
— Я думала, мы давно его проехали!
— Я тоже, — сказал доктор, делая вид, что старается узнать местность. — Но мы все еще здесь! Верно, моего кучера ослепило бьющим в лицо снегом и он спутался… Впрочем, теперь мы на верном пути: это Сен-Гильомская улица, — не особенно-то веселая улица, кстати сказать, — но мы через десять минут будем у министра, к которому попадем, на правах старой дружбы, через малый подъезд, чем избежим церемоний главного входа.
Адриенна, редко выезжавшая иначе как в карете, плохо знала город; обычаи министров ей были знакомы еще менее; кроме того, она так доверяла доктору, что решительно не усомнилась ни в одном его слове.
С самого отъезда из дворца Сен-Дизье у доктора вертелся на языке вопрос, задать который Адриенне он не решался, боясь себя скомпрометировать. Когда она заговорила об ожидаемом наследстве, о чем ему никто не сообщил ни слова, Балейнье, тонкий и ловкий наблюдатель, заметил смущение и испуг княгини и аббата. Он сразу догадался, что заговор против Адриенны (заговор, в котором он слепо принимал участие, повинуясь приказанию ордена) должен был иметь отношение к интересам, которые от него скрывали, и он нетерпеливо жаждал узнать эту тайну. Как и у всех членов таинственной конгрегации, привычной к доносительству, в докторе развились, как он сам чувствовал, все отвратительные пороки, свойственные его сообщникам, — например, зависть, подозрительность и ревнивое любопытство. Не отказываясь служить замыслам д'Эгриньи, Балейнье горел желанием узнать, что тот от него скрывает. И, преодолев нерешительность, он наконец обратился к Адриенне, не желая упускать благоприятного случая:
— Сейчас я задам вам один вопрос… Если вы его сочтете нескромным… то не отвечайте.
— Продолжайте, пожалуйста.
— Перед приходом полицейского комиссара к вашей тетушке вы, кажется, упомянули о каком-то громадном богатстве, которое от вас до сих пор скрывали?..
— Да… это правда…
— Похоже, что ваши слова… очень встревожили княгиню? — продолжал доктор, отчеканивая каждое слово.
— Настолько сильно встревожили, — сказала Адриенна, — что мои подозрения относительно некоторых вещей перешли в полную уверенность.
— Нечего мне вам и говорить, дорогой друг, — вкрадчивым тоном уверял Балейнье, — что если я об этом завел речь, то единственно с целью предложить свои услуги, если они вам понадобятся… Но если вам кажется, что разговор этот неуместен… то считайте, что я ничего не сказал.
Адриенна серьезно задумалась. После нескольких минут молчания она сказала:
— Что касается этого дела, то… тут есть вещи, о которых я не знаю и сама… другие могу вам сообщить… но о некоторых должна буду умолчать… Но вы так ко мне добры сегодня, что я рада лишний раз доказать вам свое доверие.
— В таком случае лучше ничего не говорите, — сокрушенно и проникновенно ответил Балейнье. — Это будет похоже на плату за услугу! А я уже тысячу раз вознагражден тем, что имею удовольствие быть вам полезным.
— Вот в чем дело, — продолжала девушка, не обращая внимания на щепетильность доктора. — У меня есть данные, что рано или поздно наша семья получит громадное наследство… Оно должно быть разделено между всеми ее членами… из которых многих я совсем не знаю… После отмены Нантского эдикта наши предки рассеялись по разным странам, и у их потомков разные судьбы.
— Вот как? — живо заинтересовался доктор. — Где же это наследство? От кого оно? В чьих оно руках?
— Не знаю.
— Как же вы заявите о своих правах?
— Это я скоро узнаю.
— Кто вам об этом сообщит?
— Это я не могу вам сказать.
— Кто вам сообщил об этом наследстве?
— Это я тоже не могу вам сказать… — проговорила Адриенна нежным и грустным голосом, странно противоречившим ее обычной живости. — Это тайна… Странная тайна… Когда вы видели меня в особенно возбужденном состоянии, именно тогда я и размышляла о необыкновенных явлениях, сопровождающих эту тайну… Да… и в эти минуты много великих, прекрасных мыслей пробуждалось во мне…
И Адриенна замолчала, погрузившись в глубокое раздумье.
Балейнье не пытался ее развлекать.
Во-первых, она не замечала дороги, а во-вторых, он и сам был не прочь обдумать на свободе все, что ему удалось узнать. С обычной для него проницательностью, он догадался, что наследство составляло предмет главных забот д'Эгриньи, и он мысленно решил непременно об этом донести куда следует. Одно из двух: или д'Эгриньи действовал по приказу ордена, и тогда его донос только подтвердит существующий факт; или же аббат действовал по собственному усмотрению, и тогда донос также был бы небесполезен, открывая эту тайну.
Тишина в карете не прерывалась даже шумом колес, так как карета ехала по пустынным улицам, покрытым глубоким снегом.
Несмотря на свое коварство, хитрость, дерзость и полное заблуждение его жертвы, доктор все-таки не совсем был уверен в результатах своего замысла. Подходила решительная минута, и довольно было малейшей неловкости, чтобы возбудить подозрение Адриенны и погубить весь его план.
Девушка, утомленная волнениями этого тяжелого дня, вздрагивала от холода, так как забыла второпях накинуть шаль или манто. Уже некоторое время карета ехала возле высокой стены, вырисовывавшейся белой полосой на темном фоне неба. Стояла глубокая и угрюмая тишина.
Карета остановилась.
Лакей подошел к большим воротам и постучал. Сначала два быстрых удара, затем через несколько секунд один удар.
Адриенна не заметила этого, так как стучал он негромко, да и Балейнье нарочно в этот момент заговорил, чтобы она не услыхала этого сигнала.
— Наконец-то мы приехали! — весело сказал он девушке. — Будьте же обворожительны, то есть будьте сама собой!
— Не беспокойтесь, постараюсь, — улыбнулась Адриенна, а затем прибавила, дрожа от холода: — Какой жуткий мороз! Откровенно вам сознаюсь, дорогой доктор, что не без удовольствия вернусь домой в свою красивую, теплую, светлую гостиную, после того как съезжу за бедными девочками, моими родственницами, к матери нашего протеже. Вы знаете, как я ненавижу холод и мрак!
— Это вполне понятно, — любезно отвечал Балейнье. — Красивейшие цветы распускаются только в тепле и при свете.
Пока доктор и мадемуазель де Кардовилль обменивались этими словами, тяжелые ворота со скрипом отворились, и карета въехала во двор. Доктор вышел первым, чтобы предложить руку Адриенне.
2. КАБИНЕТ МИНИСТРА
Карета остановилась у засыпанного снегом невысокого подъезда, который вел в вестибюль, освещенный одной лампой.
Адриенна, под руку с Балейнье, поднялась по скользким ступеням.
— Как вы дрожите! — заметил доктор.
— Да, я страшно озябла, — ответила девушка, — второпях я забыла что-нибудь надеть. Но какой мрачный вид у этого дома! — прибавила она, поднявшись на крыльцо.
— А это маленький особняк, как его называют, sanctus sanctorum министра; сюда он удаляется от людского шума, — улыбаясь сказал Балейнье. — Потрудитесь войти.
И он отворил дверь в просторный, совершенно пустынный вестибюль.
— По правде говоря, — продолжал он, стараясь под видом веселости скрыть охватившее его беспокойство, — дом министра — дом выскочки: ни одного лакея (или, лучше сказать, ни одного служащего) в передней. Но, к счастью, — прибавил он, отворяя дверь в следующую комнату, — В серале вырос я, его все входы знаю!
Они вошли в комнату с зелеными обоями мягкого тона и скромной мебелью красного дерева, обитой желтым утрехтским бархатом. Паркет, тщательно натертый, блестел при свете висячей лампы, горевшей неполным светом и подвешенной выше обыкновенного. Адриенна была поражена исключительно скромным видом всей обстановки министерской приемной и, хотя была чужда всяких подозрений, невольно остановилась на пороге. Балейнье, понимая причину ее удивления, заметил, улыбаясь:
— Не правда ли, слишком жалкое помещение для министра? Но если бы вы знали, до чего конституционное правительство экономно! Ну, да вот сейчас явится и сам монсеньор, и вы увидите, что он так же жалок, как и его обстановка… Подождите меня минутку… я пойду предупредить министра о вашем визите. Через минуту я вернусь.
И, отстранив слегка Адриенну, робко прижавшуюся к нему, доктор быстро исчез в маленькую боковую дверь.
Адриенна де Кардовилль осталась одна.
Не понимая, почему девушка нашла ужасно зловещей эту холодную, почти пустую комнату с окнами без занавесей. Когда она огляделась повнимательнее, некоторые особенности в обстановке ввергли ее в необъяснимое беспокойство… Подойдя к потухшему камину, она заметила, что очаг заперт железной решеткой, а щипцы и лопаточка прикованы цепью. Удивленная столь странным обстоятельством, она машинально хотела пододвинуть кресло, стоявшее у стены… Кресло не сдвигалось… Тогда Адриенна заметила, что и это кресло и вся другая мебель прикреплены железными лапками к филенкам стены.
Она не могла при этом не улыбнуться, подумав: «Неужели этому государственному мужу так мало доверяют, что даже мебель приковали к стене?»
Адриенна старалась вынужденной шуткой заглушить тяжелую тревогу, увеличивавшуюся с каждой минутой, так как окружающее мертвое молчание совершенно не вязалось с ее представлением о крупном деловом центре, насыщенном кипучей деятельностью.
Время от времени девушка слышала только яростные порывы ветра, шум которого доносился извне.
Прошло более четверти часа, а Балейнье не возвращался.
Адриенне, все более и более испытывавшей нетерпение и беспокойство, пришло в голову кого-нибудь позвать, чтобы справиться о докторе и министре. Она поискала глазами сонетку около зеркала: ее не было, да и то, что она принимала, благодаря полумраку, за зеркало, оказалось листом блестящей, отполированной жести. Разглядывая это странное украшение камина, она задела бронзовый подсвечник, который точно так же был привинчен к мрамору каминной доски. При известном настроении духа всякая мелочь принимает ужасающие пропорции. Эти прикрепленные подсвечники и мебель, этот жестяной лист вместо зеркала, мертвая тишина, долгое отсутствие Балейнье так сильно повлияли на Адриенну, что она почувствовала какой-то тайный ужас. Но ее доверие к врачу было настолько сильно, что девушка даже упрекала себя за свой испуг, твердя, что он совершенно неоснователен, так как все, что ее поразило, пустяки, а отсутствие Балейнье затянулась, вероятно, потому что министр был занят и не мог еще их принять.
Но как она себя ни успокаивала, страх был настолько велик, что она решилась на поступок, несвойственный ее натуре. Она подошла к маленькой двери, куда исчез доктор, прислушалась, притаив дыхание.
То же мертвое молчание.
Вдруг над головой раздался какой-то глухой и тяжелый стук, как от падения тела, и Адриенне послышался сдавленный стон. Подняв голову, она увидела, что с потолка осыпалась часть штукатурки. Не имея больше сил сдерживать ужас, девушка бросилась к входной двери, чтобы кого-нибудь позвать. Дверь оказалась запертой снаружи. Между тем Адриенна не слыхала звука замка, ключ от которого находился с той стороны двери. Все более и более пугаясь, она кинулась к маленькой двери, в которую ушел Балейнье. Эта дверь тоже была заперта… Желая во что бы то ни стало справиться с охватившим ее ужасом, Адриенна призвала на помощь всю твердость своего духа и попыталась успокоиться.
— Я, верно, ошиблась, — говорила она себе. — Я слышала только стук, никакого стона не было… это все воображение… Правдоподобнее в тысячу раз, что упало что-то, а не кто-то!.. Но эти запертые двери?.. Быть может, меня нечаянно заперли, не зная, что я тут?..
Произнося эти слова, Адриенна призадумалась, но ненадолго. Справившись с волнением, она сказала твердым голосом:
— Обманывать себя и заглушать тревогу нелепо… необходимо выяснить свое положение. Несомненно, что я не у министра… Это ясно видно из всего… Значит, господин Балейнье меня обманул?.. Но зачем, с какой целью он это сделал и куда он меня привез?
Ни на один из этих вопросов Адриенна ответить не могла. Одно было ясно — что она стала жертвой коварства доктора. Но для этой честной, великодушной души подобное предположение было столь ужасно, что она старалась как-нибудь отогнать эту мысль, вспоминая о той доверчивой дружбе, с какой она всегда относилась к доктору.
— Как легко под влиянием слабости и страха прийти к самым несправедливым предположениям! — подумала она с горечью. — Поверить такой низости можно только тогда, когда дойдешь до крайности или когда очевидность неоспорима… Попытаюсь позвать кого-нибудь… это единственный способ во всем удостовериться. — Затем, вспомнив, что сонетки нет, она прибавила: — Ну, что же! будем стучать, должен же кто-нибудь прийти! И Адриенна начала легонько стучать в дверь своим нежным кулачком. По глухому звуку, издаваемому дверью, можно было судить о ее значительной толщине.
Ответа не было.
Адриенна побежала к другой двери. Тот же результат, то же мертвое молчание, прерываемое время от времени воем ветра.
— Я не трусливее других, — сказала, вздрогнув, девушка, — но не знаю, смертельный ли холод, царящий здесь тому виною… но я вся дрожу… Я стараюсь успокоиться, удержаться от всякого проявления слабости, но, право, мне кажется, всякий на Моем месте нашел бы, что все это очень… странно… и страшно…
Вдруг в комнате, находившейся над той, где была Адриенна, раздались яростные крики, похожие скорее на дикое, страшное рычание, а затем послышался глухой, яростный и отрывистый топот, сотрясавший потолок, как будто несколько человек отчаянно боролись между собой. Адриенна побледнела, как полотно, и с криком ужаса бросилась к одному из окон, раму которого ей удалось разом открыть. Страшный порыв ветра со снегом вместе ворвался в комнату, ударил в лицо Адриенне, всколыхнул пламя лампы, которое чадно вспыхнуло, а затем погасил его… Оставшись в полной темноте, судорожно уцепившись за решетку, которой было заделано окно, мадемуазель де Кардовилль, уступая наконец долго подавляемому чувству страха, хотела звать на помощь, но представившаяся ее глазам картина заставила ее онеметь от ужаса. Против окна, совсем близко, возвышалось такое же здание, как то, в котором находилась Адриенна. Прямо против Адриенны, во мраке ночи выделялось ярко освещенное окно. На нем не было занавесок, и Адриенна ясно могла различить длинную, белую фигуру, истощенную, исхудавшую, которая волочила за собой что-то длинное, вроде савана и быстро ходила взад и вперед около окна непрерывной порывистой походкой.
При виде этого освещенного окна Адриенна, не имея сил оторвать глаз от зловещего зрелища, первые минуты стояла как зачарованная, а затем, совсем обезумев от испуга, начала призывать на помощь, цепляясь за перекладины решетки и конвульсивно сжимая их. Через несколько секунд в комнату неслышно вошли две высокие женщины. Их прихода Адриенна не заметила; она продолжала звать на помощь, не отрываясь от окна.
Вошедшие женщины, лет сорока или сорока пяти от роду, одетые грязно и неряшливо, как служанки низшего разряда, отличались необыкновенно мужеподобным и сильным телосложением. Их длинные полотняные фартуки, вырезанные у ворота, падали до самых ног. У одной из них, державшей в руках лампу, было широкое, лоснящееся, красное лицо, с толстым носом, усеянным угрями, маленькие зеленые глаза и всклокоченные, мочального цвета волосы, небрежно засунутые под грязный белый чепчик. Другая женщина, желтая, сухая и костлявая, носила траурный чепчик, плотно облегавший худое, пергаментное, землистого цвета лицо, изуродованное оспой; густые, черные брови резко выделялись на нем, а на верхней губе виднелись следы седоватых усов. Она держала в руках какую-то длинную серую полотняную одежду странного покроя. Увидев Адриенну у окна, одна из них подошла к камину, чтобы поставить на него лампу, а другая неслышно приблизилась к призывавшей на помощь девушке и положила ей на плечо громадную худую руку.
Адриенна быстро повернулась и, внезапно увидев перед собой эту женщину, закричала еще громче.
Но после первой минуты испуга мадемуазель де Кардовилль опомнилась и даже отчасти успокоилась. Несмотря на отталкивающую наружность, эта женщина все-таки была живым существом, которому можно было задать вопрос. Адриенна живо воскликнула изменившимся голосом:
— Где господин Балейнье?
Женщины переглянулись, обменялись знаком и не ответили ни слова.
— Я вас спрашиваю, мадам, где господин Балейнье, с которым я приехала? — повторила свой вопрос Адриенна. — Где он, я хочу его сейчас же видеть…
— Ой уехал, — отвечала толстуха.
— Уехал без меня? — воскликнула девушка. — Господи, да что же это значит?..
Затем после минутного раздумья она прибавила:
— Наймите мне карету.
Женщины переглянулись, пожимая плечами.
— Я вас прошу, мадам, — повторила Адриенна, стараясь сдержаться, — сходить мне за каретой, если господин Балейнье уехал без меня… Я хочу уехать отсюда…
— Ну, ну, — сказала толстая женщина (ее звали Томас), не обращая ни малейшего внимания на слова Адриенны, — пора спать…
— Спать? — с ужасом воскликнула мадемуазель де Кардовилль. — Господи, можно, кажется, с ума сойти… — Затем она прибавила, обращаясь к ним обеим:
— Что это за дом? Где я? Отвечайте!
— А это такой дом, — грубо заметила Томас, — где нельзя вот эдак-то кричать в окошки…
— И где ламп тушить не полагается, — прибавила другая, которую звали Жервезой, — а не то мы рассердимся…
Адриенна беспомощно глядела на них обеих, дрожа от страха и не находя слов, чтобы выразить свое недоумение; она ничего не могла понять в том, что происходило. Затем, сообразив как будто, в чем дело, она воскликнула:
— Я догадываюсь… Несомненно, произошло недоразумение… иначе я не могу этого объяснить… Конечно, недоразумение… Вы меня принимаете за другую… Знаете ли вы, кто я?.. Я Адриенна де Кардовиль! Вы видите, значит, я могу уйти, куда хочу… удержать меня силой никто не имеет права… Поэтому приказываю вам сейчас же сходить для меня за каретой… Если здесь их нет… то пусть меня кто-нибудь проводит ко мне, на Вавилонскую улицу в особняк Сен-Дизье. Я щедро награжу провожатого и вас также…
— Ну, скоро вы кончите? — прервала ее Томас. — И к чему вся эта болтовня?
— Берегитесь, — продолжала Адриенна, желая употребить все средства. — Если вы меня станете удерживать силой… это может иметь плохие для вас последствия… Вы не знаете, чему подвергаетесь…
— Пойдете вы спать или нет? — грубо и нетерпеливо крикнула Жервеза.
— Послушайте, мадам, — порывисто заговорила Адриенна. — Выпустите меня… я каждой из вас дам по две тысячи… Мало? Ну по десяти… по двадцати… словом, сколько захотите… я богата… но пустите меня… Господи… пустите… я не хочу здесь оставаться! я боюсь!.. — с отчаянием, раздирающим голосом молила Адриенна.
— Двадцать тысяч!.. А? Каково? Слыхала, Томас?
— Оставь ее, вечно у них всех одна песня!
Адриенна, видя свое отчаянное положение, собрала всю энергию и заявила как могла решительнее:
— Ах, вот как! Ну, хорошо… Если на вас не действуют ни доводы, ни мольбы, ни угрозы, то я вам объявляю прямо, что не хочу здесь оставаться и сейчас уйду, слышите — уйду… Посмотрим, кто осмелится задержать меня силой…
И с этими словами она решительно направилась к двери.
В это время снова раздались прежние дикие крики… Но на этот раз за ними не последовало никакой борьбы, никакого топота, а только ужасный, дикий вой.
— О! Что за крик! — воскликнула Адриенна и в страхе приблизилась к обеим женщинам. — Эти крики… вы слышите их?.. Но что же это за дом, где раздаются такие крики?.. А там — посмотрите, что там? — почти как помешанная, повторяла она, указывая на освещенное окно, где продолжала мелькать белая фигура. — Вон там… посмотрите! Что это такое?
— А вот видите, они тоже не слушались, как вы… вот теперь и кричат, — сказала Томас.
— Да что вы говорите? — с ужасом, ломая руки, спрашивала мадемуазель де Кардовилль. — Где же я, Господи? Что это за дом? Что с ними делают такое?
— А с ними делают то, что и с вами сделают, если вы будете злиться и не пойдете сейчас же спать, — начала Жервеза.
— На них надевают вот эту штуку, — пояснила Томас, указывая на одежду, которую держала в руках, — а зовут это смирительной рубашкой!
— Ах! — с ужасом, закрыв лицо руками, воскликнула Адриенна.
Это страшное слово пояснило ей все… Наконец она поняла! Этот последний удар совершенно лишил ее сил. После всех треволнений этого дня страшная истина открывалась ее глазам, и девушка почувствовала, что теряет сознание.
Адриенна побледнела как смерть, ее руки беспомощно опустились, и, падая на пол, она еле успела пролепетать угасающим голосом, с ужасом глядя на смирительную рубашку:
— О, только не это… пощадите! Делайте со мной, что угодно… только…
Женщины едва успели ее подхватить. Она была в глубоком обмороке.
— Обморок… ну, это пустяки, — сказала Томас. — Давай снесем ее на кровать, разденем, уложим, и все пройдет.
— Неси ее ты, а я возьму лампу, — сказала Жервеза.
Высокая и сильная Томас подхватила мадемуазель де Кардовилль, как ребенка, и понесла ее через маленькую дверь, в которую ушел доктор Балейнье.
Дверь эта вела в маленькую комнату, очень чистую и опрятную, но поражавшую пустотой и какой-то ледяной наготой. Ни занавесей у защищенного решеткой окна, никаких признаков роскоши и комфорта. Маленькая железная кровать, очень низенькая, со столиком у изголовья, стояла в углу, камин был окружен решеткой, так что к нему нельзя было подойти; стол, прикрепленный к стене, кресло, привинченное к полу, комод красного дерева и соломенный стул составляли все ее убранство. Тяжелым контрастом очаровательному маленькому дворцу на Вавилонской улице являлось это мрачное помещение, куда перенесли и положили на кровать бесчувственную Адриенну. Лампу поставили на столик у изголовья, и обе женщины принялись раздевать мадемуазель де Кардовилль.
Пока одна из них поддерживала девушку, другая расстегивала и снимала с нее суконное платье. Голова Адриенны поникла на грудь. Несмотря на обморок, из-под длинных ресниц ее больших закрытых глаз медленно стекали две крупные слезинки. По груди и шее цвета слоновой кости рассыпались шелковистые волны золотистых волос, распустившиеся при ее падении… Когда ужасная мегера начала расшнуровывать корсет, атлас которого не был нежнее и белее девственного очаровательного тела, стройного и гибкого, прикрытого кружевом и батистом подобно алебастровой, слегка розоватой статуе, Адриенна, не приходя еще в себя, слегка вздрогнула от резкого прикосновения к ее голым плечам и груди грубых, красных, мозолистых и потрескавшихся рук.
— Экие ножки-то у нее крохотные! — заметила сиделка, начав разувать Адриенну. — Гляди-ка, обе они у меня в одной руке поместятся!
Действительно, в эту минуту обнажилась маленькая розоватая нога Адриенны с шелковистой кожей, как у ребенка, испещренная голубыми жилками, а вместе с нею — розовое колено такого же чистого и тонкого контура, как у богини Дианы.
— А волосы-то какие, — заметила Томас, — длинные, мягкие… Право, она, пожалуй, Может на них наступить, до того они длинные… Экая жалость будет их обстричь, когда лед на голову класть станем.
Увы! Не легкая белая ручка Жоржетты, Флорины или Гебы с любовью и гордостью расчесывала волосы своей прекрасной хозяйки, но грубая, неловкая рука больничной сиделки. При этом прикосновении Адриенна вновь испытала прежнюю нервную дрожь, но более частую и более сильную. Было ли это нечто вроде инстинктивного отвращения, магнетически воспринятого ею во время обморока, или то был холод ночи, но Адриенна вздрогнула вновь и постепенно пришла в себя.
Описать ее ужас, отвращение, оскорбленное чувство стыдливости, когда она, откинув волосы с лица, залитого слезами, увидела себя почти нагой в руках отвратительных мегер — невозможно. Сперва она громко закричала от негодования и стыда, а затем, желая избавиться от взглядов этих ужасных женщин, быстрым и порывистым движением сбросила со стола стоявшую на нем лампу, которая тотчас же потухла, упав на пол. В наступившей темноте несчастное дитя укуталось с головой в одеяло, разразившись громкими рыданиями.
Сиделки приписали крики и поступок Адриенны припадку буйного помешательства.
— Ах, так вот какие штуки! Опять потушила лампу, видно, у тебя это привычка!.. — со злостью закричала Томас, ощупью подвигаясь в темноте. — Ну, так подожди… мы тебя уймем на эту ночь рубашкой, как и верхнюю помешанную; я тебя уже предупреждала.
— Держи ее, Томас, хорошенько, — сказала Жервеза, — я пойду за огнем… вдвоем-то с ней справимся…
— Поторопись только… она хоть и тихоня с виду, а, должно быть, совсем бешеная. Придется всю ночь ее караулить.
Грустный, тяжелый контраст.
Утром Адриенна встала радостная, веселая, свободная, среди роскоши и богатства, окруженная нежными и старательными заботами трех прелестных девушек, которые ей прислуживали. Ее великодушная, взбалмошная головка задумала волшебный сюрприз для молодого индийского принца, ее родственника… Адриенна приняла самое благородное решение относительно сирот, приведенных Дагобером… В беседе с госпожой де Сен-Дизье она представала то гордой, то чувствительной, то грустной, то веселой, то ироничной, то серьезной, мужественной и прямой… Наконец, в этот проклятый дом она явилась с желанием просить о помиловании честного, трудолюбивого ремесленника…
А вечером, коварно завлеченная в западню, Адриенна была брошена на руки грубых, мерзких сиделок в доме для умалишенных, и ее нежное тело было стянуто ужасной одеждой: смирительной рубашкой.
Страшную ночь провела мадемуазель де Кардовилль под присмотром двух мегер. Но каково же было ее удивление, когда утром, около девяти часов, в комнату вошел доктор Балейнье со своей обычной, любезной, добродушной, отеческой улыбкой.
— Ну дитя мое, — начал он ласковым, дружеским тоном, — как вы провели ночь?
3. ПОСЕЩЕНИЕ
Благодаря мольбам, а главное обещанию Адриенны вести себя послушно сиделки сняли с нее смирительную рубашку еще ночью. Утром она сама встала и оделась одна, в чем ей никто не препятствовал.
Девушка сидела на краю кровати. Ужасная ночь пагубно повлияла на ее впечатлительную и нервную натуру. Об этом свидетельствовали и глубокая бледность, и расстроенное выражение лица, и мрачно горевшие лихорадочным блеском глаза, и нервные вздрагивания, время от времени сотрясавшие тело. При виде вошедшего доктора, одним знаком удалившего из комнаты Томаса и Жервезу, Адриенна просто остолбенела от изумления. Дерзость этого человека, осмелившегося явиться ей на глаза после всего, что произошло, вызвала у нее нечто похожее на головокружение… А когда доктор как ни в чем не бывало повторил свою обычную фразу — «Как вы провели ночь?» — Адриенна поднесла руки к горящему лбу, чтобы удостовериться, не видит ли она все это во сне. Губы ее так сильно дрожали от негодования и волнения, что она не могла вымолвить ни слова… И гнев, и негодование, и презрение, а главное, глубокая обида за поруганное доверие, какое она питала к этому человеку, явно замыкали ей уста.
— Так, так. Я этого и ждал, — говорил доктор, грустно покачивая головой. — Вы на меня очень сердитесь? Не так ли? Боже мой, я именно этого и ждал, мое дорогое дитя…
При этих лицемерных и наглых словах Адриенна вскочила. Гордо подняла она свою голову; краска негодования залила ее лицо, черные глаза блеснули, а губы искривились презрительно-горькой усмешкой. Безмолвная и гневная, она быстро и решительно прошла мимо г-на Балейнье, направляясь к двери. Эта дверь с маленькой форточкой была заперта снаружи. Адриенна повелительным жестом указала на нее доктору и промолвила:
— Отворите эту дверь!
— Дорогая мадемуазель Адриенна, — сказал доктор, — успокойтесь… Поговорим как добрые друзья… Вы ведь знаете, что я ваш верный друг…
И он медленно затянулся понюшкой табаку.
— Итак, месье, — дрожащим от гнева голосом спросила Адриенна, — я и сегодня не выйду отсюда?
— Нет, увы!.. В таком состоянии это невозможно… вы страшно возбуждены… Если бы вы увидали свое лицо! До чего оно красно, до чего горят ваши глаза!.. Я уверен, что у вас пульс больше восьмидесяти ударов в минуту… Умоляю вас, дитя мое, не ухудшайте вашего состояния подобным возбуждением!.. Оно гибельно…
Пристально поглядев на доктора, Адриенна вернулась и снова села на кровать.
— Ну, вот и отлично, — продолжал доктор, — будьте благоразумны… и, повторяю вам, поговорим, как следует двум добрым старым друзьям.
— Вы совершенно правы, месье, — сказала Адриенна сдержанным и почти совершенно спокойным голосом, — поговорим, как подобает добрым друзьям… Вы хотите меня выдать за сумасшедшую?.. Не так ли?
— Я хочу только одного, мое дорогое дитя, чтобы вы когда-нибудь почувствовали ко мне столько же благодарности, сколько чувствуете сейчас отвращения… Я знал, что неприязнь придет… Но что же делать? Как ни тяжело иногда исполнить свой долг, но исполнять его необходимо.
Последние слова Балейнье произнес со вздохом и так убежденно, что Адриенна не могла не испытать удивления… Затем, с горькой усмешкой, она заметила:
— Ах!.. вот оно что… Так это все для моей пользы?
— А разве, дорогая мадемуазель, я поступал когда-нибудь против ваших интересов?
— Я, право, не могу решить, что отвратительнее — ваше бесстыдство или ваша гадкая измена?
— Измена? — повторил доктор, печально пожимая плечами. — Измена! Да посудите же вы сами, бедное дитя, мог ли я решиться прийти к вам сегодня, зная, какой меня ждет прием, если бы не чувствовал, что мое поведение по отношению к вам вполне честно, бескорыстно и полезно для вас? В самом деле, я — директор этой больницы… она принадлежит мне… Но у меня есть подчиненные врачи, которых я бы мог послать и которые вполне меня бы заменили… А я этого не сделал… Почему? Потому что знаю вашу натуру, ваш характер, ваше прошлое, и… не говоря уж о моей к вам привязанности… В силу всего этого я могу вас лечить лучше всякого другого.
Адриенна слушала Балейнье, не прерывая ни одним словом. Потом, пристально на него глядя, она спросила:
— Месье… сколько вам платят за то, чтобы… выдавать меня за помешанную?
— Мадемуазель! — воскликнул Балейнье, невольно задетый.
— Я ведь богата… вы это знаете… — продолжала Адриенна с подавляющим презрением. — Я удвою сумму, какую вам платят… Ну, так как же, месье? В качестве… друга, как вы Говорите… позвольте мне хоть надбавить цену…
— Мне сообщили уже ваши сиделки, что сегодня ночью вы пытались подкупить их, — сказал Балейнье, возвращая себе обычное хладнокровие.
— Извините. Им я предложила то, что можно предложить несчастным созданиям, необразованным, бедным, которые должны исполнять свои тяжелые обязанности из нужды… Но что касается такого светского человека, как вы! Человека таких знаний! Человека столь обширного ума! Это совсем другое дело. Тут и цена иная. Всякая измена должна оплачиваться сообразно стоимости… Ваша гораздо дороже… Поэтому не основывайте отказа на скромности моего предложения сиделкам… Говорите же цену, не стесняйтесь!
— Сиделки говорили мне также об угрозах, — продолжал с прежним хладнокровием доктор. — Не вздумаете ли вы и меня припугнуть? Знаете, дорогое дитя, покончим-ка мы разом со всеми попытками подкупа и угроз… И обсудим настоящее положение вещей.
— Так мои угрозы ничего не стоят? — воскликнула мадемуазель де Кардовилль, не в силах более сдержать негодования. — Что же, вы думаете, что когда я выйду отсюда — ведь нельзя же меня держать здесь вечно, — я буду молчать о вашей низкой измене? А! Вы думаете, я не открою всем глаза на вашу бесчестную сделку с госпожой де Сен-Дизье?.. Вы думаете, я буду молчать о том ужасном обращении, какому я здесь подвергалась?.. Но пусть я помешана, а я все-таки знаю, что существуют законы: их именем я буду требовать должного возмездия… Вас покроют стыдом, позором, накажут за ваши деяния… и вас, и ваших сообщников. Считаю долгом признаться, что с этой минуты я употреблю все силы своего ума на борьбу с вами… на смертельную войну… на ненависть и мщение!..
— Позвольте мне прервать вас, дорогая мадемуазель Адриенна, — сказал доктор, все такой же ласковый и спокойный. — Для вашего выздоровления не может быть ничего вреднее подобных безумных надежд. Они будут поддерживать вашу возбужденность; значит, вам необходимо уяснить ваше положение, чтобы вы хорошенько поняли, что, во-первых, выйти вам отсюда невозможно, что, во-вторых, никакого сообщения с внешним миром вы иметь не будете, что, в-третьих, сюда допускаются только люди, в которых я совершенно уверен, что, в-четвертых, я вполне защищен от ваших угроз и мести. Закон на моей стороне, и все права за мною.
— Права?.. Право запереть меня здесь?
— Если бы на это не было веских причин, поверьте, этого не сделали бы.
— Так есть причины?
— К несчастью, очень многие.
— Мне, может быть, их откроют?
— Увы! Они действительно существуют, и мы будем вынуждены их обнародовать, если вы прибегнете к защите законов, как вы грозите. Мы напомнили бы, — к нашему чрезвычайному сожалению, уверяю вас, — о более чем странном образе жизни, какой вы вели: о вашей мании наряжать служанок в театральные костюмы; о ваших непомерных денежных тратах; об истории с индийским принцем, которому вы намеревались оказать царский прием; о вашем безумном решении жить в восемнадцать лет, как живут молодые холостяки, о том, как найден был в вашей спальне спрятанный мужчина… Наконец, был бы представлен протокол, добросовестно составленный тем, кому это дело было поручено, где записано все, что вы вчера высказали.
— То есть как это… вчера? — спросила Адриенна с гневным изумлением…
— Очень просто. Предвидя, что вы, может быть, не оцените наших забот о вашей особе, мы сделали все по закону. В соседней комнате сидел некий господин, который стенографировал дословно все ваши ответы… И знаете: если вы когда-нибудь в спокойном состоянии прочтете результаты этого допроса, — вы не будете больше удивляться решению, какое мы сочли необходимым принять…
— Продолжайте! — с презрением сказала Адриенна.
— Так вот, видите, дорогая мадемуазель Адриенна, раз все эти факты доказаны, известны, то мера, принятая вашими родными людьми, которые вас любят, вполне понятна и законна. Они были обязаны позаботиться об излечении этого умственного расстройства, проявлявшегося, правда, пока только в известного рода маниях, но в дальнейшем грозившего вам серьезной болезнью, если дать ему развиться… А между тем, по моему мнению, вас можно вполне излечить, если приняться за дело как следует… Лечить вас надо как морально, так и физически… Первое условие для этого — удаление вас из той сферы, где все поддерживало опасную возбужденность вашего ума. А здесь, при известном, здоровом и правильном образе жизни, при спокойствии и уединении, при моих усердных и, смею сказать, отеческих заботах, вы мало-помалу выздоровеете окончательно.
— Значит, — с горьким смехом произнесла Адриенна, — любовь к благородной независимости, великодушие, поклонение прекрасному, отвращение ко всему низкому и гнусному — все это болезни, от которых меня следует лечить?! Но я считаю себя неизлечимой, так как тетка уже очень давно пыталась меня заставить выздороветь и безуспешно.
— Может быть… Но попытаться все-таки необходимо. Итак, вы видите, что масса основательных причин заставила нас после совещания на семейном совете принять такое решение: это меня совершенно избавляет от всякой ответственности, какой вы мне грозите… Я хочу только доказать вам, что человек моих лет, моего положения никогда не решился бы действовать при подобных обстоятельствах наобум. Поймите же, наконец, что отсюда вы не выйдете до полного выздоровления, и мне бояться нечего: все сделано по закону… Ну, а теперь мы можем поговорить и о состоянии вашего здоровья; поверьте, что я с полным участием отношусь к вам…
— Если я и помешана, то все-таки нахожу, что вы говорите совершенно разумно!
— Вы помешаны!.. Избави Бог, дитя мое… этого нет еще… и надеюсь, что я не допущу вас до этого, но необходимо заняться вами заблаговременно… И скажу откровенно, это давно пора… было сделать. Вы смотрите на меня с таким удивлением… вы мне не верите… Но подумайте сами, зачем бы мне было это говорить? Неужели я потворствую ненависти вашей тетки? Какая же у меня цель? Что она может мне сделать? Поверьте, я о ней и сегодня думаю то же, что думал вчера. Вспомните, наконец, разве я не говорил вам и раньше того же?.. Разве я не говорил вам не раз об опасном возбуждении вашей фантазии… о ваших странных прихотях? Правда, я употребил хитрость, чтобы вас сюда привезти… Да, это так!.. Я с радостью ухватился за предлог, который вы сами мне дали… все это так, дорогое мое дитя… Но как же было иначе сделать?.. ведь добровольно бы вы сюда не пошли?.. Когда-нибудь да надо было найти предлог… ну, я и решил: ее собственная польза превыше всего… Делай, что должен делать… а там будь, что будет…
Пока Балейнье говорил, на лице Адриенны гнев и презрение постепенно сменялись выражением ужаса и тоски… Эти чувства овладевали ею тем больше, чем сознательнее, спокойнее, проще, искреннее и, если можно так выразиться, справедливее и разумнее говорил этот человек… Это было страшнее открытой ненависти г-жи де Сен-Дизье… Она не могла даже понять, до чего доходило тут это дерзкое, нахальное лицемерие… Ей оно казалось настолько чудовищным, что она не доверяла своим чувствам. Доктор легко читал на лице девушки ее чувства, видел, как на нее влияли его доводы, и с удовольствием подумал:
«Отлично… сделан громадный шаг… За гневом и презрением наступит страх… недалеко и до сомнения… Кончится тем, что при уходе я услышу дружественную просьбу: приходите поскорее, мой добрый доктор!»
И он продолжал растроганным тоном, как бы исходящим из глубины души:
— Я вижу, вы все еще мне не доверяете… Все, что я говорю, ложь, притворство, лицемерие, не так ли? Ненавидеть вас?.. Да за что?.. Что вы мне сделали худого? Наконец, какая в этом может быть выгода? Ведь для такого человека, каким вы меня считаете, — прибавил он с горечью, — последняя причина всего важнее!.. Я не понимаю только одного, как это вы… вы, которая и больна только вследствие преувеличенного возбуждения самых благородных чувств и болезнь которой — самое идеальное страдание высокой добродетели… и можете холодно и резко обвинять меня, до сих пор всегда выказывавшего вам расположение, обвинять в самом низком, подлом, черном преступлении, на какое только может решиться человек… Да, я повторяю, обвинять в преступлении… потому что иначе нельзя назвать ту ужасную измену, в которой вы меня подозреваете… Знаете, дитя мое, это нехорошо… очень нехорошо… Мне обидно, что светлый, независимый ум может оказаться таким же несправедливым и нетерпимым, как и самый узкий ум. Я не сержусь… нет… Но мне страшно больно… поверьте… я очень страдаю…
И он провел рукою по влажным глазам.
Передать взгляд, выражение, жесты и игру физиономии доктора было бы невозможно. — Самый ловкий адвокат, самый талантливый актер не разыграл бы этой сцены лучше господина Балейнье… Никто не мог бы так сыграть… Господин Балейнье настолько увлекся, что почти верил в то, что говорил. Понимая все коварство своей измены, он знал, что Адриенна не в состоянии будет постичь ее. Честная, правдивая душа не может поверить в возможность некоторых подлых и низких вещей. Когда перед глазами честного, благородного человека открывается бездна коварства и зла, он теряется, им овладевает такое головокружение, что он не в силах ничего различить. Наконец, бывают минуты, когда в самом подлом человеке проявляется искра Божия, таившаяся до той поры где-то глубоко. Адриенна была так хороша, а ее положение было так ужасно, что даже доктор в глубине своей души не мог не пожалеть несчастной. Он уже столь долго выказывал ей дружбу и симпатию, хоть и неискреннюю, столь долго девушка выражала ему самое трогательное доверие, что это невольно стало для него доброй и милой привычкой. Теперь симпатия и привычка должны были уступить место беспощадной необходимости… недаром маркиз д'Эгриньи, обожавший свою мать, не мог отозваться на ее предсмертный призыв. Как же было Балейнье не пожертвовать Адриенной? Члены ордена, к которому он принадлежал, находились, правда, у него в руках… но он, возможно, еще больше был в их руках. Ничто не создает таких ужасных неразрывных уз, как сообщничество в преступлении.
В ту минуту, когда Балейнье так горячо убеждал Адриенну, дощечка, прикрывавшая форточку в двери, тихонько отодвинулась, и в комнату заглянули чьи-то пытливые глаза. Балейнье этого не заметил. Адриенна не сводила глаз с доктора; она сидела словно зачарованная, удрученно молча, охваченная неопределенным страхом. Она не в состоянии была проникнуть в мрачную глубину души этого человека и невольно была тронута полупритворной, полуискренней речью и трогательным, грустным тоном доктора… Она даже начала сомневаться. Ей пришло в голову, что, быть может, господин Балейнье впал в страшную ошибку… и, возможно, искренно верил в свою правоту… Волнения прошедшей ночи, опасность ее положения, нервное расстройство — все это поддерживало смущение и нерешительность девушки; она все с большим и большим удивлением смотрела на доктора. Затем, сделав сильнейшее усилие над собой, Адриенна решила не поддаваться слабости, которая могла привести к самым печальным результатам.
— Нет… нет!.. — воскликнула она. — Я не хочу… не могу поверить, чтобы человек ваших знаний, с вашим опытом мог так ошибаться…
— Ошибаться? — серьезным и печальным тоном прервал ее Балейнье. — Вы думаете, я сделал ошибку?.. Позвольте мне от имени этого опыта, этих знаний, которые вы за мною признаете… позвольте мне сказать вам несколько слов… и тогда судите сами… я положусь на вас…
— На меня?.. — заметила удивленная девушка. — Так вы хотите убедить меня… — Затем она нервно рассмеялась и продолжала: — Да, действительно, вашей победе недостает только одного: убедить меня в том, что я помешана… что мое настоящее место именно здесь… что я даже вам…
— …должна быть благодарна… Это так, повторяю вам, и я докажу вам это. Слова мои будут жестоки, но есть раны, лечить которые надо огнем и железом. Умоляю вас, дорогое дитя… поразмыслите… оглянитесь на ваше прошлое. Прислушайтесь к своим мыслям… и вы сами испугаетесь. Припомните о тех минутах экзальтации, когда вам казалось, что вы не принадлежите больше земле… А потом сравните сами, — пока ваша голова еще достаточно свежа, чтоб сравнивать… — свою жизнь с жизнью других девушек, ваших ровесниц. Есть ли из них хоть одна, которая жила бы так, как вы живете, думала, как думаете вы? Если не вообразить, что вы стоите неизмеримо выше всех женщин в мире, и во имя этого превосходства признать ваши права на единственный в своем роде образ жизни… то…
— Вы хорошо знаете, что у меня никогда в голове не было столь нелепых претензий! — с возрастающим ужасом прервала Адриенна.
— Так чему же тогда приписать ваш странный, необъяснимый образ жизни? Можете ли вы сами признать его вполне разумным? Ах, милое дитя мое! Берегитесь… Пока вы все еще в периоде милых оригинальностей, поэтических чудачеств, нежных и неопределенных мечтаний… но это скользкая, наклонная плоскость… она неизбежно приведет вас к дальнейшему… Берегитесь, берегитесь!.. Пока еще берет верх здоровая, остроумная, привлекательная сторона вашего рассудка, она накладывает свой отпечаток на ваши странности… Но вы и не подозреваете, как скоро овладевает умом другая безумная сторона… как она подавляет проявление здоровой мысли в определенный момент. Тогда наступит время не изящных странностей, как теперь, а… время гадких, кошмарных, отвратительных безумств.
— Мне страшно!.. — с ужасом, прикрывая лицо руками, пролепетала бедняжка.
— И тогда… — продолжал Балейнье взволнованным голосом, — тогда погаснут последние лучи рассудка… и… сумасшествие… да… надо же, наконец, произнести это страшное слово… сумасшествие овладеет вами! Оно начнет проявляться то в бешеных, диких порывах…
— Как там… наверху… с этой женщиной! — прошептала Адриенна.
И с горящим, остановившимся взглядом она медленно подняла к потолку свою руку.
— То, — продолжал врач, сам испуганный действием своих слов, но подчиняясь безвыходности своего положения, — то настанет безумие тупое, животное. Несчастное создание, которым оно овладевает, теряет все человеческое… Остаются одни животные инстинкты: как зверь, накидывается больной на пищу; как зверь, мечется из стороны в сторону по комнате, где он заперт… И в этом проходит вся жизнь…
— Как та женщина… там…
И Адриенна с помутившимся взором указала на противоположное окно.
— Да, мое милое, несчастное дитя, — воскликнул Балейнье, — эти женщины были молоды и красивы, как вы… веселы и остроумны, как вы… Но — увы! — они вовремя не сумели подавить зародыш болезни, и безумие росло, росло… и навсегда заглушило их разум…
— О! Пощадите! — закричала мадемуазель де Кардовилль, потеряв голову от ужаса. — Пощадите… не говорите мне таких вещей… я боюсь… мне страшно… уведите меня отсюда!. Я говорю вам: уведите! — кричала она раздирающим голосом. — Я кончу тем, что действительно сойду с ума!..
Затем, стараясь освободиться от мучительного страха, невольно овладевшего ею, она продолжала:
— Нет… нет! Не надейтесь на это… Я не помешаюсь… я в полном рассудке, я еще не ослепла, чтобы не видеть, что вы меня обманываете!!! Конечно, я живу не так, как все… меня оскорбляет то, что других вовсе не трогает… Но что все это обозначает?.. Что я не похожа на других… Разве у меня злое сердце?.. Разве я завистлива, себялюбива? Сознаюсь, у меня бывают странные фантазии… Ну, что же, я этого не отрицаю… Но вы знаете, вы сами это знаете, господин Балейнье… они всегда преследуют хорошие, великодушные цели… — при этом голос Адриенны перешел в умоляющий тон и слезы потекли градом.
— Ни разу в жизни я не сделала дурного поступка… Если я и ошибалась в чем-нибудь, то только от избытка великодушия: стараться сделать всех вокруг себя счастливыми разве значит быть помешанной?.. Потом, всегда чувствуешь, если сходишь с ума, а я этого не чувствую… потом… я теперь просто ничего не знаю!.. Вы мне наговорили таких страшных вещей об этих женщинах… Ведь этой ночью… вы сами знаете это лучше меня… Но тогда, — прибавила Адриенна с отчаянием, — надо же что-нибудь делать! Зачем вы раньше не приняли мер, если вы меня действительно любите? Отчего вы не пожалели меня раньше? А самое ужасное… это, что я не знаю, должна я вам доверять или, быть может, здесь западня… Нет, нет… Вы плачете? — прибавила она, смотря на Балейнье, который не мог удержать слез при виде этих ужасных страданий, несмотря на весь свой цинизм и бессердечие… — Вы плачете обо мне?.. Но, Боже… Так, значит, еще можно что-то сделать?.. О! я все исполню, я все сделаю, что вы велите… все… все… Только спасите меня… не дайте мне сделаться похожей на этих несчастных… на этих женщин… Неужели уже поздно?.. Нет… ведь еще не поздно… не правда ли, мой добрый доктор? Простите, простите меня за все, что я вам говорила, когда вы пришли!.. ведь я тогда… поймите это… я тогда не знала!..
За отрывистыми словами, прерываемыми рыданиями и похожими на лихорадочный бред, последовало молчание, в продолжение которого доктор, глубоко взволнованный, отирал слезы. У него больше не было сил.
Адриенна спрятала лицо в руки. Вдруг она подняла голову и снова открыла лицо. Выражение его было спокойнее, хотя она продолжала дрожать от нервного волнения.
— Господин Балейнье, — произнесла она с трогательным достоинством, — не знаю, что я сейчас вам наговорила. Страх заставил меня бредить, кажется. Теперь я одумалась и собралась с мыслями. Выслушайте меня. Я знаю, что я в вашей власти. Я знаю, что никто меня не может из нее вырвать… но скажите, кто вы: непримиримый враг или друг? Я ведь этого не знаю. Скажите, действительно ли вы боитесь за меня, что мои странности могут перейти в безумие, или вы участвуете в адском замысле? Вы один это знаете… Я признаю себя, несмотря на все свое мужество, побежденной. Я согласна на все… слышите ли: на все!.. Даю вам в этом слово, а на него положиться можно: я заранее готова все исполнить! Значит, удерживать меня здесь вам совсем не нужно… Но если вы искренно считаете меня близкой к безумию, — а, сознаюсь вам, вы вселили в меня сомнения на этот счет, неопределенные, но страшные сомнения… — тогда скажите мне правду… я вам поверю… Я одна, без друзей, без советов, одна и в полной зависимости от вас… я вам слепо доверяю… Скажите, кого приходится мне умолять: спасителя или палача?.. я не знаю этого… но я говорю: вот вам моя жизнь… мое будущее… берите их… я более не в силах бороться…
Эти слова, полные раздирающей покорности и безнадежной доверчивости, нанесли последний удар по колебаниям Балейнье. До глубины души растроганный этой сценой, он решился успокоить девушку по крайней мере относительно тех ужасов и опасений, которые он ей внушил. Доктор не хотел уже думать о последствиях, какие он на себя может этим навлечь. На лице его читались чувства раскаяния и доброжелательства. Читались слишком ясно…
В ту минуту, когда он подошел к мадемуазель де Кардовилль и хотел взять ее руку, за форточкой раздался вдруг резкий, неприятный голос, произнесший только два слова:
— Господин Балейнье!
— Роден! — испуганно прошептал доктор. — Он шпионил!
— Кто вас зовет? — спросила Адриенна.
— Некто, кому я обещал идти с ним сегодня в соседний монастырь св.Марии, — с унынием ответил доктор.
— Что же вы мне скажете? — со смертельной тревогой спросила снова девушка.
После минуты торжественного молчания доктор ответил растроганным голосом, повернувшись лицом к двери:
— Я могу сказать только одно: я был и остаюсь вашим верным другом… и обмануть вас я не в состоянии…
Адриенна смертельно побледнела. Затем, стараясь казаться спокойной, она протянула Балейнье руку и сказала:
— Благодарю вас… я постараюсь не потерять мужества… А долго это может протянуться?
— Быть может, с месяц… уединение, размышление… правильный уход… мои преданные заботы… Успокойтесь… Все, что вам не вредно, будет дозволено… Вас постараются окружить вниманием. Если вам не нравится эта комната, ее можно переменить…
— Та или другая, не все ли равно! — ответила Адриенна с глубоким, угрюмым унынием.
— Ну, полноте же… будьте мужественны… ничто еще не потеряно.
— Кто знает… может быть, вы только мне льстите, — мрачно улыбаясь, заметила Адриенна. Затем она прибавила: — До скорого свидания, дорогой доктор! вы теперь моя единственная надежда!
И ее голова склонилась на грудь, руки упали на колени; бледная, разбитая, неподвижная, она осталась на краю кровати, повторяя после ухода доктора одни и те же слова:
— Помешана!.. сумасшедшая, быть может!
Мы оттого так долго останавливались на этом эпизоде, что в нем гораздо меньше романического вымысла, чем можно подумать. Не раз месть, выгоды, коварные замыслы злоупотребляли той безрассудной легкостью, какую допускает закон при приеме больных от друзей или семьи в частные лечебницы для умалишенных. Мы позднее выскажем свои соображения относительно необходимости создания своего рода инспекции, назначаемой властями или гражданскими органами, которая ставила бы себе целью периодический или постоянный надзор за учреждениями для умалишенных… а также за другими не менее важными учреждениями, еще более остающимися вне всякого надзора… Мы подразумеваем некоторые женские монастыри, которыми вскоре и займемся.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ДУХОВНИК
1. ПРЕДЧУВСТВИЯ
В то время, когда Адриенна находилась в лечебнице доктора Балейнье, в жилище Франсуазы Бодуэн, на улице Бриз-Миш, происходили другие события.
На колокольне Сен-Мерри только что пробило семь часов утра; день наступил угрюмый и пасмурный; иней и снежная крупа искрились на окнах убогой комнаты жены Дагобера.
Франсуаза еще не знала, что сын ее арестован, и ждала его домой весь вечер и часть ночи в смертельном беспокойстве. Только в третьем часу утра, уступая усталости и сну, она бросилась на матрац у постели Розы и Бланш. Но едва начало светать, Франсуаза была уже на ногах и поднялась наверх в мансарду Агриколя, смутно надеясь, что он мог вернуться очень поздно и пройти прямо к себе.
Роза и Бланш только что встали и оделись. Они были одни в скучной и холодной комнате; правда, Угрюм, оставленный Дагобером в Париже, лежал растянувшись около остывшей печки, положив длинную морду на вытянутые лапы и не спуская глаз с обеих сестер. Девушки спали мало, потому что заметили волнение и тревогу жены Дагобера. Они видели, что она то ходила по комнате, сама с собой разговаривая, то прислушивалась к малейшему шуму на лестнице, то бросалась на колени перед распятием. Сироты и не подозревали, что добрая женщина, с жаром молившаяся за сына, в то же время молилась и за них, так как спасению их душ, по ее мнению, грозила опасность.
Когда накануне, после поспешного отъезда Дагобера в Шартр, она предложила им помолиться, они наивно ответили, что не знают ни одной молитвы и молятся, только взывая к матери, находящейся на небе. А когда взволнованная столь печальным открытием старуха заговорила о катехизисе, конфирмации, причастии, девочки вытаращили глаза, ничего не понимая в этих словах. В своей простодушной вере жена Дагобера, напуганная полнейшей неосведомленностью девушек в вопросах религии, решила, что их гибель совершенно неизбежна, когда на вопрос крещены ли они — причем она пояснила что значит это таинство, — сиротки отвечали, что, наверное, нет, так как в том месте, где они родились и жили в Сибири, не было ни церкви, ни священника. Став на точку зрения Франсуазы, легко понять ее ужасную тревогу. Ведь в ее глазах эти очаровательные, кроткие девушки, которых она уже успела нежно полюбить, были несчастными язычницами, безвинно обреченными на вечную погибель. Она не в силах была сдерживать слезы и скрыть свой испуг и, обнимая Розу и Бланш, обещала как можно скорее заняться их спасением, приходя в отчаяние, что Дагобер не позаботился о том, чтобы окрестить их в пути. Между тем, надо сознаться откровенно, отставному конногренадеру и в голову не приходила подобная мысль.
Отправляясь накануне в церковь, чтобы послушать воскресную службу, Франсуаза не посмела взять девушек с собою. Ей казалось, что благодаря полнейшей их невежественности в делах религии, присутствие их в церкви будет если не неприлично, то во всяком случае бесполезно. Зато старуха в самых горячих молитвах пламенно испрашивала небесного милосердия пощадить бедных девочек, не подозревавших даже, в какой опасности находятся их души.
Итак, по уходе Франсуазы девушки сидели одни в комнате. Они, как прежде, были в трауре. Их прелестные лица носили следы грустной задумчивости. Действительно, контраст между их мечтами о Париже, чудесном золотом городе, и бедной обстановкой этого жилища на улице Бриз-Миш, где они остановились, был слишком разителен, хотя они привыкли к самой неприхотливой жизни. Вскоре это удивление, вполне понятное, сменилось мыслями, серьезность которых не отвечала возрасту девушек. Вид этой честной, трудолюбивой бедности заставил глубоко призадуматься сирот уже не по-детски, но по-взрослому; благодаря своему ясному уму, добрым инстинктам, благородным сердцам и мягкому, но мужественному характеру они за истекшие сутки уже многое оценили и над многим размышляли.
— Сестра, — сказала Роза, когда Франсуаза вышла из комнаты, — бедная жена Дагобера о чем-то очень тревожится. Заметила ты, как она волновалась всю ночь… как плакала, как молилась?
— Ее горе меня тронуло, сестра, как и тебя; я все думала, чем оно вызвано…
— Знаешь, чего я боюсь?.. Мне думается, не мы ли причина ее тревоги?
— Отчего? Неужели потому, что мы не знаем молитв и не знаем, были ли крещены?
— В самом деле, это, похоже, доставило ей большое огорчение. Я была этим очень тронута, так как это доказывает, что она нежно любит нас… Но я не поняла, почему мы подвергаемся, по ее словам, ужасным опасностям…
— Я тоже не поняла, сестра; мы, кажется, всегда стараемся делать все так, чтобы угодить нашей матери, которая нас видит и слышит…
— Мы стараемся платить любовью за любовь, мы ни к кому не питаем злобы… мы всему покоряемся без ропота… В чем же можно нас упрекнуть?
— Ни в чем… Но, видишь, сестра, мы, может быть, делаем зло невольно.
— Мы?
— Ну да!.. Поэтому я тебе и сказала: я боюсь, что мы — предмет тревоги для жены Дагобера.
— Да как же это?..
— Послушай, сестрица… Вчера Франсуаза хотела шить мешки из этого толстого холста, что на столе…
— Да… а через полчаса она с грустью сказала нам, что не может продолжать работу, что глаза отказываются ей служить, что она слепнет…
— Так что она не может больше трудом зарабатывать себе на пропитание…
— Нет. Ее кормит сын, господин Агриколь… У него такое хорошее лицо, он такой добрый, веселый, открытый, и, кажется, он так доволен, что может заботиться о матери!.. Поистине это достойный брат нашему ангелу Габриелю!
— Ты сейчас поймешь, почему я об этом заговорила… Наш старый друг Дагобер сказал нам, что денег у него почти ничего не осталось…
— Это правда.
— Он так же, как и его жена, не в состоянии заработать на жизнь; бедный старый солдат, что он может делать?
— Ты права… Он может только любить нас и ходить за нами, как за своими детьми.
— Значит, поддерживать его должен опять-таки господин Агриколь, потому что Габриель, бедный священник, у которого ничего нет, ничем не может помочь людям, его воспитавшим… Таким образом, Агриколь вынужден один кормить всю семью…
— Конечно… Дело идет о его матери, о его отце… это его долг, и он им нисколько не тяготится!
— Это-то так… Но мы… Относительно нас у него нет никаких обязательств…
— Что ты говоришь, Бланш?
— А то, что если у нас нет ничего, то он должен будет работать и на нас…
— Это верно! Я и не подумала об этом!
— Видишь, сестра… Положим, что наш отец — герцог и маршал, как говорит Дагобер… Положим, что с нашей медалью связаны великие надежды, но пока отца с нами нет, пока наши надежды еще не осуществились, — мы все еще только бедные сироты, обременяющие этих славных людей, которым мы уже стольким обязаны и которые находятся в такой большой нужде, что…
— Отчего ты замолчала, сестра?
— Видишь ли, то, что я тебе сейчас скажу, может иного рассмешить. Но ты поймешь меня правильно. Вчера жена Дагобера, видя, как ест бедняга Угрюм, заметила печально: «Господи, да ему нужно не меньше, чем человеку!» Знаешь, она это так грустно вымолвила, что я чуть не заплакала… Подумай, как, значит, они бедны… А мы еще увеличиваем их нужду!
Сестры печально переглянулись, но Угрюм, казалось, не обратил никакого внимания на упрек в обжорстве.
— Я тебя понимаю, Бланш, — вымолвила наконец Роза после недолгого молчания.
— Мы не должны быть в тягость никому… Мы молоды и достаточно мужественны. Пока наше положение не прояснилось, вообразим, что мы дочери рабочего… К тому же разве наш дедушка не простой ремесленник? Поищем себе работу и будем трудом добывать свой хлеб… Сами зарабатывать себе хлеб… Этим можно гордиться и какое это счастье!..
— Дорогая моя сестренка, — сказала Бланш, обнимая Розу, — какое счастье! Ты опередила меня… Поцелуй меня.
— Я тебя опередила?
— Ты знаешь, я сама составила такой же план… Когда вчера жена Дагобера с горестью воскликнула, что зрение у нее совсем пропало, я взглянула в твои добрые большие глаза, вспомнила при этом, что у меня такие же, и подумала: однако если глаза бедной жены Дагобера ничего не видят, то глаза девиц Симон, напротив, видят прекрасно… Нельзя ли ими заменить ее?.. — добавила Бланш, улыбаясь.
— И неужели девицы Симон так уж неловки, чтобы не сшить грубых мешков из серого холста? — прибавила Роза, улыбаясь, в свою очередь. — Может быть, сперва руки и натрудим, но это ровно ничего не значит.
— Видишь… мы, значит, опять, как всегда, думали об одном и том же! Я хотела тебя удивить и сообщить свой план, когда останемся одни.
— Да, все это так, но меня кое-что беспокоит.
— Что же?
— Во-первых, Дагобер и его жена не преминут сказать нам: «Вы не созданы для этого… шить грубые, противные, холщовые мешки! Фи!.. И это дочери маршала Франции!» А если мы будем настаивать, они прибавят: «У нас для вас работы нет… угодно, так ищите, где знаете!» Что же тогда будут делать девицы Симон? Где они станут искать работу?
— Да, уж если Дагоберу что-то придет в голову…
— О, так нужно как следует к нему приласкаться…
— Ну, знаешь, это не всегда удается… Есть вещи, в которых он неумолим. Помнишь, как было дорогой, когда мы хотели ему помешать так заботиться о нас…
— Идея, сестра! — воскликнула Роза. — Прекрасная идея!..
— Ну говори скорее, что такое?..
— Ты заметила эту молоденькую работницу, которую все зовут Горбуньей: такая предупредительная, услужливая девушка?
— О, да!.. Такая скромная, деликатная… Кажется, она боится и смотреть на людей, чтобы их не стеснить чем-нибудь. Вчера она не заметила, однако, что я на нее смотрю, и мне удалось поймать ее взгляд, устремленный на тебя. Выражение лица у нее в это время было такое доброе, хорошее; казалось, она так счастлива, что у меня навернулись слезы на глаза — до того это меня растрогало…
— Ну, вот и нужно спросить у Горбуньи, где она достает себе работу, так как она, конечно, ею живет.
— Ты права, она нам расскажет; а когда мы это узнаем, то как бы Дагобер ни ворчал, а мы будем так же упрямы, как и он.
— Да, да, мы покажем, что и у нас есть характер… что не зря в нас течет солдатская кровь! Он часто это повторяет.
— Мы ему скажем: «Ты думаешь, что мы будем когда-нибудь очень богаты; тем лучше, милый Дагобер, мы с еще большим удовольствием вспомним тогда это время».
— Итак, Роза, решено? Не так ли? Как только Горбунья придет, мы ей откроем наш замысел и попросим ее совета. Она такая добрая, что наверное не откажет нам.
— И когда наш отец вернется, он несомненно оценит наше мужество!
— Конечно! Он похвалит нас за то, что мы решились трудиться сами для себя, как будто совершенно одиноки на земле.
При этих словах сестры Роза вздрогнула; облако грусти, почти ужаса омрачило ее черты.
— Господи, сестра, какая ужасная мысль пришла мне в голову! — воскликнула она.
— Что такое? Как ты меня испугала!
— Когда ты сказала, что отец будет доволен, если мы сами о себе позаботимся, как будто мы совсем одиноки… мне на ум пришла страшная, ужасная мысль… Послушай, как бьется мое сердце… Знаешь, мне кажется, что с нами случится какое-то несчастье.
— Верно, сердце у тебя бьется сильно… но о чем же ты подумала? Право, ты меня пугаешь.
— Когда нас посадили в тюрьму, нас по крайней мере не разлучили… Потом тюрьма все-таки пристанище…
— Очень грустное пристанище, хотя мы были и вместе…
— Да!.. Но представь себе, что если бы какой-нибудь случай, несчастье… Разделили нас здесь с Дагобером, если бы мы очутились одни в этом громадном городе… одни, покинутые, без всяких средств…
— О, сестра! не говори таких вещей. Ты права, это было бы слишком страшно… Что бы мы стали делать тогда?!
При этой печальной мысли обе девушки удрученно смолкли. Их красивые лица, оживлявшиеся до сих пор благородной надеждой, побледнели и осунулись. После довольно продолжительного молчания Роза подняла голову: ее глаза были влажны от слез.
— Господи, — сказала она дрогнувшим голосом, — почему эта мысль так печалит нас, сестра? Ты знаешь, у меня сердце разрывается, точно и в самом деле это несчастье когда-нибудь произойдет…
— И я также чего-то страшно боюсь… Увы! Что стали бы мы делать одни, затерянные в этом громадном городе… Что бы с нами сталось?
— Послушай, Бланш… прогоним эти мысли… Разве мы не у нашего доброго Дагобера, среди хороших, сердечных людей?
— А знаешь, сестра, — задумчиво проговорила Роза, — а может быть, это и хорошо, что мне на ум пришла такая мысль.
— Почему?
— Теперь мы еще больше будем дорожить этим жилищем, как оно ни бедно, потому что здесь мы все-таки в безопасности… И если нам удастся достать себе работу, чтобы не быть никому в тягость, то нам ничего больше и не будет нужно до приезда отца.
— Конечно!.. Но отчего это нам пришла такая мысль? Почему она нас так встревожила?
— В самом деле, почему? Я тоже не понимаю. Тем более, что мы находимся здесь среди любящих друзей! Как можно даже предположить, что мы останемся одни, всеми покинутые в Париже? Мне кажется, такое несчастье совершенно невозможно, не так ли, сестра?..
— Невозможно… Да, это так, — промолвила задумчиво и грустно Роза. — Но если бы накануне нашего приезда в немецкую деревню, где убили нашего Весельчака, кто-нибудь сказал нам: «Завтра вы будете заключены в тюрьму», — разве мы не сказали бы, как говорим сегодня: «Это невозможно… Ведь с нами Дагобер… он не даст нас в обиду!..» А между тем… помнишь, сестра, через день мы сидели в Лейпцигской тюрьме!..
— О, не вспоминай… мне страшно…
И невольно девушки приблизились и прижались друг к другу, взявшись за руки и оглядываясь вокруг под влиянием беспричинного страха. Волнение, испытываемое ими, было действительно глубоко, странно и необъяснимо; но в нем чувствовалось нечто угрожающее, как в тех мрачных предчувствиях, которые невольно овладевают иногда нами… Как будто является какое-то роковое предвидение, освещающее на мгновение таинственную бездну нашего будущего…
Страшные предчувствия, ничем не объяснимые! Очень часто о них так же быстро забывают, как они появляются, но зато потом до чего ясно вспоминаются они во всей присущей им мрачной правде, когда события являются для них подтверждением!
Дочери маршала Симона были еще погружены в печаль, когда в комнату вошла возвратившаяся сверху Франсуаза, которая, не застав сына в мансарде, казалась совсем расстроенной и испуганной.
2. ПИСЬМО
У Франсуазы был такой убитый вид, что Роза не могла удержаться и воскликнула:
— Боже, что с вами?..
— Увы! Дорогие дети… я больше не в силах скрывать… — отвечала Франсуаза, заливаясь слезами. — Я просто ни жива ни мертва со вчерашнего дня… Вечером я, по обыкновению, ждала сына к ужину… Он не пришел… Я не хотела вам показать, до чего это меня встревожило, и поджидала его с минуты на минуту… Потому что вот уже десять лет, как он ни разу не лег спать, не простившись со мною… Я провела большую часть ночи у дверей комнаты, прислушиваясь, не идет ли он… Но я ничего не услышала… Наконец, в три часа ночи я легла. Сегодня утром у меня все еще была надежда, правда, очень слабая, что Агриколь вернулся под утро, я пошла посмотреть, и…
— И что же?
— Он не вернулся!.. — промолвила бедная мать, вытирая глаза.
Роза и Бланш взволнованно переглянулись. Одна и та же мысль беспокоила их: если Агриколь не вернется, как будет жить эта семья? Не станут ли они вдвойне тяжелой обузой в подобных обстоятельствах?
— Быть может, господин Агриколь заработался допоздна и не стал возвращаться домой? — заметила Бланш.
— О нет, нет! Он вернулся бы даже среди ночи, зная, как я буду беспокоиться… Увы!.. Несомненно, с ним случилось несчастье… Быть может, его ранили в кузнице: он ведь так охоч до работы, такой смелый! Бедный сынок!!! А к заботам о нем у меня прибавилась еще и тревога за молоденькую работницу, что живет наверху…
— А с ней что случилось?
— Выйдя от сына, я зашла в каморку, где живет Горбунья… чтобы поделиться своим горем, потому что она для меня все равно что дочь… Я не нашла ее дома, а постель не тронута, хотя день только что занимается… Куда она могла деваться, совершенно не могу понять… Она почти никуда не ходит.
Девушки снова тревожно переглянулись. С Горбуньей они связывали надежды найти работу. Но сомнения их на этот счет и волнение Франсуазы рассеялись очень быстро, так как почти тотчас же в дверь постучали и послышался голос Горбуньи:
— Можно войти, госпожа Франсуаза?
Сестры разом бросились к дверям и впустили молодую девушку.
Снег, непрерывно падавший со вчерашнего вечера, промочил до нитки ситцевое платьице молодой работницы, ее дешевую бумажную шаль и черненький тюлевый чепчик, который, оставляя открытыми густые пряди каштановых волос, обрамлял бледное лицо, от холода посинели ее белые, худые руки, и только горевшие внутренним огнем голубые глаза, обычно кроткие и застенчивые, показывали, что это хрупкое существо, несмотря на свою обычную робость, нашло в себе необыкновенную энергию, раз обстоятельства того потребовали.
— Господи!.. Откуда ты, Горбунья? — спросила Франсуаза. — Я поднялась посмотреть, не вернулся ли сын, и заглянула в твою каморку… Не поверишь, как я была удивлена, когда не застала тебя там. Где ты была в такую рань?
— Я принесла вам известия об Агриколе!..
— О сыне! — воскликнула Франсуаза, задрожав от волнения. — Что с ним случилось? Ты его видела? Ты говорила с ним? Где он?
— Я его не видала, но знаю, где он находится.
И, видя, что Франсуаза бледнеет, Горбунья поспешила прибавить:
— Успокойтесь… он здоров; он не подвергается никакой опасности…
— Слава тебе, Господи!.. Ты не покидаешь меня, грешную, своими милостями… Третьего дня ты возвратил мне мужа… Сегодня, после мучительной ночи, ты даешь мне знать, что жизнь моего бедного сына в безопасности.
Говоря это, жена солдата бросилась на колени и набожно перекрестилась.
Пользуясь этим временем, Роза и Бланш подошли к Горбунье и с нежным сочувствием заметили:
— Как вы промокли… вам, верно, холодно… Смотрите не простудитесь… так легко заболеть!
— Мы не смели напомнить госпоже Франсуазе, чтобы она затопила печку… но теперь мы ее попросим.
Тронутая и чрезвычайно удивленная внимательной заботливостью дочерей маршала Симона, Горбунья, всегда испытывавшая благодарность за малейшее доказательство доброты и участия, отвечала с выражением бесконечной признательности:
— Очень вам благодарна, барышни, за внимание. Но не беспокойтесь, як холоду привыкла… Кроме того, я так тревожусь, что даже и не чувствую его теперь!
— Но где же мой сын? — спросила Франсуаза, вставая с колен. — Отчего он не ночевал дома? Так ты знаешь, голубушка Горбунья, где он?.. Скоро ли он придет? Отчего он медлит?
— Ручаюсь вам, что Агриколь здоров; что же касается до его возвращения, то…
— Ну, что же?
— Соберитесь с мужеством, госпожа Франсуаза.
— Боже ты мой!.. У меня кровь стынет в жилах… Что случилось?.. Почему я не могу его видеть?
— Увы!.. Он арестован!
— Арестован! — с ужасом воскликнули Роза и Бланш.
— Да будет воля твоя, Господи! — сказала Франсуаза. — Какое страшное горе… Он арестован!.. Он!.. Такой добрый, честный парень! За что его арестовали?.. Видно, случилось какое-нибудь недоразумение?
— Третьего дня, — начала Горбунья, — я получила анонимное письмо. Меня уведомляли, что Агриколя могут арестовать не сегодня завтра за его песню «Труженики». Я сообщила об этом Агриколю, и мы решили, что он отправится к богатой барышне с Вавилонской улицы, которая предлагала ему свою помощь, когда понадобится… Вчера утром он пошел к ней, чтобы попросить внести за него залог… чтобы его не посадили в тюрьму.
— Ты все это знала и ничего мне не сказала… да и он тоже… Зачем было скрывать?
— Для того, чтобы вас не тревожить понапрасну, так как, рассчитывая на великодушие этой молодой особы, я ждала, что Агриколь вернется скоро. Вчера вечером я себя все еще успокаивала мыслью, что, верно, его задержали какие-нибудь формальности по внесению залога… Но время шло, а он не являлся. Я ведь тоже не спала всю ночь, поджидая его…
— Это правда, милая Горбунья… Твоя постель не смята…
— Я была слишком взволнована. И этим утром, еще до рассвета, не в состоянии превозмочь опасения, я вышла. Хорошо, что я запомнила адрес барышни на Вавилонской улице. Туда я и побежала.
— О, да, ты права, — проговорила Франсуаза. — Ну, и что же?.. Агриколь ведь так хвалил эту барышню за доброту и великодушие.
Горбунья грустно покачала головой. Слезы блеснули на ее глазах; она продолжала:
— Когда я туда пришла, было еще совсем темно… Я подождала рассвета…
— Бедняжка… такая слабенькая, боязливая… — сказала глубоко тронутая Франсуаза. — Идти в такую даль… по такой погоде… Правда, можно сказать, что ты мне поистине родная дочь!
— А разве Агриколь мне не брат? — кротко возразила девушка, слегка краснея. Затем продолжила: — Когда совсем рассвело, я решилась позвонить в дверь маленького домика… Прелестная молодая девушка, правда, с очень бледным и грустным личиком, отворила мне дверь… «Сударыня, — сказала я ей тотчас, боясь, чтобы она не приняла меня за попрошайку, — сударыня, я пришла к вам по поручению несчастной матери, впавшей в полное отчаяние». Молодая девушка отнеслась ко мне по-доброму, и я ее спросила, — не приходил ли к ее госпоже накануне молодой рабочий с просьбой оказать ему услугу. — «Да… — отвечала мне она, — но, к несчастью, хотя мадемуазель и обещала ему помочь и даже спрятала от полиций в свое убежище, но все-таки молодого человека обнаружили и вечером, в четыре часа, его увели в тюрьму».
На лицах сирот, в их опечаленном взоре, хотя они и молчали, можно было ясно видеть, какое сочувствие вызывало в них несчастье семьи Дагобера…
— Но тебе нужно было постараться повидать эту барышню, милая Горбунья! — воскликнула Франсуаза. — Ты должна была умолять ее не оставить моего сына в беде… Она так богата… Ей все доступно… Она может нас спасти!..
— Увы! — грустно произнесла Горбунья, — мы должны отказаться от этой надежды!
— Почему же?.. Если эта барышня так добра, — сказала Франсуаза, — она непременно пожалеет нас, особенно когда узнает, что целая семья может впасть в крайнюю нищету из-за ареста моего сына, нашего единственного кормильца!
— Эта барышня, — продолжала Горбунья, — как мне сказала ее горничная, заливаясь слезами, кажется, признана сумасшедшей… Ее вчера свезли в больницу…
— Сумасшедшая! Какое несчастье!.. для нее… и для нас! Ну, значит, последняя надежда пропала! Что с нами будет? Господи!.. Сын мой!.. Господи!
И несчастная женщина закрыла лицо руками.
За воплем отчаяния Франсуазы наступило глубокое молчание. Роза и Бланш с тоской смотрели друг на друга, чувствуя, что своим присутствием они еще больше ухудшают положение семьи. Горбунья, разбитая усталостью, охваченная горьким волнением, дрожа под промокшей одеждой, беспомощно опустилась на стул, раздумывая о безнадежном положении семьи Дагобера.
Действительно, положение было безвыходное… Во времена политических смут или волнений трудящихся, являющихся следствием вынужденной безработицы или несправедливого снижения заработной платы, безнаказанно проводимым могущественной коалицией капиталистов, очень часто случается, когда из-за ареста одного из членов семьи ремесленника вся она попадает в такое же плачевное положение, в какое попала и семья Дагобера при аресте Агриколя.
Что касается предварительного заключения, которому нередко подвергаются честные и трудолюбивые рабочие, почти всегда доведенные да отчаянного положения компаниями из-за неупорядоченности работы, и недостаточности заработной платы, закон, по-нашему, действует очень несправедливо. Тяжело видеть, что тот самый закон, перед которым все должны быть равны, отказывает одним в том, что дозволяет другим… только потому, что у последних имеются деньги.
Почти всегда человек состоятельный, внеся залог, может избавить себя от неудобств и неприятностей предварительного заключения. Он вносит известную сумму денег, дает слово явиться, когда его вызовут, и возвращается к своим делам, удовольствиям и тихим семейным радостям… Что может быть лучше этой снисходительности, особенно если допустить, что каждый обвиняемый может оказаться и невиновным? Тем лучше для богача, который пользуется дарованным законом правом.
А бедный? Ему не только нечем внести залог — ведь все его имущество заключается в поденном заработке, — но и предварительное заключение для бедняка ужасно, безысходно и тягостно.
Для богача тюрьма — это отсутствие удобств и благ жизни, это скука, это горе разлуки с близкими; конечно, все это заслуживает внимания, поскольку нужно сочувствовать любой беде. Слезы богатого, разлученного со своими детьми, не менее горьки, чем слезы рабочего, удаленного от семьи… Но отсутствие богатого не обрекает его семью на холод, голод и неизлечимые болезни, причиняемые бедностью и истощением…
А для ремесленника тюрьма — это отчаяние… нищета… иногда смерть близких. Ему нечем внести залог: его сажают… Ну, а если у него остались, как это часто бывает, престарелые родители, больная жена, грудные дети? Что будет с этими несчастными? И раньше они едва могли перебиваться на почти всегда недостаточный заработок сына, мужа и отца… Что же будет с ними, когда и эта единственная поддержка исчезнет вдруг на три, на четыре месяца? К чьей помощи прибегнуть этой семье? Что будет с этими изнуренными стариками, больными женщинами, крошечными детьми, если никто из них не в состоянии заработать на пропитание? На неделю, дней на десять еще хватит одежды, белья, которое снесут в ломбард, а потом? А когда зима прибавит новые муки и страдания к ужасной и неизбежной нищете? Тогда ремесленнику-узнику предстанут в бессонные ночи его близкие существа — истощенные, исхудалые, изможденные нуждой, лежащие почти нагими на грязной соломе, прижимаясь друг к другу в надежде согреться…
Если ремесленника оправдают и он выходит из тюрьмы, — его ждут разорение и траур в его бедном жилище. После такого большого перерыва связи порваны, и много-много дней потребуется, чтобы он снова мог найти работу! А день без работы — лишний день голода!
Повторяем, если бы закон в определенных случаях не представлял привилегию внести залог, — тем, кто богат, оставалось бы только оплакивать неизбежное личное несчастье. Закон соглашается временно вернуть свободу людям, располагающим известной суммой денег, — почему же он лишает этого преимущества тех, кому эта свобода особенно необходима, потому что свобода для них — это сама жизнь, само существование их семей?
Существует ли возможность изменить такое плачевное положение вещей? Мы думаем: да! Минимум залога, требуемого законом, определяется суммой в пятьсот франков; эта сумма — средняя заработная плата рабочего за полгода.
Если мы предположим, что у него есть жена и двое детей (мы берем опять средний случай), то ясно, что скопить такую сумму для него невозможно. Таким образом, требовать от рабочего залог в пятьсот франков, чтобы рабочий мог еще поддерживать семью, — значит ставить его в невозможность воспользоваться этой льготой закона, которой именно он, более, чем кто-либо другой, имел бы право воспользоваться из-за тех разрушительных последствий для близких, которые влечет за собой его временное заключение. Не было ли бы справедливо, человечно, благородно согласиться — в тех случаях, когда залог дозволен и когда честность обвиняемого убедительно удостоверена, — на моральные гарантии для тех, чья нищета не позволяет предложить гарантии материальные и у кого нет иного капитала, кроме труда и честности? Нельзя ли положиться в этом случае на честное слово порядочных людей, которые пообещают явиться на суд в назначенный день? Нам кажется, что надежды на повышение моральной ценности клятвы не будут ошибочны, а в наше время особенно важно поднять нравственный уровень человека в его собственных глазах, чтобы клятва рассматривалась как достаточная гарантия. Неужели достоинство человека находится в таком пренебрежении, что по сему поводу будут кричать об утопии и невозможности? Спросим, много ли видано примеров, чтобы военнопленные, отпущенные под честное слово, нарушили его? А эти солдаты и офицеры почти все — дети народа.
Нисколько не преувеличивая значения клятвы для трудящихся классов, честных и бедных, мы утверждаем, что виновный никогда не изменит данному обязательству и честно вовремя явится на суд в назначенное время. Больше того: он будет более благодарен закону за оказанную снисходительность, потому что семья не страдала от его отсутствия.
Кроме того, надо сознаться к чести Франции, что судьи, столь же плохо оплачиваемые, как и военные, — люди образованные: человечные, безукоризненные и независимые; они добросовестно относятся к своему полезному и важному делу; более чем какая-либо другая корпорация они могут и умеют милосердно оценить беспредельные бедствия и невзгоды трудящихся классов общества, с которыми они так часто соприкасаются note 18. Поэтому, как бы ни были широки полномочия, которые можно было бы предоставить членам суда в определении случаев морального залога, эти полномочия следует допустить, так как моральный залог — это единственное, что может дать честный и нуждающийся человек.
Наконец, если те люди, которые создают законы и управляют нами, настолько презирают народ, что с оскорбительным недоверием отвергнут вносимое нами предложение, то нельзя ли по крайней мере понизить минимум залога до той цифры, которая будет доступна для тех, кому так необходимо избегнуть жестокостей предварительного заключения? Нельзя ли принять за норму месячный заработок среднего ремесленника, — например, восемьдесят франков? Конечно, сумма эта все-таки непомерно высока, но с помощью друзей, ломбарда и маленького аванса восемьдесят франков найдутся, правда, редко, но по крайней мере несколько семей будут вырваны из когтей нищеты.
Высказав это, мы перейдем к семье Дагобера, попавшей, благодаря аресту Агриколя, в отчаянное положение.
Тревога Франсуазы все более и более возрастала, чем больше она раздумывала о том, что случилось. Включая дочерей генерала Симона, четыре человека остались вовсе без пропитания. Но, главное, добрую мать мучила мысль, как должен страдать ее сын, думая о семье.
В эту минуту в дверь постучали.
— Кто там? — спросила Франсуаза.
— Это я, госпожа Франсуаза… Я… папаша Лорио.
— Войдите, — отвечала жена Дагобера.
Красильщик, исполнявший должность привратника, показался на пороге комнаты. Вместо ярко-зеленого цвета его руки блистали сегодня великолепной лиловой краской.
— Госпожа Франсуаза, — сказал он, — вот вам письмо… Его принес подавальщик святой воды из церкви Сен-Мерри; он говорит, что это от аббата Дюбуа и весьма спешное…
— Письмо от моего духовника? — сказала Франсуаза с удивлением. — Благодарствуйте, папаша Лорио.
— Вам ничего не нужно, госпожа Франсуаза?
— Нет, папаша Лорио.
— Мое почтение, господа!
И красильщик вышел.
— Горбунья, прочти-ка мне письмо, пожалуйста, — обратилась к девушке Франсуаза, видимо, встревоженная посланием.
— Извольте.
И молодая девушка прочла следующее:
«Дорогая госпожа Бодуэн!
Обыкновенно я исповедываю вас по вторникам и субботам. Но в этот раз я занят завтра и в субботу. Если вы не желаете отложить на целую неделю исповедь, то приходите сегодня утром, как можно раньше».
— Ждать неделю. Господи! — воскликнула жена солдата. — Увы, мне необходимо пойти сегодня же в церковь, несмотря на горе и волнение, в каком я нахожусь! — Затем, обратясь к сиротам, она прибавила: — Господь услышал, милые девочки, мои молитвы, которые я возносила за вас, и дает мне возможность сегодня же посоветоваться с достойным и святым человеком о тех опасностях, которым вы по неведению подвергаетесь… Бедные, невинные существа, без вины виноватые!.. Бог свидетель, что у меня о вас сердце болит не меньше, чем о сыне…
Сестры испуганно переглянулись. Они все же не могли понять, почему состояние их души внушало такие опасения жене Дагобера.
Последняя, обращаясь к Горбунье, сказала:
— Милая Горбунья, окажи мне еще одну услугу.
— Приказывайте, госпожа Франсуаза.
— Мой муж, уезжая в Шартр, захватил недельный заработок Агриколя. Больше денег в доме не было, и у бедного сына, верно, нет ни гроша в кармане… Между тем в тюрьме ему деньги могут понадобиться… Поэтому возьми мои серебряные вещи, две пары запасных простыней… шелковую шаль, которую Агриколь подарил мне к именинам, и снеси все это в ломбард… Я постараюсь узнать, в какую тюрьму его отвезли, и пошлю ему половину вырученных денег… а на остальные будем жить, пока не вернется муж… Не знаю, что мы будем делать, когда он вернется!.. Какой для него удар!.. и кроме удара… нищета, если сын в тюрьме… и я еще к тому же потеряла зрение… Господи ты мой Боже!.. — воскликнула несчастная мать с горьким отчаянием, — за что ты меня так наказываешь? Я, кажется, делала все, чтобы заслужить твою милость!.. если не для себя, то хоть для моих близких. — Затем, раскаявшись в невольном протесте, она прибавила: — Нет, нет! Господи, я должна принять все, что ты ниспосылаешь! Прости мне эту жалобу, но наказывай меня одну!..
— Успокойтесь, госпожа Франсуаза, Агриколь невиновен, его не могут задержать надолго, — сказала Горбунья.
— Я думаю, кроме того, — продолжала Франсуаза, — что, если ты пойдешь в ломбард… ты потеряешь много времени, бедняжка!
— Ночью нагоню… госпожа Франсуаза… Разве я смогу заснуть, зная о вашем горе? Работа меня развлечет.
— А освещение-то чего стоит!
— Не беспокойтесь… у меня есть небольшой задел, — солгала бедная девушка.
— Поцелуй меня, по крайней мере. Ты лучше всех на свете! — прибавила Франсуаза, прослезившись.
Она поспешно вышла из комнаты, и наконец Роза и Бланш остались наедине с Горбуньей. Наступил момент, которого они ожидали с таким нетерпением.
Жена Дагобера быстро дошла до церкви, где ее ждал духовник.
3. ИСПОВЕДАЛЬНЯ
Нет ничего печальнее приходской церкви Сен-Мерри в зимний, пасмурный, снежный день.
Франсуазу ненадолго задержало на паперти мрачное зрелище. Пока священник бормотал себе под нос какие-то слова, двое-трое певчих в грязных стихарях лениво и рассеянно тянули заупокойную молитву около простого, бедного, елового гроба, у которого стояли в слезах нищенски одетые старик и ребенок. Церковный сторож и причетник, весьма недовольные, что их побеспокоили ради таких жалких похорон, не удосужились даже надеть ливреи и, зевая от нетерпения, ожидали конца обряда, не сулившего им прибыли. Наконец священник брызнул на гроб несколько капель святой воды, отдал кропило сторожу и удалился.
Тогда произошла постыдная сцена, Явившаяся следствием бессовестной и святотатственной торговли в церкви, сцена, часто повторяющаяся при погребении нищих, которые не могут оплатить ни свечей, ни торжественной службы, ни скрипок, так как теперь для мертвецов имеются и скрипки note 19.
Старик протянул к причетнику руку, чтобы взять кропило.
— Возьмите, только живее! — произнес человек из ризницы, стараясь согреть дыханием свои пальцы.
Волнение и слабость старика были слишком сильны; он с минуту простоял неподвижно, сжимая кропило в дрожащей руке. В гробу лежала его дочь, мать оборванного ребенка, плакавшего рядом с ним… Немудрено, что сердце бедняка разрывалось на части при мысли о последнем прощании… Он стоял недвижимо… конвульсивные рыдания вздымали его грудь.
— Ну, вы там, поживее!.. — грубо заметил причетник. — Что мы ночевать тут из-за вас будем?
Старик заторопился. Он перекрестил гроб и, наклонившись, хотел вложить в руку внука кропило, но пономарь, считая, что довольно уже все это тянулось, выдернул из рук ребенка кропило и сделал знак, чтобы гроб унесли note 20.
— Экий канительный старикашка! — заметил сторож причетнику. — Мы едва успеем позавтракать и как следует одеться для важных похорон, которые предстоят сегодня. Вот для того покойничка стоит потрудиться… Алебарды вперед!
— И при этом ты нацепишь на себя полковничьи эполеты, чтобы обольщать даму, сдающую в прокат стулья, злодей! — насмешливо подмигнул причетник.
— Что делать, брат! Не моя же вина, что я красавец мужчина, — с торжествующей миной заметил церковный сторож. — Не могу же я выколоть глаза женщинам ради их сердечного спокойствия.
Они оба вошли в сакристию.
Вид похорон еще более усугубил тоску Франсуазы. Когда она вошла в церковь, в этом ледяном помещении сидело на стульях не больше семи или восьми человек молящихся.
Один из подавальщиков святой воды, с багровой, лукавой и сияющей физиономией, сказал тихонько Франсуазе, когда она подошла к святой воде:
— Пока аббат Дюбуа не вошел в «ящик», вы можете еще раз помолиться…
Эта грубая насмешка оскорбила бедную женщину, но она все-таки поблагодарила непочтительного служителя и, набожно перекрестившись, преклонила колени на плиты каменного пола. Окончив свою обычную молитву перед исповедью, она направилась к нише, в тени которой находилась исповедальня, построенная из дубового дерева, решетчатая дверь которой была задернута изнутри черной занавесью. Направо и налево два места оставались свободными. Франсуаза опустилась на колени с правой стороны и погрузилась в горькие думы. Через несколько минут высокий священник с седыми волосами, строгим и серьезным лицом, в длинной черной сутане медленно подошел из глубины храма. За ним следом шел маленький старичок, сгорбленный, плохо одетый, опиравшийся на старый дождевой зонтик. Порою он что-то говорил священнику тихо, почти шепотом, и в этих случаях священник останавливался и прислушивался к его словам с почтительным и глубоким вниманием. Когда они поравнялись с исповедальней, старичок заметил коленопреклоненную Франсуазу и вопросительно взглянул на аббата.
— Это она! — шепнул последний.
— Итак, через два или три часа девушек будут ждать в монастыре святой Марии… помните… Я на это рассчитываю! — сказал старичок.
— Надеюсь на это ради спасения их души! — почтительно ответил священник и прошел в исповедальню.
Старичок вышел из церкви. Это был Роден. Из церкви он отправился в лечебницу доктора Балейнье, чтобы удостовериться, как тот исполняет приказания относительно Адриенны де Кардовилль.
Франсуаза все еще стояла на коленях. Вдруг одно из боковых окошек открылось, и оттуда послышался голос.
Голос этот принадлежал аббату, двадцать лет уже бывшему духовником Франсуазы и окончательно подчинившему ее волю своему неотразимому влиянию.
— Вы получили мое письмо? — спросил голос.
— Да, отец мой.
— Ну… я вас слушаю!
— Благословите меня, отец мой, я согрешила, — сказала Франсуаза.
Голос произнес обычную формулу благословения.
Жена Дагобера ответила, как полагается: «Amen». Затем она произнесла свой «Confiteor» до слов: «В сем мой грех». Потом рассказала, как она выполнила последнюю наложенную эпитимию, и перешла к перечислению новых своих прегрешений. Эта прекрасная женщина, подлинная мученица труда и материнской любви, считала, что она постоянно нарушает Божьи заповеди, ее вечно снедал страх, как бы не совершить новый невольный грех. Это кроткое и трудолюбивое существо, имевшее после долгой жизни, полной самопожертвования, все права на душевное спокойствие, вечно было полно тревоги и мучилось о своем спасении, считая себя великой грешницей:
— Отец мой, — взволнованным голосом начала Франсуаза, — я обвиняю себя в том, что третьего дня не совершила вечерних молитв… Ко мне вернулся муж после долгой разлуки… Смущение, радость, изумление, вызванные этим неожиданным возвращением, заставили меня допустить великий грех.
— Что еще? — сурово прозвучал голос аббата, обеспокоивший Франсуазу.
— Отец мой… я и вчера впала в тот же грех… Я была в смертельной тревоге: мой сын не приходил домой… Я его ждала с минуты на минуту… и пропустила в своих опасениях час молитвы…
— Что еще? — произнес голос.
— Отец мой… я обвиняю себя в том, что всю неделю лгала сыну. Он упрекал меня в небрежном отношении к своему здоровью, и я его уверяла, что пью ежедневно вино, между тем как я сберегала вино для него же… ведь он сильно устает на своей тяжелой работе и нуждается в вине больше, чем я!
— Продолжайте! — сказал аббат.
— Отец мой… сегодня я возроптала на Бога, узнав об аресте сына… Вместо того чтобы с покорностью и благодарностью принять новое испытание, я осмелилась возмутиться и виню себя в этом.
— Плохо же вы провели эту неделю! — послышался голос, становившийся все строже и строже. — Все время вы заботились больше о создании, чем о Создателе… Продолжайте…
— Увы! отец мой, я знаю, что я великая грешница, и боюсь, что нахожусь на пути к еще большим прегрешениям…
— Говорите…
— Мой муж привез из Сибири двух молодых сироток, дочерей маршала Симона… Вчера утром я предложила им помолиться и к своему ужасу и отчаянию узнала, что, несмотря на свои пятнадцать лет, девушки не имеют ни малейшего понятия о религии: они сроду не бывали при совершении таинств и даже, кажется, не крещены… Понимаете, отец мой, не крещены!
— Так они, значит, язычницы? — воскликнул голос с выражением гнева и удивления.
— Меня приводит в отчаяние мысль, что так как эти девушки находятся На нашем попечении, то есть моем и моего мужа… то тяжесть их грехов несомненно должна обрушиться на нас. Не так ли, отец мой?
— Конечно… ведь вы заменяете тех, кто должен заботиться об их душах, пастырь отвечает за свое стадо.
— Итак, отец мой, если они совершат смертный грех, мы с мужем будем за него отвечать?
— Да, — произнес голос, — вы заменяете им родителей, а родители отвечают за грехи детей, если дети не получили христианского воспитания.
— Увы! отец мой, что же я должна сделать? Я обращаюсь к вам, как к Богу… значит, всякий лишний час, который эти девочки проводят в теперешнем языческом состоянии, увеличивает возможность вечного проклятия? Не так ли? — произнесла Франсуаза взволнованно.
— Да, — прозвучал голос, — страшная ответственность тяготеет теперь над вами и над вашим мужем. Вы несете ответственность за их души…
— О, Господи! сжалься надо мною! — плакала Франсуаза.
— Зачем отчаиваться? — произнес голос более мягким тоном. — К счастью, эти бедняжки встретили вас на своем пути… Вы и ваш муж можете подать им хороший пример благочестия… Надеюсь, что ваш муж, бывший прежде неверующим, теперь исполняет религиозные обязанности, как следует христианину?
— Надо о нем молиться, отец мой, — с грустью промолвила Франсуаза, — благодать еще не коснулась его… как и моего бедного сына… Ах, отец мой, — прибавила она со слезами, — тяжелый это для меня крест.
— Итак, ни ваш муж, ни ваш сын не исполняют обрядов, — задумчиво произнес голос. — Это серьезно, очень серьезно… Помните, за религиозное воспитание девушек надо взяться с самого начала… а у вас на их глазах будут столь прискорбные примеры… Берегитесь, говорю вам: на вас лежит ответственность за эти души… и она безгранична… Помните это…
— Боже! Отец мой… все это приводит меня в отчаяние… и я не знаю, что делать… Помогите мне… дайте совет… Вот уже двадцать лет ваши слова для меня — слова самого Господа…
— Надо переговорить с вашим мужем и поместить несчастных девочек в школу к монахиням… там их обучат всему.
— Но мы, к несчастью, слишком бедны, отец мой, чтобы платить за них… особенно теперь, когда моего сына посадили в тюрьму за его песни…
— Вот к чему ведет безбожие… — строго заметил голос. — А посмотрите на Габриеля… Он последовал моим советам… и теперь это образец христианских добродетелей.
— Но Агриколь тоже не лишен достоинств, отец мой… он такой добрый и преданный!
— Без религии, — еще строже заговорил голос, — нет добродетели… Все, что вы называете хорошими качествами, — только суетная видимость… При малейшем дьявольском наущении они исчезнут, как не бывало… А дьявол всегда живет в том, в ком нет религии…
— Бедный мой сын! — в слезах воскликнула Франсуаза, — а уж как я молюсь за него каждый день, чтобы Божья благодать его осенила…
— Я всегда вам говорил, что вы были слишком к нему слабы… Теперь вас Бог за это и карает. Надо было расстаться со столь безбожным сыном, а не поощрять неверия своей беспредельной любовью. Надо, как говорит Евангелие, отсекать зараженный член…
— Увы, отец мой!.. Вы знаете, что это был единственный случай, когда я вам не повиновалась… я не могла решиться на разлуку с сыном…
— Вот почему вы не можете рассчитывать на спасение… Впрочем, Бог милосерд… Только не впадите в ту же ошибку в отношении этих девушек… Провидение вам послало их именно для того, чтобы вы их спасли от вечной погибели… Не погубите же их преступным безразличием к их судьбе.
— Ах, отец мой… я со слезами о них молюсь.
— Этого мало… Эти несчастные не имеют ведь никакого понятия о добре и зле… Их души — вместилище, наполненное несчастьем и срамом… Подумайте, чем они стали, воспитанные нечестивой матерью и неверующим солдатом?
— Относительно этого, отец мой, вы можете быть спокойны, — наивно заметила Франсуаза. — Они кротки, как ангелы, а мой муж, не покидавший их с детства, говорит, что лучше созданий на свете нет!
— Ваш муж — сам закоснелый грешник, — резко промолвил голос. — Он не может быть судьей в этом деле. А я вам говорю, что вы не должны ни на минуту откладывать спасения этих несчастных, иначе вы впадете в смертный грех.
— Боже мой! я это очень хорошо знаю… и это меня мучит не меньше, чем арест сына… Но что же делать? Сама учить я их не могу… я ничего не знаю… я только верую!.. а муж мой позволяет себе в своем ослеплении шутить над святыми вещами, которых сын не касается только из уважения ко мне… Умоляю вас, отец мой… помогите мне… посоветуйте… что мне делать?
— Конечно, нельзя же оставлять на вечную погибель бедных девушек, — произнес после нескольких минут молчания голос из исповедальни. — Выбора нет… их необходимо отправить в монастырь… Там они увидят только святые и благие примеры.
— Но, отец мой, чем оплатить пансион? Если бы еще я могла по-прежнему работать как было, когда учился Габриель… Но я почти потеряла зрение… Разве только… разве только… вы похлопочете, отец мой… вы знаете много благотворителей… Нельзя ли заинтересовать их участью бедных сироток?
— А где же их отец?
— Он в Индии… Муж говорит, что он скоро должен вернуться во Францию… но это еще не точно… И еще одно, отец мой: у меня обливается сердце кровью, при мысли, что бедняжки должны будут разделять нашу нищету… А она близка… мы ведь только и живем заработком сына…
— У них здесь нет родных?
— Кажется, нет, отец мой!
— А доставить их во Францию вашему мужу поручила их мать?
— Да, отец мой! Но его спешно вызвали по какому-то делу в Шартр.
(Читатель вероятно помнит, что Дагобер счел лишним посвящать жену в надежды, связанные для дочерей маршала с их медалью. Он и девушкам посоветовал об этом не говорить никому, даже Франсуазе.)
— Итак, — спросил голос, — вашего мужа нет сейчас в Париже?
— Нет… он вернется сегодня вечером или завтра утром…
— Послушайте, — сказал голос после новой паузы. — Каждая упущенная минута спасения их душ увеличивает смертельную опасность… Рука Всевышнего тяготеет над ними… кто знает, когда наступает смерть?.. А если они, упаси Господь, умрут в таком состоянии, то они обречены на вечную погибель: их глаза необходимо открыть тотчас же… им сейчас же надо показать небесный свет… Надо отвезти их в монастырь… Это ваша обязанность… Желаете ли вы ее исполнить?
— О, да, отец мой… но, к несчастью, повторяю, я слишком бедна… я вам это говорила…
— Я знаю, что в вере и усердии у вас недостатка нет. Но при всем этом, если бы даже вы и были в состоянии руководить этими девушками, нечестивые примеры вашего мужа и сына каждодневно уничтожали бы ваши труды… Значит, о сиротах должны во имя христианского милосердия позаботиться другие… они и будут действовать за вас, а вы будете отвечать за девушек перед Богом.
— Ах, отец мой! как я вам буду благодарна, если доброе дело удастся.
— Может быть, мне и удастся… Я знаю настоятельницу одного монастыря, где девушек сумеют воспитать как следует… Плату за них можно свести до минимума… но платить все-таки придется… а потом приданое… В состоянии ли вы им дать все это?
— Увы, нет!
— Ну, тогда я возьму денег в нашей кассе для бедных и с помощью добрых людей соберу сколько нужно… Я пристрою их в монастырь.
— Отец мой! Вы спасаете их и меня!
— Хотелось, чтоб было так… Но ради их спасения и чтобы принятые меры были действенными, я должен поставить вам несколько условий.
— Ваши слова для меня приказ, я заранее на все согласна.
— Во-первых, сегодня же вы привезете их ко мне, и моя домоправительница отправит их немедленно в монастырь.
— Но это невозможно, отец мой! — воскликнула Франсуаза.
— Почему невозможно?
— В отсутствие мужа…
— Ну?
— Я не посмею решиться на такой шаг… не посоветовавшись с ним.
— А я вам говорю, что не только не надо советоваться с ним, но все нужно сделать в его отсутствие.
— Как? Без него?
— Во-первых, — продолжал строгий голос, — он мог бы в своем закоснелом безбожии помешать этому мудрому и благочестивому решению, а во-вторых, необходимо порвать все сношения между ним и этими девушками; поэтому он даже не должен знать, где они находятся.
— Но, отец мой, — со страшным смущением и колеблясь сказала Франсуаза, — ведь они были поручены именно ему, моему мужу… Как же не спросить его?..
Голос прервал Франсуазу:
— Можете вы наставить в вере этих девушек у себя дома или нет?
— Нет, отец мой, не могу.
— Подвергаются они опасности остаться закоснелыми грешницами, живя у вас, или нет?
— Да, отец мой, подвергаются.
— Ответственны вы или нет за смертные грехи, в какие они могут впасть, раз вы заменяете им родителей?
— Увы, отец мой, я отвечаю за них перед Богом.
— Не для их ли спасения я настаиваю, чтобы их сегодня же отправить в монастырь?
— Конечно, для их спасения!
— Так выбирайте…
— Но скажите, отец мой, имею ли я право распорядиться их судьбой без согласия мужа?
— Право? Да это не право, а обязанность, священный долг! А если бы эти бедные девушки погибали от огня в горящем здании, стали бы вы ждать согласия мужа, чтобы их вытащить?.. А тут дело не в том огне, который может сжечь только тело, а в вечном пламени, в котором будут бесконечно мучиться их души…
— Простите, отец мой, что я настаиваю, — сказала бедная женщина с сомнением и тревогой, которые возрастали с минуты на минуту, — но просветите меня в моих колебаниях: могу ли я так поступить после того, как дала клятву послушания мужу перед алтарем?
— Послушание обязательно в добром… а в злом повиноваться не следует!.. А вы сами сознаете, что ваш муж мешает спасению этих девушек, а это может быть непоправимо!
— Но, отец мой, когда он вернется и будет спрашивать, где они… я должна буду, значит, лгать?
— Молчание — не ложь… вы скажете ему, что не можете ответить на его вопрос.
— Мой муж — лучший из людей, отец мой, но такой ответ выведет его из себя… Он ведь человек военный… его гнев будет ужасен… — говорила Франсуаза, заранее дрожа при мысли об этом.
— И будь его гнев во сто раз сильнее, вы не должны его бояться… напротив, вы должны радоваться, что страдаете за святое дело! — воскликнул с негодованием грозный голос. — А что же, вы думаете душу спасти так легко? И как смеет грешник, желающий искренно искупить свои прегрешения служением Богу, жаловаться на камни и шипы, встречающиеся на его пути?
— Простите, отец мой, простите, — сказала Франсуаза, подавленно и смиренно покоряясь. — Только позвольте мне еще один вопрос, только один. Увы! Ведь вы мой единственный наставник и руководитель… Кого же мне и спросить, как не вас?
— Говорите.
— Когда вернется маршал Симон и станет спрашивать у мужа, где его дочери… Что же он ему ответит тогда!.. Как тогда поступить?
— Вы тотчас же дадите мне знать, когда вернется маршал… и я подумаю, что делать. Ведь и права отца действительны только тогда, когда он ими пользуется для блага детей. Раньше отца и выше отца есть Господь Бог, которому все обязаны служить. Поразмыслите сами. Если вы примете мое предложение, эти девушки спасены: они не будут больше вас обременять и не будут страдать от нищеты; они получат прекрасное религиозное воспитание, достойное дочерей французского маршала. Так что когда их отец вернется в Париж, то, если он будет достоин их видеть, вместо двух полудиких язычниц он увидит набожных, воспитанных девушек, скромных, образованных, угодных Богу. Они помолятся за него: и ему ведь необходимы прощение и милосердие, так как он человек насилия, войны и битв. А теперь решайте. Хотите ли вы, подвергая опасности свою душу, из нечестивого страха перед гневом вашего мужа, погубить будущее девушек не только в этой жизни, но и в будущей?
Как ни были грубы слова духовника Франсуазы и как ни полны глубокой нетерпимости, но они с его точки зрения были разумны и справедливы. Простой и прямой аббат Дюбуа был уверен в справедливости своих слов, потому что он был не более как слепым орудием в руках Родена и, не ведая целей интриги, был убежден, что, заставляя Франсуазу поместить девушек в монастырь, он только исполняет священный долг пастыря. Самое удивительное орудие ордена, к которому принадлежал Роден, было, да и остается то, чтобы привлекать к себе в сообщники честных и искренних людей, которые, не подозревая о происках ордена, являются тем не менее одними из самых главных актеров пьесы.
Франсуаза, привыкшая за много лет беспрекословно исполнять приказания своего духовника, ничего не ответила на его последние слова и подчинилась. Только с трепетом ужаса она думала о том, какой отчаянный гнев охватит Дагобера, когда он не найдет дома детей, порученных ему умирающей матерью. Но она вспомнила слова духовника, что чем сильнее будет этот гнев, тем смиреннее она должна будет его переносить во славу Божию, и поэтому сказала священнику:
— Да будет воля Божия, отец мой, и что бы ни случилось, я готова исполнить свой долг христианки… как вы мне приказали…
— И Бог вознаградит вас за то, что вам придется перенести во имя его… Итак, вы клянетесь перед лицом Бога всемогущего не отвечать на вопросы вашего мужа по поводу местопребывания дочерей маршала Симона?
— Да, отец мой, клянусь, — сказала, дрожа от страха, Франсуаза.
— И будете хранить молчание и перед маршалом Симоном, если я найду, что его дочери еще не достаточно укрепились в вере, чтобы вернуться к отцу?
— Да, отец мой! — все более и более слабым голосом произносила Франсуаза.
— Вам нужно будет дать отчет в том, что произойдет между вами и вашим мужем, когда он вернется.
— Хорошо, отец мой! Когда прикажете привести сирот к вам?
— Через час. Я напишу настоятельнице и оставлю письмо домоправительнице. Это очень верная женщина, и она сама отвезет девушек в монастырь.
После окончания исповеди, выслушав увещания и получив отпущение грехов, жена Дагобера вышла из исповедальни.
Церковь уже не была пустынна. Огромная толпа переполняла ее, привлеченная пышными похоронами, о которых разговаривали два часа назад сторож и причетник. С большим трудом Франсуаза смогла добраться до дверей церкви. Какой контраст с проводами бедняка, который этим утром так смиренно дожидался на паперти! Многочисленное духовенство прихода всем клиром величественно шествовало навстречу гробу, обитому бархатом; муар и шелк траурных риз, их ослепительные серебряные вышивки сверкали при свете тысяч свечей. Церковный сторож сиял самодовольством в своей блистательной ливрее с эполетами; причетник бойко нес посох, соперничая с ним в торжественности; голоса певчих, одетых в чистенькие стихари, гремели вибрирующими раскатами, гудение труб сотрясало стекла; на лицах всех тех, кто делил наследство после этой богатой смерти по первому разряду, читалось удовлетворение, торжествующее и сдержанное, которое, пожалуй, еще больше подчеркивалось манерами и выражением лиц двух наследников, высоких, здоровенных молодцов с цветущими физиономиями; не нарушая правил скромности, они, казалось, лелеяли и нежили себя в своих мрачных и символических траурных плащах.
Несмотря на всю свою чистоту и наивную веру, Франсуаза была до боли поражена возмутительным контрастом встречи бедного гроба и гроба богача у порога храма Божия, потому что, если равенство и существует, то лишь перед лицом смерти и вечности. Полная чувства глубокой тоски, Франсуаза еще больше огорчилась этим печальным контрастом и пошла домой далеко не с радостным чувством, решившись немедленно отправить сирот в монастырь св.Марии, расположенный, если читатель помнит, рядом с лечебницей доктора Балейнье, где находилась в заключении Адриенна де Кардовилль.
4. СУДАРЬ И УГРЮМ
Жена Дагобера уже свернула на улицу Бриз-Миш, когда ее догнал запыхавшийся причетник, передавший ей приказание аббата сейчас же вернуться в церковь по весьма важному делу. В ту минуту как Франсуаза повернула обратно, к воротам дома, где она жила, подкатил фиакр.
Извозчик слез с козел и открыл дверцу кареты.
— Кучер, идите и спросите, здесь ли живет Франсуаза Бодуэн, — сказала одетая в черное особа, сидевшая в карете с толстым мопсом на руках.
— Сию минуту, мадам, — ответил кучер.
Читатель, вероятно, догадался, что это была госпожа Гривуа, доверенная служанка княгини де Сен-Дизье со своим мопсом Сударем, имевшим над ней настоящую тираническую власть.
Красильщик, который в то же время был и привратником, учтивейше подскочил к экипажу и объяснил госпоже Гривуа, что в самом деле Франсуаза Бодуэн живет здесь, но в настоящую минуту ее нет дома. Папаша Лорио сегодня имел дело с желтой краской, и его руки, а отчасти лицо были окрашены в яркий золотистый цвет. Лицезрение такого персонажа цвета охры взволновало и привело в необычайную ярость Сударя, и в тот момент, когда красильщик протянул руку к дверце фиакра, мопс испустил страшный лай и укусил его за кисть руки.
— Ах, Боже мой! — воскликнула с отчаянием госпожа Гривуа, когда папаша Лорио отдернул руку, — только бы эта краска была не ядовита… Смотрите, как он запачкался… а между тем это такая нежная собака!..
И хозяйка принялась ласково и тщательно вытирать замаранную желтой краской морду своего мопса. Папаша Лорио, которого вряд ли удовлетворили бы даже извинения госпожи Гривуа по поводу дурного поведения мопса, сказал ей, еле сдерживая гнев:
— Ну, знаете, госпожа, не принадлежи вы к слабому полу, из-за чего я и терплю этого наглого пса, — я имел бы удовольствие схватить его за хвост и, окунув в котел, что у меня на плите, вмиг превратить вашего пса в оранжевую собаку!
— Выкрасить мою собаку в желтую краску! — раздраженно воскликнула госпожа Гривуа, вылезая из экипажа и нежно прижав к груди мопса, она смерила гневным взглядом папашу Лорио.
— Я же вам сказал, что госпожи Франсуазы нет дома! — заметил красильщик, видя, что хозяйка мопса все-таки идет к темной лестнице.
— Хорошо, я ее подожду, — сухо заметила госпожа Гривуа. — На каком этаже она живет?
— На пятом! — бросил папаша Лорио, скрываясь к себе в лавку.
И, злобно улыбаясь пришедшей ему на ум коварной мысли, он пробормотал:
— Надеюсь, что большая собака дядюшки Дагобера будет не в духе и хорошенько оттреплет проклятого мопса!
Госпожа Гривуа с трудом поднималась по крутой лестнице, останавливаясь на каждой площадке, чтобы перевести дух, и оглядываясь кругом с видом полного отвращения. Наконец она добралась до пятого этажа и постояла с минуту у двери скромной комнаты, где находились в это время обе сестры и Горбунья. Молодая работница собирала в узелок вещи, которые надо было нести в ломбард, а Роза и Бланш казались гораздо счастливее и спокойнее, чем раньше. Горбунья им сообщила, что если они умеют шить, то могут, усердно работая, заработать до восьми франков в неделю вдвоем, что будет все-таки подспорьем для семьи.
Появление госпожи Гривуа в квартире Франсуазы объяснялось новым решением аббата д'Эгриньи и княгини де Сен-Дизье. Они решили, что будет осмотрительнее отправить за молодыми девушками госпожу Гривуа, которая пользовалась их безусловным доверием. Для того Франсуазу и вернули в церковь, чтобы духовник передал ей, что за сиротами приедет к ней на дом одна почтенная дама и увезет их в монастырь.
Постучав в дверь, доверенная служанка княгини вошла в комнату и спросила, где Франсуаза Бодуэн.
— Ее нет дома, — скромно отвечала удивленная этим посещением Горбунья, опустив глаза под взором госпожи Гривуа.
— Ну, так я ее подожду, — сказала госпожа Гривуа, внимательно и не без любопытства оглядывая сестер, которые также не смели поднять глаз от робости. — Мне необходимо ее видеть по важному делу!
С этими словами госпожа Гривуа не без отвращения уселась в старое кресло жены Дагобера. Считая, что теперь Сударь не подвергается больше никакой опасности, она бережно опустила его на пол. Но в эту минуту за креслом послышалось глухое, глубокое, утробное ворчание, заставившее вскочить с места госпожу Гривуа; несчастный мопс задрожал от ужаса всем своим жирным телом и бросился с испуганным визгом к своей хозяйке.
— Как! Здесь собака? — воскликнула госпожа Гривуа, быстро наклоняясь, чтобы поднять Сударя.
Угрюм, желая как будто сам ответить на этот вопрос, медленно встал из-за кресла, за которым он лежал, и появился, позевывая и потягиваясь. При виде этого могучего животного и двух рядов громадных, острых клыков, которые, казалось, ему доставляла удовольствие показывать, госпожа Гривуа не могла удержаться от крика ужаса… Злобный мопс, сначала дрожавший всем телом, столкнувшись нос к носу с Угрюмом, почувствовал себя в безопасности на коленях своей госпожи и начал нахально и вызывающе ворчать, сердито поглядывая на громадного сибирского пса. Впрочем, достойный товарищ покойного Весельчака ответил на это только новым презрительным зевком. Затем Угрюм обнюхал с некоторым беспокойством платье госпожи Гривуа и, повернув спину Сударю, улегся у ног Розы и Бланш, не сводя с них своих умных глаз и как бы чувствуя, что им угрожает какая-то новая опасность.
— Выгоните отсюда эту собаку! — повелительно крикнула госпожа Гривуа. — Она пугает моего мопса и может его обидеть!
— Будьте спокойны, сударыня, — улыбаясь, заметила Роза: — Угрюм совершенно безобиден, пока его не тронут.
— Все равно! — воскликнула гостья. — Долго ли до несчастья? Стоит только посмотреть на эту громадину с волчьей головой и страшными зубами, как уже начинаешь дрожать при мысли о том, чего он может наделать… Выгоните его вон, говорю я вам!
Последние слова госпожа Гривуа произнесла сердитым тоном. Эта интонация, вероятно, не понравилась Угрюму, он заворчал, оскалил зубы и повернул голову в сторону незнакомой ему женщины.
— Молчи, Угрюм! — строго заметила Роза.
В комнату в это время вошел новый посетитель и своим появлением вывел из затруднения молодых девушек. Вошедший был комиссионер с письмом в руках.
— Что вам угодно? — спросила Горбунья.
— Вот очень срочное письмо от мужа здешней хозяйки… Славный такой человек. Внизу мне красильщик сказал, что хотя хозяйки дома и нет, но письмо можно отдать и без нее.
— Письмо от Дагобера! — с радостью воскликнули Роза и Бланш. — Значит, он вернулся? Где же он?
— Я и не знаю, как его зовут; знаю только, что это добрый малый, солдат с орденом и седыми усами; он здесь недалеко, в конторе дилижансов Шартра.
— Ну, да, это он самый! — воскликнула Бланш. — Давайте письмо…
Госпожу Гривуа это известие поразило как громом. Она знала, что Дагобера удалили именно для того, чтобы аббат Дюбуа мог наверняка воздействовать на Франсуазу. И именно теперь, когда все уже уладилось и оставалось только закончить дело, вдруг, откуда ни возьмись, появляется этот солдат, чтобы помешать успеху ловко задуманного предприятия!
— Боже мой! — воскликнула Роза, прочитав письмо. — Какое несчастье!
— Что такое, сестра? — спросила Бланш.
— Вчера на половине дороги Дагобер заметил, что потерял кошелек. Из-за этого он не решился ехать дальше, а вернулся обратно, взяв в долг обратный билет. Теперь он просит поскорее прислать ему деньги, он их ждет в конторе.
— Так точно, — заметил посыльный, — и он еще мне сказал на словах: «Поторопись, приятель… видишь, я в закладе сам!»
— И в доме ни гроша! — воскликнула Бланш. — Что же делать? как быть?
При этих словах госпожа Гривуа облегченно вздохнула; вновь появилась надежда, что дело еще не проиграно. Но слова Горбуньи снова лишили ее надежды. Девушка принялась торопливо укладывать свой узелок и сказала сестрам:
— Не волнуйтесь… Видите, сколько тут вещей… ломбард недалеко… я сейчас получу деньги и пройду к господину Дагоберу… Через какой-нибудь час он будет дома!
— Ах, дорогая Горбунья, вы правы, — сказала Роза. — Как вы добры, вы обо всем подумали…
— Вот адрес на конверте, — прибавила Бланш, — возьмите его с собою.
— Благодарю! А вы, — сказала Горбунья комиссионеру, — идите в контору и передайте пославшему вас господину, что я сейчас туда приду.
«Ишь, чертова горбунья, — гневно размышляла госпожа Гривуа, — обо всем подумала… Не будь ее, дело бы еще можно было поправить… избежать неожиданного прихода этого проклятого человека… А теперь девчонки ни за что не поедут со мной, пока не придет жена солдата… Предложить им уехать раньше, — значит все испортить и получить отказ… Господи, что же делать?»
— Не беспокойтесь, мадам! — сказал, уходя, посыльный. — Я успокою старика, что его скоро выкупят!
Пока Горбунья возилась с укладкой серебра и вещей, госпожа Гривуа раздумывала. Вдруг она вздрогнула, и ее лицо, которое за несколько минут до этого было мрачным, беспокойным и сердитым, неожиданно просветлело, она встала, все еще держа Сударя на руках, и сказала девушкам:
— Так как госпожи Франсуазы все еще нет, то я схожу здесь недалеко, по соседству, а затем вернусь. Предупредите ее о моем приходе.
И с этими словами госпожа Гривуа вышла из комнаты вслед за Горбуньей.
5. ВНЕШНОСТЬ
Успокоив сестер, Горбунья спустилась с лестницы, что было нелегко для нее, потому что к довольно объемистому узлу она прибавила свое единственное шерстяное одеяло, несколько согревавшее ее в холод, в ледяной норе, где она жила.
Накануне, в тревоге за судьбу Агриколя, молодая девушка не могла работать… Муки ожидания, надежда и беспокойство мешали ей: рабочий день, значит, пропал, а жить все же было нужно. Тягостные невзгоды, отнимающие у бедняка все вплоть до способности трудиться, вдвойне ужасны: они парализуют силы и, наряду с безработицей, что подчас является следствием скорби, приходят нищета и отчаяние. Но Горбунья еще находила в себе силы жертвовать собой и быть полезной другим, потому что в ней олицетворялся законченный и трогательный тип христианского долга. Хрупкие, физически слабые существа сплошь и рядом одарены необыкновенным душевным мужеством; можно было бы сказать, что у этих хилых, тщедушных людей дух властвует над телом, придавая ему кажущуюся энергию.
Так и теперь, несмотря на то, что Горбунья целые сутки не спала и не ела, что она страдала от холода ледяной ночью, что она совершила столь утомительное путешествие, через весь Париж под дождем и снегом, чтобы попасть на Вавилонскую улицу, — она находила в себе все еще достаточно сил. Поистине безгранична духовная мощь.
Горбунья достигла улицы Сен-Мерри. После открытия заговора улицы Прувер в этом многолюдном квартале число полицейских агентов было значительно увеличено.
Когда Горбунья со своей тяжелой ношей проходила быстрым шагом мимо одного из полицейских, сзади нее послышался звон двух упавших на землю пятифранковых монет. Монеты эти были подброшены какой-то следовавшей за нею толстой женщиной в черном платье, которая сейчас же подозвала к себе жестом полицейского, показала ему на деньги и что-то шепнула, указав на торопливо уходящую Горбунью. Затем толстая женщина быстро пошла по улице Бриз-Миш.
Полицейского поразили, вероятно, слова госпожи Гривуа (так как это была она), потому что, подняв монеты, он побежал за Горбуньей, крича ей вслед:
— Эй, вы, там!.. Стойте!.. Слышите… Женщина… стойте!..
При этих возгласах несколько человек оглянулось и остановилось. На этих многолюдных улицах достаточно группы из двух-трех человек, чтобы через несколько минут собралась большая толпа.
Не подозревая, что крики сержанта относились именно к ней, Горбунья торопилась дойти поскорее до ломбарда, стараясь проскользнуть в толпе как можно незаметнее, из страха грубых и жестоких насмешек над своим уродством, которые слишком часто ее преследовали. Вдруг она услышала, что ее догоняют несколько человек, и чья-то рука грубо опустилась ей на плечо.
Это был сержант и еще один полицейский, прибежавший на шум.
Удивленная и испуганная Горбунья обернулась. Ее уже успела окружить толпа, отвратительная чернь, — праздношатающиеся босяки, нахальные бездельники, в которых нищета и невежество развили лень и скотские инстинкты. В этом сброде почти никогда не встретишь ни одного ремесленника, так как все трудолюбивые рабочие в такое время заняты в своей мастерской или на наемной работе.
— Эй, ты!.. Не слышишь, что ли? Ты, видно, как собака Жаи де Нивель! — кричал полицейский, так грубо схватив Горбунью за руку, что она невольно уронила ношу.
От ужаса несчастная девушка задрожала и побледнела. Она стала центром внимания насмешливых, нахальных, дерзких взглядов, на всех этих неприятных, грязных физиономиях она увидела лишь выражение циничной, наглой насмешки.
Полицейский обошелся с ней очень грубо. Правда, особенного доверия ему не могла внушить маленькая, бедная, перепуганная, уродливая девушка, с истомленным от горя и нужды лицом, нищенски одетая, несмотря на зиму, да еще запачканная в грязи, мокрая от растаявшего снега; по вечному, несправедливому закону, бедность всегда внушает недоверие. Полицейский сурово спросил:
— Постой-ка минутку, любезная… Ты, видно, очень уж торопишься, что теряешь деньги и не удосуживаешься даже их поднять?
— Не деньгами ли у нее горб-то набит? — послышался хриплый голос торговца спичками, отвратительного субъекта, развращенного с детских лет.
Эта шутка возбудила смех, крики и гиканье толпы, которые довели до крайнего предела ужас и смущение Горбунье Еле-еле смогла она вымолвить слабым голосом в ответ полицейскому, подававшему ей две серебряные монеты:
— Но, господин… это не мои деньги…
— Вы лжете… Одна очень почтенная дама видела, как они выпали из вашего кармана?
— Уверяю вас, господин, что нет, — отвечала с трепетом Горбунья.
— А я вас уверяю, что вы лжете, — утверждал полицейский. — Еще эта дама сказала мне, заметив ваш преступный, испуганный вид: «Посмотрите на эту маленькую горбунью, которая бежит с большим свертком. Она роняет деньги и даже не поднимет их. Как хотите, это подозрительно!»
— Сержант! — хриплым голосом заметил продавец спичек. — Эй, сержант!.. Не верьте ей… пощупайте-ка ее горб… у нее… должно быть, там склад вещей… Я уверен, что она прячет туда сапоги, и плащи, и дождевые зонтики… и стенные часы!.. Я слышал, как у нее что-то в спине звонило… в ее выпуклостях!
Новый смех, новое гиканье, новые крики толпы, всегда безжалостно-жестокой ко всем, кто страдает и молчит. Сборище все увеличивалось, слышались дикие возгласы, пронзительные свистки и площадные шутки.
— Эй… пропустите-ка посмотреть… ведь это даром!
— Не толкайтесь… я за свое место заплатил!
— Поставьте ее, эту девку, на что-нибудь высокое, чтобы ее было видно.
— Правда, мне уже все ноги отдавили, а расходы тут не окупятся!
— Показывайте же горбунью, а не то деньги назад!
— Подайте ее сюда!
— Тащите эту раздутую уродину!
— И пусть она сдохнет!
Представьте себе весь ужас положения впечатлительной, доброй сердцем девушки, с ее возвышенным умом и робким, скромным характером, вынужденной выслушивать грубый вой праздной толпы. Она была одна среди всего этого сброда и только двое полицейских охраняли ее с обеих сторон. Но она еще не понимала, какое ужасное обвинение возвели на нее. Узнать пришлось скоро: полицейский грубо указал ей на узел с вещами, который она держала в руках, и отрывисто спросил:
— Что у тебя там?
— Месье… это… я иду…
От страха несчастная Горбунья путалась и заикалась, не будучи в состоянии произнести ни слова толком.
— И это все, что ты можешь ответить? Нечего сказать, немного… Ну, пошевеливайся… вытряхивай потроха из узла…
И с этими словами полицейский при помощи сержанта развязал сверток и принялся перечислять вещи, по мере того, как их вынимал.
— Черт возьми! простыни… прибор… серебряный кубок… шаль… шерстяное одеяло… Спасибо… Добыча недурна. Тебе на этот раз посчастливилось… Одета как тряпичница, а имеет серебро! Ни больше, ни меньше!
— Эти вещи не ваши? — спросил сержант.
— Нет, месье… — отвечала Горбунья, совершенно теряя силы. — Но я…
— Ах ты, гадкая горбунья! Ты воруешь вещи, которые стоят больше тебя самой!
— Я… ворую! — воскликнула Горбунья, всплеснув руками; она теперь поняла, в чем ее обвиняли. — Я!.. воровать!..
— Стража! Вот и стража! — послышалось в толпе.
— Эй вы! Пехотинцы!
— Пехтура!
— Пожиратели бедуинов!
— Место сорок третьему верблюжьему полку!
— Они привыкли на горбах ездить!
Среди этих криков и плоских шуток сквозь толпу с усилием пробивались два солдата и капрал. В отвратительной густой толпе видны были сверкающие штыки и дула ружей.
Кто-то, желая выслужиться, сбегал на ближайший пост предупредить, что собралась толпа, мешающая уличному движению.
— Ну, вот и стража, идем в полицию! — сказал полицейский, взяв Горбунью за руку.
— Месье! — просила бедная девушка, задыхаясь от рыданий, с ужасом сжимая руки и падая на колени на тротуар. — Месье, пощадите!.. Позвольте мне сказать… объяснить…
— Там в полиции объяснишь. Марш!
— Но, месье… я ничего не воровала! — раздирающим душу голосом воскликнула Горбунья. — Пожалейте меня, пощадите… Вести меня как воровку… среди всей этой толпы… О, пощадите… пощадите!
— Я тебе говорю, что все это ты объяснишь в полиции. Всю улицу запрудили… Иди же, говорят тебе, пошевеливайся!
И, схватив несчастную за обе руки, он разом поднял ее с земли. В эту минуту солдаты пробились сквозь толпу и подошли к полицейскому.
— Капрал! — сказал полицейский. — Отведите эту девку в полицию; я — агент полиции.
— Пощадите меня, господа, — молила Горбунья, ломая руки и плача, — не уводите меня, и позвольте мне все рассказать… Клянусь вам, я не украла ничего… я хотела только помочь… Позвольте мне вам рассказать…
— Я вам сказал, что здесь не место объясняться, идите в полицию, а не пойдете по своей воле, потащим силой, — сказал сержант.
Невозможно описать эту отвратительную и ужасную сцену.
Слабую, разбитую, перепуганную несчастную девушку повели солдаты. На каждом шагу у нее подгибались колени, и полицейским пришлось взять ее под руки, чтобы она не упала. Она совершенно машинально приняла эту помощь. Рев и гиканье раздались с новой силой. Несчастная почти теряла сознание, идя между двумя полицейскими; ей суждено было до конца претерпеть шествие на своего рода Голгофу. Под этим пасмурным небом, среди этой грязной улицы с высокими черными домами, волнующаяся, отвратительная толпа напоминала самые дикие бредовые фантазии Калло и Гойи: дети в лохмотьях, пьяные женщины, свирепые, изможденные мужчины толкались, дрались, давили друг друга, чтобы поспеть с воем и свистом за несчастной жертвой, почти полумертвой, за жертвой этого отвратительного недоразумения.
Недоразумение! Действительно, дрожь пробирает, когда подумаешь, как часто могут случаться подобные аресты — следствие достойных сожаления ошибок — и которые часто происходят только потому, что нищая одежда всегда внушает подозрение, или потому, что получены неверные сведения… Мы никогда не забудем того случая, как одна несчастная, остановленная по подозрению в постыдной спекуляции, вырвалась из рук полицейских, взбежала на лестницу какого-то дома и, потеряв от отчаяния рассудок, выбросилась из окна и разбилась о мостовую.
После бессовестного доноса на Горбунью госпожа Гривуа поспешно вернулась на улицу Бриз-Миш, торопливо поднялась на пятый этаж, открыла дверь в комнату Франсуазы… и что же увидала? Дагобера вместе с женой и сиротами!..
6. МОНАСТЫРЬ
Объясним в двух словах присутствие Дагобера.
На лице Дагобера был такой отпечаток честности старого воина, что директор конторы дилижансов удовольствовался бы одним обещанием принести деньги за проезд, но Дагобер упрямо желал оставаться в залоге, как он выразился, пока не получит известия от жены. Только когда вернувшийся комиссионер объявил, что деньги сейчас принесут, он решился пойти домой, чувствуя, что теперь его порядочность уже вне подозрений. Можно легко себе представить оцепенение госпожи Гривуа, когда она застала солдата дома. Ей слишком хорошо описали его наружность, и она не могла сомневаться в том, что это он.
Беспокойство Франсуазы при виде госпожи Гривуа тоже было немалое. Роза и Бланш рассказали ей, что в ее отсутствие была какая-то дама по важному делу. А будучи предупреждена священником, Франсуаза ни минуты не сомневалась, что именно этой особе и было поручено отвезти молодых девушек в монастырь. Окончательно решившись исполнить приказание духовника, Франсуаза, однако, боялась, что одно слово госпожи Гривуа может навести Дагобера на верный след: тогда пропадет последняя надежда, и несчастные девушки останутся в невежестве и смертном грехе, за которые она считала себя ответственной.
Дагобер, державший в своих руках руки Розы и Бланш, встал при входе госпожи Гривуа и взором спросил жену, кто она такая.
Минута была решительная. Но недаром экономка брала пример со своей госпожи, княгини де Сен-Дизье. Воспользовавшись тем, что она запыхалась, взойдя на пятый этаж, а также своим смущением при виде Дагобера, ловкая особа постаралась еще усилить признаки возбуждения и, задыхаясь, взволнованным голосом, как бы едва опомнившись от испуга, воскликнула:
— Ах, мадам!.. какое несчастье я сейчас наблюдала… Простите мое смущение… но я не могу… меня это так взволновало…
— Господи, что случилось? — сказала дрожащим голосом Франсуаза, боясь, что госпожа Гривуа проговорится.
— Я сейчас заходила к вам по одному важному делу… — продолжала та, все в том же тоне. — И пока я вас дожидалась, какая-то молодая уродливая работница собирала здесь в узел вещи…
— Да, да… — сказала Франсуаза, — это была, верно, Горбунья… превосходная девушка…
— Я так и думала!.. Ну, и вот что произошло: видя, что вас долго нет, я решилась сходить пока по соседству, где у меня было дело… Дошла я до улицы Сен-Мерри… Ах, мадам!
— Ну и что же? — спросил Дагобер.
— Я увидала громадную толпу… Спрашиваю, что случилось, и мне отвечают, что полицейский арестовал девушку, подозревая, что она украла вещи, находившиеся в большом узле… Я пробралась поближе… и что же? Арестованной оказалась та самая работница, которую я видела сейчас здесь…
— Ах, бедняжка! — воскликнула, побледнев и с ужасом всплеснув руками, Франсуаза. — Ах, какое несчастье!
— Объясни же мне — сказал Дагобер, — что это за узел?
— Да видишь, друг мой… У меня не хватило денег… и я попросила Горбунью снести в ломбард ненужные нам вещи…
— И кто-то мог усомниться, что она честнейшее в мире существо! — воскликнул Дагобер. — Но, мадам, почему же вы не вмешались?.. вы могли сказать, что ее знаете.
— Я и постаралась это сделать… но, к несчастью, меня не послушали… Толпа ежеминутно росла… Пришла стража… и ее увели…
— Она может умереть с горя: ведь она страшно робка и так чувствительна! — воскликнула Франсуаза.
— Ах, Господи! милая Горбунья, такая кроткая и услужливая! — сказала Бланш со слезами на глазах, взглянув на сестру.
— Так как я ничем не могла ей помочь, — продолжала госпожа Гривуа, — то и поспешила вернуться сюда и сообщить вам о случившемся…
— Несчастье ведь поправимо… нужно только скорее пойти в полицию и объяснить, в чем дело!
При этих словах Дагобер схватил шапку и, повернувшись к госпоже Гривуа, отрывисто заметил:
— Ах, мадам, с этого и надо было начинать! Где она, бедняжка? Вы знаете?
— Нет, месье, но на улице еще и теперь такая толпа, такое волнение, что если вы будете так любезны и, не теряя времени отправитесь туда, то несомненно вам скажут…
— Какая тут к черту любезность! Это мой долг! — воскликнул Дагобер. — Бедная девочка… арестована, как воровка! Это ужасно… Я побегу к полицейскому комиссару, необходимо найти девушку, они должны отпустить, я ее приведу!
И с этими словами солдат поспешно вышел.
Франсуаза, успокоившись насчет Горбуньи, поблагодарила Бога, что это обстоятельство заставило ее мужа уйти: его присутствие было теперь весьма некстати. Госпожа Гривуа оставила мопса в фиакре, так как знала, что дорога каждая минута. Бросив многозначительный взгляд на Франсуазу, она сказала, подавая ей письму аббата Дюбуа и нарочно подчеркивая слова:
— Из этого письма вы узнаете, мадам, зачем я сюда приехала. Я не успела еще объяснить вам, в чем дело, а между тем оно для меня тем приятнее, что дает возможность поближе познакомиться с этими очаровательными барышнями.
Роза и Бланш удивленно переглянулись; Франсуаза с трепетом раскрыла письмо. Только настоятельные требования духовника могли победить ее нерешительность, и все-таки она с ужасом думала о неистовом гневе Дагобера. Она не знала даже в своем простодушии, как объяснить девочкам, что они должны уехать с прибывшей особой. Госпожа Гривуа заметила смущение Франсуазы и, успокоив ее знаком, обратилась к сестрам:
— Как счастлива будет увидать вас ваша родственница, милые девочки!
— Наша родственница? — спросила Роза, все более и более изумляясь.
— Да! Она узнала о вашем приезде, но так как она не совсем еще поправилась после долгой болезни, то не могла приехать за вами сама; поэтому она меня и послала. К несчастью, — прибавила хитрая особа, заметив смущение девушек, — она может пригласить вас сегодня только на один часок… а потом вы должны будете вернуться домой… Но завтра или послезавтра, она надеется, что будет в состоянии приехать сюда сама — переговорить с госпожой Бодуэн и ее мужем о том, чтобы вас взять к себе. Она не может оставить вас здесь, на иждивении людей, которые и без того так много для вас сделали.
Последние слова произвели самое лучшее впечатление на сестер, рассеяв опасение, что они будут обузой для бедной семьи Дагобера. Если бы речь шла о том, что нужно навсегда покинуть этот дом, то, конечно, они не решились бы уехать в отсутствие своего друга… Но так как все ограничивалось часовым визитом, то они нисколько не смутились, и Роза сказала Франсуазе:
— Мы можем ведь съездить к нашей родственнице, не предупредив Дагобера? Не правда ли, мадам?
— Конечно, — слабым голосом ответила старуха, — тем более что через час вы вернетесь.
— Только поскорее, девочки… Мне хотелось бы привезти вас обратно до полудня.
— Мы готовы! — отвечала Роза.
— Тогда поцелуйте вашу вторую мать и поехали! — сказала госпожа Гривуа, дрожавшая от беспокойства при мысли, что Дагобер может каждую секунду вернуться. Сестры поцеловали Франсуазу, которая не могла удержаться от слез, сжимая в объятиях невинных и очаровательных детей: ведь она предавала их в эту минуту, хотя была твердо уверена, что действует во имя их спасения.
— Ну, девочки, нельзя ли поскорее, — любезнейшим тоном, сказала госпожа Гривуа, — поторопитесь… Вы уж извините мое нетерпение, но, ведь я говорю от имени вашей родственницы!
Сестры крепко поцеловали Франсуазу и вышли из комнаты, держась за руки. За ними следом тихо шел и Угрюм. Он никогда не отставал от девушек, когда Дагобера не было с ними. Из предосторожности доверенная служанка княгини де Сен-Дизье велела фиакру дожидаться чуть поодаль, около монастырской площади. Через несколько минут сироты и их провожатая дошли до экипажа.
— Ну, почтеннейшая! — заметил кучер, открывая дверцу. — Не в обиду будет сказано, и чертова же у вас собачка! Ну и характер! С тех пор как вы ее оставили в карете, она не переставала лаять и выть, точно ее поджаривали! И при этом она будто хочет всех проглотить.
В самом деле, мопс, ненавидевший одиночество, испускал жалобный вой.
— Тише, Сударь, вот и я! — сказала госпожа Гривуа, а затем, обращаясь к сестрам, прибавила: — Садитесь, девочки.
Роза и Бланш поднялись в экипаж.
Госпожа Гривуа, прежде чем за ними последовать, потихоньку отдала кучеру приказ везти их в монастырь св.Марии, дополняя другими указаниями, как вдруг мопс, который весьма приветливо ворчал, когда сестры занимали места в фиакре, поднял неистовый лай.
Причина ярости мопса была проста: в карету одним прыжком вскочил Угрюм, остававшийся до той поры незамеченным. Мопс так разозлился на эту дерзость, что забыл о своем обычном благоразумии и в припадке злости, подскочив к Угрюму, вцепился в его морду… Он так жестоко укусил Угрюма, что добрая сибирская собака, выйдя из себя от боли, накинулась на Сударя, схватила его за горло и одним движением могучей челюсти придушила жирного мопса, который только жалобно пискнул. Все это произошло гораздо быстрее, чем мы могли описать, и перепуганные девушки успели только крикнуть:
— Оставь, Угрюм!
— Ах ты, Господи! — сказала, обернувшись на шум, госпожа Гривуа. — Опять эта чудовищная собака… она загрызет Сударя! Девочки, выгоните ее вон из фиакра… брать ее с собой нельзя…
Не подозревая еще о том, сколь тяжко было преступление Угрюма, так как Сударь лежал недвижимо, но соглашаясь, что неприлично брать с собой такую большую собаку, сестры старались выгнать Угрюма из кареты, сердито на него покрикивая и толкая его ногой:
— Уходи, Угрюм, пошел вон, уходи…
Бедное животное колебалось, должно ли оно слушаться своих хозяек или нет. Грустным, умоляющим взором смотрел Угрюм на сестер, как бы упрекая их, что они отсылают свою единственную защиту. Но новое, строгое приказание Бланш заставило его вылезти из кареты, поджав хвост. Впрочем, Угрюм чувствовал, что вел себя немного резко по отношению к Сударю.
Госпожа Гривуа, спеша покинуть квартал, вскочила в экипаж, кучер закрыл дверцу и влез на козлы. Фиакр быстро покатился, а госпожа Гривуа предусмотрительно опустила занавески на окнах, опасаясь встречи с Дагобером. Приняв необходимые меры, она могла заняться Сударем, к которому питала необыкновенную нежность. Это была та глубокая, преувеличенная симпатия, которую злые люди часто питают к животным, сосредоточивая на них всю свою привязанность.
Одним словом, в течение шести лет госпожа Гривуа с каждым годом все больше и больше привязывалась к этой трусливой и злобной собаке, недостатки которой, кажется, ей больше всего нравились.
Мы потому отмечаем это как будто несерьезное обстоятельство, чтобы показать, что иногда маленькие причины имеют катастрофические последствия. Мы хотим, чтобы читатель понял всю ярость и отчаяние госпожи Гривуа, когда она узнала о смерти своей собаки, потому что эти ярость и отчаяние должны были отразиться на несчастных сиротах.
Карета быстро катилась, когда госпожа Гривуа, усевшаяся на передней скамейке, начала звать мопса.
У последнего была весьма основательная причина не отвечать.
— Ну, противный ворчун! — ласково уговаривала его госпожа Гривуа. — Ты на меня рассердился?.. Да разве я виновата, что эта злая, громадная собака вскочила в карету?.. Не правда ли, барышни?.. Ну, поди сюда… поди… поцелуй свою хозяйку… помирись со мной, упрямец ты этакий.
То же упорное молчание мопса.
Роза и Бланш тревожно переглянулись. Им были знакомы несдержанные манеры Угрюма, но они все же не подозревали, каких бед он натворил.
Госпожа Гривуа была удивлена, но нисколько не тревожилась, что мопс так упорно не отвечал на ласковые заигрывания. Она наклонилась и начала шарить под скамейкой, думая, что Сударь из упрямства забился в угол и не выходит. Ощупав его лапу, она его потянула, полусердито-полушутя приговаривая:
— Хорош… Нечего сказать… Хорошего мнения будут эти барышни о вашем отвратительном характере!
Говоря это, она подняла мопса, изумляясь безразличной morbidezza его движений. Но трудно описать ее ужас, когда, положив собаку на колени, она убедилась, что Сударь недвижим.
— У него удар! — воскликнула она. — Несчастный слишком много кушал!.. Я всегда этого боялась! — И, поспешно повернувшись, она закричала кучеру: — Стой… Стой!.. Остановись.
Она не соображала даже, что кучер не мог ее услыхать. Затем, подняв голову собаки, которая, как ей казалось, была только в обмороке, госпожа Гривуа, к ужасу своему, увидала кровавые следы пяти-шести громадных клыков, не оставлявших сомнения насчет причины печального конца мопса. Первые минуты были посвящены горю и отчаянию.
— Он умер, умер! — рыдала госпожа Гривуа. — Умер… похолодел уже… умер!.. Боже ты мой!..
И эта женщина заплакала. Слезы злого человека — мрачные слезы… Он должен очень страдать, если плачет… И у злого страдание не смягчает души, а, напротив, вызывает жажду выместить горе на других. Это — опасное горе. После первого взрыва горести хозяйка мопса воспылала гневом и ненавистью… да, ненавистью, страшной ненавистью к молодым девушкам, невольным виновницам смерти ее любимца. Это так явно отразилось на ее грубой физиономии, что сестры страшно перепугались выражения побагровевшего от гнева лица, когда она закричала взволнованным голосом, яростно на них взглянув:
— А ведь его загрызла ваша собака!..
— Простите, мадам, не сердитесь на нас за это, — воскликнула Роза.
— Ваша собака первая укусила Угрюма, — робко заметила Бланш.
Страх, ясно читавшийся на лицах сестер, заставил опомниться госпожу Гривуа. Она сообразила, что неблагоразумный гнев может иметь нежелательные последствия. Даже в интересах мести ей было необходимо заручиться полным доверием дочерей маршала Симона. Но слишком хитрая для того, чтобы разом изменить выражение лица, она бросила еще несколько сердитых взглядов на девушек. Затем гневная гримаса стала смягчаться и уступила место самому горькому отчаянию. Она закрыла лицо руками и рыдала, испуская глубокие, жалобные вздохи.
— Бедная! — шепнула Роза своей сестре, — она плачет… Она, верно, так же любила свою собаку, как мы любим Угрюма!
— Увы, да! — отвечала Бланш. — Помнишь, как мы плакали, когда умер Весельчак!
Госпожа Гривуа подняла наконец голову, вытерла слезы и произнесла растроганным, почти ласковым тоном:
— Простите меня… Я не могла сдержаться… Я так привязана к этой собаке… почти шесть лет я с ней не расставалась!
— Мы очень сочувствуем вашему горю, — заметила Роза. — Нам очень жаль, что оно непоправимо. Я сейчас напомнила сестре, что мы вдвойне вам соболезнуем, потому что тоже недавно оплакивали смерть старой лошади, на которой приехали из самой Сибири!..
— Ну, милые девочки, оставим это… Я сама виновата… не надо было его брать с собою… Но он так скучал без меня… Вы поймете мою слабость… все это от излишней доброты… Знаете, когда добра к людям, то невольно и к животным добра… Поэтому я обращаюсь к вашему мягкосердечию, чтобы испросить прощение за свою резкость.
— Помилуйте, мы только вас жалеем!
— Это пройдет, девочки, все пройдет. Вот и сейчас мне предстоит утешение: я увижу радость вашей родственницы при свидании с вами! Она будет так счастлива!.. Вы такие милые!.. И сходство между вами так трогательно…
— Вы слишком снисходительны!
— О нет! Вы, верно, и характерами так же похожи, как и лицами?
— Да ведь это понятно, — сказала Роза. — С самого рождения мы ни на минуту не расставались… ни днем, ни ночью… Как же нашим характерам не быть похожими?
— В самом деле? Вы никогда, ни на минуту не расставались?
— Никогда!
И сестры, взяв друг друга за руки, обменялись нежной улыбкой.
— Ах, Боже мой! Значит, вы были бы ужасно несчастны, если бы вас разлучили?
— О! Это невозможно! — воскликнула Роза, улыбаясь.
— Почему невозможно?
— У кого хватило бы жестокости нас разлучить?
— Да, конечно, для этого надо было бы быть очень злым.
— О! — воскликнула Бланш. — Даже и очень злой человек не решился бы нас разлучить?
— Тем лучше, девочки, но почему?
— Потому что это нас слишком бы потрясло! Мы бы умерли!
— Бедные девочки!
— Три месяца тому назад нас посадили в тюрьму, ну и вот, ее директор, человек, по-видимому, очень жестокий, сказал, увидев нас: «Разлучить этих девочек все равно, что уморить!» — и нас не разлучили, так что и в тюрьме нам было хорошо, насколько это возможно в тюрьме!
— Это делает честь вашему доброму сердцу, а также и тем, кто понял, что вас нельзя разлучить.
Экипаж остановился. Кучер крикнул, чтобы отворили ворота.
— А! Вот мы и приехали к вашей родственнице! — сказала госпожа Гривуа.
Карета въехала на усыпанный песком двор. Госпожа Гривуа подняла штору на окне. Громадный двор был перерезан высокой стеной. Посередине этой стены находился небольшой навес, поддерживаемый известковыми колоннами, и под ним дверь. За стеной виднелась кровля и фронтон большого здания из тесаного камня. По сравнению с домом, где жил Дагобер, это жилище казалось дворцом, так что Бланш воскликнула с наивным изумлением:
— Какой великолепный дом!
— Это еще что, а вот вы увидите, каково внутри! — отвечала госпожа Гривуа.
Кучер отворил дверцы фиакра и… к страшному гневу госпожи Гривуа и изумлению сестер… перед ними явился Угрюм. Он следовал за экипажем и стоял, выпрямив уши и виляя хвостом, забыв совершенное преступление и ожидая, по-видимому, похвалы за свою верность.
— Как! — воскликнула госпожа Гривуа, скорбь которой пробудилась при виде Угрюма. — Эта отвратительная собака бежала за нами?
— А поразительный пес, доложу я вам, — сказал кучер. — Он ни на шаг не отставал от лошадей… должно быть, ученая на этот счет собака… Молодчина! с ним и вдвоем не справишься!.. Ишь, грудь-то какая!
Хозяйка покойного Сударя, раздраженная неуместными похвалами кучера Угрюму, торопливо заметила молодым девушкам:
— Я провожу вас к вашей родственнице; подождите меня в экипаже.
Госпожа Гривуа поспешно вошла под навес и позвонила.
Женщина, одетая монахиней, отворила дверь и почтительно поклонилась госпоже Гривуа, которая сказала:
— Прибыли две девушки: по приказанию аббата д'Эгриньи и княгини де Сен-Дизье. Их следует тотчас же разлучить и посадить в отдельные особые кельи! Понимаете… строгое заключение, как для нераскаявшихся!
— Я сейчас доложу настоятельнице, и ваше приказание будет исполнено, — отвечала с поклоном монахиня.
— Пожалуйте, девочки, — обратилась госпожа Гривуа к сестрам, воспользовавшимся ее отсутствием, чтобы потихоньку приласкать Угрюма, преданность которого их очень тронула. — Вас сейчас проводят к вашей родственнице, а через полчаса я вернусь за вами. Кучер, держите собаку.
Роза и Бланш, занявшись Угрюмом, не заметили привратницы-монахини. Она, впрочем, держалась за дверью, и сестры только тогда заметили ее наряд, когда переступили порог дверей, сейчас же за ними затворившихся.
Убедившись, что девушки в монастыре, госпожа Гривуа велела кучеру выехать за внешние ворота и ждать ее там. Последний повиновался.
Угрюм, увидев, что Роза и Бланш исчезли за дверью сада, подбежал к ней. Тогда хозяйка Сударя позвала к себе рослого, дюжего малого, сторожа этого здания, и сказала ему:
— Николя, хотите получить десять франков? Убейте сейчас же при мне эту собаку… вот она, у дверей…
Николя покачал головой, оглядев богатырское сложение Угрюма, и заметил:
— Черт возьми, такую собаку нелегко укокошить…
— Я вам дам двадцать франков, только убейте ее сейчас… при мне.
— Без ружья тут трудно что-то сделать, а у меня нет ничего, кроме железного молотка.
— И отлично… можно одним ударом его пристукнуть!
— Попробую… только вряд ли что выйдет!
Николя вышел за молотком, а госпожа Гривуа яростно воскликнула:
— Ах!.. если бы у меня была сила!
Возвратившись с оружием и тщательно скрывая его за спиной, привратник начал коварно подкрадываться к Угрюму и, похлопывая по ноге левой рукой (так как в правой держал молоток), начал подманивать собаку:
— Ах ты, мой пес хороший… ну, иди сюда… подойди ко мне, добрая собака!
Угрюм поднялся, внимательно взглянул на Николя и, сразу догадавшись о его неприязненных намерениях, одним прыжком удалился на почтительное расстояние; затем обойдя неприятеля, он увидел, в чем дело, и решил, что лучше впредь держаться подальше от нового врага.
— Пронюхал, мошенник… — сказал Николя. — Теперь уж ничего не поделаешь… шабаш!
— Экий вы неловкий! — яростно воскликнула госпожа Гривуа, бросив пятифранковую монету сторожу. — Ну, хоть выгоните ее по крайней мере отсюда!
— Это вот дело другое, мадам, это полегче!
Преследуемый Угрюм, действительно, скоро покинул двор, видя бесполезность открытой борьбы. Но все-таки, выбежав за ворота на нейтральную почву, он лег невдалеке, только так, чтобы Николя не мог его достать. И когда побледневшая от гнева госпожа Гривуа усаживалась в карету, где лежали бренные останки Сударя, она могла, к вящей досаде, видеть, что Угрюм лежит в нескольких шагах от ворот, которые Николя закрыл, оставив надежду на дальнейшее преследование. Сибирская овчарка могла, конечно, по свойственной ее породе сообразительности, найти дорогу на улицу Бриз-Миш, но она решила дожидаться сирот.
Монастырь, где были заключены Роза и Бланш, находился, как мы уже говорили, рядом с лечебницей, где была заключена Адриенна де Кардовилль.
Теперь мы проводим нашего читателя к жене Дагобера. Франсуаза в смертельном ужасе ждала возвращения мужа, ведь ей нужно было дать отчет в исчезновении дочерей маршала Симона.
7. ВЛИЯНИЕ ДУХОВНИКА
Когда девушки ушли с госпожой Гривуа, жена Дагобера опустилась на колени и принялась горячо молиться. Долго сдерживаемые слезы полились ручьем. Хотя она и была твердо убеждена, что исполнила свой священный долг во имя спасения сестер, но страх перед возвращением мужа заставлял ее дрожать. Как ни была она ослеплена набожностью, но все-таки понимала, что Дагобер будет вправе ка нее гневаться, а тут еще надо было рассказать ему об аресте Агриколя, о чем он еще не знал. Она с трепетом прислушивалась ко всякому шуму на лестнице и молилась все горячее и горячее, заклиная небо дать ей силы перенести это тяжелое испытание.
Наконец она услыхала шаги на площадке; не сомневаясь, что это Дагобер, она быстро вытерла глаза и поспешно села, разложив на коленях толстый мешок серого холста и делая вид, что шьет. Однако ее почтенные руки так дрожали, что она едва могла держать иголку.
Через несколько минут дверь отворилась, и вошел Дагобер. Лицо его было сурово и печально; в сердцах бросив на стол фуражку, он даже не сразу заметил отсутствия своих питомиц, — до того он был взволнован.
— Бедная девочка!.. Ведь это ужасно! — воскликнул он.
— Видел Горбунью? Добился ее освобождения? — с живостью спросила Франсуаза, забывая на минуту свою тревогу.
— Да, видел! Но в каком она состоянии, просто сердце разрывается, как посмотришь! Конечно, я потребовал, чтобы ее отпустили, и довольно-таки круто, можешь быть уверена. Но мне сказали: «Для этого необходимо, чтобы комиссар побывал у вас».
В это время Дагобер огляделся кругом и с удивлением, не кончив рассказа, спросил жену:
— Где же дети?
Франсуаза чувствовала, что ее охватил смертельный холод.
Она отвечала еле слышно:
— Друг мой… я…
Кончить она не могла.
— Где же Роза и Бланш? И Угрюма нет! Где они?
— Не сердись на меня!
— Ты, верно, их отпустила погулять с соседкой? — довольно резко начал Дагобер. — Отчего же сама с ними не пошла или не заставила их подождать моего возвращения? Я понимаю, что им захотелось прогуляться: комната такая унылая!.. Но меня удивляет, как они ушли, не дождавшись известия о Горбунье?! Они ведь добры, как ангелы… Отчего ты так побледнела, однако? — прибавил солдат, пристально смотря на жену. — Не заболела ли ты, бедняжка?.. Что с тобой?.. Ты, похоже, страдаешь?
И Дагобер ласково взял ее за руки. Тронутая этими добрыми словами, бедная женщина склонилась и поцеловала руку мужа, обливая ее слезами. Почувствовав эти горячие слезы, солдат воскликнул, окончательно встревожившись:
— Ты плачешь… и ничего не говоришь?.. Скажи же, голубушка, что тебя так огорчило?.. Неужели ты рассердилась, когда я тебе немножко резко заметил, что не следовало отпускать девочек погулять с соседкой?.. Видишь… ведь мне их поручила умирающая мать… Пойми… ведь это дело святое… Ну, и немудрено, что я с ними вожусь, как наседка с цыплятами!.. — прибавил он, улыбаясь, чтобы развеселить Франсуазу.
— И ты совершенно прав… не любить их нельзя!
— Ну, так успокойся же, милая; ты знаешь, ведь я только с виду груб… а так человек не злой… Ты ведь, конечно, доверяешь своей соседке, — значит, это еще полбеды… Только вот что, Франсуаза: впредь, не спросившись меня, ничего не делай, когда речь идет о них… Значит, девочки просились погулять с Угрюмом?
— Нет, друг мой… я…
— Как нет? С какой соседкой ты их отпустила? Куда она их повела? Когда они вернутся?
— Я… не знаю! — слабым голосом вымолвила Франсуаза.
— Как не знаешь! — гневно воскликнул Дагобер; затем, стараясь сдержаться, он продолжал тоном дружественного упрека: — Разве ты не могла назначить им время возвращения?.. а еще лучше, если бы ты ни на кого, кроме себя, не надеялась и ни с кем их не пускала… Верно, они уж очень к тебе приставали с просьбами? Точно они не знали, что я могу вернуться каждую минуту! Почему же они меня не подождали? А? Франсуаза?.. я тебя спрашиваю — отчего они меня не подождали? Да отвечай же в самом деле, ведь это черт знает что, ты святого из себя выведешь! — крикнул Дагобер, топнув ногой. — Отвечай!
Беспрерывные вопросы Дагобера, которые должны были наконец привести к открытию истины, совершенно истощили мужество Франсуазы. Это была медленная, жестокая пытка, которую она решилась прекратить полным признанием, приготовившись с кротостью перенести гнев мужа. Несмотря ни на что, она упрямо решилась исполнить волю духовника, соглашаясь принести себя в жертву. Она опустила голову, не имея силы встать; руки ее беспомощно повисли вдоль стула, а голос почти не был слышен, когда она с трудом выговорила:
— Делай со мной, что хочешь… только не спрашивай, что с этими девушками… Я не могу тебе ответить… не могу…
Упади у ног Дагобера молния, он не был бы в большей степени потрясен и поражен. Смертельная бледность покрыла его лоб, холодный пот выступил крупными каплями. С помутившимся, остановившимся взором он стоял неподвижно, молча, точно окаменев. Затем, страшным усилием воли стряхнув это оцепенение, он одним движением поднял жену, как перышко, за плечи и, наклонившись к ней, воскликнул с отчаянием и гневом:
— Где дети?!
— Пощади… пощади… — молила Франсуаза.
— Где дети? — повторял Дагобер, тряся могучими руками слабую, тщедушную женщину; и он закричал громовым голосом: — Ответишь ли ты, где дети?!
— Убей меня… или прости… но я ответить не могу!.. — повторяла несчастная с кротким, но Непобедимым упрямством, свойственным всем робким натурам, когда они убеждены в своей правоте.
— Несчастная!.. — воскликнул солдат. И, обезумев от гнева, отчаяния и горя, он схватил жену, приподнял и, казалось, хотел убить ее, ударив об пол. Но добрый, мужественный Дагобер был неспособен на подлую жестокость… После взрыва невольной ярости он оставил Франсуазу, не причинив ей вреда.
Бедная женщина упала на колени и сложила руки; по слабому движению ее губ можно было догадаться, что она молится… Дагобер стоял совсем ошеломленный. Голова у него кружилась, мысли путались. Все, что с ним случилось, казалось ему совершенно непонятным, так что он не скоро мог с собой справиться, а главное уразуметь, как это его жена, этот ангел доброты, жизнь которой была сплошным самоотвержением, его жена, знавшая, чем для него были дочери маршала Симона, могла ему сказать: «Не спрашивай, что с этими девушками… Я не могу тебе ответить». Самый сильный, самый здравый ум поколебался бы в таких поразительных, необъяснимых обстоятельствах. Успокоившись немного, Дагобер смог взглянуть на вещи несколько более хладнокровно и пришел к такому разумному выводу: «Кроме моей жены, никто не может открыть мне эту непостижимую тайну… я не хочу ее тиранить или убивать… Значит, надо найти возможность заставить ее говорить, а для этого необходимо сдержаться».
Солдат сел; он указал на другой стул жене, все еще продолжавшей оставаться на коленях, и сказал ей:
— Сядь!
Франсуаза послушно поднялась и села.
— Слушай, жена, — начал Дагобер отрывистым, взволнованным голосом, причем в повышении и понижении его тона чувствовалось, какое жгучее нетерпение приходилось старику сдерживать, — ты должна же понять, что так остаться не может… Ты знаешь, что бить я тебя не могу… Сейчас я вспылил, не выдержал… Но прости меня за этот невольный порыв… Больше ничего подобного не повторится… будь уверена. Но, посуди сама, должен же я знать, где девочки… Ведь они мне поручены матерью… Неужели я затем вез их из Сибири, чтобы услыхать от тебя: «Не спрашивай… я не могу тебе открыть, что с ними сталось!» Согласись, что это не объяснение! Ну, вдруг, сейчас войдет маршал Симон и спросит меня: «Где мои дети, Дагобер?»… Что я ему отвечу? Видишь… я теперь спокоен… Но поставь себя на мое место… Ну, что я ему отвечу?.. А?.. Да говори же!.. Ну… говори!
— Увы, друг мой!..
— Эх! — сказал солдат, вытирая лоб, на котором жилы вздулись, точно готовые лопнуть. — Не до вздохов теперь! Что же я должен буду отвечать маршалу?
— Обвиняй меня… я все перенесу…
— Что же ты ответишь?
— Я ему скажу, что ты поручил мне его дочерей, ушел по делу, а возвратившись не нашел их дома и что я не могла ответить, где они!..
— Вот как! И, ты думаешь, маршал этим удовольствуется? — спросил солдат, руки которого, лежавшие на коленях, начали судорожно сжиматься в кулаки.
— К несчастью, больше я не могу ему сообщить ничего… ни тебе… ни ему… хоть вы меня убейте!
Дагобер вскочил со стула. В ответе Франсуазы звучала все та же кроткая и непоколебимая решимость. Старик окончательно потерял терпение и, боясь дать волю своему гневу, так как это не повело бы ни к чему, бросился к окну, раскрыл его и выставил голову, чтобы немножко освежиться. Холод его успокоил, и он снова через несколько минут вернулся к жене и сел подле нее. Франсуаза, вся в слезах, с отчаянием устремила взоры на распятие, думая, что и ей выпало теперь нести тяжелый крест.
Дагобер продолжал:
— Насколько я могу судить по твоему тону, их здоровью ничто не угрожает? Ничего с ними не случилось?
— О, нет! На это я могу ответить; они, слава Богу, совершенно здоровы…
— Они одни ушли?
— Не спрашивай… я не могу отвечать…
— Увел их кто-нибудь?
— Оставь, мой друг, свои расспросы… я не могу…
— Вернутся они сюда?
— Не знаю…
Дагобер снова вскочил со стула и, снова сделав несколько шагов, овладел собой и вернулся к жене.
— Я только одного не могу понять, — сказал он Франсуазе: — Какой тебе интерес скрывать все это от меня? Почему ты отказываешься все мне рассказать?
— Я не могу поступить иначе!
— Надеюсь, что ты переменишь свое мнение, когда я тебе открою одну вещь, — взволнованным голосом продолжал Дагобер: — Если эти девочки не будут мне возвращены накануне 13 февраля, — а до этого числа недалеко, — то я стану для дочерей маршала Симона вором и грабителем… слышишь: грабителем! — И с раздирающим душу воплем, отозвавшимся страшной болью в сердце Франсуазы, он прибавил: — Выйдет, что я обокрал этих детей… Это я-то, который употребил невероятные усилия, чтобы к сроку привезти их в Париж!.. Ты не знаешь, что пришлось мне вынести за эту долгую дорогу… сколько забот… тревог… Не легко мне было… возиться с двумя молоденькими девушками… Только любовь к ним и преданность меня выручали… Я ждал за все это только одной награды… я хотел сказать их отцу: «Вот они, ваши девочки!»…
Голос Дагобера прервался; за вспышкой гнева последовали горькие слезы. Солдат заплакал.
При виде слез, струившихся по седым усам старого воина, Франсуаза почувствовала, что она начинает колебаться в своем решении, но, вспомнив о словах духовника, о своей клятве, о том, что дело связано со спасением душ бедных сироток, она мысленно упрекнула себя в готовности поддаться искушению, за которое ее строго бы осудил аббат Дюбуа.
Она только робко спросила:
— Почему же тебя могут обвинить в ограблении этих девушек, как ты уверяешь?
— Знай же, — ответил Дагобер, проводя рукой по глазам, — эти девушки потому перенесли столько лишений и препятствий по пути сюда из Сибири, что к этому побуждали их важные интересы и, может быть, громадное богатство… Все это будет потеряно, если они не будут 13 февраля на улице св.Франциска в Париже… И это произойдет по моей вине… так как ведь я ответственен за все, что ты сделала!
— 13 февраля… на улице св.Франциска? — повторила Франсуаза, глядя с удивлением на мужа. — Так же как и Габриель, значит?
— Что?.. Габриель?..
— Когда я его взяла… бедного, брошенного ребенка… у него на шее была бронзовая медаль…
— Бронзовая медаль?! — воскликнул пораженный Дагобер. — И на ней надпись: «В Париже вы будете 13 февраля 1832 г., на улице св.Франциска»?
— Да… Но откуда ты это знаешь?
— Габриель! — повторил, задумавшись, солдат, а потом спросил с живостью: — А Габриель знает, что на нем была такая медаль, когда ты его взяла?
— Я ему об этом говорила. В кармане его курточки я нашла еще бумажник, полный каких-то документов на иностранном языке. Я отдала их моему духовнику, аббату Дюбуа, и тот сказал, что ничего важного в них не содержится. Затем, когда один добрый господин, некто Роден, взял на себя воспитание Габриеля и поместил его в семинарию, аббат передал ему медаль и бумаги Габриеля. Больше я ничего о них не слыхала.
Когда Франсуаза упомянула о своем духовнике, в голове Дагобера мелькнуло одно предположение. Хотя он и не знал о тайных интригах, с давних пор ведущихся против Габриеля и сирот, но он смутно почувствовал, что жена его попала под влияние исповедника. Он не мог понять цели и смысла этого влияния, но ухватился за эту мысль, потому что она частично объясняла ему непостижимое запирательство Франсуазы в вопросе о девочках.
После нескольких минут раздумья солдат встал и, строго глядя на жену, вымолвил:
— Во всем виноват священник!
— Что ты этим хочешь сказать?
— У тебя не может быть никакого интереса скрывать от меня детей! Ты добрейшая из женщин; ты видишь мои страдания, и если бы ты действовала по своей воле, то сжалилась бы надо мной…
— Но… друг мой…
— Я тебе говорю, что тут пахнет рясой!.. — продолжал Дагобер. — Ты жертвуешь мной и сиротами ради своего духовника! Но берегись… Я узнаю, где он живет, и… тысяча чертей, я добьюсь от него, кто здесь хозяин: я или он! А если он будет молчать, — с угрозой продолжал Дагобер, — так я сумею его заставить говорить!
— Великий Боже! — воскликнула Франсуаза, с ужасом всплеснув руками при таких святотатственных словах. — Ведь он священник, подумай… духовное лицо!
— Аббат, который вносит в дом измену, ссору и горе, — такой же бесчестный человек, как и всякий другой, и я потребую от него отчета в том зле, какое нанесено моей семье… Итак, отвечай мне сейчас иге, где дети, или, клянусь, я пойду за ответом к твоему духовнику. Я убежден, что тут кроется какой-то гнусный заговор, и ты, несчастная, сама того не ведая, являешься сообщницей… Ну, да мне и приятнее потребовать отчета от другого, чем от тебя!
— Друг мой, — кротко, ко очень твердо заметила Франсуаза, — ты напрасно думаешь чего-нибудь добиться насилием от уважаемого человека, более двадцати лет состоящего моим духовным отцом. Это почтенный старец.
— Я на годы не посмотрю!
— Но, Боже! Куда ты идешь? У тебя такой страшный вид!
— Я иду в твою приходскую церковь… тебя там, конечно, знают… Я спрошу, кто твой духовник… а там посмотрим!
— Друг мой… умоляю! — воскликнула в ужасе Франсуаза, загораживая мужу дверь. — Подумай, чему ты подвергаешься! Боже!.. Оскорбить священника!.. Да разве ты не знаешь, что этот грех может отпустить только епископ или папа!
Бедная женщина наивно думала, что эта угроза устрашит ее мужа, но он не обратил на нее никакого внимания и, вырвавшись от жены, бросился к дверям даже без фуражки, — так велико было его волнение.
Но когда дверь отворилась, в комнату вошел полицейский комиссар с Горбуньей и полицейским агентом, который нес захваченный у девушки узел.
— Комиссар! — воскликнул Дагобер, узнав чиновника по его шарфу. — Вот и отлично, нельзя было явиться более кстати.
8. ДОПРОС
— Госпожа Франсуаза Бодуэн? — спросил комиссар.
— Это я, сударь… — отвечала Франсуаза, а затем, увидавши дрожавшую, бледную Горбунью, которая не смела даже подойти поближе, она воскликнула со слезами: — Ах, бедняжка!.. Прости нас, милая, из-за нас тебе пришлось вынести такое унижение… Прости…
После того, как Франсуаза выпустила Горбунью из своих объятий, молодая девушка с кротким и трогательным достоинством обратилась к комиссару:
— Видите, господин… я не воровка!
— Значит, мадам, — сказал чиновник Франсуазе, — серебряный стаканчик, шаль… простыни… все, что было в этом свертке…
— Все это мое, месье… Эта бедная девушка, честнейшее и лучшее в мире существо, хотела оказать мне услугу и снести эти вещи в ломбард…
— Вы виноваты в непростительной ошибке, — обратился комиссар к полицейскому, — я о ней сообщу… и вы будете наказаны. А теперь идите вон! — Затем, обращаясь к Горбунье, он прибавил с чувством подлинного огорчения: — Я, к несчастью, могу только выразить вам мое глубокое сожаление по поводу случившегося… Поверьте, я вполне сознаю, как тяжела была для вас эта ужасная ошибка…
— Я вам верю и благодарю за сочувствие, — сказала Горбунья.
И она в изнеможении опустилась на стул. Мужество и силы девушки совершенно иссякли после стольких потрясений.
Комиссар хотел уже уйти, но Дагобер, все это время поглощенный какими-то суровыми размышлениями, остановил его, сказав твердым голосом:
— Господин комиссар… прошу вас меня выслушать… мне надо сделать заявление…
— Что вам угодно?
— Дело весьма важное: я обращаюсь к вам, как к государственному чиновнику.
— Я готов вас выслушать в качестве такового.
— Всего два дня, как я сюда приехал. Я привез в Париж из России двух молодых девушек, порученных мне их матерью, женой маршала Симона…
— Господина маршала герцога де Линьи? — с удивлением спросил комиссар.
— Да… Вчера я должен был уехать по делу… и оставил их здесь… Во время моего отсутствия, сегодня утром они исчезли… и я почти убежден, что знаю виновника этого исчезновения…
— Друг мой! — с испугом воскликнула Франсуаза.
— Ваше заявление весьма серьезно, — заметил комиссар. — Похищение людей… быть может, лишение свободы… Вполне ли вы в этом уверены?
— Час тому назад эти девушки были здесь. Повторяю, что их похитили в мое отсутствие…
— Я не хотел бы сомневаться в искренности вашего заявления, но, как хотите, трудно объяснить подобное внезапное похищение… Кроме того, почему вы думаете, что эти девушки не вернутся? Наконец, кого вы подозреваете? Но только одно слово, прежде чем вы сделаете свое заявление. Помните, что вы имеете дело с государственным чиновником: после меня это дело должно перейти в суд… Оно попадет в руки правосудия.
— Именно этого я и желаю… Я несу ответственность за этих девушек перед их отцом. Он может приехать с часу на час, и должен же я оправдать себя перед ним!
— Я понимаю вас, месье… Я только напоминаю вам, чтобы вы не увлеклись необоснованными подозрениями… Если ваше заявление будет сделано, то, быть может, я обязан буду немедленно принять предварительные меры против того лица, которое вы обвиняете… И если вы ошиблись, то последствия для вас будут очень серьезные… Да что ходить далеко!.. — и комиссар с волнением указал на Горбунью. — Вы видите, что значит иногда ложное обвинение!
— Друг мой… видишь… — уговаривала мужа Франсуаза, ужасно испуганная решением Дагобера обвинить аббата Дюбуа. — Умоляю тебя… оставь это дело… не говори больше ни слова!
Но солдат был уверен, что молчание навязано Франсуазе ее духовником и что она действовала по его наущению. И он совершенно твердым голосом заявил:
— Я обвиняю духовника моей жены в том, что он сам лично или в сговоре с кем-либо устроил похищение дочерей маршала Симона.
Франсуаза закрыла лицо руками и горестно застонала; Горбунья бросилась ее утешать.
Комиссар с большим удивлением взглянул на солдата и строго заметил:
— Позвольте… Справедливо ли вы обвиняете человека, облеченного столь высоким саном… духовное лицо? Помните, я вас предупреждал… а тут еще речь идет о священнике… Обдумали ли вы свои слова? Все это чрезвычайно серьезно и важно… Легкомысленное отношение к делу в ваши годы было бы непростительно.
— Помилуйте! — с нетерпением воскликнул Дагобер. — В мои годы не теряют еще здравого смысла. Между тем вот что случилось: моя жена — лучшее и честнейшее создание в мире, спросите о ней здесь в квартале, и все это подтвердят… но она очень набожна: вот уже двадцать лет она на все смотрит глазами своего духовника… Она обожает своего сына, любит меня… но важнее сына и меня для нее… ее духовник!
— Месье, — прервал комиссар, — я считаю, что эти подробности… слишком личные…
— Они необходимы… вот увидите… Час тому назад я вышел из дому по делу бедной Горбуньи… Когда я вернулся, девушек уже не было… они исчезли… Я спросил жену, на попечение которой я их оставил, где девушки… Она упала передо мной на колени и, заливаясь слезами, заявила: «Делай со мной, что хочешь… но не спрашивай, что сталось с ними… я не могу тебе дать ответа!»
— Правда ли это? — спросил комиссар, с изумлением взглянув на Франсуазу.
— Ни гнев, ни просьбы, ни угрозы — ничто не подействовало, — продолжал Дагобер. — На все она мне отвечала с ангельской кротостью: «Я не могу ничего открыть!» Вот поэтому-то, месье, я и утверждаю: личного интереса в исчезновении этих девушек моя жена иметь не может; она полностью во власти своего духовника; она действует несомненно по его приказанию и служит орудием в его руках; поэтому виноват во всем он один.
Пока Дагобер говорил, полицейский чиновник внимательно наблюдал за Франсуазой, которая горько плакала, опираясь на Горбунью. После минутного раздумья комиссар подошел к жене Дагобера и сказал:
— Вы слышали, мадам, заявление вашего мужа?
— Да.
— Что вы можете сказать в свое оправдание?
— Позвольте! — воскликнул Дагобер. — Я не обвиняю свою жену!.. Я не о ней говорил, а об ее духовнике!
— Вы обратились к должностному лицу, и ему решать, как следует действовать… Еще раз, мадам, что вы можете сказать в свое оправдание?
— Увы! Ничего!
— Правда ли, что ваш супруг поручил вам этих девушек в свое отсутствие?
— Да!
— Правда ли, что на его вопрос, где они, вы ответили, что не можете ничего ему сообщить по этому поводу?
Казалось, комиссар ожидал ответа Франсуазы на последний вопрос с некоторого рода беспокойным любопытством.
— Да, месье, — ответила та с обычной простотой и наивностью, — я ответила так моему мужу.
Комиссар не мог удержаться от выражения горестного изумления.
— Как, мадам! На все просьбы… на все настояния вашего мужа… вы не могли дать другого ответа? Как! вы отказались что-либо пояснить? Но это невозможно… это абсолютно невероятно…
— Однако это правда!
— Но что же случилось с этими девушками, которых вам поручили?
— Я ничего не могу сказать по этому поводу… Если уж я не ответила моему бедному мужу, то, естественно, никому другому не отвечу!
— Видите, разве я не прав? — вмешался Дагобер. — Разве может говорить таким образом женщина добрая, честная, разумная до этого времени, готовая на всякого рода самопожертвования?.. Разве это естественно? Повторяю, главную роль тут играет духовник! Надо решительно и быстро принять меры… тогда все выяснится, и, быть может, мне будут возвращены мои бедные девочки!
Комиссар снова обратился к Франсуазе с видимым волнением:
— Мадам… я вынужден говорить с вами очень строго… меня обязывает к этому долг… Все это так необычно, что я должен сообщить судебному ведомству, не медля ни минуты. Вы сознаетесь, что девушки были вам поручены, и не хотите открыть, что с ними сталось!.. Выслушайте же меня хорошенько: если вы отказываетесь дать на этот счет объяснение, то я обязан обвинить вас в исчезновении сестер Симон… только вас одну… и вы будете взяты под стражу…
— Я! — с ужасом воскликнула Франсуаза.
— Она! — закричал Дагобер. — Никогда!.. Повторяю, я обвиняю во всем духовника, а не ее… Бедная моя жена… Разве можно ее арестовать!.. — и он подбежал к жене, как бы желая защитить ее.
— К несчастью, месье, поздно! — сказал комиссар. — Вы подали мне жалобу по поводу похищения двух девушек. По показаниям вашей жены, только она одна замешана в этом похищении. Я должен ее отвести к прокурору, и он уже решит ее участь.
— А я говорю вам, что не позволю увести мою жену! — угрожающим томом сказал Дагобер.
— Я понимаю ваше огорчение, — холодно возразил комиссар, — но прошу вас в интересах истины не препятствовать мере, которой через какие-нибудь десять минут уже физически нельзя будет препятствовать.
Эти слова, произнесенные очень спокойно, вернули Дагоберу сознание.
— Но позвольте же! — воскликнул он. — Ведь я не жену обвиняю!
— Оставь, мой друг, — с ангельской покорностью заметила несчастная мученица. — Не думай обо мне. Господь Бог посылает мне новое тяжкое испытание! Я Его недостойная раба… Я должна с благодарностью исполнять Его волю… Пусть меня арестуют… я и в тюрьме не скажу больше, чем здесь, об этих бедных детях.
— Но, помилуйте! вы должны сами видеть, что у бедняги голова не в порядке, — убеждал Дагобер. — Вы не можете ее арестовать…
— Однако против лица, которое вы обвиняете, нет ни малейшего доказательства, нет ни одного признака его соучастия в этом деле, да кроме того его сан служит ему защитой. Позвольте мне увести с собой вашу жену… Быть может, она вернется после первого же допроса… Поверьте, — прибавил растроганный комиссар, — мне очень прискорбно принимать такие меры… и как раз в ту минуту, когда ваш сын находится в заключении, что, конечно, должно быть для вас…
— Что?! — воскликнул Дагобер, с недоумением смотря на присутствующих. — Что, что вы сказали?.. Мой сын?
— Как, вы этого еще не знаете? Ах, месье, простите тысячу раз! — проговорил с грустным волнением комиссар. — Мне очень жаль, что я вам сообщил это печальное известие…
— Мой сын! — схватившись за голову, повторил Дагобер. — Мой сын арестован!
— По политическому делу… и не особенно важному… — сказал комиссар.
— Нет, это уж слишком!.. сразу столько горя! — воскликнул Дагобер, опускаясь в изнеможении на стул и закрывая лицо руками.
Несмотря на душераздирающее прощание с мужем и собственный страх, Франсуаза осталась верна обещанию, данному аббату Дюбуа. Дагобер, отказавшийся показывать против жены, облокотился на стол и, под гнетом горькой думы, проговорил:
— Вчера я был окружен семьей… у меня была жена… сын… мои две девочки… а теперь я один… один!..
Когда он с мукой и отчаянием выговорил эти горькие слова, возле него послышался ласковый, грустный голос, скромно произнесший:
— Господин Дагобер… я здесь… Если вы позволите, я останусь с вами… я буду помогать вам…
Это была Горбунья.
КОММЕНТАРИИ
Агасфер — «Вечный жид», персонаж христианской легенды позднего западноевропейского средневековья. Имя Агасфера произвольно заимствовано из книги Есфири Пятикнижия Моисея по звуковой аналогии с именем персидского царя Артаксеркса. Согласно легенде Агасфер отказал Иисусу Христу в отдыхе во время его восхождения на Голгофу и потому был обречен на вечное скитание в ожидании второго пришествия Христа. В легенде находят отражение эсхатологические мотивы, равно как и ветхозаветный мотив проклятия Каину, обреченного Яхве на скитания. Различные версии легенды о Вечном жиде получают распространение в Западной Европе с XIII в. К образу Агасфера обращались И.В.Гете, П.Б.Шелли, В.А.Жуковский и другие.
Господину К.П. — Камиль Плейель (1788-1855), французский композитор и пианист, автор квартетов, сонат и небольших пьес для рояля. В 1825 г. основал в Париже фабрику по производству роялей, пользовавшихся известностью среди знатоков. Близкий друг Э.Сю. Предполагается, что фабрика Плейеля послужила прототипом изображаемого в романе фаланстера. Здесь были организованы школа для детей, библиотека, касса взаимопомощи, певческое общество и т.п.
…семь гвоздей… оставляют след, имеющий форму креста. — Намек на причастность Агасфера ко кресту. Число «7» имеет в романе символическую функцию: оно не только ассоциируется с семью заповедями Христа, но также и указывает на семь центральных персонажей романа, связанных узами родства с Агасфером.
Agnus Dei — в переводе с латинского «агнец Божий», изображение Христа в виде закланного ягненка, олицетворяющего искупительную жертву Иисуса во спасение греховного человечества. Символическая параллель между Христом и агнцем, принесенным в жертву, проявляется в евхаристии — обряде пасхального ужина во время Тайной Вечери, когда Иисус подает ученикам хлеб и вино, мистически претворяя их в свое тело и свою кровь, а себя уподобляя закланному и поедаемому пасхальному ягненку. Преломив хлеб, Иисус дает вкусить от него ученикам со словами: «сие есть Тело Мое», а затем дает испить из чаши с вином, говоря: «сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матфей 26, 20-29; Марк 14, 18-52; Лука 22, 8-38; Иоанн 13).
Фрибург — город в Швейцарии, административный центр кантона. Вплоть до 1847 г. в общественно-политической жизни кантона, в том числе в системе образования, большим влиянием пользовались иезуиты.
…с мрачными предсказаниями на 1831 и 1832 год, адресованными революционной и нечестивой Франции. — Имеется в виду нестабильная социально-политическая обстановка во Франции после Июльской революции 1830 г., покончившей с монархией Бурбонов и установившей Июльскую монархию Луи-Филиппа. Среди самых крупных антиправительственных выступлений начала 30-х гг. известно рабочее восстание в Лионе 20 ноября 1831 г.
…обращение Игнатия Морока… — Не случаен выбор имени Предсказателя, ассоциируемого с именем Игнатия Лойолы (1491?-1556), основателя ордена иезуитов.
Иуда — тигр назван именем одного из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа, предавшего своего Учителя первосвященникам за тридцать сребреников.
Каин — лев назван именем ветхозаветного персонажа Каина, старшего сына Адама и Евы, убившего брата своего Авеля из зависти. Проклят Богом за братоубийство и помечен особым знаком — «каиновой печатью» (Бытие 4, 2-16).
Лье — французская единица длины около 4 км.
Виттенберг — город в Прусии на реке Эльба. Впервые упоминается в 1180 г. В XVI в. один из главных центров Реформации.
Голиаф — слуга Морока назван именем ветхозаветного великана-филистимлянина из Гэфа, побежденного в единоборстве с пастухом Давидом (Первая Книга Царств 17, 12-51).
…носили имена Розы и Бланш… — Имена девушек ассоциируются с красным и белым цветом, символизирующим в западноевропейской культурной традиции различные аспекты женской ипостаси. Наибольшее распространение получили в этой связи образы алой розы и белой лилии. Сходными именами названы многие красавицы многих старофранцузских куртуазных романов (ср. «Роман о Розе», «Флуар и Бланшфлор» и т.д.).
…старый солдат Империи… — Имеется в виду время правления Наполеона Бонапарта, французского императора в период с 1804 г. по 1814г.
Грез Жан-Батист (1725-1805) — французский художник, автор картин на сентиментальные сюжеты из жизни третьего сословия («Паралитик», «Отцовское благословение», «Отец семейства, читающий Библию своим детям», «Любимая мать»). Широкой популярностью у современников пользовались его изображения ангелоподобных благочестивых девушек, наделенных томным взглядом, алыми непорочными губками, вьющимися белокурыми волосами («Разбитый кувшин», «Девушка, оплакивающая мертвую птичку», «Девушка с собачкой»).
Красная гвоздика, увлажненная росой, не сравнилась бы ни в цвете, ни в бархатистости с их цветущими губками… — Начиная со средних веков общим местом в западноевропейской культуре становится сравнение девушки и ее прелестей с цветком — розой, лилией, гвоздикой и т.п.
…изображение орла. — Знак императорской гвардии Наполеона I, императора французов (1804-1814), эмблема силы и величия, власти, господства и вместе с тем великодушия и прозорливости. Символическая функция орла в эпоху Наполеона объясняется соответствующим значением эмблемы в Римской империи, служившей для Франции тех лет своеобразным образцом для подражания. Кроме Римской империи, изображение орла фигурировало также на штандартах персидских царей, египетских фараонов династии Птолемеев, Карла Великого, германских императоров и т.д.
…накануне великой битвы под Лейпцигом… — Сражение, известное также под названием «битвы народов», состоявшееся под Лейпцигом во время войны России, Пруссии, Австрии и Швеции против наполеоновской Франции с 17 на 18 октября 1813 г. С обеих сторон участвовало свыше 500 тыс. человек. Наполеоновская армия потеряла около 80 тыс. человек и была вынуждена отойти. Победа союзников привела к освобождению Германии и Голландии, а также распаду Рейнского союза, объединению 36 германских государств под протекторатом Наполеона I.
В Испании он со страстным наслаждением наносил сабельные удары… — Речь идет о франко-испанской войне 1808-1814 гг., последовавшей сразу же после возведения на испанский престол Жозефа, брата Наполеона I.
…инстинктивное чувство естественной религии… — Иначе религии разума или религии чувства, выводимой из «человеческой природы» и соответственно не нуждающейся в авторитете церковных догматов. На основе естественной религии была сделана попытка создать государственный культ в эпоху Великой французской революции.
…в Египте… — Французские регулярные войска под предводительством генерала Бонапарта вошли в Египет в 1798 г. Были вытеснены англичанами в 1801 г.
…сложением Геркулеса… — Геракл, герой греческой мифологии, сын бога Зевса и смертной женщины Алкмены, отличался прекрасным телосложением и большой физической силой. Совершил двенадцать знаменитых подвигов: добыл шкуру немейского льва, убил лернейскую гидру, поймал керенейскую лань, победил эриманфского вепря, очистил конюшни Авгия, изгнал стимфалийских птиц, усмирил критского быка, привел свирепых кобылиц фракийского царя Диомеда, достал пояс Ипполиты — царицы амазонок и т.д. Культ Геракла получил распространение во всем греческом мире. В Италии почитался под именем Геркулеса.
Флорин — первоначально золотая монета Флоренции XIII-XVI вв., затем денежная единица многих европейских стран. Наряду с золотыми чеканились и серебряные флорины.
Императорская гвардия — конная гвардия Наполеона I, созданная в 1804 г.
Эмигранты — французы, покинувшие пределы Франции в период Великой французской революции 1789-1794 гг. Дворянская эмиграция началась с отъездом графа Артуа и принца Конде, за которыми последовал основной поток беженцев, образовавших за пределами страны так называемую «внешнюю Францию». К 1791 г. армия принца Конде, одного из лидеров внешней оппозиции, насчитывала от шести до семи тысяч человек. Реальная поддержка контрреволюционному заговору в Бретани и Вандее была оказана вооруженными отрядами графа д'Артуа. По закону от 26 апреля 1802 г. было разрешено возвращение на родину всем эмигрантам, за исключением тысячи человек, вернувшихся во Францию в 1814 г. вместе с Людовиком XVIII и войсками антинаполеоновской коалиции.
…подражаешь, должно быть, королю Дагоберу… — Сравнение Франсуа Бодуэна с легендарным королем франков Дагобером I (629-639), воспетым во многих средневековых поэмах, объясняется не только храбростью солдата, но и, несомненно, его комичным полураздетым видом. Кроме ратных подвигов, Дагобер I был известен также и многочисленными своими любовными похождениями.
…при Березине… — Река Березина, правый приток Днепра, известна крупным сражением в Отечественной войне 1812 г. При переправе через реку возле Студянки отступающая наполеоновская армия сумела избежать окружения, однако понесла значительные потери.
…этого прекрасного Габриеля… — Ангельский облик юноши, равно как и данное ему имя, ассоциируется с архангелом Гавриилом (фр. Габриель), основное значение которого состоит в том, чтобы быть вестником или раскрывать смысл пророческих видений, особенно в отношении прихода Мессии. В ветхозаветных текстах Гавриил — субъект видений Даниила (Книга пророка Даниила 8, 16-26; 9, 21-27). В Новом Завете он является Деве Марии, предсказывая рождение младенца Иисуса (Лука 1, 26-38).
Граф Империи — дворянский титул во Франции в период Империи Наполеона I (1804-1814).
…о ссылке, императора на Эльбу… — Остров в Средиземном море в составе современной Италии. По Амьенскому договору о. Эльба перешел в 1802 г. Франции. После победы государств антинаполеоновской коалиции Эльба — место ссылки Наполеона с 3 мая 1814 г. по 26 февраля 1815 г. В 1815 г. Эльба отошла к Тоскании.
…о возвращении Бурбонов… — Королевская династия во Франции в 1589-1792, 1814-1815, 1815-1830 гг. Правление Бурбонов во Франции прервалось с казнью Людовика XVI (1754-1793), обвиненного революционным Конвентом в государственной измене. Восстановлено с падением империи Наполеона I и возвращением в страну находившегося в эмиграции Людовика XVIII (1755-1824), брата казненного монарха.
…при Ваграме… — Ваграм, небольшое селение в Австрии, известно крупным сражением в австро-французской войне 1809 г., в котором войска Наполеона разбили австрийскую армию эрцгерцога Карла. Австрия заключила перемирие, а затем Шенбруннский мир 1809 г.
…титул герцога де Линьи… — По названию местечка в Бельгии в провинции Намюр. Известно крупным сражением 16 июня 1815 г., в котором Наполеон одержал последнюю свою победу над прусскими войсками под предводительством Блюхера. Два дня спустя армия Наполеона была разбита под Ватерлоо.
Маршал Империи — высшее воинское звание во Франции, учрежденное Наполеоном в 1804 г. В период правления Наполеона насчитывалось восемнадцать маршалов Империи.
Ватерлоо — местечко в Бельгии южнее Брюсселя. В так называемый период «Ста дней», вторичного правления императора Наполеона I после его бегства из ссылки на о.Эльба, 18 июня 1815 г. близ Ватерлоо состоялось решающее сражение, в котором французская армия была разбита англо-голландскими войсками А.Веллингтона и прусскими войсками Г.Л.Блюхера.
Остров св.Елены — остров в Атлантическом океане, место пожизненной ссылки Наполеона I с 17 октября 1815 г. после вторичного отречения от престола. Останки Наполеона, скончавшегося, в 1821 г., находились на острове вплоть до 1840 г.
Пикардия — историческая провинция на севере Франции. Главный город Амьен.
Сын императора — Франсуа-Шарль-Жозеф Наполеон II (1811-1832), сын Наполеона I и императрицы Марии-Луизы Австрийской. При рождении получил титул Римского короля. Дважды отрекаясь от престола, сначала в 1814 г., а затем в 1815 г., Наполеон I назначал сына своим преемником, в чем ему всякий раз было отказано. Молодой принц воспитывался при австрийском дворе.
…дрался за греков против турок… — Имеется в виду национально-освободительное движение греков начала XIX в. против турецкого владычества (1821-1829), в результате которого Греция при поддержке Франции, Англии и России получила независимость. Турция признала автономию Греции по Андрианопольскому мирному договору после поражения в войне с Россией (1828-1829).
В Индии он сделался отчаянным врагом англичан… — Завоевание Индии европейскими странами происходит с начала XVI в. К середине XIX в. Англия подчиняет практически всю территорию Индии в результате войн с европейскими соперниками, а также многочисленных англо-маратхских, англо-майсурских, англо-сикхских и других войн.
Ава — государство Индокитая в XIV-XVIII вв., расположенное на восточном берегу Бенгальского залива. Перестало существовать в 1752 г., став одной из провинций Бирмы. В XIX в. название Ава применялось ко всей Бирме.
Сипаи — воины, солдаты на языке хинди, в середине XVIII в. — начале XIX в. наемные солдаты в Индии, вербовавшиеся в английскую колониальную армию из местного населения.
…молодые греки времен Леонида… — Подразумевается Леонид (508?-480 до н.э.), спартанский царь с 488 г. до н.э. В греко-персидских войнах возглавил в 480 г. греческое войско против персидского царя Ксеркса. Погиб в знаменитом сражении у Фермопил, прикрывая с небольшим отрядом спартанцев отступление греческих войск. Тело Леонида было перенесено в величественную усыпальницу в Спарте. В честь погибших трехсот спартанцев воздвигнут храм. Известна картина французского художника Ж.-Л.Давида (1748-1825) «Леонид у Фермопил».
Неаполитанский король. — Речь идет о маршале Империи Мюрате (1767-1815), верном сподвижнике Наполеона I. Сын трактирщика. Прослушав курс теологии в Тулузе, поступил в 1786 г. на военную службу. Лейтенант в 1792 г., подполковник в 1794 г., дивизионный генерал в 1799 г., зять Наполеона, принц и маршал Империи, король Неаполитанский с 1808 г. Участник всех наполеоновских войн. Расстрелян 13 октября 1815 г. по приказу короля Фердинанда IV, сменившего Мюрата на троне Неаполитанского королевства.
Батавия — столица современной Индонезии (Джакарта) на о.Ява. Наименование дано в начале XVII в. первоначально крепости, а затем и поселению, возведенному голландцами на месте ими же разрушенного города Джаякерта.
«Марсельеза» — французская революционная песня, затем государственный гимн Франции. Слова и музыка (1792) К.-Ж.Руже де Лиля (1760-1836), военного инженера, поэта и композитора. Первоначально названа «Боевой песней Рейнской армии».
«Пробуждение народа» — песня термидорианцев, свергших якобинскую диктатуру 27-28 июля 1794 г., или 9-10 термидора 11 года по республиканскому календарю. Несмотря на то, что песня призывала к истреблению якобинцев, даже Директория была вынуждена ее запретить. Слова Сиругера, музыка Гаво.
…Бурбоны были сами изгнаны из Франции… — В результате Июльской революции 1830 г., свергнувшей короля Карла X (1824-1830), к власти пришел Луи-Филипп, выразитель интересов торгово-промышленной и банковской буржуазии.
Франкфурт. — Имеется в виду Франкфурт-на-Майне, город в западной части Германии на реке Майн. Известен с конца VIII в. н.э. С 1815 г. по 1866 г. был вольным городом. Среди архитектурных памятников отмечаются ратуша XV-XVIII вв. и готический собор XII-XVI вв.
«De formula scribendi» (лат.) — о способе написания.
Орден иезуитов, или общество Иисуса, — католический монашеский орден, основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой (1491?-1556) и поддержанный в 1540 г. римским папой Павлом III. Занимается распространением христианской веры, обращением неверных и еретиков, воспитанием молодежи. Иезуиты утвердились не только в большинстве европейских государств, но проникли также в Индию, Японию, Китай, на Филиппины. В 1610-1768 гг. существовало также иезуитское государство в Парагвае. Основные принципы организации общества: абсолютный авторитет главы ордена, повиновение младших старшим, строгая централизация, взаимная слежка. В первые десятилетия XVIII в. орден являлся сложным организмом, наделенным неограниченным влиянием на самые различные сферы общественно-политической жизни европейских государств. Преемники Лойолы превратили орден в особое самостоятельное учреждение внутри церкви, вследствие чего сам папа довольно часто оказывался игрушкой в руках орденского генерала. Именно поэтому Общество Иисуса было запрещено в 1773 г. папой Климентом XIV. Иезуиты изгоняются из Испании, Португалии, Франции, России. Тем не менее они продолжают свою деятельность под другими именами — например, Братьев Креста или Братьев Веры. Папа Пий VII восстанавливает орден иезуитов в правах сначала тайно в 1800 г., затем торжественно в 1814 г. С Реставрацией иезуиты вновь возвращаются во Францию под именем Отцов Веры. С ними связываются надежды по борьбе с революционными веяниями.
Венецианское правительство — Сенат или Совет Десяти, состоящий из представителей высшей аристократии Венецианской республики и возглавляемый дожем. С VII по XVIII в., т.е. с момента провозглашения первого дожа в 697 г. до занятия Венеции войсками Наполеона в 1797 г., в Венеции было 122 дожа.
Фут — единица длины в системе английских мер, равная 12 дюймам или 0,3048 метра.
Дюнкерк — портовый город на севере Франции в проливе Па-де-Кале. Основан около 960 г. Бодуэном Младшим, графом Фландрским, возле часовни, возведенной св.Элоем в дюнах.
Кадис — портовый город на юге Испании в Кадисском заливе Атлантического океана. Основан в конце IX в. до н.э. финикийцами. Сохранились городские стены XVII в., собор Санта Крус XIII в.
Филадельфия — портовый город на востоке Соединенных Штатов в низовьях реки Делавэр. Основан в 1682 г. Один из центров войны за независимость в Северной Америке (1775-1783). В 1790-1800 гг. временная столица Североамериканских штатов.
Намюр — главный город одноименной провинции в Бельгии. Среди архитектурных памятников выделяется собор, построенный по образу собора св.Петра в Риме. В XIX в. в Намюре находился коллеж, управляемый иезуитами.
Турин — город на севере Италии, административный центр провинции Турин и области Пьемонт. Известен с древности.
Баден — город в Швейцарии к северо-западу от Цюриха.
Мария-Эрнестина — вероятно, вымышленное имя по аналогии со старшей ветвью правящего саксонского дома Эрнестина, восходящей к Эрнесту, сыну саксонского герцога Фридриха II (1428-1474), которого он сменил на троне совместно с младшим братом Альбертом (1474-1484), а затем единолично (1484-1486). Эрнестина оставалась правящей династией лишь до 1547 г., затем была смещена младшей ветвью — Альбертиной, представителем которой являлся в 30-е гг. XIX в. король Саксонии Антиний I (1827-1836). Старшая ветвь продолжала сохранять княжеский титул и некоторые владения в Саксонии.
…пантеистических тенденций философской доктрины профессора Мартена. — Мартен Эме (1781-1847), французский литератор, профессор словесности в Высшей Политехнической школе в Париже, ученик и друг французского писателя-сентименталиста Бернардена де Сент-Пьера (1737-1814), произведения которого он собрал и опубликовал в 1817-1819 гг. Автор «Писем к Софи о физике, химии и естественной истории» (1810), «Воспитания матерей семейства» (1834), критических изданий Расина, Мольера, Ларошфуко.
…в горах Вале… — Вале, кантон в Швейцарии, находится в долине между Бернскими Альпами на севере и Пеннинскими Альпами на юге. Население преимущественно католического вероисповедания.
Ливерпуль — город в Великобритании, центр графства Мерейсайд. Порт при впадении реки Мерси в Ирландское море. Впервые упоминается около 1191 г.
Чарлстон — город Североамериканских штатов.
Нантский эдикт — издан французским королем Генрихом IV в 1598 г. с целью прекратить Религиозные войны (1562-1589) во Франции между католиками и гугенотами. По Нантскому эдикту католическая вера признавалась господствующей, однако гугенотам предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения на территории Франции, за исключением Парижа и некоторых других городов. Был отменен частично в 1629 г. и полностью Людовиком XIV в 1685 г.
…матерью-деисткой. — Деизм (от лат. deus — Бог) — философско-религиозное учение, получившее распространение в эпоху Просвещения накануне Великой французской революции 1789 г. Деизм воспринимает Бога в качестве мирового разума, сконструировавшего целесообразную «машину» природы и давшего ей основные законы движения. Сотворив мир, Бог не вмешивается более в течение событий. Деизм выступает с идеей «естественной религии» или «религии разума», являющейся, по мнению деистов, общей для всех людей. Близкие идеи высказывались во Франции Вольтером, Д.Дидро, Ж.-Ж.Руссо и другими представителями французского Просвещения, стремившимися к установлению «царства разума», основанного на «естественном праве» человека.
Пондишери — город и порт в Индии, в Бенгальском заливе. Основан французами в 1674 г. Во время действия романа Пондишери — административный центр французских колоний в Индии.
Калькутта — город и порт в Индии, в Бенгальском заливе. Основан в 1696 г. Во время действия романа Калькутта — главный центр английской колониальной администрации в Индии.
Скалистые горы — горный массив на западе Канады и США.
Дюпен-старший — Андре-Мари Ж.-Ж.Дюпен (1783-1865), прозванный Дюпеном-старшим, государственный деятель, член партии либералов, член французской академии с 1831 г., адвокат, автор многочисленных работ по юриспруденции. Принимал активное участие в Июльской революции 1830 г. и выборах Луи-Филиппа королем французов. Известен горячей речью в Палате депутатов, направленной против иезуитов, а также сочинением «Процесс Иисуса Христа, или Иисус перед Каиафой и Пилатом». Блестящий адвокат, защищавший поэта-песенника Беранже, становится одним из столпов Июльской монархии — Председателем Палаты депутатов (1832-1840), личным советником Луи-Филиппа, генеральным прокурором. В этой связи неоднократно высмеивался в карикатурах О.Домье, подчеркивавшего с особым сарказмом обезьяноподобный облик портретируемого.
Мишле Жюль (1798-1874) — французский историк, академик, автор многочисленных работ по всемирной и французской истории. Э.Сю имеет в виду следующие работы Мишле: «Иезуиты» (1843), «Священник, женщина и семья» (1844), «Народ» (1846), «История Французской революции» в семи томах (1847-1853), отличающийся особой полемической направленностью.
Кине Эдгар (1803-1875) — французский философ, историк и литератор, ближайший сотрудник и друг Ж.Мишле. Автор мистической поэмы «Агасфер» (1833), соавтор Мишле в работе «Иезуиты» (1843).
Женен Франсуа (1803-1856) — филолог, литератор и музыкант. Сотрудничал в газете буржуазных республиканцев «Насьональ» в период Июльской монархии. Э.Сю ссылается на книгу Женена «Иезуиты и университет» (1844).
Граф Алексис Гиньяр де Сен-Прист (1805-1851) — дипломат, историк, пэр Франции. Родился в Санкт-Петербурге. Либерал, сторонник конституционного правления. Выполнял дипломатическую миссию в течение десяти лет в Бразилии, Португалии и Дании. Упоминается Э.Сю в связи с его работой «История падения иезуитов» (1844).
…дочь царицы… — Имеется в виду Саломея из рода Иродов, правителей Палестины после Маккавеев. Дочь Ирода Филиппа и его племянницы Иродианы, вышедшей вторично замуж за Ирода Антипу, тетрарха (царя) Галилеи и брата прежнего ее супруга. Во время пира по случаю дня рождения тетрарха Саломея настолько угождает отчиму своей пляской, что тот обещает исполнить любое ее желание. По наущению матери Саломея просит голову Иоанна Предтечи, заключенного тетрархом в темницу исключительно за то, что тот обвинил его в нарушении иудейских обычаев, запрещавших брать в жены женщину при жизни прежнего ее мужа. Просьба Саломеи исполняется. Палач приносит на блюде голову Иоанна (32 г. н.э.). В новозаветных текстах читаем: «Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродианы плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей» (Матфей 14, 6-11).
Иоанн Креститель — иначе Иоанн Предтеча, в христианских представлениях последний в ряду пророков — предвозвестников прихода Мессии, предшественник Иисуса Христа. Чудесное зачатие Иоанна было предвозвещено его родителям Захарии и Елизавете архангелом Гавриилом. Вел аскетический образ жизни. Всенародная проповедь Иоанна, в которой он призывал покаяться, «ибо приблизилось царство небесное» (Матфей 3, 2), датируется 27-28 г. н.э. После проповеди он совершает с новообращенными обряд крещения в реке Иордан. Иоанн Креститель образует особую общину «учеников Иоанновых», проповедующих аскетизм.
Ангиной — молодой грек исключительной красоты, раб и фаворит римского императора Адриана (76-138), бравшего Антиноя во все свои походы. Утонул в Ниле. Удрученный император приказал воздвигнуть в честь юноши храм, назвал его именем город на западном берегу реки Нил. Антиной часто изображается на поздних античных монетах и медалях в облике юного бога Вакха с гроздью винограда в руке.
Жакмон Виктор (1801-1832) — французский естествоиспытатель и путешественник. Посмертно изданы две его книги: «Полный дневник путешествий Виктора Жакмона с зоологическими и ботаническими описаниями» (1835) и «Переписка» (1834).
Майна — птица семейства скворцов. Длина около 25 см. Обитает в Южной Азии, с начала XX в. широко расселилась в Средней Азии. Поедает саранчу.
Парфенон — храм Афины Парфенос, древнегреческой богини мудрости и справедливой войны, на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой высокой классики. Скульптурный фриз (447-438 г. до н.э.) включает, наряду с фигурами молодых юношей и девушек, рельефы скачущих всадников работы круга Фидия.
Индостан — полуостров на юге Азии, омывается Аравийским морем на западе и Бенгальским заливом на востоке. На Индостане расположены большая часть Индии, часть Пакистана и Бангладеш.
Декан — Деканское плоскогорье в Индии на полуострове Индостан.
Пуна — город в западной части Индии. В XVII в. резиденция Баджи-рау, пегшуа, или премьер-министра, махратского принца Рамраджаха. В 1818 г. Пуна занята англичанами.
Хайдарабад — город в Индии, в центральной части Индостана, в переводе означает «Город Льва».
Малаккский пролив — между полуостровом Малакка и островом Суматра, в Индостане. Соединяет Андаманское и Южно-Китайское море.
Бомбей — город и порт в Индии, на Аравийском море, административный центр штата Махараштра. Известен с XVI в.
Маскат — султанат на юго-востоке Аравии с 1792 г. по 1970 г. В августе 1970 г. султан Маската объявил о создании султаната Оман. Маскат — столица Омана на берегу Оманского залива.
Исфаган — город на территории современного Ирана, в прошлом столица всей Персии.
Таврида — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 г.
Гималаи — высочайшая горная система земного шара, между Тибетским нагорьем на севере и Индо-Гангской равниной на юге. Длина свыше 2400 км. Высота до 8848 м (гора Джомолунгма).
Мыс Коморин — или мыс Кумари, оконечность полуострова Индостан.
Кеч — приток реки Дашт на территории современного Пакистана. Впадает в Аравийское море. В начале XIX в. территория, включенная в состав Британской Индии.
Ассам — современный штат на северо-востоке Индии, у подножия Восточных Гималаев. В древности и раннем средневековье территория Ассама называлась Камарупа. В результате англо-бирманских войн Ассам присоединен с 1826 г. к английским владениям в Индии.
Сен-Валери — порт в проливе Ла-Манш, разделяющем Францию и Великобританию. Находится в небольшой долине между двумя прибрежными отвесными скалами. Издавна считается опасным местом для мореплавателей.
Ватто Антуан (1684-1721) — французский художник, живописец и график, во многом определивший мироощущение своего времени. Основными мотивами творчества Ватто, сочетающего праздничное настроение с глубоким психологизмом и меланхолией, становятся галантные и театрализованные сцены на фоне идеализированного сельского пейзажа или паркового ландшафта («Жиль», «Капризница», «Затруднительное положение»). Манера Ватто характеризуется тонким светоносным колоритом, сочетанием мягких оттенков красочной гаммы, изысканным рисунком. В 1717 г. Ватто получает специально для него введенное звание академика «Галантных празднеств» за знаменитую свою работу «Отплытие на остров Цитеру», изображающую несколько любовных пар, отправляющихся на древнегреческий остров, известный своим храмом в честь Венеры, богини любви.
…в китайском вкусе… — искусство рококо отличалось особой любовью к китайским и японским мотивам, так называемой «китайщине», или «шинуазери».
Севрский фарфор — особо ценимые изделия из фарфора фабрики, расположенной в местечке Севр, в 10 км от Парижа по дороге в Версаль, резиденцию французских королей. Фабрика основана Людовиком XV в 1759 г. Среди коллекционеров наиболее редкими экземплярами считаются изделия эпохи Людовика XV и Людовика XVI, время правления которых служит довольно часто критерием периодизации различных стилевых направлений в декоративно-прикладном искусстве XVIII в., фарфоре в том числе.
…массивная изогнутая, пузатая, с зелеными инкрустациями мебель… — подразумевается мебель эпохи рококо, стиля восемнадцатого столетия, отличавшегося тяготением к асимметрии, криволинейным формам, причудливому орнаменту, декоративизму. Среди основных предметов мебели, получивших распространение в эпоху рококо, отмечаются шкафы с двумя резными дверцами и фронтоном, шкаф-горка, комоды, большей частью «пузатые», кресла с изогнутыми низкими ножками и т.п. Самыми ходовыми древесными породами были бук и орех, а также самшит, клен и дикая вишня, а среди экзотических пород — красное дерево, пальма, палисандр, фиалковое и розовое дерево. Характерной приметой стиля была инкрустация мебели ценными породами дерева, а также отделки чеканной и золоченой бронзой. В зависимости от времени изготовления различаются «стиль регентства» (1715-1723), «стиль Людовика XV» (1723-1750), «стиль Людовика XVI» (1750 — конец XVIII в.).
…при этом зваться Сент-Коломб! — В переводе с фр. «Святая голубка». Аллюзия на Святой дух, канонически отождествляемый с образом голубя. В новозаветных текстах голубь появляется при избрании супруга для Марии среди нескольких претендентов. По чудесному знамению избирается престарелый Иосиф, когда голубь вылетает из посоха. Голубь символизирует Святой дух, нисходящий к Марии в момент Благовещения: находясь в галилейском городе Назарете (Сев. Палестина), Мария слышит от архангела Гавриила, что ей предстоит родить от Святого духа Сына, облеченного достоинством Мессии. Ей обещано чудо девственного материнства (Лука 1, 26-38).
…милейшие союзники! — Подразумеваются союзные войска антинаполеоновской коалиции государств — России, Пруссии, Англии, Австрии, вступивших во Францию в 1814 г. и 1815 г. и реставрировавших монархию Бурбонов.
Реставрация — шестнадцатилетний период правления королевской династии Бурбонов во Франции с момента падения империи Наполеона I до Июльской революции (1814-1830). Различаются 1-я и 2-я Реставрации, разделенные так называемым периодом «Ста дней», временем вторичного правления Наполеона после его бегства с о.Эльба 5 апреля 1814 г. до вторичного отречения от престола 20 марта 1815 г.
Пале-Рояль — дворец в Париже, построенный в 1620-1636 гг. для кардинала Ришелье архитектором Ж.Лемерсье. Первоначально назывался кардинальским дворцом. Подарен Ришелье Людовику XIII в 1640 г. После смерти короля во дворце жила Анна Австрийская с сыном, молодым королем Людовиком XIV, вследствие чего дворец стал называться королевским дворцом, или Пале-Роялем. С конца XVII в. собственность герцогов Орлеанских. В конце XVIII в. — начале XIX в. район Пале-Рояля обрел дурную славу. После того как дворец перешел во владение герцогу Филиппу Орлеанскому (1747-1793), прозванному Филиппом-Эгалите, он тотчас же распродал дворцовые коллекции картин, отделил парк от особняков, построил дома с аркадами, которые продал или сдал коммерсантам игорных домов. Так называемые «деревянные галереи» стали местом встреч игроков, молодых повес и девиц легкого поведения, тогда как находившийся подле сад — местом увеселений. Если при Людовике XV сад Пале-Рояля был местом прогулок знати, то с 1785 г. по 1838 г. он стал доступен самой разноликой публике: актерам, укротителям зверей, гадалкам и бездельникам. Здесь было множество кафе, игорных домов и прочих сомнительных заведений, а также лавочек и ларьков, в которых можно было купить буквально все: часы, мебель, корсеты, кухонные ножи. Здесь красили усы, предсказывали судьбу, потрошили карманы. Оживление, царившее в квартале, прекращается лишь в 1838 г., когда Луи-Филипп приказывает закрыть притоны и игорные дома.
Якобинцы — члены Якобинского клуба в период Великой французской революции 1789-1794 гг., объединенные в Общество друзей Конституции. Выражали интересы радикально настроенной буржуазии в союзе с крестьянством и плебейством. Выступали за абсолютную власть народа, территориальное единство Франции. Имели большинство голосов в Комитете общественного спасения и Революционном трибунале до Термидорианского переворота, положившего конец власти якобинцев в июле — августе 1794 г. Период якобинской диктатуры отличался особой жестокостью подавления инакомыслия. Назван Террором. Якобинцы пришли к последовательному уничтожению роялистов, жирондистов, Парижской Коммуны 1789-1794 гг., а также прежних своих соратников, в том числе Дантона. Вожди якобинцев: Ж.-П.Марат (1743-1793), Ж.Дантон (1759-1794), К.Демулен (1760-1794), М.Робеспьер (1758-1794), Л.-А.Сен-Жюст (1767-1794).
«Конститюсьоннель» — либеральная газета, основанная в 1815 г., основной орган оппозиции в период Реставрации. Просуществовала до 1914 г.
Рафаэль Санти (1483-1520) — итальянский живописец и архитектор Высокого Возрождения, ученик Перуджино (1445?-1523). Работал во Флоренции, Риме, главным архитектором в Ватикане при дворе папы. Проектировал собор св.Петра, строил капеллу Киджи церкви Санта-Мария дель Пополо (1512-1520) в Риме. Живопись Рафаэля сочетает ясность рисунка, гармонию линий, тонкий колорит. В основном преклоняются перед его изображениями Богоматери (Сикстинская мадонна, Мадонна со щегленком, Прекрасная садовница). Талант Рафаэля — монументалиста и декоратора — раскрылся в росписи парадных залов (станц) Ватиканского двора, олицетворяющей области духовной жизни человека — богословие, философию и юриспруденцию («Диспут», «Афинская школа», «Парнас», «Мудрость, Мера и Сила»).
…прозвище Королевы Вакханок. — Намек на свободные нравы девицы. Вакханки, вечные спутницы Вакха (Бахуса или Диониса), бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства и виноделия. Участницы ритуальных празднеств, так называемых вакханалий, организованных в его честь Вакханалии носили экстатический характер оргаистических мистерий, во время которых охваченные священным безумием вакханки, сатиры и менады, опоясанные змеями, сокрушали все на своем пути. С воплями «Вакх, все» они славили Вакха-Диониса, били в тимпаны, упиваясь кровью растерзанных животных и увлекая за собой толпы мужчин и женщин. Считалось, что Вакх снимает с людей тяжелые путы размеренного быта, освобождает от мирских забот. Вакханалии отличались довольно часто таким безудержным распутством, что римский сенат в 185 г до н.э. запретил их специальным указом, которому, впрочем, решительно никто не повиновался. Культ бога виноградарства праздновался в Древней Греции под именем Диониса, в Древнем Риме — под именем Вакха, или Бахуса.
…ветками священного самшита… — Самшит выполняет здесь ту же роль, что и верба в православной церкви. В вербное воскресенье, накануне Пасхи, в католической церкви освящают ветки самшита в память о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, где радостные толпы народа встречают его как мессианского царя с зелеными ветвями в руках.
Су — французская монета (сначала золотая, затем серебряная и, наконец, медная), равная 1/20 ливра. Чеканилась до 1793 г. С переходом на десятичную систему в 1799 г. заменена аналогичной монетой в 5 сантимов, равной 1/20 франка, которую некоторое время продолжали традиционно называть «су».
«Народный улей» — одна из первых рабочих газет, выходившая в начале 40-х гг. XIX в. Близка идеям утопического или христианского социализма Сен-Симона (1760-1825), считавшего религию, мораль и науку основными движущими силами исторического развития.
Вуа — мера дров, равная приблизительно двум кубометрам.
…в 1650 году молодого рабочего принесли после битвы… — Подразумеваются события Июльской революции 1830 г., нашедшей отражение во многих произведениях литературы и искусства, — «Мемуарах» А.Дюма, литографиях О.Домье («Бакалейщик не растерялся»), а также известной картине Э.Делакруа («Свобода на баррикадах»), ставшей своеобразным символом Июльской революции.
Crinum amabile (лат.) — лилия преимущественно красного цвета, в своей символической интерпретации иногда ассоциируется с Афродитой, богиней любви и красоты, изображаемой довольно часто в окружении роз, анемонов, нарциссов и лилий. Скрытое сравнение с Афродитой намечается и собственно портретной характеристикой Адриенны, описанием ее волос, подходящих под такие традиционные эпитеты Афродиты, как «золотая» и «многозолотая».
…отдыхал на троне в Тюильри… — дворец и сад Тюильри одна из резиденций французских королей, получила название по находившейся прежде на этом месте черепичной фабрике (от фр. tuile). Постройка дворца начата в 1564 г, по повелению Екатерины Медичи архитектором Ф.Делормом, продолжена Л.Лево при Людовике XIV. Серьезные изменения в облик здания внесены при Наполеоне I, Луи-Филиппе и Наполеоне III. В дни революционных потрясений дворец брался штурмом 10 августа 1792 г., 28 июля 1830 г. и 24 февраля 1848 г. Большая часть здания сгорела 24 мая 1871 г. в дни Парижской Коммуны. Во фразе Э.Сю звучат явные параллели с литографией Эжена Форе времен Июльской революции, изображавшей парижскую голытьбу в покоях свергнутого короля Карла X, в сопровождении с надписью: «Боже… как мягко-то». В Февральскую революцию 1848 г. О.Домье вновь обращается к тому же мотиву — парижскому сорванцу, восседающему на троне бывшего монарха — на этот раз Луи-Филиппа.
Ньюфаундленд — остров у восточных берегов Северной Америки, часть канадской провинции Ньюфаундленд.
Около 7832 года, до и после заговора… — В 1832 г. во Франции был раскрыт антиправительственный заговор легитимистов (от фр. legitime — законный) — сторонников старшей ветви династии Бурбонов, свергнутой Июльской революцией. По планам Марии-Каролины де Барри (1798-1870), главной вдохновительницы несостоявшегося переворота, предполагалось начать с восстания в Вандее и Провансе. Отчаянная попытка не нашла должной поддержки. Заговорщики были задержаны, княгиня заключена в крепость Блэй близ города Бордо.
Беранже Пьер-Жан (1780-1857) — французский поэт-шансонье. Его песни проникнуты революционным духом, юмором и оптимизмом. Пользовались всенародной популярностью. По обвинению в оскорблении религиозной и общественной морали Беранже неоднократно приговаривался к тюремному заключению и штрафу. Умер в нищете. Первый сборник песен Беранже опубликован в 1815 г., три последующих — в 1821, 1825 и 1833 гг.
…рубец, проходивший над бровями от одного виска к другому… — Знак особой отмеченности Габриэля, намекающий на его причастность, подобно Агасферу, ко кресту, к мученической смерти Иисуса на кресте. Подобным знаком высшего предначертания и Божественного заступничества помечен, например, и герой драмы Кальдерона (1600-1681). Эусебио Благочестивый, рожденный у подножия креста со знаком креста ка груди, некоторые герои романов Г.Маркеса.
«Я сестра всех скорбящих». — Аналогии с матерью всех скорбящих, традиционным образом Богоматери, скорбящей перед распятым Иисусом Христом.
«Я иду туда, где страдают». — По аналогии с апокрифическим мотивом хождения Богородицы по мукам, согласно которому Мария обратилась к Христу с просьбой показать места мучения грешников. Страшные картины ада повергли Марию в великую скорбь, она попросила Иисуса помиловать грешников.
Шартр — город во Франции на реке Эр. Известен своим готическим собором XIII в.
Арпан — старинная единица площади, делимая на 100 першей. Равная 35-50 арам или 3500-5000 м2.
…маленький отель… павильон в стиле помпадур… — Имеется в виду архитектурное сооружение в стиле рококо, ведущего направления в западноевропейском искусстве XVIII в., расцвет которого приходится на период правления Людовика XV (1715-1774). Данный стиль декоративно-прикладного искусства, живописи и архитектуры называется иногда именем фаворитки короля — маркизы де Помпадур (1721-1764), покровительствовавшей искусствам. Одной из распространенных архитектурных форм рококо был павильон в виде ротонды — круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом. Характерной приметой стиля признается богатая декорированность фасада, не скрывающая, впрочем, конструкции здания. Это консоли и декоративные завершения дверей и окон с рельефом в виде листьев цикория или другими растительными мотивами. Интерьеры, равно как и фасад, украшены лепниной с характерным мотивом цветочных гирлянд или резвящихся амуров. Наряду с декоративной скульптурой встречается также и роспись, основными сюжетами которой становятся театрализованные сцены, идеализированные сельские картинки с кокетливыми пастушками в лентах по моде того времени, галантные празднества, экзотические сцены на восточные темы, равно как и розовые амуры среди букетов и гирлянд.
…со всей прелестной безвкусицей… — Неприятие стиля рококо Э.Сю и его современниками объясняется не столько художественными достоинствами данного направления в искусстве, сколько прежде всего сменой художественных вкусов и эстетических идеалов эпохи, появлением неоклассицизма в живописи, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.
…паросский мрамор… — По названию острова архипелага Киклады, включающего, кроме острова Парос, острова Наксос, Андрос, Милос, Тинос. На юге Эгейского моря в составе современной Греции. Особым качеством отличается мрамор с о.Парос.
Никакая Флорина или Мартон, никакая субретка Мариво… — Проказницы-служанки из психологических «комедий нравов» французского комедиографа Мариво (ср. «Ложные признания», 1737) — отличаются шаловливым нравом, бойким язычком, живым умом, помогающим выйти из самых затруднительных ситуаций. Они ни в чем не уступают своим хозяйкам и не преминут воспользоваться предоставившимся счастливым случаем поправить свое материальное положение или устроить любовные дела. Пьер Карле де Шамблен де Мариво (1688-1763), французский писатель и драматург, член французской академии с 1743 г., известен романами «Жизнь Марианны» (1731-1741), «Удачливый крестьянин» (1735), комедиями «Двойное непостоянство» (1723), «Игра любви и случая» (1730) и др. Комедии Мариво воссоздают причудливую картину нравов, представляют тонкую психологическую характеристику зарождающегося любовного чувства, обыгрываемого автором в самых неожиданных ситуациях. Любовная интрига искусно вплетается в игру случая.
…валансьенских кружев… — по названию города Валансьен, известного в XVIII в. своими кружевами. В дальнейшем так называются кружева ручной работы с цветочным орнаментом.
Красота и безобразие олицетворяли для нее добро и зло. — Аллюзия на традиционные, идущие от античности, представления о соотнесенности красоты и высоких моральных качеств, уродства и низости. В ветхозаветных текстах читаем: «Сердце человеческое изменяет лице его на добро или зло» (Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова 13, 31). Поэт позднего средневековья Эсташ Дешан восклицает: «У безобразного дурное сердце». Э.Сю, в свою очередь, пишет далее: «…низкие чувства страшно уродуют самое красивое лицо, а благородные красят самое безобразное».
…аттическая соль… — В данном случае тонкая, изящная острота, остроумие по аналогии с утонченной образностью речи и искусства, свойственной жителям Аттики и Древней Греции, главным образом афинянам.
…венецианская школа… — Одна из основных художественных школ Италии, расцвет которой приходится на XV-XVI вв. Среди ярких представителей — семья Беллини, Джорджоне, Карпаччоно, Тициан, Веронезе, Тинторетто. Венецианскую школу отличают светское жизнеутверждающее начало, поэтическое восприятие мира, тонкий колорит. В XVIII в. известна такими художниками, как Дж.Б.Тьеполо, А.Каналетто, Ф.Гварди, П.Лонги.
…Сен-Жерменское предместье… — Дом Адриенны находился в парижском предместье, известном своим аббатством, основанным в 555 г. В настоящее время престижный квартал французской столицы.
Флоренция — город в центральной части Италии. Основан в I в. до н.э. римлянами на месте поселения этрусков. Один из крупных центров итальянского Возрождения, известный многочисленными памятниками архитектуры: собор Санта-Мария дель Фьоре (XIII-XV вв.), Санта-Мария дель Кармине (XIII-XVIII вв.), Санта-Мария Новелла (XIII-XIV вв.), ренессансные дворцы Питти, Медичи — Рикарди, Ручеллаи и др.
Болонья — город в северной части Италии. Известен романскими церквями (Сан-Стефано, XI-XIII вв.), дворцами Ренессанса (Бевилаква, XV в.) и барокко.
Арабески — сложный геометризированный орнамент, включающий нередко стилизованные растительные мотивы. Получил распространение в Западной Европе под влиянием средневекового искусства арабского Востока.
Ляпис-лазурь — ценный поделочный камень светло-синего цвета.
…с крышками, покрытыми эмалью… — Декор из эмали, прочного стеклообразного покрытия, закрепленного обжигом, сопровождает самые различные художественные изделия из золота и серебра с древнейших времен. В зависимости от технологии различается перегородчатая, выемчатая и живописная эмаль.
Инкрустация — техника украшения деревянной или металлической поверхности изделия вставками из металла, ценных пород дерева, черепахи, слоновой кости, драгоценных и полудрагоценных камней. Известна в античности. Получила особое распространение в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве XVIII в.
Гардении и камелии — род кустарников с яркими душистыми цветками, особо популярны во Франции с конца XVIII в. — в начале XIX в. Камелия введена в название известного романа А.Дюма-сына (1824-1895) «Дама с камелиями» (1848), а затем и одноименной драмы (1852), имевшей большой успех у современников.
Дафнис и Хлоя — юные влюбленные, герои греческого пасторального романа, авторство которого приписывается Лонгу (III-IV вв. н.э.). Сюжет романа строится по схеме, сходной со многими другими греческими романами того времени (ср. «Эфиопика» Гелиодора, «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Хэрей и Каллироя» Харитона и др.). Юноша и девушка исключительной красоты и целомудрия вспыхивают друг к другу внезапной страстью при неожиданно состоявшейся встрече Любовное чувство наталкивается на многочисленные препятствия. Пройдя через всякого рода перипетии, влюбленные соединяются. Роман Лонга «Дафнис и Хлоя» оказал значительное влияние на формирование пасторальных мотивов XVI-XVIII вв. в западноевропейской литературе и искусстве.
…серебряный с чернью ящик… — Техника украшения изделий из металла, преимущественно серебра, известная еще в античности. В процарапанный орнамент вплавляется черная масса из серебра, олова, меди, бора и серы.
Тициан Вечеллио (ок. 1476 или 1489-1576) — итальянский живописец, называемый иногда «королем живописи и живописцем королей». Глава Венецианской школы Высокого Возрождения. Открытия Тициана в области живописи — цветовая лепка формы, богатство колорита — оказали большое воздействие на мастеров последующего времени. Значительна роль Тициана и в развитии мифологического жанра, пейзажа, портрета. В его картинах сочетаются интимность и торжественность, жизнерадостность и трагизм, трепетная чувственность и обостренное восприятие красоты жизни. Особой красотой отличаются женские образы в картинах «Даная», «Венера перед зеркалом». В 40-е гг. XVI в. живописец уделяет много внимания портрету («Портрет Ипполито Риминальди», «Портрет Лавинии» и др.).
Диана-охотница — богиня растительности, покровительница лесов, родовспомогательница. Отождествлена по своей мифологической функции с Артемидой, богиней охоты в древнегреческой мифологии. Проводит время в лесах и горах в сопровождении нимф, своих постоянных спутниц. В качестве охотницы Диана изображается с необходимыми охотничьими атрибутами в окружении собак. Сцены охоты Дианы получили живописное воплощение в картинах Корреджо, Веронеэе, Рубенса и др.
Геба — в древнегреческой мифологии богиня юности, дочь Зевса и Геры Прислуживает на пирах богов на Олимпе в качестве виночерпия до того момента, как эти обязанности переходят к Ганимеду. Отдана в жены Гераклу после его обожествления в знак примирения героя и жены Зевса Геры.
…по образцу греческого костюма… — По предписаниям древнегреческой моды платье не кроилось, а делалось из прямоугольного куска материи, целиком подчиняясь естественным линиям человеческого тела. При этом мода подчинялась основным требованиям — пропорциональности, симметричности, целесообразности.
Леонардо да Винчи (1452-1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый. Основоположник Высокого Возрождения. Сочетал разработку новых выразительных средств живописного языка с теоретическими обобщениями, экспериментальными исследованиями и открытиями в области математики, механики, естественных наук. В своем «Трактате о живописи» заложил программу развития искусства. В его живописных образах нашли воплощение многие гуманистические идеалы Высокого Возрождения («Тайная вечеря» в монастыре Санта-Мария делле Грацие в Милане, 1495-1497; «Мадонна Бенуа», ок. 1478; «Мадонна Литта», кон. 1470-х — нач. 1490-х гг.; «Мадонна в скалах», 1483-1494 гг.; «Джоконда», ок. 1503).
…как Венера-Афродита. — Очередное сравнение Адриенны с античной богиней любви и красоты, известной под именем Афродиты в Греции, Венеры в Риме, не ограничивается одним лишь признаком — длинными волосами золотистого цвета, а намечается «афродизийным» характером всего предшествующего описания красавицы и ее прелестей: шеи, рук, ослепительно белой атласной кожи, извилистой линии плеч, античного овала лица, чувственных губ и т.п. При этом описание золотистых, касающихся земли волос явно отсылает к соответствующему зрительному ряду — известным живописным изображениям Венеры-Афродиты в западноевропейском искусстве (ср. «Рождение Венеры» Боттичелли, «Венера Урбинская» Тициана, «Спящая Венера» Джорджоне и др.).
…атласный башмачок… — В конце 20-х — начале 30-х гг. XIX в. дамские туфли изготавливаются из кожи, равно как и из шелковых тканей, при этом продолжают носить низкие туфли, хотя в моду постепенно входит и обувь по щиколотку со шнуровкой.
…тонкой и нежной щиколотке. — Эстетизация женской ножки, особенно щиколотки, становится общим местом в западноевропейской культуре нового времени с произведениями французского писателя XVIII в. Ретифа де ла Бретонна (1734-1806), испытывавшего особую слабость к данной части женского тела («Совращенный поселянин», 1780; «Ночи Парижа» (1788-1794); «Провинциалки» (1789-1794) и др.).
Кармин — красный краситель, добываемый из насекомого кошенили, применяется в живописи, парфюмерии и пищевой промышленности.
Адонис — в греческой мифологии юноша удивительной красоты, возлюбленный Венеры-Афродиты, растерзанный диким кабаном по наущению Артемиды. Из крови смертельно раненного Адониса расцветают розы, из слез Афродиты — анемоны. Культ Адониса существовал в Финикии, Сирии, на островах Кипр и Лесбос. Согласно Лукиану, в Библе было святилище Афродиты, где происходили оргии в честь Адониса, сопровождавшиеся священной проституцией. Агонии — праздники в честь Адониса — были особенно популярны в эпоху эллинизма. Сравнение индийского принца Джальмы с Адонисом объясняется в романе Э.Сю не только красотой юноши, оно подготавливает возможный сценарий любовного влечения Адриенны, отождествляемой ранее с Венерой-Афродитой, любовницей Адониса.
Ганг — река в Индии, в дельте которой находится морской порт Калькутта.
Веронезе (настоящее имя — Кальяри) Паоло (1528-1588) — итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель Венецианской школы. Многие его монументальные работы предназначались для украшения церквей, Дворца Дожей, вилл венецианских патрициев. Независимо от избираемого сюжета, в картинах Веронезе присутствует праздничная и богатая жизнь Венеции того времени. Они отличаются светским духом, жизнерадостным настроем, богатством колорита, гармонией цвета и линии. Росписям Веронезе свойственны размах композиции, изысканность форм, органическая связь с архитектурой (фрески виллы Барбаро-Вольпи в Мазере, ок. 1561; «Брак в Кане», 1563).
…мерки можно взять Антиноя или, еще лучше, индийского Бахуса… — Бахус, или Вакх, одно из имен бога виноградарства Диониса, сына Юпитера и смертной женщины Семелы. Рожден из бедра Юпитера, доносившего младенца после смерти матери, погибшей в огне от молнии Юпитера. Первый виноградарь у греков. Имел много имен, определявших его происхождение, место и роль в мифологической традиции: несущий вино, избавляющий от забот, старец и врач, двурогий, бывший в чреве матери и бедре Юпитера, сладкий, придающий бодрость и т.п. Распространенным изображением Вакха-Бахуса становится образ красивого юноши, увешанного плющом и виноградом в колеснице, ведомой двумя тиграми. Вместо венка голову Вакха иногда украшает пара небольших рожек в память об обучении обработке земли волами. Сравнение принца Джальмы с Бахусом объясняется не только красотой индийского юноши, оно подготавливается также и предшествующим его сравнением с Антиноем, традиционно изображаемым на античных медалях в образе юного безбородого Вакха.
…а ведь это предопределение — жить на улице Вавилона… — аллюзия на библейское сказание о Вавилонской башне и смешении языков. Предания о Древнем Вавилоне, одном из самых больших городов античного мира, возведенном на левом берегу Евфрата в Халдее, приурочены к «началу истории» человечества после всемирного потопа. Они объясняют первопричину языковой и территориальной разобщенности людей вмешательством Бога. В ветхозаветной книге Бытия написано: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли на земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого И рассеял их Господь по всей земле; и они перестали строить город (и башню) Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Бытие 11, 1-9). В этом же контексте воспринимается история принца Джальмы и Адриенны де Кардовилль, индуса с берегов Ганга и француженки из Сен-Жерменского предместья в Париже, оказавшихся, хотя и дальними, родственниками.
…похожа на того древнего полководца, героический нос и победоносный подбородок которого вы так часто заставляли меня рисовать? — Аллюзия на Александра III, прозванного Македонским (356-323 гг. до н.э.), одного из великих античных полководцев и завоевателей, создавшего крупнейшую мировую монархию древности.
…платье с корсажем, плотно облегавшим ее талию нимфы… — На рубеже 20-30-х гг. XIX в., в эпоху так называемого бидермейра, формируется весьма характерный силуэт женского платья. Для подчеркивания тонкой талии вновь обращаются к корсету, производство которого доверяется особым специалистам — корсетчикам. Оптический эффект тонкой талии увеличивается и невероятно широкими рукавами, получившими характерные названия «пагодообразных», «ветчинообразных» или «бараньих окороков».
…этот павильон служил некогда маленьким домиком… Видите, в каком оскверненном месте я живу. — Имеются в виду свободные нравы восемнадцатого столетия, отразившиеся в литературе рококо — романах Кребийона-сына, Ш.Дюкло, Шадерло де Лакло, Луве де Кувре, аббата Прево. Подобного рода домики служили укромным местом для интимных встреч, любовных свиданий, дружеских вечеринок в узком кругу посвященных лиц. Один из таких маленьких домиков, сокрытых от любопытного взгляда, красноречиво описан в «Опасных связях» Шадерло де Лакло, в «Софе» Кребийона-сына. В романе «Заблуждения сердца и ума» Кребийон пишет: «…нет ничего приличнее, удобнее и надежнее большого уединенного домика, где никто не подслушивает и не подсматривает и где вы ограждены от сплетен… Я считаю, они вошли в моду не столько в силу необходимости, сколько именно потому, что мы больше всего печемся о приличии. Где еще можно поужинать вдвоем так уютно и спокойно, как в холостяцком домике?.. Что может быть добропорядочней, надежней, потаенней, чем радости, вкушаемые в этом приюте любви?»
…мечтала вернуть во Франции нравы Фронды. — Подразумевается оппозиция правящему режиму по аналогии с социально-политическим и общественным движением 1648-1653 гг. во Франции, направленным против абсолютистской власти, против правительства кардинала Мазарини (1643-1661), представлявшего интересы малолетнего Людовика XIV. В зависимости от интересов и степени участия различают «парламентскую фронду» (1648-1649) и «фронду принцев» (с 1650 г.)
Моро Жан-Виктор (1763-1813) — французский генерал, одержал ряд значительных побед в период Великой Французской революции. Противник Наполеона I. После неудавшегося заговора, в котором он был замешан, приговорен в 1804 г. к двум годам заключения, замененным ссылкой. По приглашению Александра I в 1806 г. служил в русской армии. 24 июля 1813 г. присоединился к войскам антинаполеоновской коалиции в Германии. Получил звание фельдмаршала. Во время разведки боем под Дрезденом прямым попаданием ядра оторвало обе ноги. Тело погибшего фельдмаршала перевезено в Санкт-Петербург, где захоронено в церкви св.Екатерины.
Венсенская тюрьма — по названию местечка близ Парижа, известного своим лесом (Венсенский лес) и крепостью, основанной Людовиком VII и ставшей в XII-XIV вв. любимой резиденцией французских королей. Начиная с Людовика XI замок нередко использовался в качестве тюрьмы для особо важных государственных преступников. Здесь находились в заключении Генрих Наваррский, принцы Конде и Конти, лидеры Фронды, а также Дидро, Мирабо и др. Частично использовался под фабрику фарфора (1740), военную школу (1751), фабрику по производству оружия (1757), арсенал (1808), не утрачивая при этом функции тюрьмы.
In partibus (infideiium) (лат.) — «в странах неверных», в расширительном значении — в чужой среде. В данном случае Э.Сю отмечает исключительно номинальную роль духовенства, лишенного реальных полномочий своего звания.
Мольер Жан-Батист (1622-1673) — французский комедиограф, актер, театральный деятель. В жанре социально-бытовой комедии высмеивает сословные предрассудки дворян, ограниченность буржуа, ханжество и лицемерие церковников. Постановка «Дон Жуана» в 1665 г. подверглась преследованиям за атеизм и вольнодумство. Особую известность получили комедии Мольера «Смешные жеманницы» (1660), «Брак поневоле» (1664), «Мещанин во дворянстве» (1670), «Мнимый больной» (1673), «Тартюф» (1664), «Скупой» (1668).
Паскаль Блез (1623-1662) — французский философ, писатель, ученый. Его полемика с иезуитами нашла отражение в «Письмах к провинциалу» (1657) — шедевре французской сатирической прозы. Наибольшую известность получил его философско-религиозный труд «Мысли», опубликованный в 1669 г.
Альцест — главный персонаж комедии Мольера «Мизантроп» (1666), тип непреклонного, честного человека, противника ложных положений, недомолвок и условностей.
…до священного престола наместника Христа… — Подразумевается глава католической церкви папа римский, избираемый из кардиналов коллегией кардиналов. Традиционно папу римского называют наместником Иисуса Христа, преемником св.Петра, святым отцом. Священный престол, или резиденция папы римского, находится в Ватикане, городе-государстве, расположенном в пределах Рима. В первую треть XIX в. священный престол занимали Пий VII (1800-1823), Лев XII (1823-1829), Пий VIII (1829-1831).
Форли — город в Северной Италии, административный центр провинции.
…Собор Тринадцати, давший нам новую жизнь! — Имеется в виду Вселенский Собор, съезд высшего духовенства, созванный римским папой Павлом III в 1542 г. Имел принципиальное значение для усиления ордена иезуитов, основанного Игнатием Лойолой и одобренного за два года до Собора Тринадцати.
Св.Фома Аквинский (1225/6-1274) — философ и теолог, канонизированный католической церковью. Его праздник приходится на 7 марта и 18 июля. Основные труды — «Сумма теологии», «Сумма против язычников».
Кумская сивилла — наиболее известная из легендарных прорицательниц, упоминаемых античными авторами. Ей приписываются так называемые «сивиллины книги» — сборник изречений и предсказаний для официальных гаданий в Древнем Риме в наиболее ответственные периоды истории римского государства. Сивиллины книги, в количестве 15, хранились в Капитолии, храме, где происходили заседания Сената. Сгорели во время пожара в 83 г. до н.э.
Разве может ласточка… жить в норе крота? — Известный мотив, заимствованный из сказки Х.К.Андерсена «Дюймовочка», опубликованной во 2-м выпуске «Сказок, рассказанных детям» в 1835 г.
«Vadro retro, Satana» (лат.) — «Отойди от меня, Сатана» — слова Иисуса Христа из Евангелия (Матфей 4, 10; Марк 8, 33), применяемые в расширительном значении по отношению к отвергаемому человеку.
…она мнит себя чуть ли не матерью церкви! — Матерью церкви объявлена Мария, земная мать Иисуса Христа.
Конституционное правление. — Имеется в виду правительство, сформированное в период Июльской монархии, конституционной монархии Луи-Филиппа (1830-1848), стремившегося, однако, не только царствовать, но и управлять. Смена министров была частым явлением.
Одеон — парижский театр, основанный в 1782 г. Дважды восстанавливался после пожаров. В 1841 г. стал вторым национальным театром. Назван по аналогии с афинским театром, построенным Периклом и предназначенным для исполнения музыкальных произведений.
«Монсеньер» — обращение, принятое по отношению к представителям высшей светской и духовной знати — принцам крови, кардиналам и епископам. Его употребление по отношению к министру правительства Луи Филиппа противоречит этикету и потому порождает некоторый комический эффект.
Министры-выскочки — культурно-историческое понятие «выскочки» становится общим местом в XVIII в. Об этом свидетельствует, например, роман французского писателя Мариво «Le paysan parvenu» (1734-1735), известный в русском переводе под названием «Удачливый крестьянин». Более ранними примерами являются некоторые комедии Мольера.
Мещане во дворянстве — аллюзия на известную комедию Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670), главный герой которой Журден является ярким воплощением комического типа невежественного буржуа-выскочки, безуспешно пытающегося перенять аристократический этикет и становящегося жертвой всяческих надувательств.
Sanctus sanctorum (лат.) — святая святых (Библия. Книга Исхода 26, 33). Так называлась центральная часть Иерусалимского храма, где хранилась «скрижаль завета» — таблицы с начертанными на них заповедями. В расширительном значении — потаенное место.
Утрехтский бархат — по названию города в Нидерландах Утрехт, известного в XVIII-XIX вв. своими коврами и бархатом.
Сонетка (фр.) — комнатный звонок для вызова прислуги, приводимый в действие натяжением шнурка.
…огнем и железом. — Устойчивое выражение, перевод с латинского «igni et ferro». Восходит к известному афоризму древнегреческого врача Гиппократа: «что не лечится лекарствами, лечится железом; что не лечится железом, лечится огнем». Приобретает особый цинизм в устах доктора Балейнье.
Катехизис — в переводе с греческого «наставление, поучение». Краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов.
Конфирмация — таинство миропомазания, совершающееся у католиков над детьми в возрасте от 7 до 12 лет.
Причастие — одно из главных таинств христианства, во время которого причащающийся приобщается ко Христу, вкушая хлеб и вино, воплощающие собой тело н кровь Господа.
Стихарь — длинное платье с широкими рукавами, обычно парчовое, церковное облачение, как правило, дьяконов и дьячков.
Ризница — помещение в церкви для хранения церковной утвари, риз и т.п.
Сакристия (от лат. sacrum — святыня) — ризница для хранения церковной утвари.
«Ящик» (по-французски «boite») — просторечное уничижительное наименование исповедальни в католической церкви, представляющей собой помещение небольших размеров, в котором священник исповедует кающихся через небольшое окошечко.
Amen (лат.) — Аминь.
Confiteor (лат.) — «исповедуюсь», начало католической покаянной молитвы.
«В сем мой грех». — Соответствует устойчивой словесной формуле покаяния и исповеди у католиков.
Эпитимия (от гр. epitimia — наказание, кара) — церковное наказание, налагаемое духовником, — поклоны, пост, длительные молитвы и т.п.
…как собака Жан де Нивель! — Французский фразеологизм, устойчивое выражение, сохранившее имя исторически конкретного лица эпохи Людовика XI, но утратившее в XIX в. первоначальное свое значение. В современном значении применяется к человеку, делающему все наоборот. Фразеологизм восходит к известному историческому эпизоду, борьбе французского короля Людовика XI с могущественным феодалом герцогом Бургундским. Жан де Нивель, сын одного из приближенных короля, отказался выступить против герцога Бургундского, к партии которого примкнул, вследствие чего был лишен наследства и стал объектом ненависти и насмешек. Получил в народе прозвище собаки.
Пожиратели бедуинов — просторечное название французских солдат, воевавших в Алжире против местного населения — арабов-кочевников, или бедуинов. Французская колонизация Алжира началась с 1830 г. с момента занятия г.Алжир войсками генерала Бурмона.
Место сорок третьему верблюжьему полку! — Имеется в виду одно из кавалерийских подразделений французской колониальной армии в Алжире, имевшее верблюдов в качестве средства передвижения.
…Шествие на своего рода Голгофу. — По аналогии с восхождением Иисуса Христа на гору Голгофу, место казни на кресте: «И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место» (Марк 15, 22). В расширительном значении употребляется как синоним страданий.
…дикие бредовые фантазии Калло и Гойи… — Имеются в виду серии офортов французского гравера Жака Калло (1592?-1635) «Бедствия войны» (1632-1633) и офорты испанского живописца и графика Франсиски Гойи (1746-1828) из серии «Каприччиос» (1797-1798) и «Бедствия войны» (1810-1820). Графические листы обоих мастеров сочетают гротеск и причудливую фантастику с острыми, предельно реалистическими наблюдениями ужасов войны и человеческих страданий.
Morbidezza (ит.) — термин, обозначающий в изобразительном искусстве мягкость касаний живописного мазка, мягкость трактовки изображаемого тела.
Note1
Жертва О.И. — Общества Иисуса. Молитесь за меня. Париж 13февраля 1682 г. В Париже улица св.Франциска, д. N 3. Вы будете через полтораста лет, 13 февраля 1832 г. Молитесь за меня.
(обратно)Note2
Из Тирлемона, чертовой дыры, мы выступим завтра утром с саблей в руке, сказав прости… (фр.)
(обратно)Note3
Читая в правилах ордена иезуитов под заглавием «De formula scribendi» о восьмой части Установлений, поражаешься количеству всевозможных писем, донесений, записей и других заметок, хранящихся в архивах ордена. Никакое государство никогда не обладало лучшей и более информированной полицией. Даже венецианское правительство уступало в этом иезуитам. Когда в 1606 году оно их изгнало из своих пределов, то, завладев их бумагами, поставило им в упрек опасное и чрезмерное любопытство. Эта полиция, тайные ее розыски, доведенные до совершенства, дают представление о могуществе ордена, всезнающего, упорного в преследовании цели, сильного своим единением и связью между его членами, как того и требуют его уставы. Становится понятным, почему генерал ордена мог сказать герцогу де Бриссак: «Из этой комнаты я управляю не только Парижем, но и Китаем, и не только Китаем, но и всем миром, и никто не знает, какими путями это достигается» («Установления ордена иезуитов с разъяснениями и латинским текстом». Париж, стр. 476-478).
(обратно)Note4
Провинциальные дома состоят в переписке с Парижем; они поддерживают также непосредственную связь с генералом, резиденция которого находится в Риме. Переписка иезуитов, столь активная и разнообразная, прекрасно организована с целью снабжения руководителей ордена всеми сведениями, в которых они могут нуждаться: ежедневно генерал получает массу рапортов, взаимно контролирующих друг друга. В центральном доме в Риме существуют огромные регистры, куда вносят имена всех иезуитов, всех членов ордена и всех значительных людей, друзей и врагов, с которыми они имеют дело. В эти регистры занесены беззлобно и бесстрастно факты, относящиеся к жизни каждого человека. Это самый гигантский сборник биографий, который когда-либо существовал. Жизнь женщины легкого поведения, равно как и тайные ошибки государственного деятеля, рассказаны в этой книге с холодной беспристрастностью. Составленные в утилитарных целях, эти биографии абсолютно точны. Когда нужно воздействовать на какое-либо лицо, открывают досье и тотчас становятся известны его жизнь, характер, моральные качества, недостатки, его планы, семья, друзья и самые тайные связи. Представляете ли вы, месье, то превосходство, которое дает ордену эта огромная полицейская книга, охватывающая целый мир? Я вполне серьезно рассказываю вам о досье: я знаю об этом факте от одного лица, которое их видело и которое прекрасно знает иезуитов. Есть над чем призадуматься семьям, легко допускающим в свой круг членов братства, столь ловко умеющего использовать изучение биографий. (Либри, член Института. Письмо о духовенстве.)
(обратно)Note5
Процитировав прекрасные и мужественные «Письма» господина Либри и любопытный труд, изданный господином Полей, мы считаем долгом упомянуть также о смелых и добросовестных работах, посвященных Ордену Иисуса, недавно опубликованных господами Дюпеном-старшим, Мишле, Эдгаром Кике, Жененом, графом де Сен-Пристом; все это произведения высокого и беспристрастного ума, где пагубные теории ордена так прекрасно разоблачены и получили должное осуждение. Мы почитаем за счастье внести и наш вклад в эту мощную и — надеемся — прочную плотину, которую эти великодушные сердца и благородные умы воздвигли против нечистого и вечно угрожающего порока.
(обратно)Note6
Согласно легенде Агасфер был бедный башмачник в Иерусалиме. Христос, неся крест свой, попросил разрешения отдохнуть на каменной скамье его дома. «Иди, иди!» — сказал ему еврей, с жестокостью оттолкнув его. «А ты будешь ходить до скончания века!» — сказал ему грустно и строго Христос. Подробности см. в красноречивой и ученой заметке господина Шарля Маньена, помещенной в начале великолепной эпопеи Эдгара Кинэ об Агасфере.
(обратно)Note7
Малоизвестное предание, сообщенное нам любезнейшим господином Мори, ученым библиотекарем Института, говорит, что Иродиада была осуждена на вечное странствование до дня Страшного суда за то, что потребовала смерти Иоанна Крестителя.
(обратно)Note8
Фансегары, или душители (от индусского слова phansna — душить). Мы сообщим дальше подробности об этом своеобразном сообществе, называющемся «Доброе дело».
(обратно)Note9
В письмах об Индии покойного Виктора Жакмона сказано по поводу необыкновенной ловкости этих людей следующее: «Они ползают по земле, в оврагах, в бороздах полей, подражают сотням голосов; испуская крик шакала или какой-нибудь птицы, они отводят внимание от причиненного неловким движением шума; помолчав, они опять подражают крику этого животного, якобы удаляющегося. Они тревожат спящего шумом и прикосновениями и заставляют его тело и члены принять такое положение, которое им нужно для их целей». Граф Эдуард де Варрен в своем прекрасном труде об английских владениях в Индии (Брюссель, Бельгийское книготорговое общество Хауман и Кo), о котором мы еще будем говорить, высказывается примерно так же относительно непостижимой ловкости индусов: «Они доходят до того, что, не прервав вашего сна, могут снять с вас одеяло, в которое вы завернулись; это не шутка, это факт. Движения бгилей уподобляются движению змеи: если вы спите в палатке со слугами, которые лежат поперек каждой двери, то бгиль пристроится снаружи, в тени, в уголке, откуда будет прислушиваться к дыханию каждого из спящих. Как только европеец уснет, бгиль становится спокойным за исход дела. Выбрав момент, он делает вертикальный надрез в полотне палатки; этого ему достаточно, чтобы проникнуть в нее. Он ступает, как призрак: ни одна песчинка не скрипнет под его ногой. Он совершенно обнажен; тело смазано маслом; на шее подвешен кинжал. Он примостится около вашего ложа и с невероятным хладнокровием и ловкостью начнет собирать в крошечные складки одеяло вокруг тела, так, чтобы оно заняло как можно меньше места. Сделав это, он перебирается к другому боку спящего и начинает его слегка щекотать и словно магнетизировать, в результате чего тот машинально поворачивается, оставляя сложенное одеяло позади себя. Если он просыпается и хочет схватить злоумышленника, ему попадается лишь скользкое тело, увертывающееся, как угорь; если же ему удается его схватить, то лишь на свое горе: кинжал поражает его в сердце. Он падает в потоке собственной крови, а убийца исчезает».
(обратно)Note10
Этот отчет взят из превосходного сочинения графа Эдуарда де Варрена об английских владениях в Индии, напечатанного в 1841 году.
(обратно)Note11
Вот несколько выдержек из любопытной книги господина графа де Варрена об английской Индии в 1831 году:
«Кроме воров, которые убивают путешественников с целью грабежа имущества, имеется группа убийц, образовавших общество с вожаками, тайными знаниями, с ритуалом, даже с религией, с фанатизмом и преданностью, с агентами, эмиссарами, сотрудниками, воюющими отрядами и „пассивными“ членами, которые своими взносами содействуют „доброму делу“.
Это сообщество тугов, или фансегаров (обманщиков, или душителей: thugna — обманывать; phansna — удушать), сообщество религиозное и промышленное, извлекает выгоду из людей, уничтожая их; его происхождение теряется во тьме веков. До 1810 года существование тугов было неизвестно не только завоевателям-европейцам, но даже местным правительствам. Между 1816 и 1830 годами многие из их шаек были захвачены на месте преступления и понесли наказание; но до последнего времени все открытия, сделанные опытными офицерами, казались слишком чудовищными, чтобы заслужить внимание и доверие публики; ими пренебрегали, их отбрасывали, как плоды безумной фантазии. И тем не менее в течение многих лет или по крайней мере с полвека эта социальная язва поражала целые племена от подножия Гималаев до мыса Коморин, от Кеча до Ассама. В 1830 году разоблачения знаменитого предводителя, которому была дарована жизнь при условии выдачи сообщников, сняли покров со всей этой системы: основой общества тугов является особое религиозное верование, культ Бохвани, мрачного божества, усладой которого является убийство и которое презирает человеческий род; самые приятные для него жертвы — человеческие; чем больше ты уничтожаешь людей на этом свете, тем более будешь вознагражден на том свете телесными и душевными наслаждениями. Если убийца попадает на эшафот, он умирает радостно, потому что ожидает награды. Повинуясь своей Божественной повелительнице, он без гнева и без угрызений совести душит стариков, женщин и детей; он милосерден, человечен, великодушен, предан, готов всем поделиться в отношении своих сообщников, потому что, как он, все они — жрецы и приемные дети Бохвани. Уничтожение себе подобных, если только они не принадлежат к их сообществу, уменьшение человеческого рода — вот преследуемая ими цель; это не способ обогащения — добыча здесь только аксессуар. Уничтожение — вот цель, вот их Божественная миссия, их призвание. Охота за человеком, в их представлении, — самая упоительная из всех охот, самая тонкая из всех страстей. «Испытываешь огромное удовольствие, — слышал я от одного приговоренного, — когда преследуешь дикого зверя в его логовище или нападаешь на кабана или тигра, потому что тут нужно преодолевать опасности и выказать энергию и мужество. Подумайте же теперь, насколько возрастает прелесть всего этого, когда борешься с человеком, которого нужно уничтожить! Сколько пружин нужно привести в действие: тут и мужество, и тонкость, и предвидение, и красноречие, и дипломатия! Сколько способов можно пустить в ход! Играть со всеми страстями, заставлять дрожать струны любви и дружбы, чтобы захватить жертву в сети, — говорю нам, что эта охота возвышенна, опьяняюща, лихорадочна! Тот, кто в 1831-1832 годах находился в Индии, вспомнит об оцепенении и ужасе, который распространился во всем обществе при разоблачении этой адской организации. Многие должностные лица, начальники провинций отказались в это поверить, поскольку не были в состоянии понять, как такая обширная система могла, не выдавая себя, так долго поражать социальный организм на глазах у них». («Английские владения в Индии в 1831 году» графа Эдуарда де Варрена, 4 тт., Брюссель, Бельгийское книготорговое общество Хаумана и Кo.)
(обратно)Note12
Известно, что принцип абсолютного и слепого повиновения — основа общества Иисуса — выражается в ужасных словах умирающего Лойолы: «Каждый член ордена будет в руках своих начальников подобен трупу» (Perinde ac cadaver).
(обратно)Note13
Мы не можем не вспомнить без особенного умиления конец одного письма, написанного два или три года тому назад молодым и храбрым юношей миссионером, сыном бедного крестьянина из Босни. Он писал своей матери из глубины Японии и так закончил свое письмо: «Прощай, дорогая матушка. Говорят, место, куда меня посылают, очень опасно… Молись за меня Богу и скажи нашим соседям, что я их люблю и часто вспоминаю». Эта наивная просьба, посланная из глубины Азии несчастным жителям деревеньки во Франции, необыкновенно трогательна именно своей простотой.
(обратно)Note14
Некоторые из этих статистических данных, которые мы подвергли всестороннему изучению, еще более прискорбны, чем мы их показали. Эти сведения заимствованы нами из прекрасной работы г.Жанома, рабочего-механика, опубликованной в «Народном улье», журнале, составляемом рабочими с искренностью и чувством меры, под редакцией г.Дюкена, рабочего печатника. Г.Жанома добавляет, и то, что он говорит, правда:
«Мы видели женщин и детей, месяцами живущих на одной похлебке без масла и сала; она состояла из хлеба, который кипятили в воде с горстью соли».
Г.Жанома справедливо замечает дальше, что работница не может покупать провизию оптом, потому что хозяин не всегда обеспечивает ее работой; таким образом, она часто вынуждена покупать фунт соли на 1 су, одну свечу. Покупки же в розницу всегда выгодны лавочникам. Мы добавляем, что при всяких обстоятельствах бедный платит почти вдвое дороже, чем богатый, потому что он вынужден покупать в розницу и не имеет кредита, следовательно, стоимость одной повозки дров, купленной вязанками, обходится бедняку в 75 франков за одно вуа.
(обратно)Note15
Речь идет о «crinum amabile», прелестном оранжерейном растении из семейства луковичных.
(обратно)Note16
Известно, что светские члены ордена называются «иезуитами о светском платье».
(обратно)Note17
Относительно этих слов в «Постановлениях иезуитов» мы находим следующее толкование: «Для того чтобы сам язык помогал чувству, надо приучиться говорить: у меня была мать, были братья, были родные. А не так: у меня есть мать, братья, родные».
(обратно)Note18
В другом произведении мы уже говорили и всегда будем с уважением и глубокой симпатией отзываться о прекрасной книге господина Проспера Тарбе, королевского прокурора. «Труд и заработная плата» — одно из наиболее серьезных произведений, полное самых возвышенных идей, которые когда-либо любовь к человечеству могла внушить благородному сердцу, высокому духу, ясному и практическому уму.
(обратно)Note19
В церкви св.Фомы Аквинского.
(обратно)Note20
Исторический факт.
(обратно)



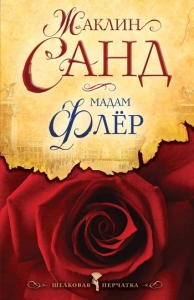

Комментарии к книге «Агасфер. Том 1», Эжен Сю
Всего 0 комментариев