Генри Райдер Хаггард Луна Израиля
От автора
В этой книге предполагается, что во время Исхода1 фараоном был в действительности не Мернептах, сын Рамсеса Великого, а таинственный узурпатор Аменмес, который после смерти Мернептаха и до вступления на престол его сына и законного наследника, добросердечного Сети Второго, на год или на два завладел троном.
О судьбе Аменмеса история хранит глубокое молчание; вполне возможно, что он утонул в Красном море, ибо в отличие от Мернептаха и Сети Второго тело его никогда не было обнаружено.
С трудом писца и сочинителя Ананы, или Аны, как он здесь назван, египтологи, очевидно, знакомы.
Автор надеялся посвятить эту книгу сэру Гастону Масперо, кавалеру орденов св. Михаила и св. Георгия и директору Каирского музея2, ведь именно с ним несколько лет назад он обсуждал некоторые детали ее сюжета. К несчастью, однако, этот великий египтолог, не вынеся одной из тяжелых утрат, причиненных войной3, умер, когда роман был уже написан, но еще не вышел из печати. Все же, поскольку дочь Масперо известила автора, что таково желание семьи, он приводит здесь то Посвящение, которое собирался адресовать выдающемуся писателю и исследователю прошлого.
Дорогой сэр Гастон Масперо!
Когда вы уверяли меня, говоря об одном из моих романов, связанных с историей Египта, что он весь проникнут «внутренним духом древних египтян» — настолько, что, несмотря на ваши собственные попытки в этом же роде и многолетние исследования, вам трудно представить себе, что подобное произведение могло родиться в мозгу современного человека, — я счел этот приговор, вынесенный таким судьей, величайшим из комплиментов, когда-либовыпадавших на мою долю. Признаюсь, что именно ваше мнение побудило меня предложить вам еще одну повесть аналогичного характера. Особенно меня поддерживает в этом желании определенный разговор, который произошел между нами в Каире в то время, как мы созерцали величественный лик фараона Мернептаха. Ибо именно тогда, если вы помните, вы сказали, что считаете план этой книги правдоподобным, и что он соответствует тому, что вы знаете о тех далеких, смутных для нас временах.
С благодарностью за вашу помощь и доброту и с глубочайшим благоговением перед собранным вами богатством материалов о самом загадочном из всех погибших народов земли, — остаюсь, Ваш искренний почитатель
Г. Райдер Хаггард.
I. Писец Ана приходит в Танис
Это — рассказ обо мне, писце по имени Ана, сыне Мори, и об определенных днях, прожитых мной на земле. Все это я написал теперь, уже стариком, в царствование Рамсеса Третьего, когда Египет стал снова сильным — таким же, каким был в древние времена. Я старался записать все, что хотел, прежде чем смерть возьмет меня, так, чтобы мои писания были тоже погребены и остались со мной и в смерти; ибо так же, как мой дух возродится в час воскрешения, так и эти мои слова возродятся, когда наступит их час, и расскажут пришедшим на землю после меня то, что я знал в земной жизни. Пусть все будет так, как повелят боги, но по крайней мере я пишу, и то, что я пишу, — правда.
Я рассказываю о его божественном величестве Сети Мернептахе Втором, которого я любил и люблю, как собственную душу, и который родился в тот же день, что и я, — сокол, взлетевший на небеса прежде меня; об Таусерт Гордой, его царице — той, что впоследствии стала женой его божественного величества Саптаха и которую на моих глазах опустили в гробницу в Фивах. Я рассказываю о Мерапи, прозванной Луной Израиля, и о ее народе — иудеях, которые долго жили в Египте и покинули его, отплатив нам за все наше добро и зло потерями и позором. Я рассказываю о войне между богами Кемета4 и богом Израиля и о многом, что произошло во время этой войны.
А еще я, друг царя, великий писец, любимец фараонов, живших под солнцем одновременно со мной, рассказываю о многих других вещах и людях. Смотрите! Разве все это не написано в этом свитке? Читайте все, кто найдет его во времена, еще не наступившие, если ваши боги наделили вас этим искусством, читайте, о дети будущего, и вы узнаете тайны прошлого, которое так далеко от вас и, вместе с тем, поистине так близко.
Хотя принц Сети и я родились в один и тот же день, и поэтому моя мать, как и другие знатные женщины, чьи дети в тот день увидели свет, получила фараонов дар, а я — титул Царского Близнеца в боге Ра5, — случилось так, что я воочию увидел божественного принца Сети не раньше, чем каждому из нас исполнилось тридцать лет. Это произошло следующим образом.
В те дни великий фараон Рамсес Второй, а затем его сын Мернептах, который наследовал ему уже в старости, — поскольку могучий Рамсес отошел в край Осириса6 после того, как Нил разлился на его веку в сотый раз, — жили по большей части в городе Танисе, что в пустыне, тогда как я жил с моими родителями в древнем городе Белых Стен на берегу Нила — в Мемфисе. Иногда Мернептах и его двор посещали Мемфис, так же, как и Фивы, где теперь этот царь покоится в своей гробнице. Но юный принц Сети, законный наследник, Надежда Кемета, приезжал с ними только однажды, ибо его мать не жаловала Мемфиса, где в молодости с ней приключилась какая-то беда. Говорят, это была любовная история, которая стоила жизни ее любимому и навсегда оставила боль в ее сердце. А так как она никогда не выпускала Сети из виду, он постоянно находился при матери.
Но один раз он все же приехал (ему было тогда пятнадцать лет), чтобы предстать перед народом как сын своего отца, как сын Солнца, как будущий фараон; и мы, его близнецы в боге Ра, — девятнадцать юношей знатного происхождения — должны были поименно явиться перед ним и облобызать его царственные ноги. Я приготовился идти, облачившись в красивую новую тунику, расшитую пурпуром, с именем Сети и моим собственным. Но в то самое утро, по воле какого-то злого бога, все мое лицо и тело покрылись пятнами: обычная болезнь, которая поражает молодых людей. Так я и не увидел принца, ибо когда я поправился, он уже покинул Мемфис.
Мой отец, Мери, был писцом великого храма Птаха7, и меня обучили его ремеслу в школе при храме, где я переписывал многочисленные свитки, а также Книги Мертвых8, украшая их рисунками.
Я достиг такого мастерства, что, когда за несколько лет до смерти мой отец ослеп, я смог на свой заработок содержать и его, и моих сестер, пока те не вышли замуж. Матери у меня не было, ибо она отошла в край Осириса, когда я был еще совсем ребенком. И так моя жизнь текла из года в год, но в душе я ненавидел и проклинал свою участь. Когда я был еще мальчиком, у меня возникло желание — не переписывать то, что написали другие, а писать то, что другие должны переписывать. Я погрузился в мечты и видения. Бродя ночью под пальмами на берегах Сихора9, я следил, как луна сияет на глади вод, и мне казалось, что в ее лучах я вижу что-то прекрасное. В них возникали картины, отличные от всего, что я видел в мире людей, хотя в моих видениях были и мужчины, и женщины, и даже боги.
Из этих картин в душе моей складывались целые истории, и наконец, по прошествии нескольких лет, я стал записывать эти истории в свободные от работы часы. За этим занятием меня застали сестры. Они рассказали об этом отцу, который выбранил меня за безрассудство, говоря, что так я не обеспечу себя даже хлебом и пивом. Однако я продолжал писать втайне от них при светильнике, запираясь ночью у себя в комнате. Потом сестры вышли замуж, а в какой-то день отец внезапно умер, читая в храме молитвы. Я велел набальзамировать его тело лучшим бальзамировщикам, и его похоронили в гробнице, которую он сам для себя приготовил (хотя для того, чтобы покрыть все расходы, мне пришлось потом почти два года переписывать Книги Мертвых, и на мои сочинения не оставалось ни одного свободного часа).
Избавившись наконец от всех долгов, я встретил девушку из Фив; у нее было красивое лицо, на котором, казалось, всегда играла улыбка, и она похитила мое сердце, спрятав его в своей груди. В конце концов, вернувшись с войны против варваров, куда я был призван наряду с другими молодыми людьми, я женился на ней. Не стану называть ее имя — не хочу упоминать его даже наедине с самим собой. У нас был один ребенок, крошечная девочка, которая умерла, едва прожив два года. И вот тогда я узнал, что может значить для человека горе. Сначала жена моя предавалась печали, но со временем ее скорбь утихла, и она снова стала улыбаться, как прежде. Но теперь она сказала, что больше не будет рожать детей, раз боги их все равно отнимают. Имея много свободного времени, она стала часто уходить из дому, заводя дружбу с людьми, которых я не знал, ибо красота ее привлекала многих. Кончилось это тем, что она вернулась в Фивы с каким-то солдатом, которого я даже ни разу не видел. Я все время работал дома, вспоминая наше умершее дитя и думая о том, что счастье — это птица, которую ни один человек не может поймать в силки, хотя порой она по своей воле залетает к нему в окно.
Вот тогда мои волосы и побелели, хотя мне еще не было и тридцати.
Теперь, когда мне не для кого было работать, а мои собственные потребности были просты и немногочисленны, у меня оказалось больше времени для сочинения рассказов, в которых почти всегда сквозило что-то печальное. Одну из этих историй мой товарищ-писец прочитал с моего согласия в дружеской компании, и она так понравилась слушателям, что многие просили у меня разрешения переписать ее для широкого распространения. Я постепенно стал известен как сочинитель рассказов и повестей, и они переписывались и продавались, не принося мне, правда, ощутимой прибыли. Зато слава моя росла, я однажды получил письмо от принца Сети, моего близнеца в боге Ра, в котором говорилось, что он прочел некоторые из моих произведений, и они ему очень понравились, так что он желает взглянуть на мое лицо. Смиренно поблагодарив принца Сети через его посла, я обещал прибыть в Танис и лично предстать перед его высочеством. Но сперва я закончил самую длинную из написанных мной до той поры историй. Она называлась «Повесть о двух братьях», и в ней рассказывалось о том, как неверная жена одного из братьев навлекла на другого большие неприятности, в результате чего он был убит. А также о том, как справедливые боги вернули его к жизни, и о многих других событиях. Эту повесть я посвятил его высочеству принцу Сети и с нею за пазухой отправился в Танис, прихватив с собой также часть своих сбережений.
Так, в начале зимы я прибыл в Танис и, придя к дворцу принца, смело потребовал аудиенции. Но тут начались мои невзгоды, ибо стража и часовые прогнали меня от дверей. В конце концов я подкупил их и был допущен в передние покои, где собрались купцы, жонглеры, танцовщицы, военачальники и многие другие. И все они, видимо, ждали, пока их допустят к принцу. Изнывая от безделья, весь этот люд обрадовался незнакомому пришельцу и стал развлекаться, потешаясь надо мной. Однако, проводя в их обществе несколько дней, я завоевал их расположение, рассказав им одну из моих историй, и с этого момента стал для них желанным гостем. Но я по-прежнему не мог попасть к принцу, а так как мой денежный запас все уменьшался, я начал подумывать о возвращении в Мемфис.
И вот однажды передо мной остановился длиннобородый старик, на одежде которого была вышита голова быка; в руке он держал жезл или посох с золотым набалдашником, указывавший на то, что он занимал при дворе высокую должность. Назвав меня белоголовой вороной, он спросил, что я тут делаю, прыгая день за днем по дворцовым залам. Я назвал себя и объяснил, зачем я здесь, а он сообщил, что его имя — Памбаса и он один из камергеров принца. Когда я попросил его провести меня к принцу, он рассмеялся мне в лицо и туманно намекнул, что путь к его высочеству вымощен золотом. Я понял, что он имеет в виду, и преподнес ему подарок, который он склевал так же проворно, как петух склевывает зерно, сказав при этом, что поговорит обо мне со своим господином, и велев мне прийти во дворец на следующий день.
Я приходил трижды, и всякий раз этот старый петух склевывал новые зерна. Наконец во мне закипела ярость, и, забыв, где я нахожусь, я накричал на него и назвал его вором, так что вокруг нас собралась любопытствующая толпа слушателей. Видимо, это его испугало. Он бросил взгляд на дверь, возможно собираясь позвать стражу, чтобы прогнать меня прочь, но потом передумал и ворчливым голосом приказал мне следовать за ним. Мы прошли по длинным коридорам мимо солдат, стоявших на часах, неподвижных, как мумии в гробницах, и наконец очутились перед входом, задрапированным вышитыми занавесями. Здесь Памбаса шепотом велел мне подождать и вошел, неплотно задернув занавески, так что мне было видно и слышно все, что происходило в комнате.
Это была небольшая комната, в какой мог бы жить любой писец, ибо на столах были разложены палитры, тростниковые перья, стояли алебастровые вазы с тушью, а к доскам были прикреплены листы папируса. Стены были расписаны — не так, как я привык расписывать Книги Мертвых, а в старинном стиле, который я видел в некоторых древних гробницах, — изображениями диких птиц, взлетающих над болотами, и растущих деревьев и цветов. На стенах висели сетки со свитками папируса, в очаге горели кедровые дрова.
Перед очагом стоял принц, которого я сразу узнал по изображающим его статуям. Он выглядел моложе меня, хотя мы родились в один день, и был высок и худощав, и гораздо светлее, чем люди нашего племени, — быть может, из-за того, что в его жилах текла сирийская кровь. У него были прямые волосы, напоминавшие по цвету волосы северных купцов, которые приезжают в Египет, а глаза казались скорее серыми, чем черными, глядя из-под бровей таких же густых, как у его отца, Мернептаха. Лицо его было нежным, как у женщины, но морщинки, расходящиеся от уголков глаз к вискам, придавали ему необычное выражение. Я думаю, они образовались от привычки к размышлениям, но по мнению других, он унаследовал их от предка по женской линии. Мой друг Бакенхонсу, старый пророк, который служил первому Сети и совсем недавно умер, прожив сто двадцать лет, говорил мне, что он знал ту женщину до ее замужества и что она и первый Сети, возможно, были близнецами.
В руке принц держал развернутый свиток с очень древними письменами, — как я, искушенный во всем, что касалось моего ремесла, определил с первого же взгляда. Подняв глаза от этого свитка, он вдруг увидел стоявшего перед ним камергера.
— Ты пришел как раз вовремя, Памбаса, — сказал он голосом, который звучал очень мягко и приятно, но в то же время был голосом настоящего мужчины. — Ты стар и несомненно мудр. Скажи, ты ведь мудрый, Памбаса?
— Да, ваше высочество. Я мудрый, как дядя вашего высочества, Кхемуас, могучий маг, чьи сандалии я чистил, когда был молод.
— В самом деле? Тогда почему же ты так заботливо прячешь свою мудрость, которой следовало бы раскрываться, как цветок, чтобы мы, бедные пчелы, могли извлекать ее нектар? Ну, ладно, я рад, что ты мудрый, ибо в этой книге магии, которую я читаю, я наткнулся на проблемы, достойные покойного Кхемуаса, — я помню его как человека, всегда погруженного в размышления, с мрачным челом, и очень похожего на своего сына и моего двоюродного брата, Аменмеса, — только, разумеется, Аменмеса никто не может назвать мудрецом.
— Чему же радуется твое высочество?
— Тому, что, будучи, по твоему собственному признанию, равным Кхемуасу, ты сможешь разрешить проблему не хуже него. Как ты знаешь, Памбаса, будь он жив, он был бы сейчас фараоном вместо моего отца. Но он умер слишком рано. Все это наводит меня на мысль, что в рассказах о его мудрости что-то не совсем так. Ведь по-настоящему мудрый человек никогда бы не пожелал стать фараоном Египта.
— Не пожелал бы стать фараоном! — вскричал камергер.
— Так вот, Памбаса Мудрый, — продолжал принц, как будто не слышал его, — вот послушай. В этой старинной книге дано заклинание, которое может «избавить сердце от усталости» — старейшей, как тут говорится, и самой распространенной болезни в мире, которой не подвержены только котята, некоторые дети и сумасшедшие. Оказывается, что от этой болезни можно излечиться, говорит книга, если встать на вершине пирамиды Хуфу в полночь, в тот момент, когда луна — самая большая за весь год, и испить из чаши снов, произнося в то же время заклинание, выписанное здесь целиком на языке, которого я не знаю.
— Но каково же достоинство заклинания, принц, если оно написано на языке, который знают все?
— А какова польза, если этот язык не знает никто?
— Более того, ваше высочество, как может кто-нибудь забраться на пирамиду Хуфу, которая покрыта полированным мрамором? Даже днем, не говоря уж о полночи. И там пить из чаши снов!
— Не знаю, Памбаса. Все, что я знаю, — это то, что я устал от этой глупости, да и от всего на свете. Расскажи мне что-нибудь, что облегчит мое сердце, — мне как-то тяжело.
— Там в зале жонглеры, принц. Один из них говорит, что может подбросить в воздух веревку и влезть по ней на небо.
— Когда ты сам увидишь, как он это делает, Памбаса, приведи его ко мне, но не раньше. Смерть — вот единственная веревка, по которой мы можем подняться на небо или спуститься в ад. Ибо не стоит забывать, что существует некий бог Сет (между прочим, меня назвали в его честь, как и моего прадеда, — почему, знают только жрецы). А еще есть и другой бог — Осирис.
— Кроме жонглеров там еще и танцовщицы, принц, и у некоторых фигуры — просто красота. Я видел, как они купались в дворцовом озере, — даже сердце твоего деда, великого Рамсеса, порадовалось бы, глядя на них.
— Мое сердце не порадуется — я не хочу, чтобы здесь плясали голые женщины. Придумай что-нибудь другое, Памбаса.
— Ничего не приходит в голову, принц. Впрочем, постой-ка. Есть еще один писец по имени Ана — худой остроносый человек, который утверждает, что он твой близнец в боге Ра.
— Ана! — сказал принц. — Тот самый, из Мемфиса, который пишет рассказы? Почему же ты не сказал сразу, старый глупец? Сейчас же впусти его, сейчас же!
Услышав это, я раздвинул занавеси и, войдя, простерся перед ним со словами:
— Я тот самый писец, о Царственный Сын Солнца!
— Как ты смеешь входить без приглашения в покои принца, — начал было Памбаса, но Сети прервал его суровым тоном:
— А ты, Памбаса, как ты смеешь держать этого умного человека за дверьми, как собаку? Встань, Ана, и, пожалуйста, не перечисляй мои титулы, мы ведь не при дворе. Скажи, ты давно в Танисе?
— Много дней, о принц, — ответил я. — Все пытался попасть к тебе, но безуспешно.
— И как же в конце концов тебе удалось?
— За плату, о принц, — ответил я с невинным видом, — как, очевидно, положено. Привратники…
— Понимаю, — сказал Сети. — Привратники! Памбаса, выясни, какую сумму этот ученый писец заплатил привратникам, и верни ему эти деньги в двойном размере. Так что ступай и займись этим делом.
Памбаса ушел, бросив на меня украдкой жалобный взгляд.
— Скажи мне, — промолвил Сети, когда мы остались одни, — ты ведь по-своему мудрый: почему двор всегда порождает воров?
— Думаю, по той же причине, о принц, по которой собачья спина порождает блох. Блохи должны жить, а тут как раз собака.
— Верно, — ответил он, — и эти дворцовые блохи получают недостаточно высокую плату. Если я когда-нибудь получу власть, я этим займусь. Их будет меньше, но еды у них будет больше. А теперь, Ана, садись. Я тебя знаю, хотя ты меня и не знаешь, и я уже успел полюбить тебя, знакомясь с твоими писаниями. Расскажи мне о себе.
Я рассказал ему всю мою простую историю, которую он выслушал, не говоря ни слова, а потом спросил, почему я хотел его видеть. Я ответил: потому что он сам послал за мной, о чем позже забыл; а также потому, что я принес рассказ, который осмелился посвятить ему. С этими словами я положил перед ним на стол свой свиток.
— Ты оказал мне честь, — сказал он, явно довольный. — Большую честь! Если твоя повесть мне понравится, я велю положить ее вместе со мной в гробницу, чтобы мой Ка10 читал и перечитывал ее, пока не наступит День Воскресения, хотя, конечно, я прочту и изучу ее еще при жизни. Ты хорошо знаешь наш город Танис, Ана?
Я ответил, что почти не знаю его, ибо потратил все свое время, обивая пороги его высочества.
— Тогда, с твоего разрешения, я сначала покажу тебе город, а потом мы поужинаем. — И тотчас явился слуга, не Памбаса, а другой.
— Принеси два плаща, — сказал принц, — я собираюсь пройтись вместе с писцом Аной по городу. И снаряди охрану — четыре нубийца, не более; пусть следуют за нами, но на некотором расстоянии и переодетые.
Слуга поклонился и исчез.
Почти сразу же явился черный раб, неся два длинных плаща с капюшонами, какие обычно надевают погонщики верблюдов. Он помог нам облачиться в них и повел нас — через дверь, противоположную той, в которую я вошел, — по коридорам и вниз по узкой лестнице, в небольшой внутренний дворик. Мы пересекли его и оказались перед высокой и толстой стеной с двойными дверьми, окованными медью, которые таинственным образом распахнулись при нашем приближении. За этими дверьми стояли четверо высоких людей, тоже укутанных в плащи и, казалось, не обративших на нас никакого внимания. Однако, когда мы немного прошли, я оглянулся и заметил, что они следуют за нами, как будто по случайному совпадению.
Как прекрасно, подумал я, быть принцем, которому достаточно шевельнуть пальцем, чтобы повелевать людьми в любое время дня и ночи.
Именно в этот момент Сети сказал:
— Видишь, Ана, как печально быть принцем, — он не может даже выйти из дворца без ведома челяди и без тайного охранника, который, как шпион, следит за каждым его шагом и, несомненно, доложит обо всем полиции фараона.
Все имеет два лика, подумал я, но, как и прежде, промолчал.
II. Разделение чаши
Мы шли по широкой улице, окаймленной деревьями, за которыми белели обмазанные известью дома под плоскими крышами, построенные из обожженного солнцем кирпича и стоявшие каждый в своем собственном саду. Наконец мы вышли на большую рыночную площадь, и как раз в этот момент над пальмами взошла полная луна, залив мир своим сиянием и почти превратив ночь в день. Танис — или Рамсес, как его тоже называют, — был в ту пору очень красивым городом, хотя и вполовину меньше Мемфиса, впрочем, я слышал, что теперь, когда Двор его покинул, он сильно опустел.
На этой большой рыночной площади возвышались храмы богов с пилонами11 и аллеями сфинксов, а также знаменитое чудо света — гигантская статуя Рамсеса Второго, в то время как на северной стороне, на холме, стоял великолепный дворец фараона. Здесь были и другие дворцы — обиталища знати и придворных, а между ними разбегались длинные улицы, где жили горожане; некоторые из этих улиц кончались у того рукава Нила, на берегу которого стоял древний город.
Сети задержался, чтобы взглянуть на эти удивительные здания.
— Они очень древние, — сказал он, — но большинство из них, как и городские стены и вон те храмы Амона12 и Птаха, были перестроены во времена моего деда Рамсеса Второго и позже трудами рабов-израильтян, пригнанных из богатой страны Гошен, лежащей недалеко отсюда.
— Должно быть, это стоило много золота, — заметил я.
— Цари Кемета не платят своим рабам, — коротко ответил принц.
Мы пошли дальше и смешались с тысячами людей, которые бродили вокруг в поисках отдыха от дневных дел. Здесь, на границе Египта, собрался самый разноплеменный люд: бедуины из пустыни, сирийцы из-за Красного моря, купцы с богатого острова Читтим, путешественники с побережья и торговцы из страны Пунт13 и из неведомых земель севера. И все смеялись, разговаривали, веселились, исключая тех, что собирались в кружки — послушать рассказчика истории или странствующих музыкантов или посмотреть на женщин, которые плясали полураздетые в надежде на вознаграждение.
Время от времени толпа расступалась, давая проехать знатному человеку или даме, перед чьей колесницей бежали гонцы, крича «Дорогу! Дорогу!» и размахивая длинными палками. Потом появилась процессия облаченных в белое жрецов Исиды14, шествующих при лунном свете, как и подобает слугам богини Луны; они несли на воздетых руках священное изображение богини, перед которым все люди склоняли головы и на некоторое время умолкали. Иногда проносили тело какого-нибудь знатного человека, недавно умершего; впереди шли наемные плакальщицы, оглашая воздух воплями и причитаниями, которыми они провожали мертвеца перед тем, как его набальзамируют. Наконец из какой-то боковой улицы появилась толпа в несколько сотен мужчин, горбоносых и бородатых, среди них иногда мелькали женщины; они были связаны между собой веревкой, не мешавшей, однако, их движениям, и окружены сопровождавшими их вооруженными стражниками.
— Кто это? — спросил я, ибо никогда не видел ничего подобного.
— Рабы-израильтяне. Они возвращаются с работ по сооружению нового канала, который должен дойти до Красного моря, — ответил принц.
Мы остановились, пропуская их, и я заметил, как гордо сверкали их глаза и как свирепо было выражение их лиц, хотя они были всего лишь узники, да еще изнуренные усталостью и перепачканные от работы в грязи и воде. И вдруг случилось непредвиденное. Один седобородый человек отстал, задерживая и затрудняя продвижение остальным. Видя это, один из надсмотрщиков подбежал к нему и стал хлестать его бичом, сплетенным из кожи морского чудовища. Старик обернулся и, подняв деревянную лопату, которую нес на плече, ударил надсмотрщика с такой силой, что раскроил ему череп. Надсмотрщик упал мертвым. Другие надсмотрщики набросились на израильтянина (как называли этих рабов) и ударами сбили его с ног. Тут появился воин и, увидев происходящее, выхватил свой бронзовый меч. Из толпы выбежала девушка, юная и прелестная, несмотря на ее грубую одежду.
Я видел с тех пор Мерапи — Луну Израиля, как ее называли, — в пышных одеждах царицы и даже в одеянии богини, но никогда, по-моему, она не была так прекрасна, как в этот час ее рабства. Ее большие глаза, ни синие, ни черные, сияли в свете луны и были влажны от слез. Густые с бронзовым оттенком волосы ниспадали крупными локонами на белоснежную грудь, видневшуюся из-под ее грубой одежды. Подняв нежные руки, она как будто пыталась отвести удары, сыпавшиеся на человека, которого она хотела защитить. Пламя светильника, горевшего в одной из торговых палаток, подчеркивало ее высокую стройную фигуру. Она была так прекрасна, что сердце мое замерло — да, мое сердце, в котором уже несколько лет женщина не пробуждала ничего, кроме самых мрачных и недобрых чувств.
Она громко вскрикнула. Стоя над поверженным узником, она стала молить воина о милосердии. Потом, поняв, что ожидать от него милосердия бесполезно, она обвела взглядом стоявших вокруг людей, и ее большие глаза остановились на лице принца Сети.
— О господин! — воскликнула она. — У тебя благородный вид. Неужели ты будешь спокойно смотреть, как убивают моего безвинного отца?
— Уберите эту женщину, или я проткну ее насквозь! — закричал воин, ибо она бросилась к лежащему неподвижно израильтянину. Надсмотрщики повиновались и оттащили ее прочь.
— Остановись, убийца! — вскричал принц.
— Кто ты такой, собака, что смеешь учить фараонова офицера его обязанностям? — ответил воин и левой рукой нанес принцу пощечину.
Потом он замахнулся, и я у видел, как его бронзовый меч вонзился в тело израильтянина. Тот содрогнулся и замер. Все произошло в какое-то мгновение, и в наступившем безмолвии отчаянно прозвучал женский вопль. С минуту Сети не мог произнести ни звука — думаю, что от ярости. Потом он произнес только одно слово:
— Стража!
Тотчас из толпы появились четверо нубийцев, которые до этой минуты, как им было приказано, держались на некотором расстоянии. Но не успели они приблизиться, как я, оправившись от изумления, бросился на офицера и схватил его за горло. Он замахнулся на меня окровавленным мечом, но удар, ослабленный плащом, лишь слегка скользнул по моему левому бедру. Тогда я — а в те дни я был еще молод и силен — схватился с ним, и мы оба покатились по земле. Началась суматоха. Рабы-иудеи разорвали веревку и набросились на солдат, как псы на шакалов, молотя по ним голыми кулаками. Солдаты, защищаясь, пустили в ход оружие. Надсмотрщики взмахивали бичами. Женщины визжали, мужчины кричали. Военачальник, с которым я схватился, начал одерживать верх — по крайней мере, я увидел, как его меч ослепительно сверкнул надо мной, и подумал, что все кончено. Несомненно, так бы и случилось, если бы Сети сам не оттащил от меня этого человека и таким образом не дал бы своим нубийцам схватить его. Я услышал, как принц воскликнул звонким голосом:
— Остановись! Ты имеешь дело с Сети, сыном фараона и правителем Таниса. — И он откинул с головы капюшон, и луна ярко осветила его лицо.
Мгновенно все смолкло. По мере того как до них доходила истина, люди один за другим преклонили колени, и я услышал, как кто-то произнес в благоговейном страхе:
— Чтобы солдат ударил по лицу царского сына, принца Египта! Он должен заплатить за это кровью.
— Как зовут этого офицера? — спросил Сети, указав на воина, который убил израильтянина и чуть не убил меня.
Кто-то ответил, что его имя — Хуака.
— Отведите его к ступеням храма Амона, — сказал Сети нубийцам, крепко державшим воина. — Следуй за мной, друг Ана, если у тебя есть силы. Вот — обопрись на мое плечо.
Так, опираясь на плечо принца, ибо я пострадал в схватке и с трудом переводил дыхание, я прошел с ним сто или более шагов до входа в величественный храм, где мы поднялись на площадку, воздвигнутую на верхней ступени лестницы. За нами привели схваченного воина, а дальше следовала толпа, великое множество людей, которые расположились на ступенях и перед храмом. Принц, который был очень бледен и спокоен, сел на низкое гранитное основание обелиска, возвышавшегося перед одним из пилонов храма, и произнес:
— Как правитель Таниса, города Рамсеса, имеющий власть над жизнью и смертью в любой час и в любом месте, объявляю мой Суд открытым.
— Царский Суд открыт! — воскликнула толпа по установленному обычаю.
— Дело заключается в следующем, — сказал принц. — Этот человек по имени Хуака, по одежде — военачальник из армии фараона, обвиняется в убийстве некоего еврея и в попытке убить писца Ану. Призовите свидетелей. Принесите тело убитого и положите его передо мной. Приведите женщину, которая пыталась защитить его, и пусть она говорит.
Тело принесли и опустили на площадку; глаза мертвеца, широко открытые, неподвижно смотрели вверх, на луну. Потом солдаты вытолкнули вперед плачущую девушку.
— Уйми слезы, — сказал Сети, — и поклянись Атумом — Создателем, и Маат — богиней истины и закона, что будешь говорить только правду.
Девушка подняла на него глаза и произнесла глубоким и тихим голосом, почему-то напомнившим мне медленно льющийся из кувшина мед, — быть может, потому, что она говорила с трудом, стараясь сдержать подступавшие к горлу рыдания:
— О царственный Сын Кемета, я не могу поклясться этими богами, ведь я дочь Израиля.
Принц внимательно посмотрел на нее и спросил:
— Каким же богом ты можешь поклясться, о дочь Израиля?
— Яхве, о принц, — мы считаем его единым и единственным богом. Творцом мира и всего, что в нем есть.
— Тогда, наверно, его другое имя — Кефера, — сказал принц, слегка улыбнувшись, — но будь по-твоему. Поклянись своим богом Яхве.
Она подняла обе руки над головой и сказала:
— Я, Мерапи, дочь Натана из племени Леви, народа Израиля, клянусь именем Яхве, бога Израиля, что буду говорить правду и всю правду.
— Расскажи нам все, что ты знаешь о смерти этого человека, о Мерапи.
— Я знаю не больше того, что знаешь ты, о принц. Тот, кто здесь лежит, — она жестом указала на тело убитого, отводя взгляд в сторону, — был моим отцом, старейшиной Израиля. Когда хлеба еще не созрели, капитан Хуака прибыл в страну Гошен, чтобы отобрать тех, кто должен работать на фараона. Он пожелал взять меня в свой дом. Мой отец сказал ему, что я с самого детства обручена с сыном Израиля, и отказал ему, отказал еще и потому, что наш закон запрещает нашим людям соединяться браком с вашими людьми. Тогда капитан Хуака забрал отца, хотя он занимал высокое положение и по возрасту не должен был работать на фараона, и его увезли — за то, я думаю, что он отказался отдать меня в жены Хуаке. Немного позже мне приснилось, что отец заболел. Три раза мне снился этот сон, и наконец я бежала в Танис, чтобы увидеться с отцом. Сегодня утром я нашла его и… — о принц, остальное ты знаешь сам.
— И это все? — спросил Сети.
Девушка молчала в нерешительности, потом сказала.
— Еще одно, о принц. Этот человек видел, как я давала отцу поесть, потому что он совсем ослабел и изнемог, выкапывая ил под палящими лучами солнца; ведь он из знатного рода и никогда не выполнял такой работы. В моем присутствии Хуака спросил отца: может быть, теперь он отдаст меня ему в жены? Отец сказал, что он скорее позволил бы змее поцеловать меня или отдал бы меня на съедение крокодилам. «Я выслушал тебя, — сказал Хуака. — Так знай же, раб Натан, прежде чем завтра взойдет солнце, тебя поцелует меч и сожрут крокодилы или шакалы». «Будь так, — ответил ему отец, — но знай, о Хуака, что прежде чем взойдет солнце, тебя тоже поцелует меч, а об остальном мы с тобой поговорим у подножия трона Яхве».
А потом, как ты знаешь, принц, надсмотрщик избил отца бичом, — я слышала, как Хуака приказал избить его, если он будет отставать от других; а после Хуака убил его, потому что отец, обезумев, ударил его лопатой. Больше мне нечего сказать, кроме одного: прошу тебя — вели отослать меня обратно, к моему народу, где я смогу оплакивать моего отца так, как у нас принято.
— Куда ты хочешь вернуться — к своей матери?
— Нет, о принц. Моя мать умерла, она была знатная женщина из Сирии. Я хочу вернуться к моему дяде, Джейбизу Левиту.
— Отойди в сторону, — сказал Сети. — Мы решим твое дело позже. Подойди сюда, о писец Ана! Принеси присягу и расскажи нам все, что ты знаешь о смерти этого человека, поскольку нам нужны два свидетеля.
Я произнес клятву и повторил то, чему я был свидетелем.
— Ну, Хуака, — сказал принц, когда я кончил, — ты хочешь что-нибудь сказать?
— Только одно, о царственный принц! — ответил Хуака, упав на колени. — Я ударил тебя случайно, не зная, что под плащом скрывается личность твоего высочества. За этот поступок я достоин смерти, это правда, но умоляю простить меня, ведь я не ведал, что творил. Остальное же ничего не значит, ибо я убил всего-навсего мятежного раба-израильтянина, каких убивают каждый день.
— Скажи мне, о Хуака, — ибо тебя судят именно за убийство этого человека, но не за то, что ты ударил, сам того не зная, человека царской крови, — какой закон разрешил тебе убить израильтянина без суда, назначенного фараоном?
— Я не ученый. Я не знаю законов, о принц. Все, что наговорила тут эта женщина, — ложь.
— Но, во всяком случае, то, что этот человек мертв и что убил его ты, — не ложь. Ты сам это признаешь. Так знай же, и пусть знают все египтяне, что даже израильтянин не может быть убит только за то, что он устал или ответил ударом на незаслуженный удар. За его кровь ты ответишь своей кровью. Солдаты! Отрубите ему голову!
Нубийцы набросились на него, и, когда через мгновение я вновь увидел Хуаку, его обезглавленное тело лежало рядом с трупом еврея Натана, и кровь обоих смешалась на ступенях храма.
— Суд завершил свое дело, — сказал принц. — Воины, проследите, чтобы эту женщину проводили обратно к ее народу и вместе с нею отправили тело ее отца для погребения. И помните, что вы отвечаете своей жизнью за то, чтобы ее не оскорбляли и чтобы с ней не случилось ничего плохого. Писец Ана, пойдем вместе в мой дом, — я хочу поговорить с тобой. И пусть стража пойдет впереди и вслед за мной.
Он поднялся, и все присутствующие склонились перед ним. Когда он повернулся, чтобы уйти, Мерапи упала перед ним на колени, говоря:
— О справедливейший принц, отныне и навсегда я буду тебя слушать!
Мы двинулись в путь, и, когда мы покинули рыночную площадь и направились ко дворцу принца, я услышал позади гул голосов; одни одобряли, другие осуждали действия Сети. Мы шли в молчании, нарушаемом лишь равномерными звуками шагов сопровождавших нас стражников. Вскоре луна зашла за тучу, и вокруг стало темно. Потом из-за края тучи вдруг вырвался луч света и протянулся, прямой и узкий, через все небо. Принц смотрел на него некоторое время и потом сказал:
— Скажи мне, Ана, что напоминает тебе этот лунный луч?
— Меч, о принц, — ответил я, — простертый над Кеметом рукой какого-то могущественного бога или духа. Смотри, вон его клинок, с которого будто падают облачка — капли крови; а вон там — рукоять из золота, и смотри, под ним лицо бога. Огонь струится из его глазниц, а чело его мрачно и ужасно. Мне страшно — сам не знаю отчего.
— У тебя душа поэта, Ана. Однако я вижу то же, что и ты, и я уверен, что какой-то меч возмездия действительно поднят над Египтом за все его злодеяния; этот луч — его символ. Видишь? Он как будто вот-вот упадет на храмы богов и на дворец фараона и рассечет их надвое. А теперь он исчез, и ночь стала похожа на все ночи с сотворения мира. Пойдем ко мне и поужинаем. Я устал, мне нужно подкрепиться едой и вином, — как, впрочем, и тебе после схватки с этим мерзким убийцей, которого я отправил куда следовало.
Стражники приветствовали принца и были отпущены. Мы поднялись в личные покои принца, где его слуги обрядили меня в одежды из тонкого полотна, после того как искусный домашний врач обработал ссадины и порезы на моем теле и наложил повязки, пропитанные бальзамом. Затем меня провели в маленький трапезный зал, где меня ожидал принц, — словно я был почетным гостем, пришедшим сюда из Мемфиса со своими товарами, а не бедным писцом. Он заставил меня сесть по правую руку от себя и даже придвинул мне стул, чем привел меня в смущение и замешательство. Как сейчас помню этот стул с кожаным сиденьем: его подлокотники кончались сфинксами из слоновой кости, а на спинке из черного дерева, в центре овала, было инкрустировано имя великого Рамсеса, которому этот стул некогда принадлежал. Подали кушанья — только два блюда, и те самые простые, ибо Сети не был охотником до еды, — и к ним вино, восхитительнее которого мне никогда не доводилось пробовать. Нам прислуживал молодой нубиец с очень веселым лицом.
Мы ели и пили, и принц расспрашивал меня о моей работе в должности писца и о сочинении рассказов, что, по-видимому, очень его интересовало. Можно было даже подумать, будто он ученик в школе, а я — учитель, так смиренно и так внимательно выслушивал он все, что я говорил о моем искусстве. О делах государства или об ужасной кровавой сцене, которую мы только что пережили, не было сказано ни слова. Под конец, однако, после небольшой паузы, во время которой он, держа в руке чашу из тонкого, как яичная скорлупа, алебастра, всматриваясь в игру света в густом красном вине, принц сказал мне:
— Друг Ана, мы с тобой пережили волнующий час, возможно, первый из многих, что еще впереди, а может быть, последний. Кроме того, мы родились в один и тот же день, а значит, — если астрологи не лгут, как другие мужчины и женщины, — и под одной звездой. И, наконец, позволь мне об этом сказать, — ты мне очень нравишься, хоть я и не знаю, нравлюсь ли я тебе; и когда ты со мной в комнате, я чувствую себя спокойно и свободно. Это странно, ибо я не знаю никого, с кем бы мне было так хорошо, как с тобой.
Только сегодня утром я изучал старинные рукописи и совершенно случайно прочел, что тысячу лет назад наследный принц Египта имел право — а значит, имеет и теперь, ведь в Египте ничто не меняется — держать личного библиотекаря, которому платит государство, то есть, в конечном счете, труженики страны. Последний такой библиотекарь был несколько династий тому назад, я думаю потому, что большинство наследников трона не умели — или не хотели — читать. Я рассказал о своем открытии визирю Нехези, который считает каждую унцию золота, потраченную мной, как будто он платит мне из собственной мошны, — впрочем, возможно, так и есть. Он ответил мне с его обычной кривой усмешкой: «Поскольку, принц, я твердо знаю, что нет ни одного писца в Египте, общество которого ты бы выдержал дольше месяца, я определю месячное жалованье библиотекаря в тех размерах, в каких оно было при Одиннадцатой Династии, внесу эту статью в список расходов твоего высочества и выплачу эту сумму из царской казны к тому времени, когда он будет уволен».
Таким образом, писец Ана, я предлагаю тебе этот пост на один месяц, на срок, который, могу обещать тебе, будет оплачен, какова бы ни была сумма. Право, я забыл, сколько именно она составит.
— Благодарю тебя, о принц! — воскликнул я.
— Не благодари меня. Нет, если ты мудр, лучше откажись. Ты познакомился с Памбасой. Так вот, Нехези — это Памбаса, помноженный на десять, плут, вор, грубиян и к тому же наушничает фараону. Он превратит твою жизнь в пытку и будет держаться за каждую крупицу золота, которую тебе придется вырывать у него из рук. Более того, жизнь здесь утомительна, а я мнительный и часто бываю в плохом настроении. Говорю тебе — не благодари. Откажись, возвращайся в Мемфис и пиши рассказы. Беги от двора с его интригами. Сам фараон — это только марионетка, через которую говорят другие голоса и лик, через который смотрят другие глаза, и все мановения его скипетра управляются нитями, которые держат другие руки. А если так с фараоном, то что же сказать о его сыне? И потом, Ана, — женщины! Они станут преследовать тебя своей любовью — они преследуют даже меня, а ты, кажется, говорил мне, что кое-что знаешь о женщинах. Не соглашайся, ступай обратно в Мемфис. Я пришлю тебе для переписки старинные рукописи и выплачу тебе все, что Нехези назначит для библиотекаря.
— И все же я согласен, о принц! А Нехези — да я не боюсь его: в худшем случае я напишу про него такой рассказ, над которым весь мир будет смеяться, так что он скорее предпочтет заплатить мне, чем подвергаться осмеянию.
— Ты мудрее, чем я думал, Ана. Мне никогда не приходило в голову сделать Нехези героем рассказа, хотя, признаться, я и рассказываю про него всякие истории, а это, в общем, почти то же самое.
Он наклонился ко мне, подперев рукой голову и глядя мне в глаза, спросил:
— Почему ты согласился? Дай мне подумать. Не потому же, что ты надеешься здесь разбогатеть; и не ради показной пышности и престижа придворной жизни; и не для того, чтобы водиться с великими мира сего, которые на самом деле так ничтожны. Ничего в твоем сердце нет и тебе ничего не нужно; ты художник, не больше и не меньше того. Так объясни же мне, почему ты, свободный человек, способный заработать себе на жизнь, болтаешься у трона и готов подставить шею под пяту принцев, которые растопчут тебя, как глину, чтобы вылепить из тебя обычного прислужника, или царского приживалу, или слугу, подставляющего скамеечку под ноги фараона.
— Объясню тебе, принц. Во-первых, потому, что троны творят историю, так же как история создает троны; а мне кажется, что в Египте зреют великие события, в которых я хотел бы сыграть свою роль. Во-вторых, потому, что боги подносят дары людям только один или два раза в жизни, и отказаться от этих даров, значит обидеть богов, давших тебе эту жизнь, которую ты должен использовать, пусть даже для неведомых тебе целей. А в-третьих… — Тут я заколебался.
— А в-третьих? Говори, ведь именно это, наверное, и есть настоящая причина.
— А в-третьих, о принц — право же, такие слова странно звучат в устах мужчины — но, в-третьих, потому, что я люблю тебя. С той минуты, как мой взгляд упал на твое лицо, я полюбил тебя, как не любил никого, — даже своего отца. Не знаю, почему. Конечно же, не
оттого, что ты принц.
Услышав эти слова, Сети задумался и так долго молчал, что я испугался, не слишком ли я дерзок для скромного писца, и поспешно добавил:
— Да простит твое высочество своего слугу за его самонадеянные речи. Это не уста твоего слуги говорили, а его сердце.
Он поднял руку, и я умолк.
— Ана, мой близнец в боге Ра, — сказал он, — знаешь ли ты, что у меня никогда не было друга?
— У принца — нет друга?
— Никогда, ни одного. Но теперь я начинаю думать, что нашел его. Эта мысль кажется странной и согревает меня. Знаешь ли, когда мой взгляд упал на твое лицо, я тоже полюбил тебя, одним богам известно почему. У меня было такое чувство, будто я нашел того, кто мне был дорог тысячу лет назад, но потом потерял его и забыл о нем. Быть может, это глупость, а может быть, это тень чего-то великого и прекрасного, что обитает где-то в другом месте, которое мы называем царством Осириса, — по ту сторону могилы, Ана.
— Иногда мне в голову приходили такие же мысли, принц. Я хочу сказать, что все, что мы видим, — тень; и мы сами — только тени, а реальности, которые отбрасывают их, живут в какой-то другой стране, озаренной духовным солнцем, которое никогда не заходит.
Принц кивнул и некоторое время молчал. Потом он поднял свою прекрасную алебастровую чашу и, налив в нее вина, отпил немного и передал чашу мне.
— Выпей и ты, Ана, — сказал Он, — и обещай мне, как обещаю тебе я, что во имя создателя, который дал человеку сердце, отныне наши два сердца слились в одно, и так будет всегда, в горе и в радости, в победе и в поражении, пока смерть не унесет одного из нас. Отныне, Ана, у меня нет от тебя никаких тайн, — разве что ты окажешься недостойным нашей клятвы.
Вспыхнув от радости, я принял от него чашу, говоря:
— Я добавлю к тому, что ты сказал, о принц, еще одно: мы едины не только в этой жизни, но и во всей цепи грядущих жизней. Смерть, о принц, — это, я думаю, лишь одна ступень воздушной лестницы, которая приводит наконец к тем головокружительным высотам, откуда мы видим лицо бога и слышим его голос, объясняющий нам, что мы есть и почему.
Потом я тоже произнес слова клятвы, выпил из чаши и поклонился ему, а он поклонился мне.
— Что мы сделаем с этой чашей, Ана? Священной чашей, в которой было вино наших сердец? Оставить ее у меня? Нет, она больше не принадлежит мне. Дать ее тебе? Нет, она не только твоя. Знаю — мы разделим эту бесценную вещь.
Схватив чашу за ножку, он с силой ударил ею о стол. И тут произошло нечто, показавшееся мне чудом. Ибо вместо того, чтобы разлететься вдребезги, чаша раскололась ровно на две половинки, сверху донизу. До сих пор не знаю, было ли это случайностью, или художник, создавший ее в каком-то минувшем поколении, заготовил по отдельности каждую из половинок и потом искусно склеил их воедино. Как бы то ни было, чудо свершилось у нас на глазах.
— Какая удача! — сказал принц с легкой усмешкой, под которой, как я заметил, он прятал слишком сильные чувства. — Бери же ту половину, которая ближе к тебе, а я возьму ту, что ближе ко мне. Если ты умрешь первым, я положу мою половину тебе на грудь, а если первым умру я, ты положишь мне свою, а если жрецы тебе запретят, потому что я царского рода и они сочтут это святотатством, брось свою половинку в мою гробницу. Что бы мы делали, Ана, если бы алебастр рассыпался на мелкие осколки, и какое бы предзнаменование ты в этом увидел?
— Зачем спрашивать, о принц, о том, чего не случилось?
Потом я взял свою половинку, приложил ее ко лбу и спрятал под одеждой на груди, и Сети сделал то же самое со своей половинкой чаши.
Вот так, столь необычным образом царственный Сети и я скрепили священный союз нашего братства и, как я думаю, — на вечные времена.
III. Таусерт
Сети встал из-за стола и потянулся.
— С этим кончено, — сказал он, — как кончается все, и на этот раз мне жаль, что это так. Ну, что теперь? Спать, я полагаю, ибо сон — конец всего или, пожалуй, как сказал бы ты, начало.
Не успел он договорить, как занавеси, скрывающие вход, раздвинулись и появился Памбаса, церемонно держа свой жезл перед собой.
— В чем дело? — спросил Сети. — Неужели я не могу даже поужинать спокойно? Стой, прежде чем ты ответишь, скажи: сон — конец или начало всех вещей? Ученый Ана и я разошлись в этом вопросе и хотели бы услышать твое мудрое мнение. Учти, Памбаса, что до того, как родиться на свет, мы, должно быть, спали, поскольку ничего не помним об этом времени, а после того как мы умрем, мы, по всей вероятности, спим, как знает всякий, кому доводилось видеть мумии. А теперь отвечай!
Памбаса уставился на сосуд с вином, стоящий на столе, как будто заподозрив, что его господин выпил больше, чем следовало. Потом твердым, официальным голосом он объявил:
— Она идет! Она идет! Она идет, чтобы принести свои приветствия и любовь царственному сыну Ра.
— В самом деле? — спросил Сети. — Но если так, почему сообщать об этом три раза? И — кто идет?
— Высочайшая принцесса, наследница Египта, дочь фараона, сводная сестра твоего высочества, великая госпожа Таусерт.
— Что ж, пусть войдет. Ана, стань позади меня. Если ты устанешь и я разрешу, можешь уйти, рабы покажут тебе, где твои покои.
Памбаса удалился, и тотчас из-за занавесей появилась царственного вида особа в великолепном одеянии. Ее сопровождали четыре служанки, которые остановились у порога и тут же скрылись. Принц пошел ей навстречу, взял обе ее руки в свои и поцеловал ее в лоб, потом отступил, после чего они с минуту стояли, смотря друг на друга. Тем временем я изучал ту, что была известна во всей стране как «Прекрасная Царская Дочь», но кого я до этого момента ни разу не видел. По правде сказать, я не нашел ее прекрасной, хотя я бы сразу понял, что она царского происхождения, даже будь на ней платье крестьянки. Для красавицы ее лицо было слишком жестким, а черные глаза с серым отливом слишком малы. Вместе с тем ее нос был слишком острым, а губы слишком тонкими. Поистине, если бы не очертания нежной и красивой женственной фигуры, я бы вполне мог подумать, что передо мной не принцесса, а принц. В остальном она во многом походила на своего сводного брата Сети, хотя и была лишена свойственного ему выражения доброты. Или, если сказать точнее, оба они походили на своего отца, Мернептаха.
— Приветствую тебя, сестра, — сказал он, глядя на нее с улыбкой, в которой мне почудилось что-то насмешливое. — Ого! Платье, отороченное пурпуром; изумрудное ожерелье и венец из золота, и кольца, и нагрудные украшения, — не хватает только скипетра! Почему ты так по-царски оделась, чтобы навестить столь скромную особу, как твой любящий брат? Ты являешься, как солнце, во тьму отшельнической кельи, и совсем ослепила бедного отшельника — или, точнее, отшельников, — и он указал на меня.
— Оставь свои шутки, Сети, — ответила она звучным, сильным голосом. — Оделась так потому, что это доставляет мне удовольствие. Кроме того, я ужинала с нашим отцом, а те, что сидят за столом фараона, должны быть одеты подобающим образом. Правда, я заметила, что иногда ты думаешь иначе.
— Вот как. Надеюсь, добрый бог, наш божественный родитель сегодня вполне здоров, раз ты так рано его покинула.
— Я покинула его потому, что он послал меня к тебе с поручением. — Она умолкла, пристально смотря на меня, и потом спросила: — Кто этот человек? Я его не знаю.
— Твоя беда, Таусерт, но дело можно поправить. Его зовут писец Ана, и он пишет странные истории, полные интереса, которые тебе следовало бы почитать, а то ты слишком поглощена внешней стороной жизни. Он из Мемфиса, а имя его отца — забыл, Ана, как звали твоего отца?
— Его имя слишком ничтожно для царских ушей, принц, — ответил я, — но мой дед был поэтом по имени Пентавр, который писал о деяниях могущественного Рамсеса.
— Правда? Почему же ты сразу мне не сказал? С таким происхождением ты заработал бы себе пенсию из придворной казны, если бы тебе удалось вырвать ее у Нехези. Так вот, Таусерт, имя его деда было Пентавр, чьи бессмертные стихи ты, несомненно, читала на стенах храма, где наш дед позаботился их увековечить.
— Читала, к сожалению, и нашла, что это пустая и хвастливая болтовня, — холодно ответила она.
— Честно говоря, — да простит меня Ана — я того же мнения. Но могу тебя уверить, что его рассказы несравненно лучше, чем стихи его деда. Друг Ана, это моя сестра, Таусерт, дочь моего отца, хотя матери у нас были разные.
— Прошу тебя, Сети, будь добр называть все мои законные титулы, говоря обо мне с писцом, да и с прочими твоими слугами.
— Извини, Таусерт. Ана, это — Первая госпожа Кемета, Царская Наследница, Принцесса Верхнего и Нижнего Египта15, Верховная жрица Амона, Любимица Богов, сводная сестра законного наследника, Цветущий Лотос Любви, будущая Царица — Таусерт, чьей супругой ты будешь? Кто окажется достоин такой красоты, превосходства, учености и — что еще можно добавить? — нежности, да, нежности.
— Сети, — сказала она, топнув ногой, — если тебе нравится издеваться надо мной в присутствии посторонних, очевидно мне остается только покориться. Вели ему уйти, мне нужно с тобой поговорить.
— Издеваться над тобой! О сколь плачевна моя участь! Когда
правда изливается из глубин моего сердца, мне говорят, что я издеваюсь, а когда я издеваюсь, все твердят: он говорит правду. Сядь, сестра, и говори, не стесняясь. Ана — мой верный друг, который только что спас мне жизнь; хотя за это мне, пожалуй, следовало бы считать его своим врагом. У него также отличная память, и он запомнит, а потом запишет все, что ты скажешь, тогда как я могу забыть. Поэтому, с твоего позволения, я попрошу его остаться.
— Мой принц, — сказал я, — пожалуйста, разреши мне уйти.
— Мой секретарь, — ответил он с повелительной ноткой в голосе, — я прошу тебя остаться на месте.
Выбора не было. Я сел на пол в обычной позе писца, а принцесса опустилась на ложе в конце стола; Сети остался стоять. После паузы принцесса заговорила.
— Поскольку ты желаешь, брат, чтобы я доверяла секреты не только твоим, но и чужим ушам, я повинуюсь. И все же, — тут она гневно взглянула на меня, — пусть язык остережется повторять то, что слышали уши, а то как бы не осталось ни языка, ни ушей. Мой брат, во время ужина фараону доложили, что в нашем городе начались волнения. Ему доложили, что из-за каких-то неприятностей по поводу низкого израильтянина ты велел обезглавить одного из фараоновых воинов. После чего вспыхнул мятеж, который продолжается до сих пор.
— Странно, что правда достигла ушей фараона так быстро. Вот если бы он услышал об этом на три луны позже, я бы тебе поверил — почти поверил бы.
— Значит, ты действительно обезглавил этого воина?
— Да, я обезглавил его два часа тому на лад.
— Фараон требует отчета об этом деле.
— Фараон, — ответил Сети, подняв глаза, — не властен ставить под сомнение правосудие правителя Таниса.
— Ты заблуждаешься, Сети. Власть фараона безгранична.
— Нет, сестра. Фараон — лишь один человек среди миллионов других, и хотя он говорит от себя, его речи внушены их духом, — но над их духом есть еще более великий дух, который направляет их мысли ради целей, о которых мы ничего не знаем.
— Я не понимаю тебя, Сети.
— Я и не ожидал, что ты поймешь, Таусерт, но на досуге попроси Ану объяснить тебе суть дела. Я уверен, что он понимает.
— О! С меня довольно, — воскликнула Таусерт, поднимаясь. — Выслушай приказ фараона, принц Сети. Завтра ты должен явиться к нему в Зал Совета, за час до полудня, чтобы говорить с ним об этом случае с израильтянскими рабами и воином, которого тебе угодно было лишить жизни. Я хотела сказать тебе еще кое-что, но поскольку это предназначалось только для твоих ушей, я подожду до более удобного случая. Прощай, брат мой.
— Как, ты уже уходишь? А я собирался рассказать тебе об этих израильтянах и особенно об одной девушке по имени — как ее имя, Ана?
— Мерапи, Луна Израиля, принц, — ответил я со вздохом.
— О девушке, которую зовут Мерапи и Луной Израиля, по-моему, самой прелестной, какую я когда-либо видел; это ее отца убил казненный капитан, убил у меня на глазах.
— Значит, тут замешана женщина? Я так и думала.
— В каждом деле замешана женщина, Таусерт, — даже в послании фараона. Памбаса, проводи принцессу и позови ее слуг — все они до единой — женщины, если мои чувства меня не обманывают. Спокойной ночи, о сестра и Госпожа Обеих Земель, и прости меня — твой венец немного съехал набок.
Наконец она ушла и я поднялся, вытирая лоб краем туники, и посмотрел на принца, который стоял перед очагом, тихо посмеиваясь.
— Запиши весь этот разговор, Ана, — сказал он. — В нем нечто большее, чем кажется на слух.
— Не надо и записывать, принц, — ответил я, — каждое слово выжжено в моем мозгу, как раскаленное железо выжигает деревянную дощечку. И недаром, ибо теперь ее высочество будет ненавидеть меня всю свою жизнь.
— Это гораздо лучше, Ана, чем если бы она притворилась, что любит тебя; но этого она никогда не сделает, пока ты мой друг. Женщины нередко уважают тех, кого ненавидят, и даже продвигают их из политических соображений, но пусть остерегаются те, кого они притворно любят! Как знать, еще придет время, когда ты станешь самым доверенным советником Таусерт!
Здесь я, писец Ана, замечу, что впоследствии, когда эта самая царица была женой фараона Саптаха, я действительно стал ее самым доверенным советчиком. Более того, в те времена и даже в час ее смерти она клялась, что с первого же взгляда, впервые увидев меня, она поняла, что я обладаю верным сердцем, и почитала меня за бескорыстие. И я думаю, что она верила в то, что говорила, забыв, что когда-то она смотрела на меня как на своего врага. Но я никогда не был ее врагом и всегда чтил ее, как великую женщину, которая любила свою страну, хотя ей подчас и не хватало мудрости. Но в ту далекую ночь, много лет назад, я не мог предвидеть всего этого, и потому я удивленно посмотрел на принца и сказал:
— О, почему ты не позволил мне уйти, как обещал сначала? Рано или поздно я заплачу головой за события этой ночи.
— Тогда ей придется добавить к твоей голове и мою. Послушай, Ана. Я удержал тебя здесь не для того, чтобы позлить принцессу или тебя, но по серьезной причине. Ты ведь знаешь, что в Египте существует обычай, по которому цари или те, кто будут царями, женятся на близких родственницах, чтобы сохранить чистоту крови.
— Да, принц, и не только цари. Однако я считаю, что это дурной обычай.
— И я тоже, ибо народ, который его придерживается, все слабее телом и духом. Может быть, поэтому мой отец уже не такой, каким был его отец, а я не такой, как мой отец.
— Кроме того, принц, очень трудно сочетать любовь к сестре с любовью к жене.
— Еще как трудно, Ана! Так трудно, что при таких попытках и та и другая любовь просто исчезают. Так вот, поскольку наши матери были верными царскими женами, хотя ее мать умерла еще до того, как мой отец женился на моей матери, фараон желает, чтобы я женился на моей сводной сестре Таусерт, и — что еще хуже — она тоже этого хочет. Больше того, многие боятся, что в Египте начнется смута, если мы, единственные потомки истинно царского рода и дети цариц, не соединимся и она возьмет в мужья кого-то другого или я возьму в жены другую женщину; поэтому они требуют, чтобы наш брак состоялся, поскольку они уверены, что тот, кто назовет Таусерт Властную своей супругой, будет править всей страной.
— А почему принцесса этого хочет? Чтобы стать царицей?
— Да, Ана. Хотя стань она женой моего двоюродного брата Аменмеса, сына старшего брата фараона, Кхемуаса, она все равно могла бы быть царицей, если бы я устранился — что я с удовольствием бы сделал.
— А Египет согласился бы на это, принц?
— Не знаю, да это и не имеет значения, поскольку она терпеть не может Аменмеса: он своеволен и тщеславен, она и слышать о нем не хочет. К тому же он женат.
— Неужели нет ни одного человека царского рода, за кого она
могла бы выйти, принц?
— Ни одного. И потом, она желает только меня.
— Почему, принц?
— Из-за древнего обычая, перед которым она преклоняется. А также потому, что она хорошо знает меня и любит — на свой лад. Она уверена, что я мягкосердечный мечтатель, которым она будет управлять. Наконец, потому, что я — законный наследник короны, и если не буду разделять с нею власть, она, по ее мнению, никогда не сможет чувствовать себя на троне в безопасности, особенно если я женюсь на другой женщине, в которой она будет видеть соперницу. Трон — вот предмет ее желаний, ради которого она хочет выйти замуж, а вовсе не принц Сети, ее сводный брат, которого она возьмет вместе с троном, как велит фараон. Любовь, Ана, не играет никакой роли в сердце Таусерт. Но это делает ее тем более опасной, ибо если ее холодное расчетливое сердце к чему-то стремится, она, несомненно, этого достигнет.
— Похоже, принц, что вокруг тебя воздвигается клетка. В конце концов, это великолепная клетка вся из золота.
— Да, Ана, только клетка не то место, где я хотел бы жить. Но, исключая смерть, как мне вырваться из этих тройных пут — воли фараона, страны и Таусерт? О! — продолжал он изменившимся голосом, в котором звучали и скорбь и гнев. — Пусть во всем остальном я — слуга, но в этом деле я хотел бы выбирать сам. А выбирать мне не позволено!
— Нет ли случайно какой-нибудь другой знатной женщины, принц?
— Никакой! Клянусь богами, никакой — во всяком случае, насколько я знаю. Я все-таки бы поискал, имей я свободу действий, и если б нашел, я бы взял ее, будь она хоть рыбачкой.
— Цари Кемета могут иметь достаточно большие семьи, принц.
— Знаю, разве не существуют еще десятки людей, которых я с полным правом мог бы назвать своими родственниками? Мой дед Рамсес осчастливил Кемет, я думаю, не менее чем тремя сотнями детей, и, пожалуй, в этом была какая-то доля мудрости, ибо он мог быть уверен, что пока стоит мир, еще долго будут жить капли крови, которая когда-то текла в его жилах.
— Но какая ему от этого польза, принц, — ив жизни, и в смерти? Кто-то должен порождать все эти массы людей, что населяют землю, так не все ли равно, кто их родитель?
— Решительно все равно, Ана, поскольку, к счастью или к несчастью, они так или иначе рождаются на свет. Поэтому есть ли смысл говорить о больших семьях? Хотя фараон, как и любой человек, способный платить за это, и может иметь «большую семью», но она мне не нужна, я хочу такую женщину, которая бы царствовала в моем сердце, а не только на троне. Однако устал я. Памбаса, поди сюда. Проводи моего секретаря Ану в свободную комнату рядом с моей — в ту, с росписью на стенах, которая выходит на север, и вели моим слугам позаботиться о нем так же, как они позаботились бы обо мне.
— Почему ты сказал мне, что ты писец, мой господин Ана? — спросил Памбаса, проводив меня в мою красивую комнату, где мне предстояло спать.
— Потому что таково мое ремесло.
Он посмотрел на меня и затряс головой с такой страстью, что его длинная седая борода всколыхнулась у него на груди, как храмовой стяг под легким порывом ветра.
— Нет, ты не писец, — ответил он, — ты чародей. Ты в одночасье завоевал любовь и милость его высочества, чего другие не могут добиться даже за время, что проходит между двумя разливами Сихора. Если бы ты сказал мне сразу, тебя бы приняли совсем иначе. Ты уж прости меня за то, как я обошелся с тобой в моем неведении. Я молю тебя — пожалуйста, не растай в ночной мгле, чтобы моим пяткам не пришлось отвечать под палками за твое исчезновение.
Шел четвертый час после восхода солнца, когда на следующий день я впервые в жизни оказался при дворе фараона в свите его высочества принца Сети. Это было величественное и торжественное место, ибо фараон принимал в зале судебных заседаний, где крыша поддерживается круглыми резными колоннами, а между ними стоят статуи фараонов минувших поколений. Свет, струившийся из верхнего ряда окон, выделял тот конец зала, где возвышался трон, в остальной же его части было сумеречно, даже почти темно; по крайней мере, так мне показалось после яркого солнца, сиявшего снаружи. В этом полумраке двигались, словно тени, множество людей: военачальники, вельможи, служители государства, которых вызвали ко двору, среди них мелькали жрецы в белых одеяниях и с бритыми лицами. Были здесь и другие, но эти интересовали меня меньше: предводители кочевых племен, пришедшие из пустыни, торговцы драгоценностями и другими товарами, землевладельцы и крестьяне, явившиеся с прошениями, адвокаты и их клиенты — всех не перечесть; но никому их них не было позволено перейти за ту черту, где начиналась светлая часть зала. Переговариваясь шепотом, все эти люди мелькали в полумраке, как летучие мыши в гробнице.
Мы ждали в одном из преддверий зала, между двумя колоннами; увенчанными скульптурными ликами богини Хатхор16. Принц Сети был в отороченной пурпуром одежде, а его голову охватывала узкая золотая повязка с золотым уреем, или змейкой, которую имеют право носить только фараоны. Он стоял, прислонившись к пьедесталу статуи, а мы молча стояли позади него. Некоторое время он тоже молчал, как человек, мысли которого витают где-то совсем в других сферах. Наконец он обернулся и сказал мне:
— Утомительная история! Как жаль, что я не попросил тебя захватить твой новый рассказ с собой, писец Ана, — мы бы почитали его вместе.
— Хочешь, я расскажу тебе его сюжет, принц?
— Да. Только не сейчас, а то я заслушаюсь тебя и забуду про хорошие манеры. Посмотри, — и он указал на человека средних лет с мрачным лицом и свирепым выражением в глазах, который шел через зал, как будто не замечая нас, — вот идет мой двоюродный брат Аменмес. Ведь ты знаешь его?
Я отрицательно покачал головой.
— Ну, тогда скажи, что ты о нем думаешь, вот так сразу, по первому впечатлению.
— Думаю, что у него царственный вид, что он упрям духом и крепок телом, по-своему красив.
— Это видно всем, Ана. Что еще?
— Я думаю, — сказал я, понизив голос, чтобы никто меня не услышал, — что его сердце также мрачно, как его лицо, что ревность и ненависть сделали его порочным и что он причинит тебе зло.
— Разве может человек стать порочным, Ана? Не остается ли он таким, каким родился, с начала и до конца? Мы этого не знаем, ни ты, ни я. Но ты прав: он ревнив и причинит мне зло, если это будет ему выгодно. Но скажи, кто из нас в конце концов восторжествует?
Пока я колебался, не зная, как ответить, я почувствовал, что к нам кто-то приближается. Оглянувшись, я увидел древнего старика в белом одеянии. У него было широкое лицо и лысая голова, и его глаза под густыми бровями горели, как угли среди пепла. Он опирался на посох из кедрового дерева, крепко обхватив его обеими руками, худыми и иссохшими, как руки мумии. С минуту он сосредоточенно смотрел на нас обоих, словно читая в наших душах, потом сказал звучным голосом:
— Приветствую тебя, принц.
Сети обернулся, посмотрел на него и ответил:
— Приветствую тебя, Бакенхонсу. Ты все еще жив? Когда мы с тобой расстались в Фивах, я был уверен…
— Что, вернувшись, ты найдешь меня в гробнице? Нет, принц, это я доживу до того дня, когда увижу тебя в гробнице. Да и не только тебя, но и других, которым еще предстоит сидеть на троне фараона. А почему бы нет! Хо-хо! Почему бы нет, если мне только сто семь лет, и я помню еще Рамсеса Первого и играл с его внуком, твоим дедом, когда был мальчиком? Почему бы мне еще не пожить, чтобы нянчить твоего внука — если боги даруют тебе внука? Ведь пока что у тебя нет ни жены, ни детей.
— Потому, что ты устанешь от жизни, Бакенхонсу, как уже устал я, да и боги не смогут так долго обходиться без тебя.
— Боги-то обойдутся без меня, принц, когда столь многие стекаются к их столу. К тому же они даже хотят, чтобы в Египте остался хотя бы один хороший жрец. Ки-чародей сказал мне что-то в этом духе сегодня утром. А он имел знамение с Небес во сне этой ночью.
— Почему ты был у Ки? — спросил Сети, пристально взглянув на него. — Я бы подумал, что, занимаясь одним и тем же ремеслом, вы должны ненавидеть друг друга.
— Вовсе нет, принц. Напротив, мы дополняем один другого. То есть, мы вместе обсуждаем и истолковываем наши видения, которые, кстати сказать, нынче нас очень тревожат. Этот молодой человек — писец из Мемфиса?
— Да, и мой друг. Его дедом был поэт Пентавр.
— Вот как! Я хорошо знал Пентавра. Он часто читал мне свои длинные поэмы, под которые так легко было засыпать, — нудная писанина, вырастающая, как грубая трава на глубокой, но наполовину высохшей почве. Ты уверен, молодой человек, что Пентавр был твоим дедом? Ты совсем на него не похож. Растение совсем другой породы. И наверное знаешь, что в таком деле мы вынуждены полагаться на слово женщины.
Сети рассмеялся, а я гневно взглянул на старого жреца, хотя последняя фраза вдруг заставила меня вспомнить слова отца, который всегда говорил, что моя мать — самая большая лгунья во всем Египте.
— Ну, да ладно, — продолжал Бакенхонсу. — Ки говорил мне про тебя, молодой человек. Я не очень его слушал, но помню, это было что-то насчет внезапного обета дружбы между тобой и вот этим принцем. Упоминалась также некая чаша — алебастровая чаша — мне показалось, будто я ее уже видел. Ки сказал, что ее разбили.
Сети вздрогнул, а я гневно прервал старика:
— Что ты знаешь об этой чаше? Или ты там где-нибудь прятался, о жрец?
— О, в ваших душах, я полагаю, — ответил он мечтательно, — или, точнее, это был Ки. Но я — я ничего не знаю, да и не любопытствую. Вот если бы чаша была разбита из-за женщины, это было бы куда интереснее, даже для старика. Будь добр и ответь принцу на его вопрос, кто из них восторжествует в конце концов — он или его двоюродный брат Аменмес? Ибо именно это интересует и Ки и меня.
— Разве я ясновидящий, — возразил я с возрастающим гневом, — чтобы читать будущее?
Он, ковыляя, приблизился, положил мне на плечо похожую на клешню руку и произнес совсем другим, повелительным тоном:
— Всмотрись в этот трон и скажи, что ты там видишь.
Я невольно повиновался и устремил взгляд через зал на пустой трон. Сначала я ничего не увидел. Потом мне почудилось, что вокруг трона мелькают какие-то фигуры. Среди них выделялась фигура = Аменмеса. Гордо осматриваясь, он воссел на троне, и я заметил, что он одет уже не как принц, а как сам фараон. Но вот появились горбоносые мужчины, которые стащили его с трона. Он упал, как мне показалось в воду, потому что я увидел всплеск брызг. Потом к трону : поднялся принц Сети, ведомый женщиной, которую я не разглядел, | ибо она шла спиной ко мне. Но его я видел отчетливо — на нем была двойная корона, а в руке он держал скипетр. Он тоже исчез, будто I растаял, и появились другие, кого я не знал, хотя и подумал, что среди * них мелькнул образ принцессы Таусерт.
Потом все исчезло, и я стал рассказывать Бакенхонсу все, что я видел, говоря как будто во сне и не по своей воле. Внезапно я очнулся и рассмеялся над собственной глупостью. Но оба мои собеседника не смеялись, они смотрели на меня с серьезными лицами.
— Я так и думал, что ты в некоторой степени ясновидец, — сказал старый жрец. — Точнее, это думал Ки. Я не мог до конца поверить Ки, потому что он сказал, что сегодня утром я увижу здесь рядом с принцем кого-то, кто любит его всем сердцем, а ведь любить всем сердцем может только женщина, не так ли? По крайней мере, так думает весь мир. Ну, мы с Ки еще обсудим этот вопрос. Однако тихо! Идет фараон!
— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!
IV. Обручение при Дворе
— Жизнь! Кровь! Сила! — повторяли подобно эху все, кто был в зале, падая на колени и касаясь лбами земли. Даже принц и престарелый Бакенхонсу простерлись ниц, словно перед лицом бога. И в самом деле, проходя по освещенной солнцем части зала, увенчанный двойной короной и облаченный в царственные одежды и украшения, фараон Мернептах выглядел как бог, каким массы египтян его и считали. Это был уже старик, на лице которого годы и заботы оставили свои следы, но от всего его облика, казалось, веяло величием.
За ним, отставая на один—два шага, следовали Нехези — его визирь, сморщенный человек с пергаментно-бледным лицом и хитрыми бегающими глазами, верховный жрец Рои, и Хора — гофмейстер царского стола, и Мерану — царский рукомой, и Юи — личный писец фараона, и многие другие, кого Бакенхонсу называл мне по мере их появления. Потом пошли носители опахал и блестящая группа вельмож, которых называли друзьями царя17, и главные дворецкие, и не знаю еще кто; за ними охрана с копьями и в шлемах, сверкающих как золото, и чернокожие меченосцы из южной страны Куш18.
Только одна женщина сопровождала фараона, следуя непосредственно за ним, перед визирем и верховным жрецом. Это была дочь фараона, принцесса Таусерт, которая показалась мне и более гордой, и более величественной, чем кто-либо из присутствующих, хотя и несколько бледной и встревоженной.
Фараон приблизился к ступеням трона. Визирь и верховный жрец поспешили помочь ему подняться, ибо он был слаб от старости, но он жестом отклонил их помощь и, поманив дочь, оперся на ее плечо и так поднялся по ступеням трона. Я подумал, что эта сцена имела определенный смысл: он как будто хотел показать всем собравшимся, что эта принцесса — опора Кемета.
Он немного постоял молча, в то время как Таусерт присела на верхнюю ступеньку и подперла подбородок сверкающей бриллиантами рукой. Фараон же стоял, обводя взглядом зал. Он поднял скипетр, и все поднялись с колен, сотни и сотни людей, наполнявших зал, и их одежды зашуршали при этом, как листья под внезапным порывом ветра. Он сел на трон, и снова раздался приветственный клич, с каким обращаются исключительно к фараону.
— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!
В наступившем молчании я услышал, как он сказал, по-видимому принцессе:
— Аменмеса я вижу и других из родни тоже, но где же мой сын Сети, принц Кемета?
— Наблюдает за нами из какого-нибудь угла. Мой брат не любит придворных церемоний, — ответила Таусерт.
Тогда, подавив вздох, Сети вышел из-за колонны; за ним двинулись Бакенхонсу и я, а немного поодаль — остальные члены его свиты. Пока он шел через зал, все расступались, приветствуя его поклонами. Приблизившись к трону, он преклонил колени и произнес:
— Приветствую тебя, о царь и отец!
— Приветствую тебя, о принц и сын! Садись же, — ответил Мернептах.
Сети опустился в кресло, поставленное для него справа, у подножия трона. В другое кресло, слева, но несколько дальше от трона, сел Аменмес. Я стал за кресло принца.
Официальная часть началась. По знаку церемониймейстера самые разные люди подходили поодиночке и протягивали прошения, написанные на свитках папируса; визирь Нехези принимал их и бросал в кожаный мешок, который держал открытым черный раб. В некоторых случаях ответ на прошение, подача которого была лишь формальностью, вручался просителю тут же на месте, и тот, прикоснувшись ко лбу свитком, который, быть может, означал для него все на свете, кланялся и уходил, чтобы узнать свою судьбу. Потом явились найхи, вожди племен, кочевавших в пустыне, и начальники крепостей в Сирии, и купцы, подвергшиеся нападению врагов, и даже крестьяне, пострадавшие от притеснений чиновников, и каждый излагал свою просьбу. Писец записывал все эти просьбы, в то время как визирь и советники отвечали на другие. Но фараон до сих пор не произнес ни одного слова. Он молча восседал на своем великолепном троне из слоновой кости и золота, как каменный бог на алтаре, устремив взгляд через зал в распахнутые двери, словно желая прочесть тайны видневшегося неба.
— Говорил я тебе, друг Ана, что придворные приемы — страшная скука, — прошептал принц, не поворачивая головы. — Может быть, тебе уже хочется вернуться в Мемфис и писать свои истории?
Не успел я ответить, как в дальнем конце зала произошло какое-то движение, привлекшее внимание принца и всех остальных. Я взглянул туда и увидел, что к трону направляется высокий бородатый человек, уже старик, хотя его черные волосы лишь слегка тронула седина. Он был в белом полотняном одеянии, поверх которого был накинут шерстяной плащ, какие носят пастухи, а в руке он держал посох. Лицо его было величественно и очень красиво, черные глаза сверкали огнем. Он медленно приближался, не глядя ни влево, ни вправо, и толпа расступалась перед ним, как если бы он был принцем. Я подумал даже, что они боятся его больше, чем любого принца, ибо они почти шарахались от него, когда он проходил мимо. Он был не один, за ним шел другой человек, очень похожий на него, но как мне показалось, еще старше, ибо его борода, спадавшая до пояса, была совершенно белой, так же как его волосы. На нем был плащ из овечьей кожи, а в руке — посох. Среди толпы поднялся шепот, и я услышал слова: «Пророки народа Израиля! Пророки народа Израиля!»
Оба уже подошли к трону и смотрели на фараона, ничем не выражая своего почтенья. Фараон молча смотрел на них. И долго стояли они так среди глубокого молчания, но фараон не произнес ни слова, и ни один из его чиновников, казалось, не смел раскрыть рта. Наконец первый из пророков заговорил чистым холодным голосом, каким мог бы говорить завоеватель:
— Ты знаешь, кто я, фараон, и в чем моя миссия.
— Тебя я знаю, — медленно произнес фараон, — как мне не знать тебя, если мы вместе играли, когда были детьми. Ты тот иудей, которого моя сестра, что спит ныне в краю Осириса, приняла и воспитала как сына, ибо нашла тебя младенцем в камышах Сихора. Да, я знаю тебя и брата твоего тоже. Но в чем твоя миссия, я не знаю.
— Вот в чем моя миссия, фараон, или скорее послание Яхве, бога Израиля, от имени которого я говорю. Разве ты до сих пор ничего не слышал? О том, что ты должен позволить его народу уйти в пустыню и совершить в честь него обряд жертвоприношения.
— Кто такой Яхве? Я не знаю Яхве, ибо служу Амону и другим богам Кемета, так почему я должен дать твоему народу уйти?
— Яхве — бог Израиля, великий Бог всех богов, и если ты не прислушаешься, фараон, ты скоро узнаешь на себе его могущество. А почему ты должен отпустить его народ — об этом спроси у принца, твоего сына. Спроси, что он видел прошлой ночью на улицах этого города и какой приговор он вынес одному из военачальников фараона. Или, если он не захочет рассказать тебе, узнай все из уст девушки, которую зовут Мерапи, Луна Израиля, — дочери Натана Левита. Выйди сюда, Мерапи, дочь Натана.
В ответ из толпы в конце зала вышла Мерапи в белом одеянии и с черным траурным покрывалом на голове, оставлявшим, однако, открытым ее лицо. Бесшумно, словно скользя, она приблизилась к трону и склонилась перед фараоном, бросив при этом быстрый взгляд на Сети. Потом она встала и стояла неподвижно, и я подумал, как она удивительно прекрасна в простом белом платье и с черным покрывалом на голове.
— Говори, женщина, — сказал фараон.
Она повиновалась и рассказала всю историю своим глубоким, медовым голосом, и никому ее рассказ не показался ни длинным, ни утомительным. Наконец она умолкла, и фараон спросил:
— Сети, сын мой, это правда?
— Это правда, о отец мой. Властью правителя этого города я приговорил капитана Хуаку к смертной казни за убийство, совершенное на моих глазах на улицах города.
— Возможно, ты поступил правильно, а возможно, и неправильно, сын мой Сети. Во всяком случае, судить тебе, и поскольку он ударил тебя, сына фараона, он заслужил смертной казни.
Он снова помолчал, глядя на небо сквозь открытые двери. Потом сказал:
— Чего же вам еще, пророки Яхве? Мой солдат, убивший человека из вашего народа, справедливо наказан. За жизнь заплачено жизнью в соответствии со строгой буквой закона. Дело завершено. И если вы все сказали, уходите.
— Велением нашего господа бога, — ответил пророк, — мы должны сказать тебе следующее, о фараон. Сними тяжкое ярмо с шеи народа Израиля. Прикажи освободить их от обязанности делать кирпичи для постройки твоих городов.
— А если я откажусь, что тогда?
— Тогда на тебя падет проклятие Яхве, фараон, и бедствие за бедствием обрушится на землю Кемета.
Внезапная ярость охватила Мернептаха.
— Как! — вскричал он. — Ты посмел угрожать мне в моем дворце и хотел бы, чтобы люди Израиля, которые разжирели на своей земле, бросили трудиться? Слушайте, мои слуги, — а вы, писцы, запишите мой приказ. Ступайте в страну Гошен и скажите израильтянам, что кирпичи, которые они делали, они будут делать и впредь и работы у них будет еще больше, чем во времена отца моего, Рамсеса. Только ни одной соломинки они теперь не получат для изготовления кирпичей. Раз они хотят праздной жизни, пусть идут и собирают солому сами: пусть собирают ее с полей19.
С минуту царило молчание. Потом в один голос оба пророка заговорили, указывая посохами на фараона:
— Именем господа Бога мы проклинаем тебя, фараон. Ты скоро умрешь и ответишь за этот грех. Народ Кемета мы тоже проклинаем. Гибель будет их уделом, смерть будет их хлебом, и кровь они будут пить во тьме великой. Больше того, в конце концов фараон даст нашему народу уйти.
Не ожидая ответа, они повернулись и удалились, и ни один человек не попытался их задержать. И опять в зале воцарилось молчание — молчание страха, ибо слова, произнесенные пророками, были ужасны. Фараон знал это, ибо голова его упала на грудь и лицо, только что пылавшее гневом, побелело. Таусерт прикрыла глаза рукой, как бы заслоняясь от какого-то зловещего видения, и даже Сети, казалось, было не по себе, словно это ужасное проклятие проникло в его сердце.
По знаку фараона визирь Нехези трижды ударил об пол своим жезлом и указал на дверь, дав этим традиционным жестом понять, что прием при дворе окончен, после чего все повернулись и ушли с поникшими головами, не говоря друг другу ни слова. Вскоре большой , зал опустел, остались только сановники, стража и личные слуги фараона. Когда все ушли, Сети поднялся и поклонился фараону.
— О фараон, — сказал он, — соблаговоли выслушать меня. Мы слышали зловещие слова этих людей, слова, которые угрожают твоей божественной жизни, о фараон, и призывают проклятие на Нижние и Верхние Земли. Фараон, эти люди Израиля считают, что они страдают от несправедливостей и угнетения. Так дай мне, твоему сыну, бумагу за твоей подписью и печатью, по которой я получу право поехать в страну Гошен и расследовать это дело, а потом доложу тебе всю правду. Тогда, если тебе покажется, что с народом Израиля обходятся несправедливо, ты сможешь облегчить их бремя и свести проклятие их пророков на нет. Но если тебе покажется, что они говорят неправду, твои слова останутся в силе.
Слушая его, я, Ана, подумал, что фараон снова разгневается, но я ошибся, ибо когда он заговорил, у него был тон человека, подавленного скорбью или усталостью.
— Будь по-твоему, сын, — сказал он. — Только возьми с собой большой отряд солдат, чтобы эти горбоносые собаки не причинили тебе вреда. Я им не верю, они всегда были врагами Египта. Разве не были они в сговоре с варварами, которых я разбил в великой битве? А теперь они угрожают нам от имени своего диковинного бога. Все же пусть заготовят эту бумагу, а я приложу печать. Да, постой-ка. Мне кажется, Сети, ты по своей добросердечной натуре слишком мягко относишься к этим пастухам-рабам. Поэтому я не пошлю тебя одного. С тобой поедет Аменмес, но подчиняться он будет тебе. Я сказал.
— Жизнь! Кровь! Сила! — сказали оба, показав таким образом, что приказание понято.
Ну, теперь все, — подумал я. Но не тут-то было. Фараон сказал:
— Пусть стража отойдет в конец зала и слуги тоже. Советники царя и члены семьи, останьтесь.
Немедленно все было исполнено. Я тоже хотел было удалиться, но принц удержал меня.
— Останься и запиши все, что произойдет.
Этот маленький эпизод не ускользнул от внимания фараона, хотя он и не слышал слов принца.
— Кто этот человек? — спросил он.
— Это Ана, мой личный писец и библиотекарь, о фараон, я ему доверяю. Именно он спас меня прошлой ночью.
— Ну, раз ты говоришь, сын, пусть остается при тебе, но знает, что если он предаст тебя, он умрет.
Таусерт, нахмурившись, посмотрела в нашу сторону, как будто собираясь что-то сказать. Но если и хотела, то, видимо, передумала и промолчала, ибо слово фараона не допускало ни возражений, ни изменений. Бакенхонсу тоже остался по праву советника фараона.
Когда все удалились, фараон, который некоторое время пребывал в задумчивости, поднял голову и заговорил медленно, но тоном человека, выносящего окончательное и бесповоротное суждение.
— Принц Сети, ты мой единственный сын от царицы Астнеферт из подлинно царского рода, которая ныне спит на груди Осириса. Правда, ты не перворожденный сын мой, поскольку Рамессу, — он показал на тучного добродушного человека с приятным, несколько глуповатым лицом, — старше тебя на два года. Но, как он хорошо знает сам, его мать, которая еще с нами, сирийского происхождения и не царской крови, и поэтому он не может сесть на египетский трон. Не так ли, сын Рамессу?
— Так, о фараон, — ответил Рамессу приятным голосом, — да я и не мечтаю сидеть на этом троне, я вполне доволен тем положением и богатством, которые фараон соблаговолил даровать мне как своему первенцу.
— Пусть эти слова сына моего Рамессу запишут и поместят в храме Птаха в этом городе и в храмах Птаха в Мемфисе и Амона в Фивах, — сказал фараон, — чтобы впредь никто не поставил их под сомнение.
Писцы фараона записали заявление Рамессу, и по знаку принца Сети я тоже записал его, положив папирус, который захватил с собой, себе на колено. Когда с этим было покончено, фараон продолжал:
— Итак, принц Сети, ты — наследник Египта и, возможно, так говорили пророки Израиля, вскоре займешь мое место на этом троне.
— Да будет царь жить вечно! — воскликнул Сети. — Ибо ему хорошо известно, что я не ищу ни власти, ни почестей.
— Знаю, знаю, сын мой, — настолько, что даже хотел бы, чтобы ты больше думал о той власти и тех почестях, которые перейдут к тебе, если боги того пожелают. Если же они повелят иначе, то следующий на очереди твой двоюродный брат Аменмес, в ком тоже течет царская кровь как с отцовской, так и с материнской стороны, а кто после него, я не уверен, — вероятно, моя дочь и твоя сводная сестра, царственная принцесса Таусерт, госпожа Кемета.
Тут вмешалась Таусерт:
— О фараон, — сказала она очень серьезно и настойчиво, — несомненно, мое право наследования подревней традиции выше права моего двоюродного брата.
Аменмес хотел было возразить, но фараон поднял руку, и он промолчал.
— В этом разберутся ученые. Те, кто занимаются подобными делами, — ответил Мернептах с некоторым сомнением в голосе. — Молю богов, чтобы Совету никогда не пришлось рассматривать этот высокий вопрос. Тем не менее, пусть запишут слова принцессы. Так вот, принц Сети, — продолжал он, когда запись была сделана, — ты все еще не женат, и если у тебя есть дети, они не царской крови.
— У меня нет детей, о фараон, — сказал Сети.
— В самом деле? — равнодушно произнес Мернептах. — Я знаю, у Аменмеса есть дети, ибо я их видел, но они — не от его царственной жены Унирет.
Я услышал, как Аменмес пробормотал:
— Ничего удивительного, учитывая, что она — моя тетка. — Замечание, заставившее Сети улыбнуться.
— Моя дочь, принцесса, тоже не замужем. Так что может оказаться, что источник царской крови иссякнет.
— Вот оно, — прошептал Сети так тихо, что только я его услышал.
— Поэтому, — продолжал фараон, — как ты уже знаешь, принц Сети, ибо вчера вечером я послал царственную принцессу Египта сообщить тебе об этом, я повелеваю…
— Прости, о фараон, — прервал его принц, — моя сестра ничего не говорила вчера вечером о твоем приказе; она сказала только, что сегодня утром я должен быть здесь.
— Потому что я не могла, Сети, застав тебя с посторонним человеком, которого ты отказался выслать. — И она остановила свой взгляд на мне.
— Неважно, — сказал фараон, — сейчас ты услышишь это из моих уст, что, пожалуй, и лучше. Я желаю, принц, чтобы ты, не откладывая, женился на принцессе Таусерт, дабы истинная кровь Рамсеса ожила в ваших детях. Услышь и повинуйся!
Таусерт перевела взгляд на Сети, пристально наблюдая за ним. Сидя сбоку от него на полу с разложенным на коленях папирусом, я тоже пристально следил за ним и заметил, что губы его побелели, а на лице появилось напряженное, странное выражение.
— Я слышал приказ фараона, — сказал он тихим голосом, склонив голову, и остановился.
— Хочешь что-нибудь добавить? — резко спросил фараон.
— Только одно, о фараон. Что, хотя этот брак продиктован интересами государства, он касается женщины, которая приходится мне сводной сестрой и привыкла любить меня, как родственника. Поэтому я хотел бы услышать из ее уст, хочет ли она взять меня в мужья.
Все взоры обратились к Таусерт, которая ответила холодным тоном:
— В этом деле, принц, как и во всех других делах, воля фараона — моя воля.
— Слыхал? — сказал нетерпеливо Мернептах. — И поскольку в нашем роду всегда был обычай заключать браки между родственниками, почему бы это не было и ее желанием? Да и за кого еще ей выходить замуж? Аменмес уже женат. Остается только Саптах, ее брат, который моложе ее.
— Я тоже, — пробормотал Сети, — на два долгих года. Но, к счастью, Таусерт его не слышала.
— Нет, отец мой, — решительно возразила она, — никогда калека не будет мне мужем.
Как бы в ответ на ее слова, из темного дальнего угла выступил молодой человек — вельможа небольшого роста со светлыми, как у Сети, волосами и острым умным лицом, напомнившим мне физиономию шакала (его и в самом деле прозвали за глаза Анубисом, по имени бога с головой шакала20). Ковыляя, он приблизился к трону. Он был явно разгневан, ибо его щеки и маленькие глазки пылали.
— Должен ли я слушать, фараон, — сказал он тонким голосом, — как моя двоюродная сестра публично попрекает меня моей хромотой, которой меня наградила нянька, уронив грудным ребенком?
— Значит, его нянька уронила и его деда, потому что у него тоже одна нога была короче другой, — прошептал старый Бакенхонсу, — могу это засвидетельствовать, ибо видел его нагишом, когда он лежал еще в колыбели.
— Видимо, так, Саптах, разве что ты зажмешь уши, — ответил фараон.
— Она говорит, что не выйдет за меня, — продолжал Саптах, — хотя я с детства был ее рабом и не думал ни об одной другой женщине.
— По своей воле — никогда! — воскликнула Таусерт. — Молю тебя, Саптах, иди и стань рабом любой другой женщины.
— Но вот вам мое слово: придет день, когда она выйдет за меня замуж, ибо принц Сети не будет жить вечно.
— Откуда ты знаешь, Саптах? — спросил Сети. — Верховный жрец расскажет тебе другую историю.
Кое-кто из присутствующих отвернулся, чтобы спрятать невольную усмешку. И однако в этот день устами Саптаха говорил некий бог, превратив его на миг в пророка; ибо через год она действительно вышла за него замуж, лишь бы удержаться на троне в смутную пору, когда Египет не потерпел бы, чтобы женщина одна управляла страной.
Но фараон не улыбался, как некоторые из придворных. Напротив, он рассердился.
— Уймись, Саптах! — сказал он. — Кто ты такой, что смеешь пререкаться в моем присутствии и говорить о смерти царей и о том, что ты женишься на принцессе? Еще одно такое слово, и ты отправишься в изгнание. А теперь слушайте все. Я почти склоняюсь к тому, чтобы объявить мою дочь, царственную принцессу, единственной наследницей трона, ибо вижу в ней больше силы и мудрости, чем в ком-либо другом из моего рода.
— Если такова воля фараона, пусть будет, как хочет фараон, — смиренно сказал Сети. — Я вполне сознаю, что недостоин столь высокого положения, и клянусь всеми богами, что моя возлюбленная сестра не найдет более верного подданного, чем я.
— Ты хочешь сказать, Сети, — прервала его Таусерт, — что ты охотнее откажешься от своего права на двойную корону, чем женишься на мне? Поистине, я польщена. Сети, кто бы из нас ни царствовал, я не выйду за тебя замуж.
— Какие слова я слышу! — вскричал Мернептах. — Есть ли в этой стране хоть один, кто посмеет сказать, будто можно ослушаться приказа фараона? Запишите, писцы, а вы, чиновники, объявите народу от Фив до самого моря, что через три дня ровно в полдень в храме Хатхор в этом городе принц и царский наследник Сети Мернептах, Любимец Ра, женится на царственной принцессе Египта, Лилии любви, Любимице Хатхор, Таусерт, что приходится дочерью мне — богу.
— Жизнь! Кровь! Сила! — вскричал весь двор.
Затем какой-то высокопоставленный сановник подвел принца Сети к трону, а другой подвел к нему принцессу Таусерт, так что оба оказались рядом, вернее — лицом друг к другу. По старинному обычаю принесли золотую чашу и наполнили ее красным вином — оно напомнило мне кровь. Таусерт взяла чашу и, опустившись на колени, передала ее принцу, который отпил из нее и вернул ее принцессе, чтобы она также отпила вина в знак торжественного обручения. Не та ли сцена выгравирована на широких браслетах из золота, которые впоследствии Сети надевал, сидя на троне, — те же самые браслеты, которые я еще позже надел своими руками на запястья мертвой Таусерт.
Потом Сети протянул руку, и Таусерт коснулась ее губами, а он, наклонившись, поцеловал ее в лоб. Наконец фараон, спустившись на последнюю ступеньку трона, дотронулся скипетром сперва до головы принца, потом до головы принцессы, благословляя их обоих от своего имени, от имени своего Ка, или двойника, и от имени духов и Ка всех предков, царей и цариц Кемета, утверждая таким образом их право наследовать ему после того, как он отойдет в лоно богов.
Закончив обряд, он торжественно удалился, сопровождаемый толпой придворных, в то время как его телохранители шли впереди и позади него. Он опирался на руку принцессы Таусерт, которую любил больше всех на свете.
Некоторое время спустя я стоял наедине с принцем в его комнате, в которой увидел его впервые.
— Вот все и кончено, — произнес он веселым тоном, — и скажу тебе, Ана, что я совершенно счастлив. Тебе когда-нибудь случалось дрожать от холода на берегу реки в зимнее утро, боясь зайти в воду, а потом, когда ты наконец входил, не испытывал ли ты удовольствия, чувствуя, что ледяная вода освежает тебя и тебе уже не холодно, а жарко?
— Да, принц. Вот когда выходишь из воды и дует ветер и нет солнца — тогда тебе еще холоднее, чем было вначале.
— Верно, Ана. И поэтому не следует выходить из воды. Нужно оставаться там, пока не утонешь или пока тебя не сожрет крокодил. Но скажи, я хорошо держался?
— Старый Бакенхонсу Сказал мне. принц, что он присутствовал при многих царских обручениях — кажется, он упомянул одиннадцать — и не помнит ни одного, которое прошло бы с таким достоинством и тактом. Он сказал также, что то, как ты поцеловал в лоб ее высочество, было совершенством, как и все твое поведение после первого твоего возражения.
— И таким бы оно и осталось, Ана, если бы меня не заставили делать нечто большее, чем поцеловать ее в лоб, — ведь к этому я привык с детства. О, Ана, — добавил он почти со стоном, — ты уже становишься таким же придворным, как все они, придворным, который не может сказать правду. Впрочем, я ведь тоже не могу, так зачем же упрекать тебя? Расскажи мне еще раз о твоей женитьбе, Ана, о том, как все началось и чем кончилось.
V. Пророчество
Не знаю, виделся ли снова принц Сети с Таусерт до свадьбы, ибо он никогда не говорил со мной на эту тему. Да меня и не было там при этом событии: мне было позволено вернуться в Мемфис, чтобы устроить свои дела и продать дом, поскольку я был назначен личным писцом его высочества. Так прошло целых четырнадцать дней после обряда обручения, прежде чем я снова оказался перед входом во дворец принца. Меня сопровождал слуга, который вел осла, нагруженного всеми моими рукописями и другим имуществом, которое перешло ко мне от моих предков. Прием, оказанный мне на этот раз, был совсем иным, нежели при первом моем появлении. Не успел я подняться на ступени, как появился старый камергер Памбаса, сбежав вниз мне навстречу с такой поспешностью, что его белые одежды и борода пришли в некоторый беспорядок.
— Привет тебе, высокоученый писец, высокочтимый Ана, — проговорил он, задыхаясь. — Очень рад видеть тебя, ибо его высочество каждый час спрашивает, не вернулся ли ты, и бранит меня за то, что тебя ещё нет. Поистине, задержись ты в пути еще на один день, он послал бы меня на поиски, — я и так выслушал немало резких слов за то, что не послал с тобой охрану, — как будто визирь Нехези оплатил бы хоть одного стражника без специального приказа фараона. О, светлейший Ана, удели мне хоть частицу чар, которыми ты, несомненно, завоевал любовь нашего царственного господина, и я хорошо заплачу тебе за это.
— С удовольствием, Памбаса. Вот секрет! Пиши лучшие рассказы, чем пишу я, вместо того, чтобы пересказывать их, и он полюбит тебя больше, чем меня. Но скажи — как прошла свадьба? Я слышал, что все было великолепно.
— Великолепно? Как будто бог Осирис снова венчался с богиней Исидой в небесных чертогах. Его высочество, жених, был одет так же, как бог, — да, в одеждах и священных украшениях Амона. А процессия! А пир, который устроил фараон! Принц был так переполнен радостью и всем этим великолепием, что еще до конца торжества я заметил, что он сидит с закрытыми глазами, ослепленный блеском: золота и бриллиантов и красотой своей невесты. Он сам мне сказал об этом, чтобы я не подумал, будто он спит. А потом раздавали подарки, каждому из нас соответственно положению. Я получил… Ну, это неважно. И знаешь, Ана, я не забыл и про тебя. Зная, что все кончится еще до твоего возвращения, я шепнул твое имя на ухо его высочеству, предложив сохранить для тебя твой подарок.
— В самом деле, Памбаса? И что он сказал?
— Сказал, что отдаст тебе его сам. Когда же я удивился, ничего не видя у него в руках, он добавил: «Вот он», — и показал на кольцо небольшой ценности с гравированной надписью «Любимец Тота и Царя». Мне кажется, он просто хочет снять его, чтобы надеть другое, гораздо красивее, которое подарила ему ее высочество.
Тем временем рабы разгрузили и увели осла. Мы прошли через передний зал, где как всегда было много людей, во внутренние покои дворца.
— Сюда, — сказал Памбаса. — Мне приказано провести тебя к принцу, где бы он ни был, а он сейчас сидит с ее высочеством в переднем зале, где они принимали поздравления посланцев из дальних городов. Последние отбыли с полчаса назад.
— Но сперва я должен переодеться, почтеннейший Памбаса, — начал было я.
— Нет, нет, приказано срочно, я не смею ослушаться. Входи же, — и он эффектно, но учтиво отдернул дорогой занавес.
— Клянусь Амоном, — услышал я усталый возглас и сразу узнал голос принца, — еще какие-нибудь сановники или жрецы. Приготовься, сестра, приготовься!
— Прошу тебя, Сети, — ответил другой голос, голос Таусерт, — приучись называть меня надлежащим именем. Я ведь уже не сестра тебе, к тому же я сводная сестра.
— Прошу прощения, — сказал Сети. — Приготовься, Царственная Супруга, приготовься!
Теперь занавес был полностью открыт, но я стоял, не решаясь переступить порог, пыльный с дороги, растерянный и, сказать по правде, слегка дрожащий от страха перед ее высочеством. Мне видна была великолепная комната, полная света, в центре ее на одном из двух поставленных рядом стульев, украшенных резьбой и золотом, сидела в пышном одеянии ее высочество, безупречно прекрасная и спокойная. Она сосредоточенно рассматривала раскрашенный свиток, оставленный, очевидно, последними посланцами, ибо другие подобные свитки были аккуратно сложены на столе.
Второй стул был свободен, ибо принц беспокойно ходил взад и вперед по комнате; его парадный наряд был в некотором беспорядке, золотая повязка с уреем сдвинулась со лба, потому что принц имел привычку взъерошивать в задумчивости волосы. Поскольку я стоял в тени занавеса, где Памбаса меня оставил, меня не видели, и разговор продолжался.
— Я-то готова, муж мой. А вот ты, прости меня, выглядишь не так, как должно. Почему ты отослал писцов и приближенных до того, как церемония закончилась?
— Потому что они утомили меня, — сказал Сети, — своими непрерывными поклонами, восхвалениями и формальностями.
— Не вижу в них ничего особенного. А теперь придется вернуть их обратно.
— Кто там? Входите! — крикнул принц. Тогда я вошел и простерся перед ним ниц.
— Как! — воскликнул он. — Это Ана! Вернулся из Мемфиса! Подойди поближе, Ана, и тысячу раз добро пожаловать. Знаешь, я ведь принял тебя за какого-нибудь жреца или правителя какого-нибудь нома21, о котором я никогда не слышал.
— Ана! Какой Ана? — спросила принцесса. — Ах да, тот самый писец. Сразу видно, что он вернулся из Мемфиса, — и она окинула взглядом мою пыльную одежду.
— Царственная принцесса, — пробормотал я в замешательстве, — не брани меня за то, что я предстаю перед тобой в таком виде. Памбаса привел меня сюда против моей воли по приказу принца.
— Это верно? Скажи, Сети, этот человек принес важные вести из Мемфиса, раз ты так спешил его увидеть?
— Да, Таусерт, по крайней мере так мне кажется. Твои записи в порядке и при тебе, Ана?
— В полном порядке, принц, — ответил я, хотя и не знал, о каких записях он говорит, разве что о моих рукописях.
— В таком случае, мой господин, я не буду мешать тебе заниматься вестями из Мемфиса и его записями, — сказала принцесса.
— Да, да. Мы должны поговорить о них, Таусерт. А также о миссии в страну Гошен, куда Ана отправляется со мной завтра.
— Завтра! Но ведь только сегодня утром ты сказал, что выезжаешь через три дня.
— В самом деле, сестра — то есть, жена? Значит, я просто не был уверен, успеет ли Ана вернуться из Мемфиса. Ведь он должен сопровождать меня в моей колеснице.
— Писец — в твоей колеснице? Право же, было бы уместнее, чтобы с тобой ехал твой двоюродный брат Аменмес.
— К Сету Аменмеса! — воскликнул он. — Как будто ты не знаешь, Таусерт, что мне противен этот человек с его хитрой, но пустой болтовней.
— Вот как! Прискорбно слышать. Потому что, уж если ты кого-то ненавидишь, ты не умеешь этого скрыть, а Аменмес может быть опасным врагом. Ну, ладно, если не Аменмес (которого я, кстати сказать, ненавижу), то есть еще Саптах.
— Благодарю покорно. Я не сяду в одну колесницу с шакалом.
— С шакалом! Я не люблю Саптаха, но назвать отпрыска царской крови шакалом! Ну, наконец, есть визирь Нехези или начальник эскорта — забыла его имя.
— Не думаешь ли ты, Таусерт, что я жажду побеседовать об экономике государства с этим старым денежным мешком или слушать хвастливые рассказы полуобразованного нубийского мясника о подвигах, которых он не совершал?
— Не знаю, муж мой. Но о чем ты будешь говорить с этим Аной? О стихах и о всяких глупостях, я думаю. Или, может быть, о Мерапи, Луне Израиля, которую, как я понимаю, вы оба считаете красавицей. Ну, в общем, делай как хочешь. Ты говорил, что я не должна сопровождать тебя в этой поездке, — я, твоя молодая жена, а теперь, оказывается, ты хочешь взять вместо меня какого-то сочинителя рассказов, которого подобрал всего несколько дней назад, — твоего близнеца в боге Ра! Счастливого пути, мой господин! — И она поднялась со стула, оправляя обеими руками свои пышные одежды. Теперь рассердился Сети.
— Таусерт, — сказал он, топнув ногой, — тебе не следовало говорить такие слова. Ты прекрасно знаешь, что я не беру тебя с собой потому, что поездка может быть опасной. Более того, так хочет фараон.
Она обернулась и сказала с холодной учтивостью:
— Ну, тогда прости, и спасибо за трогательную заботу о моей безопасности. Я не знала, что эта миссия может быть опасной. Так ты последи, Сети, чтобы с писцом Аной не случилось ничего плохого.
С этими словами она поклонилась и исчезла за занавесом.
— Ана, — сказал Сети, — сосчитай, а то у меня не получится так быстро, сколько минут осталось до четырех часов завтрашнего утра, когда я велю подать мою колесницу? И еще: ты не знаешь, можно ли уехать через Сирию? А если нет, то через пустыню в Фивы и вниз по Нилу весной?
— О мой принц, мой принц! — сказал я. — Молю тебя, отпусти меня совсем. Позволь мне куда угодно уйти, лишь бы подальше от языка ее высочества.
— Странно, как одинаково мы обо всем думаем, даже о Мерапи и о языках царственных дам. Слушай мой приказ: никуда ты не уйдешь. Если встанет вопрос об уходе, то первыми уйдут другие. Больше того, ты и не можешь уйти, ты должен остаться и нести свое бремя, как я несу свое. Вспомни разбитую чашу, Ана.
— Я помню, мой принц, но лучше бы меня высекли розгами, чем такими словами, как те, что я должен выслушивать.
Однако в эту же ночь, после того как я оставил принца, мне суждено было выслушать более приятные слова от той же самой изменчивой, а может быть — очень хитрой царственной дамы. Она прислала за мной, и я пошел, мучаемый страхом. Я застал ее одну в маленькой комнате; правда, в другом конце комнаты сидела старая придворная дама, но она была явно глухая, что, возможно, и было причиной, почему выбор пал на нее. Таусерт очень учтиво пригласила меня сесть против нее и обратилась ко мне со следующими словами — не знаю, говорила ли она перед этим с принцем или нет.
— Писец Ана, прошу простить меня, если сегодня, от усталости или в раздражении, я сказала тебе и про тебя то, о чем сейчас жалею. Я знаю, ведь ты, в ком течет благородная кровь Кемета, не разгласишь то, что слышал в этих стенах.
— Я скорее дам отрезать себе язык, — сказал я.
— Видимо, писец Ана, мой повелитель-принц проникся большой к тебе любовью. Как и почему это вдруг случилось — ведь ты не женщина — мне непонятно, но я уверена, что раз это так, значит в тебе есть что-то такое, за что можно любить тебя, ибо я никогда не видела, чтобы принц проявлял столь глубокое уважение к человеку, который бы не был благородным и достойным. При таком положении вещей совершенно ясно, что ты станешь любимцем его высочества, человеком, которому поверяют свои думы, и что он будет высказывать тебе самые сокровенные мысли, может быть даже такие, которые он скрывает от советников фараона и даже от меня. Короче говоря, ты станешь влиятельным человеком в стране, может быть даже самым могущественным — после фараона — хотя с виду останешься только личным писцом.
Не стану притворяться, будто мне этого хотелось бы, — я бы хотела, чтобы у моего мужа был только один настоящий советчик — я сама. Но видя, как обстоят дела, я склоняю голову и надеюсь, что это все к лучшему. Если когда-нибудь, поддавшись ревности, я скажу тебе что-нибудь резкое, как сегодня, прошу тебя заранее простить меня за то, что еще не случилось. Прошу тебя, писец Ана, постарайся сделать все возможное, чтобы благотворно влиять на принца, — ведь он так легко идет за теми, кого любит. И пожалуйста, — ты ведь умный и вдумчивый, — вникни в государственные дела и в интересы нашего царственного дома, чтобы направлять принца по верному пути, если он обратится к тебе за советом. А если будет нужно, приходи ко мне, и я объясню все, что тебе покажется непонятным.
— Я сделаю все, что в моих силах, о принцесса, — хотя кто я такой, чтобы прокладывать дорогу, по которой должны ступать цари? И потом, я думаю, что при всей мягкости его натуры принц такой человек, который, в конечном итоге, всегда сам выбирает свой путь.
— Может быть, ты и прав, Ана. Во всяком случае, спасибо тебе. И поверь, что во мне ты всегда найдешь не врага, а друга, хотя по вспыльчивости своей натуры я не всегда владею собой, и это могло бы навести тебя на иные мысли, а теперь я скажу тебе еще одну вещь, только пусть это будет между нами. Я знаю, что принц любит меня скорее как друга и сестру, чем как жену, и что сам он никогда бы не подумал жениться на мне — что, может быть, и естественно. Знаю и то, что в его жизни будут и другие женщины, хотя возможно их будет меньше, чем у большинства царей, потому что понравиться ему довольно трудно. Я не жалуюсь, ибо таков обычай нашей страны. Я боюсь только одного — что какая-нибудь женщина перестанет быть его игрушкой, завладеет его сердцем и полностью подчинит его себе. В этом, Ана, я прошу твоей помощи, как и в других делах, ибо я хотела бы во всех отношениях, а не только по имени быть владычицей Кемета.
— О принцесса, как же я могу сказать принцу — «Люби ту или другую женщину лишь настолько — и не больше»? И почему ты боишься того, чего нет и возможно никогда не случится?
— Я и сама не знаю, как ты это скажешь ему, писец, но все-таки прошу тебя — скажи, если сможешь. А почему я боюсь? Потому что мне кажется, будто на меня падет холодная тень какой-то женщины и воздвигнет черную стену между его высочеством и мной.
— Это всего лишь мнительность, о принцесса.
— Может быть. Надеюсь, что так. И все же думаю иначе. О, Ана, неужели ты, изучивший сердца мужчин и женщин, не можешь понять мое положение? В замужестве я не могу надеяться, что меня будут любить как других женщин, — я жена и все же не жена. Я вижу, ты думаешь: зачем же тогда ты вышла замуж? Что ж, я уже столько тебе рассказала, что скажу и об этом. Во-первых, потому что принц совсем не такой, как другие мужчины, и по-своему выше их, — да, намного выше любого, за кого я, наследная принцесса Египта, могла бы выйти замуж. Во-вторых, если мне не суждено быть любимой, что мне остается, кроме честолюбия? По крайней мере, я хотела бы стать великой царицей и вызволить мою страну из пучины бед, в которую она погрузилась, и написать свое имя в книгах истории, а это я могла бы сделать, только взяв в мужья наследника фараона, как велит мне мой долг.
Она задумалась и потом добавила:
— Ну вот, я раскрыла тебе все мои мысли. Насколько это мудро, знают одни боги и покажет время.
— О принцесса, — сказал я, — благодарю тебя за доверие. Постараюсь помочь тебе, если смогу, но я смущен. Я, скромный человек, хотя и благородной крови, который еще совсем недавно был всего лишь писцом и ученым, мечтатель, познавший горе утрат, внезапно волей случая или божественным велением вознесен до дружеского расположения наследника Египта и, кажется, завоевал даже твое доверие. Как мне вести себя в этом новом положении, к которому я воистину никогда не стремился?
— Не знаю, у меня самой достаточно сложностей и огорчений. Но несомненно, божественное веление, о котором ты говоришь, предопределило и то, чем все это кончится. А пока хочу сделать тебе подарок. Скажи, писец, ты когда-нибудь владел каким-нибудь оружием, кроме пера?
— Да, принцесса, еще мальчиком я научился владеть мечом. Кроме того, хотя я и не люблю войн и кровопролития, несколько лет назад я сражался в великой битве против варваров, когда фараон призвал молодых людей Мемфиса выполнить свой долг. В честном поединке я убил двоих собственными руками, хотя один из них чуть меня не прикончил. — И я показал шрам, который просвечивал сквозь мои седые волосы в том месте, куда угодило вражеское копье.
— Это хорошо. Я больше люблю солдат, чем марателей папируса. Подойдя к шкафу из раскрашенных камней, она достала из него удивительную рубашку, сплетенную из бронзовых колец, и кинжал, тоже из бронзы, с золотой рукояткой, которая заканчивалась изображением львиной головы, и подала их мне, говоря:
— Это трофеи, которые мой дед, Рамсес Великий, захватил, сражаясь в молодости с принцем Хитой, — он убил Хиту своими руками в той самой битве в Сирии, о которой твой дед сочинил стихи. Носи эту кольчугу, которую не пробьет ни одно копье, под своей одеждой.
А этим кинжалом опояшешься, когда вы окажетесь среди израильтян, — я им не верю. Я и принцу дала такую же кольчугу. Вмени себе в обязанность следить, чтобы он носил ее днем и ночью. Пусть твоей обязанностью будет также защищать его при необходимости этим кинжалом. А теперь прощай.
— Пусть все боги прогонят меня из Полей Иалу22, если я обману твое доверие, — ответил я и удалился, дивясь обороту событий и надеясь хоть немного поспать. Однако вышло так, что эта возможность представилась мне лишь спустя некоторое время.
Ибо, пройдя по коридору вслед за одной из служанок, кого я увидел в конце его, как не Памбасу, который поджидал меня, чтобы сообщить, что принцу необходимо мое присутствие. Я спросил, возможно ли это, ведь он сам отослал меня на ночь. Памбаса ответил, что знает только одно: ему приказано провести меня в комнату принца, ту самую, где я впервые увидел его высочество. Туда я и явился и нашел там принца, который грелся у очага, ибо ночь была холодная. При виде нас он велел Памбасе отослать прочь всех слуг, потом, заметив у меня в руках бронзовую кольчугу и кинжал, точнее короткий меч, сказал:
— Ты был у принцессы, не правда ли, и она имела с тобой долгий разговор. Догадываюсь, о чем, я ведь знаю ее повадки с самого детства. Она велела тебе следить за мной, истинная правда, включая тело и душу и все, что исходит от души, — о, и многое другое. Она дала тебе эти сирийские трофеи, чтобы ты их носил, когда мы будем среди израильтян, — она и мне их вручила, она такая осторожная и предусмотрительная! А теперь слушай, Ана. Мне очень жаль лишать тебя отдыха, ведь ты устал с дороги и от всех этих разговоров, но нас ждет старый Бакенхонсу, которого ты знаешь, а с ним великий маг Ки, по-моему, ты его еще не видел. Это человек удивительных знаний, и в некотором смысле в нем есть даже что-то нечеловеческое. По крайней мере он совершает странные акты волшебства, и временами кажется, что его взору открыты и прошлое и будущее, — хотя кто знает, правильно ли он их видит, ведь мы не знаем ни того ни другого. Несомненно, он несет — или думает, что несет, — мне какую-то весть, ниспосланную небом, и я подумал, что ты тоже захочешь ее услышать.
— Очень хочу, принц, если я этого достоин и если защитишь меня от гнева этого чародея, — его я боюсь.
— Иногда гнев переходит в доверие, Ана. Разве ты только что не испытал этого в случае с ее высочеством? Я же говорил тебе, что это может случиться. Тише. Они идут. Садись и приготовь свои вощеные дощечки, чтобы записать то, что они скажут.
Занавеси раздвинулись, и вошел престарелый Бакенхонсу, опираясь на свой посох, а за ним другой человек, сам Ки, в белом одеянии и с бритой головой, ибо он был наследственным жрецом храма Амона в Фивах и посвящен в таинства Исиды. Кроме того, он занимал должность керхеба, или главного мага Кемета. На первый взгляд в этом человеке не было ничего необычного. Напротив, по внешности его легко было бы принять за пожилого купца; он был тучен и низкого роста, с ожиревшим и улыбающимся лицом. Но на этом веселом лице очень странными казались его глаза, скорее серые, чем черные. В то время как лицо словно улыбалось, эти глаза смотрели в пустоту, в ничто, как смотрят глаза статуи. Они и в самом деле напоминали глаза или, скорее, глазницы каменной статуи — так глубоко они были посажены. Я лично могу только сказать, что они вызывали во мне благоговейный ужас, и я решил, что кем бы Ки ни был, во всяком случае он не шарлатан.
Эта странная пара поклонилась принцу и по его знаку каждый сел — Бакенхонсу на стул, так как ему трудно было бы потом встать, а Ки, который был моложе, — на пол в позе писца.
— Ну, что я тебе говорил, Бакенхонсу? — произнес Ки звучным глубоким голосом, закончив фразу странным смешком.
— Ты сказал мне, маг, что я найду принца именно в этой комнате, которую, как я теперь вижу, ты описал во всех подробностях, хотя мы никогда тут не были. А еще ты сказал, что здесь будет писец Ана, — он будет сидеть на полу, имея при себе вощеные дощечки и стило — палочку для письма, и странную рубашку из бронзовой сетки, и меч с рукояткой в виде льва.
— Как странно, — произнес принц, — но прости меня, если я скажу, что Бакенхонсу видит все эти вещи. Если бы ты, о Ки, сказал нам, что написано на дощечках Аны, то есть чего никто из нас не может видеть, это было бы еще более странным, — если, конечно, на них что-нибудь написано.
Ки усмехнулся и устремил глаза в потолок. Спустя мгновение он сказал:
— Писец Ана пользуется собственным кодом, расшифровать его нелегко. И все-таки я вижу, что там написана сумма, полученная им за какой-то дом в каком-то городе, который не назван. Также — сумма, которую он уплатил за себя, за слугу и за корм для осла на каком-то постоялом дворе, где останавливался во время путешествия. Столько-то и столько-то. Кроме того, там есть перечень свитков папируса и слова «синий плащ», а потом что-то стерто.
— Это верно, Ана? — спросил принц.
— Совершенно верно, — ответил я в страхе, — только слова «синий плащ», записанные на дощечке, я потом тоже стер.
Ки усмехнулся и перевел взгляд с потолка на мое лицо.
— Может быть, твое высочество пожелает, чтобы я сказал что-нибудь из того, что написано на дощечках его памяти, а не только на вощеных дощечках, которые он держит в руке? Их-то расшифровать легче, чем другие, и я вижу на них много интересного. Например, слова, которые, видимо, были сказаны ему по секрету одной высокой особой час тому назад, слова государственного значения, как я думаю. Или определенное высказывание — по-моему, твоего высочества, насчет того, как холодная дрожь, которая охватывает стоящего на берегу реки в холодный день, переходит в ощущение теплоты, когда тот входит в воду, — и ответ на это высказывание. Или слова, произнесенные в этом дворце, когда была разбита алебастровая чаша. Кстати, писец, ты выбрал очень удачное место, чтобы спрятать свою половинку разбитой чаши, — в ящике с двойным дном, который стоит в твоей комнате; этот ящик обвязан шнурком и запечатан скарабеем времен Рамсеса. Думаю, что вторая половинка чаши немного ближе. — И повернувшись, он посмотрел на стену, где я не видел ничего, кроме алебастровых плит.
Я сидел, открыв рот от изумления, ибо как мог этот человек узнать про все эти вещи? А принц засмеялся и сказал:
— Ана, я начинаю думать, что ты плохо держишь доверенные тебе секреты. По крайней мере, я бы так подумал, если бы не то, что у тебя просто не было времени передать кому-либо слова принцессы. И что ты едва ли знаешь трюк со скользящей панелью в этой стене — ведь я никогда не показывал тебе этот тайник.
Ки снова усмехнулся, и даже на широком морщинистом лице Бакенхонсу появилась улыбка.
— О принц, — начал я, — клянусь тебе, что я никогда не обмолвился ни одним словом.
— Знаю, друг, — прервал меня принц, — но, очевидно, есть другие, кому не нужно слов, ибо они умеют читать Книгу Мыслей. Поэтому лучше не встречаться с ними слишком часто, поскольку все люди имеют мысли, которые должны быть известны только им да богам. Маг, с чем ты пришел ко мне? Говори, как если бы мы были одни.
— Хорошо, принц. Ты отправляешься в страну к израильтянам — об этом уже все прослышали. Так вот, Бакенхонсу и я, любя тебя и зная, как много значит для Кемета твое благополучие, а также еще два ясновидца из моей школы, независимо друг от друга, постарались проникнуть в будущее и узнать, чем кончится твое путешествие. Хотя то, что мы узнали, разнится в деталях, но в основном оно совпадает. Поэтому мы сочли своим долгом рассказать тебе то, о чем мы узнали.
— Продолжай, керхеб.
— Итак, первое: жизни твоего высочества угрожает опасность.
— Жизни всегда угрожает опасность, Ки. Я с ней расстанусь? Если так, не бойся, скажи прямо.
— Этого мы не знаем, но думаем, что нет, судя по остальному, что нам известно. Мы узнали, что тебе грозит не только телесная опасность. Во время своей поездки ты встретишь женщину, которую полюбишь. Мы думаем, что эта женщина принесет много горя, а также много радости.
— Тогда, пожалуй, стоит туда поехать, Ки, ведь многие едут гораздо дальше. Скажи, я встречал эту женщину?
— Здесь мы несколько смущены, принц, ибо нам кажется, если, конечно, мы не обманываемся, что ты встречал ее, и не раз; что ты знаешь ее уже тысячи лет, так же как я этого человека, что сидит сейчас рядом с тобой.
Лицо Сети выражало глубокий интерес.
— Что ты имеешь в виду, маг? — спросил он, впиваясь в него взглядом. — Как могу я, человек еще молодой, знать женщину или мужчину тысячи лет?
Ки сосредоточенно посмотрел на него своими странными глазами и ответил:
— У тебя много имен, принц. Но есть одно из них — Вновь Возрождающийся?
— Да, это так. Не знаю, что это значит, но меня назвали так из-за какого-то сна, который приснился моей матери перед моим рождением. Это ты должен сказать мне, что это значит, поскольку ты так много знаешь.
— Не могу, принц. Эта тайна — не из тех, что мне открыты. Однако был один старик, тоже маг, как и я, у которого я в молодости многому научился, — Бакенхонсу хорошо знал его. Он говорил мне, — потому что ему это открылось — что люди не живут только один раз, чтобы потом навеки уйти из жизни. Он сказал, что они живут много раз и во многих формах и образах, хотя и не всегда в этом мире, и что каждая из жизней отделена от другой стеной тьмы.
— Но если это так, какой толк в жизнях, которые мы не помним, когда смерть закрывает дверь за каждой из них?
— В конце концов двери могут открыться, принц, и мы увидим всю анфиладу, через которую прошли, от самого начала до самого конца.
— Наша религия, Ки, учит нас, что после смерти мы вечно будем жить в нашей собственной плоти, которую мы обретаем в день Воскресения. А вечность, не имея конца, не может иметь и начала — это круг. Поэтому если верно одно, то есть — что мы продолжаем жить, то, очевидно, должно быть верно и другое, то есть, что мы всегда жили.
— Ты хорошо рассуждаешь, принц. В старые времена, еще до того, как жрецы заключили человеческую мысль в каменные блоки и построили на них святилища для тысячи богов, многие считали такое рассуждение правильным, ибо тогда они считали, что есть только один бог.
— Как считают эти израильтяне, которых я собираюсь посетить. Что ты скажешь об их боге, Ки?
— Что он и наши боги — одно и то же, принц. В глазах людей бог имеет много лиц, и каждый клянется, что тот бог, которого видит он, — единственный истинный бог. Однако они ошибаются, ибо все боги — истинны.
— А может быть, ложны, Ки, — разве что даже ложь есть часть истины. Ну, ладно. Ты сказал мне о двух опасностях: одна угрожает моему телу, другая — сердцу. Может быть, твоей мудрости открыта еще какая-нибудь третья?
— Да, принц. Третья опасность в том, что эта поездка может в конце концов стоить тебе трона.
— Если я умру, я, конечно, потеряю трон.
— Нет, принц, — если ты будешь жить.
— Даже если так, Ки, я мог бы, думаю, вынести жизнь, занимая и более скромное место, чем трон. Другое дело, вынесла ли бы такую жизнь ее высочество. Так ты говоришь, что, если я поеду в страну Гошен, фараоном буду не я, а другой.
— Мы не говорим этого, принц. Верно, что наше искусство явило нам другого на твоем месте — это будет время проклятий и чудес, и гибели тысяч людей. Но когда мы смотрим еще раз, мы видим не другого, а тебя — ты снова занимаешь это место.
Тут я, Ана, вспомнил о видении, которое явилось мне в зале
фараона.
— Это даже хуже, чем я думал, Ки, ибо расставшись с короной, я бы наверно не захотел надеть ее снова, — сказал Сети. — Кто показывает вам все эти вещи и как?
— Наши Ка — наши тайные Я, о принц. Они показывают нам эти вещи многими способами. Иногда через сны и видения, иногда — в виде картин на поверхности воды, а иногда в письменах на песке пустыни. Всеми этими способами и множеством других наши Ка, черпая из бесконечного источника мудрости, который скрывается в существе всякого человека, позволяют нам улавливать проблески истины, так же как они даруют нам, посвященным, способность творить чудеса.
— Проблески истины. Значит, все, о чем ты говорил мне, — истинно?
— Мы так полагаем, принц.
— И будучи истинным, должно свершиться. Так какой же смысл предупреждать меня о том, что должно свершиться? Двух истин быть не может. Что я, по-вашему, должен делать? Отказаться от этой поездки? Почему вы сказали, что я должен ехать, — ведь если бы я не поехал, истина стала бы ложью, а это невозможно. Вы говорите мне, что мое путешествие предопределено свыше и что, если я поеду, свершится то-то и то-то. И однако велите мне не ехать, ибо именно таков смысл ваших речей. О керхеб Ки и Бакенхонсу, вы, несомненно, великие маги и мудрецы, но есть более великие, чем вы, и они правят миром, и есть мудрость, перед которой ваша мудрость — лишь капля воды перед Сихором. Благодарю вас за предостережение, но завтра утром я еду в страну Гошен выполнить приказ фараона. Если я вернусь, мы поговорим об этих вопросах более подробно здесь, на земле. Если не вернусь, — кто знает? — возможно, мы побеседуем о них где-то в другом месте. Прощайте.
VI. Страна Гошен
Принц Сети и вся его свита — весьма большая компания — благополучно прибыли в страну Гошен; я, Ана, ехал с ним в его колеснице. Тогда, как и теперь, это была плодородная земля, совершенно ровная за последней цепью пустынных холмов, меж которыми мы проехали по узкой извилистой тропе. Повсюду эта земля орошалась каналами, а между ними расстилались только что засеянные хлебные поля. Были и другие поля, покрытые зелеными травами, на которых пестрели сотни животных, стреноженные или на привязи, а на более сухих местах паслись стада овец. Город Гошен — если его можно так назвать — оказался неприглядным скоплением построенных из ила хижин, в центре стояло здание, тоже из ила, с двумя кирпичными колоннами перед фасадом; нам сказали, что это храм и что лишь верховный жрец может входить в него, точнее в его внутреннее святилище. При виде этого храма я засмеялся, но принц упрекнул меня, сказав, что нельзя судить о духе по его телу или о боге по его дому.
Мы разбили лагерь за чертой этого города и вскоре узнали, что его население, как и население любых других городов, насчитывает не менее десятка тысяч, ибо посмотреть на нас стекалось больше народу, чем я мог сосчитать. У мужчин были свирепые глаза и носы с горбинкой; молодые женщины отличались хорошими фигурами и привлекательной внешностью; женщины постарше выглядели толстыми и неуклюжими в своем большинстве; дети были чрезвычайно красивы.
Все были облачены в грубоватые широкие одеяния из неплотно сотканной материи темного цвета, под которыми женщины носили еще одежду из белого льняного полотна. Несмотря на обилие хлебов и скота, какое мы видели вокруг, украшения этих людей выглядели весьма скудно, а может быть, их просто припрятали подальше от наших глаз.
Легко было заметить, что они ненавидят нас, египтян, и даже дерзают презирать нас. Ненависть сверкала в их блестящих глазах, и я услышал, как они называли нас между собой идолопоклонниками и спрашивали, где же наш бог — бык, ибо в своем неведении они считали, что мы поклоняемся Апису23 (как, возможно, и делают некоторые люди из простонародья), тогда как мы смотрим на это священное животное как на символ могучих сил Природы. Они дерзнули даже на большее: в первую ночь после нашего прибытия они убили быка, напоминающего по масти Аписа, и утром мы обнаружили его близ ворот лагеря, а на нем — приколотых к его шкуре острыми шипами и еще живых навозных жуков. Ибо и тут они знали, что у нас, египтян, этот жук вовсе не бог, а эмблема Создателя24, ибо он скатывает лапками шарик из ила и навоза и откладывает в него личинки, так же как и Создатель скатывает мир, который кажется круглым, и заставляет его творить жизнь.
Эти оскорбления возмутили всех, и только принц засмеялся и сказал, что эта шутка кажется ему грубой, но умной. Однако худшее было впереди. По-видимому, один из солдат, налившись вином, оскорбил иудейскую девушку, которая пришла одна к каналу за водой. Весть об этом разнеслась по округе, и тысячи людей сбежались к лагерю, крича и требуя возмездия с такой угрожающей яростью, что нам пришлось сформировать отряды охраны.
Принц приказал пропустить в лагерь девушку и ее родню, чтобы они могли предъявить свои обвинения. Она явилась, с плачем и воплями разрывая на себе одежду и осыпая голову пылью, хотя оказалось, что солдат не причинил ей большого вреда, так как она от него убежала. Принц велел ей указать, кто из солдат ее обидел, и она показала на одного из телохранителей Аменмеса, лицо которого было покрыто царапинами, похожими на следы женских ногтей. Подвергнутый допросу, он сказал, что плохо помнит о том, что было, но признался, что видел ночью у канала эту девушку и шутил с ней.
Родственники девушки требовали казни солдата, утверждая, что он нанес оскорбление знатной даме Израиля. Сети отклонил их требование, говоря, что смерть — несоразмерная кара для подобного преступления, но что он прикажет подвергнуть оскорбителя публичной порке. Услышав это, Аменмес, любивший своего телохранителя, который навеселе допускал проступки, а не навеселе был в сущности неплохим человеком, пришел в страшную ярость и заявил, что никто не смеет тронуть хоть одного из его слуг только потому, что тот захотел приласкать какую-то легкомысленную израильтянку, которой нечего было шататься одной в темную ночь. Он добавил, что если его солдата накажут, то он и все, кто под его командой, немедленно покинут лагерь и отправятся обратно, чтобы доложить обо всем фараону.
Тогда принц, поговорив со своими советниками, сказал женщине и ее родне, что, поскольку зашла речь об обращении к фараону, он и будет судьей в этом деле, и приказал им явиться к царскому двору через месяц и предъявить свой иск против солдата. Они ушли крайне неудовлетворенные, сказав, что Аменмес нанес их дочери еще более тяжкое оскорбление, чем его слуга. Все кончилось тем, что на следующую ночь телохранителя нашли мертвым со множеством ножевых ран на теле. Девушку и ее родителей и братьев обнаружить не удалось: видимо, они бежали в пустыню; не было и никаких намеков на возможного убийцу воина. Поэтому оставалось только одно — похоронить жертву.
На следующее утро принц приступил к выполнению своей миссии. Все было обставлено надлежащим образом: принц Сети и Аменмес заняли свои места во главе большого шатра, за ними расположились советники, а у их ног уселись писцы, среди которых был и я. Тут мы узнали, что оба пророка, которых мы видели при дворе фараона, покинули страну Гошен, уйдя еще до нашего прибытия в пустыню, чтобы совершить «жертвоприношения богу», и никто не мог сказать, когда они вернутся. Другие старейшины и жрецы, однако, явились и начали излагать свое дело. Они говорили пространно со свирепой, бурной страстью, часто все сразу, сильно затрудняя работу переводчиков (ибо они притворились, что не знают египетского языка).
Больше того, они начали свою историю от самых ее истоков — с тех пор, когда они сотни лет тому назад пришли в Египет и получили помощь и поддержку визиря тогдашнего фараона; этот визирь — некто Иосиф — был могущественным и умным человеком их же расы, который запасал зерно на случай голода или низкого разлива Нила. Фараон происходил из гиксосов25. Он был одним из тех царей, которых мы, египтяне, ненавидели и после многочисленных войн прогнали из страны. Под властью этих фараонов израильтяне богатели, росло их могущество, так что фараоны последующих поколений, не любившие израильтян, стали их бояться.
На этом закончился первый день слушания дела.
Второй день начался рассказом об их угнетении. Но даже в это тяжелое время для них они множились, как комары над Сихором, и стали такими сильными и многочисленными, что наконец Рамсес Великий задумал злое дело: он приказал убивать всех их младенцев мужского пола, как только они рождались на свет. Этот приказ, однако, не был приведен в исполнение, потому что за них заступилась дочь фараона, та самая, что спасла старого пророка Моисея, найдя его в камышах у берега Нила.
На этом принц, устав от шума и жары в переполненном шатре, прервал заседание до следующего дня. Велев мне сопровождать его, он приказал подать колесницу (не его собственную), и несмотря на мои старания отговорить его, выехал один без всякой охраны, не считая меня и возницы, сказав, что хочет увидеть собственными глазами, как эти люди трудятся по указу фараона.
Взяв в провожатые еврейского мальчика, который бежал перед лошадьми, указывая дорогу, мы отправились на берега канала, где израильтяне делали из ила кирпичи. После просушки на солнце кирпичи грузили на суда, ожидавшие в канале, и увозили в другие области Египта, где шло строительство по приказу фараона. На этой работе были заняты тысячи людей, трудившихся под командой египетских надсмотрщиков, которые вели учет, отмечая количество готовых кирпичей на палочках с нарезками или записывая сумму на глиняных дощечках. Эти надсмотрщики были грубые парни, большей частью из низшего класса, и, обращаясь к рабам, употребляли злобные и мерзкие выражения. Однако и этого им было мало. Заметив, что в одном месте собралась толпа, и услышав крики, мы направились туда узнать, что происходит. Здесь мы обнаружили, что на земле распростерт юноша, почти мальчик, его жестоко избивают кожаными бичами и все его тело покрыто кровью. По знаку принца я спросил, в чем он провинился, и мне грубо ответили — ибо ни надсмотрщики, ни стража не знали, кто мы, — что за последние шесть дней он сделал только половину причитающихся ему кирпичей.
— Отпустите его, — спокойно произнес принц.
— Кто ты такой, чтобы мне приказывать, — возразил старший надсмотрщик, который помогал держать юношу в то время, как стража его избивала. — Убирайся, не то я угощу тебя так же, как этого бездельника.
Сети посмотрел на него, и губы его побелели.
— Объясни ему, — сказал он мне.
— Эй ты, собака! — произнес я, задыхаясь от гнева. — Да знаешь ли ты, с кем смеешь говорить таким тоном?
— Не знаю и знать не хочу. Давай пошевеливайся, стражник! Принц, облаченный в плащ с широкими рукавами из простой материи и обычного покроя, распахнул его, открыв взорам нагрудную эмблему, которую носил при дворе, — прекрасную вещь из золота, на которой черной и красной эмалью были обозначены его царские имена и титулы. Одновременно он поднял правую руку, показывая кольцо с печаткой — знак, что он — посланник фараона. Все, ошеломленные, уставились на него, а один, более сведущий, чем другие, воскликнул:
— Клянусь богами, это его высочество, принц Кемета! При этих словах все они упали перед ним лицами вниз.
— Встань, — сказал принц мальчику, который смотрел на него, -забыв от изумления про боль, — и скажи мне, почему ты не выполнил свою долю работы.
— Господин, — зарыдав, ответил тот на ломаном египетском языке, — по двум причинам. Первая — потому что я калека, видишь? — и он поднял левую руку, тонкую и сухую, как рука мумии, — и не могу работать быстро. А вторая — потому что моя мать, у которой я единственный ребенок, вдова и лежит больная в постели, и в доме нет ни женщин, ни детей, которые могли бы пойти собирать для меня солому, как приказал фараон. И мне приходится тратить много часов, чтобы набрать соломы, ведь мне нечем платить тому, кто бы сделал это вместо меня.
— Ана, — сказал принц, — запиши имя этого юноши и место, где он живет, и, если он говорит правду, последи, чтобы нужды его и его матери были удовлетворены еще до нашего отъезда. Запиши также имена этого надсмотрщика и его товарищей и вели им завтра на рассвете явиться ко мне в лагерь для рассмотрения их дела. Скажи также мальчику, что, поскольку он обижен богами, фараон освобождает его от обязанности изготовлять кирпичи и вообще от всякой работы на государство.
Пока я выполнял все эти распоряжения, надсмотрщик и его товарищи бились головами о землю и молили о милосердии — как все жестокие люди, они были трусами. Его высочество не отвечал ни слова и только смотрел на них холодными глазами, и я заметил, что его лицо, обычно такое доброе, приняло ужасное выражение. Эти люди, видимо, подумали то же самое, ибо ночью они бежали в Сирию, бросив свои семьи и все свое имущество, и в Египте их больше никто никогда не видел.
Когда я кончил записывать, принц повернулся и, подойдя к ожидавшей его колеснице, велел вознице переехать по мосту на другую сторону канала. Мы ехали в молчании по дороге, которая бежала между возделанными землями и пустыней. Наконец я показал на заходящее солнце и спросил, не пора ли возвращаться.
— Почему? — возразил принц. — Солнце умирает, но взойдет полная луна, и будет светло. Да и чего нам бояться, если на поясе у нас мечи, а под одеждой кольчуги, которыми снабдила нас ее высочество Таусерт? О Ана! Я устал от людей, от их жестокости, криков, распрей, и мне кажется, что эта пустыня — обитель покоя, ибо здесь я чувствую, как будто я ближе к своей душе и к небу, откуда, я надеюсь, вселяется в человека душа.
— Твоему высочеству посчастливилось иметь душу, к которой он стремится приблизиться, чего нельзя сказать обо всех нас, — ответил я, смеясь, ибо мне хотелось изменить направление его мыслей и вовлечь его в спор на одну из его любимых тем.
Однако именно в этот момент наши лошади, которые были далеко не из лучших, остановились перед подъемом на песчаный холм. Сети запретил вознице бить их и велел дать им передохнуть. Тем временем мы сошли с колесницы и стали подниматься по склону; Сети опирался на мою руку. Дойдя до вершины, мы вдруг услышали рыдания и тихий голос, доносившийся с другой стороны холма. Кусты тамариска, бывшие когда-то живой изгородью, скрывали от нас плачущего.
— Еще одна жестокость или, во всяком случае, еще одно горе, — прошептал Сети. — Посмотри, кто там.
Мы осторожно приблизились к кустам тамариска и, глядя сквозь их пушистые макушки, увидели в чистом сиянии поднявшейся над пустыней луны прелестное и трогательное зрелище. Не дальше чем в пяти шагах от нас стояла женщина в белом, юная и стройная. Лица ее не было видно, потому что она отвернулась в сторону, к тому же его скрывали длинные темные волосы, ниспадавшие ей на плечи. Она молилась вслух, то на еврейском языке, который мы немного понимали, то на египетском, как человек, привыкший думать на двух языках, и ее молитва то и дело прерывалась рыданиями.
— О бог моего народа! — говорила она. — Пошли мне помощь и поддержку, чтобы твое дитя не осталось одиноким в пустыне и не стало добычей диких зверей, или людей, которые хуже, чем звери!
Тут она заплакала, опустилась на колени на большую связку соломы и снова стала молиться. На этот раз по-египетски, словно боялась, что молитву на еврейском языке могут подслушать и понять.
— О бог, — говорила она, — бог моих предков, облегчи мое бедное сердце, облегчи мое бедное сердце!
Мы хотели уйти, а еще больше спросить у нее, что ее так мучает, как вдруг она повернула голову так, что свет упал на ее лицо. Такое прелестное оно было, что у меня перехватило дыхание, а принц вздрогнул. Нет, оно было более чем прелестно, ибо так же как пламя светильника сияет сквозь стенки алебастровой чаши или жемчужной раковины, так душа этой женщины светилась сквозь черты ее заплаканного лица, делая его таинственным, как ночь. Тогда я, пожалуй, впервые понял, что именно дух, а не плоть придает истинную красоту и девушке, и мужчине. Белая ваза из алебастра, как она ни изящна, все же только ваза; и только светильник, скрытый в ней, преображает ее в сияющую звезду. А эти глаза, эти большие мечтательные глаза, полные слез и с оттенком глубокой ляпис-лазури, — о! какой мужчина мог бы увидеть их без волнения?
— Мерапи! — прошептал я.
— Луна Израиля! — пробормотал Сети. — Пронизанная луной, прекрасная, как луна, таинственная, как луна, и поклоняющаяся луне — своей матери.
— У нее несчастье, поможем ей, — сказал я.
— Нет, подожди, Ана, ведь мы с тобой никогда больше не увидим ничего подобного.
Хотя мы говорили чуть слышным шепотом, она, видимо, услышала нас. Во всяком случае, она изменилась в лице, словно испугавшись, поспешно поднялась, подхватила свою большую связку соломы и возложила ее на голову. Пробежав несколько шагов, она споткнулась и упала, слегка застонав от боли. В одно мгновение мы очутились рядом с ней. Она испуганно подняла на нас глаза, не зная, кто мы, ибо широкие капюшоны скрывали наши лица, а судя по плащам, нас можно было принять за полночных воров или работорговцев-бедуинов.
— О добрые люди, — пробормотала она, — отпустите меня. У меня нет ничего ценного, кроме этого амулета.
— Кто ты и что ты тут делаешь? — спросил принц, изменив голос.
— Господа, я Мерапи, дочь Натана Левита, которого убил в Танисе проклятый египетский капитан.
— Как ты смеешь называть египтян проклятыми? — спросил Сети нарочито грубым голосом, подавляя смех.
— О господа, потому что они… потому что я думала, вы бедуины, а они также ненавидят египтян, как мы. По крайней мере, тот египтянин был проклятый, потому что сам высокий принц Сети, наследник фараона, приговорил его к смертной казни.
— А принца Сети, наследника фараона, ты тоже ненавидишь и назвала бы его проклятым?
Она поколебалась и ответила с сомнением в голосе.
— Нет, его я не ненавижу.
— Почему же, если ты ненавидишь египтян. Ведь он среди них первый и поэтому вдвое достоин ненависти, как наследник и сын вашего угнетателя-фараона!
— Потому что, как я ни старалась, — не могу. Кроме того, — добавила она радостно, как человек, нашедший убедительное оправдание своим чувствам, — он же отомстил за моего отца.
— Это не причина, девушка, ибо он сделал только то, что велел закон. Говорят, что этот сукин сын, фараонов наследник, приехал в Гошен с какой-то миссией. Это правда? Ты его видела? Отвечай, ибо мы, люди пустыни, желаем знать точно.
— Думаю, что правда, господин, но я его не видела.
— Почему же, если он здесь?
— Потому что не хотела, господин. Почему бы дочь Израиля пожелала смотреть на лицо египетского принца?
— Говоря по правде, не знаю, — забывшись, сказал Сети своим голосом. Потом, заметив, что она пристально взглянула на него, добавил грубым тоном, — эта женщина, брат, либо лжет, либо она не кто иная, как та девушка, которую они называют Луной Израиля, — та, что живет у старого Джейбиза Левита, своего дяди. Как по-твоему?
— По-моему, брат, она лжет — и по трем причинам, — ответил я, поддерживая шутку принца, — Во-первых, у нее слишком светлая кожа для черной еврейской крови.
— О господи, — простонала Мерапи, — моя мать родилась и выросла в Сирии, в горах, и кожа у нее была белая, как молоко, а глаза голубые, как небо,
— Во-вторых, — продолжал я, не обращая на нее внимания, — если великий принц Сети действительно в стране Гошен, а она живет здесь, то просто неестественно, что она не пришла хоть раз взглянуть на него. Как женщину ее могли удержать только две вещи: одна — потому что она его боится и ненавидит, но она это отрицает, и другая — потому что он ей слишком понравился, и она, как девушка благоразумная, решила, что лучше всего никогда его больше не видеть.
При первых моих словах Мерапи взглянула на меня и хотела было ответить, но тотчас опустила глаза с таким выражением, как будто у нее перехватило дыхание; в то же время даже при свете луны я увидел, как алая краска залила ее лицо и белые руки.
— Господин, — пролепетала она, — зачем ты обижаешь меня? Клянусь, что никогда до этой минуты я ни о чем таком не думала. Право же, это было бы изменой.
— Несомненно, — прервал ее Сети, — однако, такой, какую цари могли бы простить.
— В-третьих, — продолжал я, как бы не слыша ни ее, ни его слов,
— если бы эта девушка сказала о себе правду, она не бродила бы ночью одна в пустыне: ведь Мерапи, как я слышал от арабов, дочь Натана Левита, девушка далеко не из низкого рода, и семья ее достаточно богата. Впрочем, сколько бы она ни лгала, наши собственные глаза говорят нам, что она красива.
— Да, брат, в этом нам повезло, ибо работорговцы по ту сторону пустыни без сомнения дадут за нее высокую цену.
— О господин! — вскричала Мерапи, хватая его за полу плаща. — Конечно, ты не обречешь девушку на такую участь — ты не злой вор, я чувствую — сама не знаю почему, и у тебя есть мать, и, может быть, сестра. Не суди обо мне так плохо из-за того, что я тут одна. Фараон приказал, чтобы мы собирали солому для кирпичей. Сегодня утром я пошла искать солому вместо больной соседки, которая, к тому же, должна родить, и зашла слишком далеко. Но вечером я поскользнулась и порезала ногу об острый камень. Смотри, — и, приподняв ногу, она показала рану внизу ступни, из которой еще капала кровь, — зрелище, которое нас немало тронуло. — Теперь я не могу идти и тащить эту тяжелую солому, которую я так тщательно собирала.
— Пожалуй, она говорит правду, брат, — сказал принц, — и если бы мы доставили ее домой, мы могли бы получить немалое вознаграждение от Джейбиза Левита. Но сперва скажи мне, девушка, что за молитву ты возносила луне? В чем Хатхор должна помочь твоему бедному сердцу?
— Господин, — ответила она, — только идолопоклонники-египтяне молятся Хатхор, богине Любви.
— А я думал, что весь мир молится богине Любви, девушка. Но о чем была твоя молитва? Есть какой-нибудь мужчина, которого ты желаешь?
— Никакого, — отрезала она, внезапно рассердившись.
— Тогда почему же твое сердце так нуждается в помощи, что ты готова молить о ней воздух? Или, может быть, есть кто-то, кого ты не желаешь?
Она опустила голову и не отвечала.
— Пошли, брат, — сказал принц, — мы надоели этой даме, и я думаю, что будь она настоящей женщиной, она бы охотно ответила на наши вопросы. Пойдем, оставим ее. Поскольку она не может идти, мы заберем ее позже, если захотим.
— Господа, — сказала она, — я рада, что вы уходите, ибо гиены
— менее опасное общество, чем двое мужчин, которые грозятся продать беспомощную женщину в рабство. Но раз уж мы расстаемся и никогда больше не встретимся, я отвечу на ваш вопрос. В молитве, которую вы не постеснялись подслушать, я просила не о любовнике, а о том, чтобы избавиться от одного такого.
—Ну, Ана, —сказал принц, рассмеявшись и распахнув свой плащ, — спроси теперь, кто этот несчастный, от кого госпожа Мерапи хочет избавиться, ибо я сам не смею.
Она всмотрелась в его лицо и слегка вскрикнула.
— Ах, — сказал она, — я подумала, что узнаю твой голос, когда ты один раз забыл про свою роль. Принц Сети, неужели твое высочество считает, что эта была добрая шутка по отношению к одинокой и испуганной женщине.
— Госпожа Мерапи, — ответил он, улыбаясь, — не сердись и согласись, что она была по крайней мере удачной, и ты не сказала нам ничего для нас нового. Вспомни — тогда, в Танисе, ты сказала, что обручена, и при этом в твоем тоне было что-то такое… Позволь мне перевязать твою рану.
Он опустился на колени, оторвал полоску от своей церемониальной одежды из тонкого полотна и начал перевязывать ее ступню, действуя быстро и искусно, ибо он был человеком необычных и неожиданных способностей. Я невольно следил за ними и заметил также, что их взгляды встретились, и при этом густая краска снова залила лицо Мерапи. Тогда я подумал, что принцу Египта не подобает играть роль лекаря, врачевателя ран женщины в пустыне, и подивился, почему он не предоставил мне эту скромную роль.
Вскоре повязка была наложена и скреплена царским скарабеем на золотой булавке, которую принц снял со своей одежды. На скарабее была выгравирована корона с уреем, а под ней знаки, означавшие «Повелитель Нижнего и Верхнего Египта» — это была эмблема и титул фараона.
— Ты видишь, госпожа, — сказал он, — теперь у тебя под пятой Египет. — И когда она спросила, что он имеет в виду, он прочитал ей надпись на драгоценном камне, и она в третий раз залилась румянцем до самых глаз. Потом он поднял ее на руки, велев ей опираться на его плечо и сказав, что боится, как бы скарабей, которого он ценит, не разбился, если бы она ступала по земле.
Мы двинулись в путь; я нес связку соломы, как он велел мне, ибо, по его словам, нельзя потерять то, что было собрано с таким трудом. Дойдя до того места, где мы оставили колесницу, мы обнаружили, что наш проводник ушел, а возница спит. Принц усадил Мерапи в колесницу, подстелив ей свой плащ и набросив ей на плечи мой, который он одолжил у меня, сказав, что поскольку я несу солому, плащ мне не нужен. Потом он занял свое место в колеснице, и они поехали, соразмеряя скорость движения с моим шагом. Так я шел следом за ними, и солома свисала мне на уши, я не слышал, о чем они говорили, — если они вообще о чем-то говорили; вполне возможно, что присутствие возницы исключало всякий разговор. Сказать по правде, я не прислушивался, погруженный в мысли о тяжкой доле этих бедных израильтян, вынужденных собирать пыльную солому и тащить так далеко эту ношу, отягченную комьями глины, которая налипла на корнях.
Еще не достигнув города Гошен, мы столкнулись с неприятностями. Едва мы пересекли по мосту канал, как я, шагая за колесницей, увидел при чистом свете луны бегущего навстречу молодого человека. Это был еврей, высокий, хорошо сложенный и по-своему очень красивый. У него были темные глаза, горбатый нос, ровные белые зубы, длинные черные волосы густыми волнами падали на плечи. В руке он держал деревянный посох, а за пояс был заткнут обнаженный нож. Увидев колесницу, он остановился и стал всматриваться, а потом спросил по-еврейски, не случилось ли путешественникам встретить молодую женщину-израильтянку, которая, очевидно, заблудилась в пустыне.
— Если ты ищешь меня, Лейбэн, то я здесь, — ответила Мерапи
из-под плаща.
— Что ты тут делаешь одна с египтянином? — свирепо спросил он. Что за этим последовало, я не знаю, ибо они заговорили так быстро на своем языке, что я ничего не понял. Наконец Мерапи повернулась к принцу и сказала:
— Господин, это Лейбэн, с кем я обручена, он велит мне сойти с колесницы и сопровождать его, как мне ни трудно идти пешком.
— Я, госпожа, велю тебе остаться. Лейбэн, с кем ты обручена, может сопровождать нас.
Лейбэн вспыхнул от гнева — что было, как я сразу понял, у него в крови — и порывисто протянул руку, видимо, намереваясь оттолкнуть Сети и схватить Мерапи.
— Ну, ты, остерегись! — сказал принц, в то время как я, бросив связку соломы, выхватил свой меч и одним прыжком очутился рядом с ними, крича:
— Раб, ты хотел поднять руку на принца Египта?
— Принц Кемета! — произнес он, отступив в изумлении, и угрюмо добавил: — Но какое отношение принц Кемета имеет к моей невесте.
— Он помогает ей добраться до дома после того, как нашел ее раненую и беспомощную в пустыне с мешком этой проклятой соломы, — ответил я.
— Вперед, возница! — сказал принц, а Мерапи добавила:
— Успокойся, Лейбэн, и возьми эту солому, которую спутник его высочества нес всю дорогу.
Мгновение он колебался, но потом схватил связку соломы и водрузил ее себе на голову.
Пока мы шли бок о бок, его злобное настроение постепенно одерживало верх над благоразумием. Он, не умолкая, ворчал из-за того, что Мерапи ехала одна рядом с египтянином. Наконец я не выдержал:
—Замолчите! — сказал я. — Тебе ли жаловаться на то, что делает его высочество, если он уже отомстил за убийство отца этой госпожи, а теперь спас ее от одинокой ночевки среди диких зверей и людей пустыни?
— Насчет первого я уже наслышан достаточно, — ответил он, — а насчет второго еще услышу более чем достаточно! С тех самых пор как моя невеста увидела этого принца, она смотрит на меня другими глазами и говорит со мной другим голосом. Да, а когда я пытаюсь ускорить нашу свадьбу, она говорит, что нельзя торопиться, ибо она все еще в трауре по своему отцу. Как бы не так! Она никогда не могла простить ему то, что он обручил ее со мной по обычаю нашего народа.
— Может быть, она любит кого-нибудь другого? — спросил я, желая узнать как можно больше об этой женщине.
— Никого она не любит, — по крайней мере, до сих пор не любила. Она любит только себя.
— Такая красавица может мечтать о самом высоком замужестве.
— Вот как! — произнес он в ярости. — Кого она может найти выше меня, прямого потомка самого древнего рода? Я гораздо выше, чем какой-то выскочка-принц или любой египтянин, будь он хоть сам фараон!
— Поистине, ты можешь служить хорошей иллюстрацией нравов своего племени, — сказал я, чувствуя, как мною все больше овладевает раздражение.
— Почему же? — спросил он. — Разве израильтяне не выше египтян — как эти угнетатели скоро узнают сами — и разве знатный человек Израиля не лучше любого идолопоклонника среди ваших людей?
Я посмотрел на этого человека, убого одетого и покрытого грязью после работы в кирпичной мастерской, и подивился про себя его наглости. Не было сомнения в том, что он верит всему, что говорит; я читал это в его гордом взгляде и надменной осанке. Он считал, что его племя больше значит в мире, чем наш великий и древний народ, и что он, неизвестный юноша, не ниже, а даже выше самого фараона. Придя в ярость от этих оскорблений, я ответил:
— Пока что это только слова, но где доказательства? Я лишь писец, но я знаю, что такое война. Давай задержимся здесь ненадолго, и тогда мы узнаем, кто лучше — знатный человек Израиля или писец из Египта.
— Я бы с радостью проучил тебя, писака, — ответил он, — если бы не видел твоего замысла. Ты хочешь нарочно задержать меня, может быть, даже убить каким-нибудь подлым образом, пока твой хозяин будет наслаждаться улыбками Луны Израиля. Нет, я не останусь с тобой, но в другой раз будет по-твоему и, может быть, очень скоро.
Думаю, я бы в ответ ударил его по лицу, хотя я не из тех, кто любит драться, если бы в этот момент не появился отряд египетских всадников, возглавляемый самим Аменмесом. Увидев в колеснице принца, всадники остановились и приветствовали его. Аменмес спешился.
— Мы выехали на поиски твоего высочества, — сказал он. — Мы боялись, что с тобой что-нибудь случилось.
— Спасибо, кузен, — ответил принц, — случилось, но не со мной.
— Это хорошо, — сказал Аменмес с улыбкой, разглядывая Мерапи. — Куда ранена госпожа? Надеюсь, не в грудь.
— Нет, кузен, в ногу, поэтому она и едет со мной в колеснице.
— Твое высочество всегда был добр к несчастным. Пожалуйста, разреши мне занять твое место или посадить эту девушку к себе на коня.
— Поехали, — сказал принц вознице.
Мы двинулись, сопровождаемые солдатами. Я слышал, как они переговаривались, обмениваясь шутками насчет принца и его спутницы, — как, думаю, слышал их и Лейбэн, ибо он бросал вокруг гневные взгляды и скрежетал зубами. Так мы добрались наконец до города. Здесь по указанию Мерапи мы остановились перед домом ее дяди Джейбиза, седобородого еврея, который выбежал из дверей своего жилища под глиняной крышей, крича, что он не сделал ничего дурного, за что солдаты могли бы забрать его.
— Это не тебя они хотят забрать, а твою племянницу — мою невесту, — закричал Лейбэн, вызвав смех среди солдат и кучки женщин, собравшихся перед домом. Тем временем принц помогал Мера-пи сойти с колесницы, буквально подняв ее на руки. При виде этого Лейбэн в бешенстве бросился к нему, пытаясь вырвать ее из его объятий, и при этом невольно толкнул его высочество. Начальник отряда — это был один из начальников личной охраны фараона — в ярости поднял меч и ударил Лейбэна плашмя по голове с такой силой, что тот упал лицом вниз и громко застонал.
— Долой этого пса, и всыпьте ему как следует! — крикнул начальник отряда солдатам. — Или мы допустим, чтобы такие, как он, оскорбляли царственную кровь Кемета?
Солдаты бросились было исполнять приказ, но Сети сказал спокойно:
— Оставьте его, друзья, он просто не умеет себя вести, вот и все. Он ранен?
Не успел он договорить, как Лейбэн вскочил на ноги и, боясь худшего, бежал с проклятиями, бросив на принца взгляд, полный ненависти.
— Прощай, госпожа, — сказал Сети. — Желаю тебе поскорее поправиться.
— Благодарю тебя, о принц! — ответила она, оглядываясь. — Пожалуйста, подожди немного, пока я верну тебе твою драгоценность.
— Нет, оставь ее у себя, госпожа, и если когда-нибудь тебе будет грозить беда или опасность, пошли ее мне, и ты не останешься без помощи.
Она взглянула на него и разразилась слезами.
— Почему ты плачешь? — спросил он.
— О принц, потому что я боюсь близкой беды. У моего нареченного, Лейбэна, мстительное сердце. Дядя, помоги мне войти в дом.
— Слушай, израильтянин, — сказал Сети, повысив голос, — если с твоей племянницей случится что-нибудь плохое или ее заставят идти туда, куда она не хочет, — горе тебе и твоим близким. Ты меня слышишь?
— О повелитель, слышу, слышу. Не беспокойся. Ее будут беречь, как… она, несомненно, будет беречь драгоценную безделушку, что у нее на повязке.
— Ана, — сказал принц в тот же вечер, когда мы с ним беседовали перед сном, — не знаю почему, но я боюсь этого Лейбэна, у него дурной глаз.
— Я тоже думаю, что было бы лучше, если бы твое высочество позволил солдатам расправиться с ним. Тогда бы никому не пришлось бояться его в этом мире.
— Но я этого не сделал, так что нечего и говорить. Ана, она красива и прелестна.
— Самая красивая и самая прелестная из всех, каких я когда-либо видел, мой принц.
— Будь осторожен, Ана. Прошу тебя, будь осторожен, а то еще влюбишься в ту, что уже обручена с другим.
В ответ я лишь взглянул на него и вспомнил слова чародея Ки. Думаю, что и принц тоже вспомнил, — по крайней мере, он засмеялся, как мне показалось, счастливым смехом и отвернулся в сторону.
Что до меня, то я долго лежал без сна в ту ночь и когда наконец заснул, мне приснилась Мерапи, творившая молитву в сиянии Луны.
VII. Засада
Прошло целых восемь дней, прежде чем мы покинули Гошен. История, которую рассказывали израильтяне, была очень длинной и очень печальной. Больше того, они привели доказательства многочисленных жестокостей, которые они претерпели, а когда с этим было покончено, пришлось выслушать показания стражников и других лиц; и все это надо было записать. К тому же принц, казалось, не спешил с отъездом. По его словам, он надеялся, что те двое пророков вернутся из пустыни, но они так и не появились. Все это время Сети ни разу не видел Мерапи и даже не упоминал о ней, даже когда Аменмес подшучивал над ним, намекая на его спутницу в колеснице и спрашивая его, не выезжал ли он опять лунной ночью в пустыню.
Но я ее однажды встретил. Как-то раз перед заходом солнца я бродил по городу и увидел ее: она шла, словно пленница под конвоем, между дядей Джейбизом с одной стороны и своим женихом Лейбэном — с другой. Я подумал, что она отнюдь не выглядит счастливой, но ее нога, видимо, зажила; во всяком случае, она шла свободно и не хромая.
Я остановился, чтобы поздороваться с ней, но Лейбэн злобно нахмурился и увлек ее за собой. Джейбиз задержался и заговорил со мной. Он сказал, что она совершенно оправилась, но что между нею и Лейбэном были неприятности из-за того, что случилось в тот вечер, когда она повредила ногу, вплоть до столкновения Лейбэна с начальником телохранителей.
— Этот молодой человек, кажется, ревнивец от природы, — сказал я, — из тех людей, которые будут суровыми мужьями для любой женщины.
— Да, высокоученый писец, ревность была его проклятием с юных лет. Это же можно сказать о многих наших людях. И я благодарю бога за то, что я не женщина, которая станет его женой.
— Почему же тогда, Джейбиз, ты допускаешь, чтобы она вышла за него замуж?
— Потому что ее отец обручил ее с этим львенком, когда она была еще почти девочкой, а у нас разорвать такие узы крайне трудно. Лично я, — добавил он, понизив голос и оглядевшись вокруг своими быстрыми бегающими глазами, — лично я хотел бы видеть мою племянницу не в доме Лейбэна, а совсем в другом месте. С ее красотой и умом она могла бы достичь чего угодно, имей она такую возможность. Но по нашим законам, даже если бы Лейбэн умер (что легко могло бы случиться с таким неуравновешенным человеком), она не могла бы выйти замуж ни за кого, кроме сына Израиля.
— Но она, кажется, говорила, что ее мать была сирийкой.
— Это правда, писец Ана. Она была красавицей-пленницей, захваченной во время войны, когда Натан влюбился в нее и сделал ее своей женой. И ее дочь пошла в нее. И все же она — еврейка и по вероисповеданию, и по своему окружению и связям. Если бы не это, она могла бы сиять, как звезда, нет — как сама луна, в честь которой она названа, и, может быть, при дворе самого фараона.
— Как великая царица Тейе26, которая в прошлом изменила религию Кемета, вверив поклонение единому богу, — предположил я.
— Я слыхал о ней, писец Ана. Это была удивительная женщина и красивая к тому же, судя по ее статуям. Хотел бы я, чтобы вы, египтяне, нашли еще такую же, тогда, может быть, ваши сердца обратились бы к более чистой вере и смягчились бы по отношению к нам, бедным и отверженным. Когда его высочество покидает страну Гошен?
— На рассвете третьего дня, не считая сегодняшнего.
— Ему понадобятся продукты, много продуктов для питания такой большой свиты. Я торгую овощами и продуктами питания, Ана.
— Я доложу об этом его высочеству и визирю, Джейбиз.
— Спасибо тебе, писец, я буду ждать их распоряжения в твоем лагере завтра утром. Смотри, Лейбэн возвращается вместе с Мерапи. Он очень мстительный и не забыл того удара мечом по голове.
— Пусть Лейбэн будет осторожен, — ответил я. — Если б не его высочество, солдаты убили бы его, потому что он посмел оскорбить царскую кровь. Второй раз это ему не сойдет. Больше того, за все, что он сделает, фараон отомстит народу Израиля.
— Понимаю. Было бы печально, если бы Лейбэна убили, очень печально. Но у народа Израиля есть Некто, кто может защитить его от фараона и всех его полчищ. Прощай, высокоученый писец. Если мне когда-нибудь доведется быть в Танисе, мы еще, с твоего позволения, потолкуем об этих вещах.
Вечером я рассказал принцу о моей встрече. Выслушав меня, он сказал:
— Мне очень жаль госпожу Мерапи, ибо ее ждет тяжкая участь. Впрочем, — добавил он, засмеявшись, — пожалуй, оно и лучше, друг, если ты ее больше не увидишь, — ведь где бы она ни появлялась, сразу возникают неприятности. У этой женщины такое лицо, которое поселяется в душе, как Ка поселяется в гробнице, я лично не хотел бы увидеть его снова.
— Рад это слышать, принц; лично я покончил с женщинами, как бы прелестны они ни были. А этому Джейбизу я скажу, что мы закупим провиант в другом месте.
— Нет, закупи все у него, а если Нехези будет ворчать, запиши все на мой счет. Путь к сердцу купца лежит через его мешки с сокровищем. Если с Джейбизом хорошо обращаться, то, может быть, он будет добрее к своей племяннице, о которой я навсегда сохраню приятное воспоминание, — единственной среди этих хмурых людей, ненавидящих нас, увы, не без причины.
Итак, овцы и вся провизия для обратного путешествия были куплены у Джейбиза по назначенной им самим цене, за что он усиленно высказывал мне благодарности, и на третий день мы тронулись в путь. В последний момент принц, которым накануне вечером как будто овладел дух противоречия, отказался ехать утром вместе со всеми (слишком шумно и пыльно, сказал он). Напрасно Аменмес убеждал его, а Нехези и приближенные чуть ли не на коленях умоляли отправиться вместе с ними, говоря, что они отвечают за его безопасность перед фараоном и принцессой Таусерт. Он велел им уйти, пообещав, что нагонит их, когда они к концу дня раскинут на ночь лагерь. Я тоже стал упрашивать его, но он резко отвечал, что как он сказал, так и будет, и что мы с ним поедем в колеснице одни, в сопровождении двух вооруженных бегунов, не более, а если я считаю, что это опасно, добавил он, я могу присоединиться к остальным. Я прикусил губу и промолчал, а он, увидев, что обидел меня, повернулся ко мне и смиренно попросил прощения, как подсказывало ему его доброе сердце.
— Не могу больше выносить Аменмеса и его солдат, — сказал он. — Я люблю быть в пустыне один. Последний раз, когда мы с тобой там были, Ана, мы столкнулись с приключениями, которые были очень приятны, а в Танисе, я уверен, меня ждут одни неприятности. Впусти, пожалуйста, еврейского жреца, который пришел, чтобы объяснить мне таинства их веры, мне очень хочется их понять.
Я поклонился и, покинув его, сообщил остальным, что мне не удалось поколебать его волю. Однако, рискуя вызвать его гнев, я сделал следующее, — ибо разве я не поклялся принцессе, что буду защищать его? Роль бегунов я поручил двум самым лучшим и храбрым воинам.
Кроме того, я дал указания капитану, который ударил Лейбэна, тайно от всех посадить на колесницы двадцать солдат, вооруженных пиками, и следовать за принцем, держась вне поля его зрения.
Итак, на заре следующего утра войско, приближенные принца и чиновники вместе с носильщиками имущества и провианта двинулись в путь, а мы последовали за ними не раньше, чем прошло много часов. Часть этого времени принц провел, разъезжая по городу и присматриваясь к условиям, в которых жили люди. Они, как я заметил, следили за нами весьма угрюмо, гораздо враждебнее, чем раньше, — возможно потому, что мы были без охраны. Обернувшись, я успел заметить даже, что один из мужчин угрожающе потряс нам вслед кулаком, а какая-то старая карга плюнула в нашу сторону и пожелала нам поскорее убраться из страны Гошен. Но когда я поведал об этом принцу, он только засмеялся и не придал этому значения.
— Всем известно, что они ненавидят нас, египтян, — сказал он. — Ну что ж, пусть нашей задачей будет постараться обратить их ненависть в любовь.
— Ты никогда этого не добьешься, принц. Эта ненависть слишком глубоко укоренилась в их сердцах; они всасывали ее с молоком матери в течение многих поколений. Кроме того, это — война богов Кемета и Израиля, а люди должны идти туда, куда ведут их боги.
— Ты так думаешь, Ана? Значит, люди всего лишь пыль, гонимая небесными ветрами, — они разносят ее из тьмы, предшествующей рассвету, чтобы в конце концов собрать и унести ее в могильную тьму ночи?
Некоторое время он молчал, погруженный в свои мысли, а потом продолжил:
— И все же на месте фараона я бы дал этим людям уйти, ибо их бог, несомненно, обладает большим могуществом и, говорю тебе, я их боюсь.
— Почему же он не хочет отпустить их? — спросил я. — Они не сила, а слабость Египта, как было доказано во время нашествия варваров, на сторону которых они стали. К тому же ценность их щедрой земли, которую они не могут унести с собой, намного больше, чем ценность всей совокупности их труда.
— Не знаю, друг. В этом деле мой отец — сам себе советчик; он не говорит об этом даже с принцессой Таусерт. Может быть потому, что не хочет изменять политику своего отца Рамсеса, а может быть потому, что он упрям с теми, кто против него. Или, возможно, его держит на этом пути безумие, которое наслал на него какой-то бог, чтобы ввергнуть Кемет в позор и несчастья.
— В таком случае, принц, все жрецы и вся знать также безумны, начиная с Аменмеса.
— Жрецы и знать следуют туда, куда ведет их фараон. Вопрос в том, кто ведет фараона? А вот и храм этих израильтян. Войдем?
Мы сошли с колесницы — где я лично охотно бы остался — и прошли через ворота храма, где в этот священный для израильтян седьмой день было полно молящихся женщин, которые притворились, что не видят нас, однако исподтишка следили за нами. Пройдя сквозь толпу, мы вошли еще в один дворик — под крышей. Здесь было много мужчин, которые встретили наше появление недовольным ропотом. Они слушали проповедника в белом одеянии и головном уборе странной формы, с какими-то украшениями на груди. Я узнал этого человека: это был жрец Кохат, который посвящал принца в таинства еврейской веры в той мере, в какой считал это возможным и нужным. Увидев нас, он внезапно прервал свою проповедь, поспешно произнес какое-то слово благословения и двинулся нам навстречу, приветствуя нас. Я остановился за спиной принца, считая, что не мешает заслонить его в толпе этих свирепых мужчин, и не слышал, что сказал ему жрец, поскольку тот говорил шепотом в этом священном месте. Кохат отвел его в сторону — на мой взгляд для того, чтобы вывести его из этой толпы, — к главной части маленького храма, туда вели несколько ступенек, над которыми свисал толстый и тяжелый занавес. В царившей вокруг густой полутьме принц не заметил нижней ступени и, оступившись, упал бы, если бы невольно не схватился за занавес. Занавес раздвинулся, открыв внутреннее помещение, простое и тесное, в котором находился алтарь. Больше я ничего не успел увидеть, ибо в следующий миг общий вопль ярости потряс воздух, и во мраке сверкнули мечи.
— Египтянин оскверняет алтарь! — выкрикнул один. — Вытащите его отсюда и убейте его! — завопил второй.
— Друзья, — сказал Сети, повернувшись к толпе, которая бурно рванулась к нему, — если я сделал что-то не так, то совершенно случайно…
Он ничего не смог добавить, видя, что они уже атакуют его или, скорее, меня, ибо я бросился между ними и им. Они уже схватили меня за полы одежды, и моя рука уже была на рукоятке меча, когда жрец Кохат вскричал:
— Воины Израиля, вы с ума сошли? Или хотите навлечь на нас месть фараона?
Они приостановились, а их главарь воскликнул:
— Мы не боимся фараона! Наш бог защитит нас от фараона! Вытащите его вон и убейте его!
Они кинулись было снова, но в этот момент один из мужчин, в котором я узнал дядю Мерапи, Джейбиза, громко произнес:
— Остановитесь! Если этот египетский принц оскорбил Яхве не случайно, а по умыслу, то бог несомненно отомстит ему. Подобает ли людям взять суд бога в свои руки? Отступите и подождите немного. Если Яхве оскорблен намеренно, египтянин упадет мертвым. Если он не умрет, дайте ему свободно уйти, ибо такова воля Яхве. Отойдите, говорю я, и подождите, пока я не сосчитаю трижды по двадцать.
Они отступили на шаг, и Джейбиз стал медленно считать.
Хотя я в то время ничего не знал о могуществе бога Израиля, должен сказать, что меня охватил страх, пока он считал, делая паузу после каждого десятка. Это была очень странная сцена. У ступенек на фоне балдахина стоял принц, скрестив на груди руки, и на его лице играла легкая улыбка удивления, смешанного с презрением, но без малейшего признака страха. С одной стороны стоял я, хорошо зная, что разделю его участь, какова бы она ни была, и даже не желая иной; а с другой стороны был жрец Кохат, у которого тряслись руки, а глаза чуть не вылезали из орбит. Перед нами стоял Джейбиз и считал, наблюдая за искаженными от ненависти лицами конгрегации, в мертвом молчании ожидавшей рокового исхода. Счет продолжался. Тридцать. Сорок. Пятьдесят… Казалось, прошел целый век.
Наконец его уста произнесли «шестьдесят». С минуту он ждал, и все следили за принцем, ни на миг не сомневаясь, что он сейчас упадет мертвым. Но вместо этого принц повернулся к Кохату и спокойно спросил, кончилось ли это испытание, ибо он желает принести пожертвование храму, посетить который его пригласили, и уехать.
— Наш бог дал свой ответ, — сказал Джейбиз. — Примите его, люди Израиля. То, что сделал принц, он сделал случайно, а не по умыслу.
Они повернулись и отошли, не сказав ни слова, и после того как я оставил пожертвование, весьма немалое, мы последовали за ними:
— Пожалуй, ваш бог — недобрый бог, — сказал принц Кохату, когда мы вышли наконец из храма.
— По крайней мере, он справедлив, твое высочество. Иначе ты, вторгшийся в его святилище, пусть даже случайно, был бы уже мертв.
— Значит, ты считаешь, жрец, что Яхве обладает способностью убивать нас, когда он в гневе?
— Вне сомнения, твое высочество, и если наши пророки говорят правду, то недалек тот день, когда Египет это узнает, — добавил он угрюмо.
Сети посмотрел на него и сказал:
— Возможно, и так, но все боги или их жрецы претендуют на право убивать тех, кто поклоняется другим богам. Как видно, не только женщины ревнивы, Кохат. Но все же я думаю, вы несправедливы к своему богу, ибо даже если он имеет такую силу — он оказался более милосердным, чем его полноправные поклонники, которые прекрасно знали, что я схватился за балдахин, чтобы просто не упасть. Если я когда-нибудь снова войду в твой храм, то лишь в обществе тех, кто может противопоставить силе силу, будь то сила духа или меча. Прощай.
Мы подошли к колеснице, возле которой стоял Джейбиз, наш спаситель.
— Принц, — сказал он шепотом, покосившись на толпу, которая, держась поодаль, медлила расходиться, молчаливая и враждебная, — прошу тебя, уезжай поскорее из этой страны, ибо здесь твоя жизнь в опасности. Я знаю, это вышло случайно, но ты все-таки осквернил святилище, увидев то, на что не смеют взглянуть ничьи глаза, кроме глаз самых высших жрецов, а этого не простит ни один израильтянин.
— А ты или твой народ, Джейбиз, готовы были осквернить святилище моей жизни, пролив кровь моего сердца, — и не случайно. Право же, странный народ; вы стремитесь сделать врагом того, кто старается быть вашим другом.
— Я не стремлюсь к этому, — воскликнул Джейбиз, — я бы хотел, чтобы тот, кто воплощает уста и слух фараона и скоро сам станет фараоном, был на нашей стороне. О принц Египта, не гневайся на всех детей Израиля из-за того, что угнетение и несправедливость сделали некоторых из них упрямыми и жестокосердными. Уезжай, и в доброте своей запомни мои слова.
— Запомню, — сказал Сети, подав вознице знак трогать.
Однако принц медлил покинуть город, говоря, что ничего не боится и хочет узнать все, что сможет, об этих людях и их обычаях, чтобы поточнее доложить о них фараону. Я же был уверен, что есть лишь одно лицо, на которое он хочет взглянуть еще раз перед отъездом; но об этом я счел благоразумным промолчать.
Был почти полдень, когда мы наконец действительно оставили город и направились на восток, по следам Аменмеса и всей нашей компании. И так мы ехали весь день; впереди бежали двое солдат, переодетых бегунами, а за нами, как говорило мне далекое облако пыли, следовал капитан с его колесницами, которому я тайно велел не выпускать нас из виду.
К вечеру мы достигли ущелья между каменистыми холмами, окаймлявшими землю Гошен. Здесь Сети сошел с колесницы, и мы в сопровождении обоих солдат, которым я дал знак идти с нами, взобрались на вершину одного из холмов, усеянную огромными каменными глыбами и обрамленную хребтами песчаника, между которыми тысячелетние ветры проделали узкие расщелины и овраги.
Облокотившись на один из этих хребтов, мы окинули взглядом оставшуюся позади землю. Это было удивительное зрелище. Далеко-далеко, за плодородной равниной, виднелся покинутый нами город, и за ним садилось солнце. Казалось, будто там разразилась какая-то буря, хотя над нами синел чистый и ясный небесный свод: по крайней мере, перед городом от земли до неба протянулись два огромных столба туч, похожих на колонны гигантского портала. Один из этих столбов был как будто высечен из черного мрамора, а второй казался расплавленным золотом. Между ними пролегала дорога света, завершаясь сиянием, и посреди этого сияния круглый шар Солнца-Pa горел, как глаз бога. Это зрелище было не только прекрасно, но и внушало ужас.
— Ты когда-нибудь видел такое небо в Египте, о принц? — спросил я.
— Никогда, — ответил он, и хотя он говорил тихо, его голос показался мне громким в окружающем нас безмолвии.
Мы постояли еще немного, погруженные в созерцание, пока солнце вдруг не опустилось, оставив разлившееся над ним и вокруг сияние; оно принимало причудливые формы, напоминавшие дворцы и храмы какого-то небесного города — далекого города, которого ни один смертный не может достичь иначе, чем в мечтах или во сне.
— Не знаю почему, Ана, — сказал Сети, — но впервые с тех пор, как я стал мужчиной, мне страшно. Мне кажется, что в этом небе какие-то предзнаменования, и я не могу их прочесть. Жаль, что с нами нет Ки, — он бы растолковал, что означает черная колонна справа и огненная слева, и какой бог живет в сияющем городе, и как нога человека может ступить на эту дорогу света, что ведет к его порталу. Говорю тебе — мне страшно. Мне кажется, будто Смерть совсем рядом, и все ее тайны открыты моему смертному взору.
— Мне тоже страшно, — прошептал я. — Смотри! Эти колонны движутся. Вон та, огромная, впереди, а та, из черной тучи, следом за ней, а между ними я будто вижу несметные толпы, идущие бесконечными отрядами. Посмотри, как отблески заката сверкают на их копьях! Несомненно, это бог Израиля поднялся в поход.
— Он или какой-то другой, или вообще не бог — кто знает? Пойдем, Ана, пора, если мы хотим быть в лагере до темноты.
Мы спустились с вершины. Лошади и возница были наготове, и вскоре мы въехали в ущелье. Оно было очень узко, местами не шире четырех шагов, и по обе стороны дороги громоздились глыбы песчаника, между которыми пробивались растения пустыни и змеились узкие овраги, прорытые водой, а над всем этим с каждой стороны уходили вверх отвесные стены гор. Здесь лошади пошли шагом. Мы приближались к самому узкому месту, где тропа делала поворот и подъем сменялся спуском.
Мы были от него не дальше, чем на бросок копья, как вдруг я услышат какой-то звук и, взглянув направо, увидел женщину, которая спрыгнула с уступа холма и устремилась к нам. Возница тоже увидел ее и остановился, а оба бегуна-солдата выхватили мечи. Не прошло и полминуты, как женщина очутилась рядом с нами, и свет упал на ее лицо.
— Мерапи! — воскликнули принц и я в один голос.
Это и в самом деле была Мерапи, но в каком виде! Ее длинные волосы растрепались и беспорядочно падали ей на плечи, плащ был разорван, на губах выступили кровь и пена. Она остановилась, задыхаясь, не в силах произнести ни слова, опираясь одной рукой на край колесницы, а другой показывая туда, где тропа делала поворот. На-. конец она проговорила только одно слово:
— Убийство!
— Она говорит, что ее хотят убить, — сказал мне принц.
— Нет, — выдохнула она, — тебя, тебя! Засада. Вернитесь обратно!
— Поворачивай назад! — крикнул я вознице.
Он постарался повернуть лошадей, но в тесном ущелье и на отвесных склонах это было нелегко даже с помощью солдат. Они успели сделать лишь пол-оборота, блокировав дорогу во всю ширину ущелья, когда раздался дикий крик: «Яхве!» — и из-за поворота вырвалась толпа разъяренных мужчин, размахивающих ножами и мечами. Мы едва успели укрыться за колесницей и приготовиться к отпору, как они ринулись в атаку.
— Слушай, — сказал я вознице, — беги что есть сил и приведи идущий за нами отряд!
Он умчался, как стрела.
— Уходи, госпожа! — крикнул Сети. — Это не женское дело — и видишь? Вот и Лейбэн тебя ищет. — И он показал мечом на предводителя этой толпы убийц.
Она отступила и, пробравшись к большому камню у дороги, спряталась за ним. Впоследствии она призналась мне, что идти дальше у нее не было сил, да и желания тоже, ибо если бы нас убили, ей лучше было бы тоже умереть, поскольку она предупредила нас об опасности.
И вот они уже сомкнулись с нами, целый поток — тридцать—сорок человек. Первый поразил лошадей, и они забились в упряжке, пытаясь освободиться. Следующие за ним уже вскочили на колесницу, пытаясь добраться до нас, и мы встретили их как можно достойнее, сорвав с себя плащи и намотав их на левую руку вместо щитов.
О, какое это было сражение! Будь мы на открытом месте или не подготовлены, нас неизбежно перебили бы в первые же минуты; но теснота ущелья и преграждавшая путь колесница дали нам некоторое преимущество. Тропа была так узка, а склоны гор в этом месте так высоки и неприступны, что атаковать нас одновременно могли не более четырех человек, которым, к тому же, приходилось сперва преодолевать препятствие в виде колесницы и еще живых лошадей.
Но нас тоже было четверо, и благодаря Таусерт на двоих под одеждой были кольчуги, — четверо сильных мужчин, борющихся за свою жизнь. На нас набросились четверо израильтян. Один спрыгнул с колесницы прямо на Сети, который принял его на острие своего железного меча, — я услышал стук рукоятки о грудную клетку противника — того славного железного меча, который сегодня лежит погребенный вместе с Сети в его могиле.
Тот рухнул замертво, сбив принца с ног тяжестью своего тела. Израильтянин, атаковавший меня, зацепился ногой за дышло колесницы и упал так, что я тут же прикончил его ударом по голове и таким образом успел помочь принцу подняться, прежде чем перед ним возник следующий. Оба наши солдата, храбрые и стойкие воины, тоже убили или смертельно ранили тех, кто достался на их долю. Но остальные наступали так яростно и стремительно, что я уже не мог следить за тем, что было дальше.
Вдруг я увидел, что один из наших воинов упал, сраженный Лейбэном. Удар ножом в грудь отбросил меня назад, и если бы не кольчуга, со мной тоже было бы кончено. Второй солдат убил того, кто убил бы меня, но тут же был убит двумя, напавшими на него.
Теперь нас было только двое — принц и я. Мы сражались, держась спиной к спине. Сети схватился с огромным израильтянином и ранил его в руку, так что тот выронил меч. Тогда он обхватил принца за пояс, и оба покатились по земле. Появившийся тут же Лейбэн ударил принца в спину, но его кривой нож отскочил от сирийской кольчуги. Я кинулся к Лейбэну и ранил его в голову, оглушив его так, что он зашатался и, кажется, упал, перевалившись через колесницу. Тогда на меня набросились другие, и если бы не кольчуга Таусерт, я бы погиб по меньшей мере трижды. Сражаясь, как безумный, я натолкнулся на выступ скалы и, прижавшись к нему спиной, приготовился к очередному нападению — ив этот миг увидел, что тот же гигант подмял под себя Сети, не успевшего опомниться от удара Лейбэна, и душит его, схватив за горло.
Я увидел и другое — женщину, которая подняла обеими руками меч и с силой опустила его, после чего руки израильтянина, сжимавшие горло Сети, разжались.
— Изменница! — раздался крик, и кто-то нанес ей удар, отбросивший ее к обочине. Потом, когда казалось, все кончено, и под градом ударов мое сознание меня покидало, я услышал топот конских копыт и крик — «Кемет! Кемет!», вырвавшийся из солдатских глоток. Сверкание бронзы на миг ослепило мой помутневший взор, и с шумом битвы в ушах я как будто уснул как раз в тот момент, когда свет дня погас.
VIII. Сети дает совет фараону
Сны, сны о голосах, сны о лицах, сны о солнечном и лунном свете и обо мне самом — меня несут куда-то вперед, всегда вперед; сны о кричащих толпах и, больше всего, — сны о глазах Мерапи, смотрящих на меня сверху, как две негасимые звезды, сияющие в небе. Потом наконец пробуждение, и с ним биение боли и приступы тошноты.
Сначала я подумал что умер и лежу в гробнице. Потом, постепенно, я понял, что я вовсе не в гробнице, а в затемненной комнате, и притом знакомой, в моей собственной комнате во дворце Сети, в Танисе. Иначе не могло быть: недалеко от кровати, на которой я лежал, стоял мой собственный ларец, наполненный рукописями, которые я привез из Мемфиса. Я попытался поднять левую руку, но не смог и, скосив глаза, увидел, что она забинтована как рука мумии, и это снова вызвало во мне мысль, что я, должно быть, умер, если только мертвые могут чувствовать такую сильную боль. Я закрыл глаза и некоторое время не то думал, не то спал.
Лежа так, я услышал голоса. Один, видимо, принадлежал врачу, который говорил:
— Да, он выживет и вскоре поправится. Удар по голове, из-за которого он столько дней пролежал без сознания, — это наихудшая из его ран, но к счастью кость только повреждена, не раздроблена и не попала в мозг. Порезы на теле хорошо заживают, и кольчуга, что была на нем, защитила внутренние органы.
— Я рада, врач, — ответил другой голос, в котором я узнал голос Таусерт, — ибо нет сомнения, что если бы не Ана, его высочество погиб бы. Странно, что человек, которого я считала всего лишь мечтателем-писцом, оказался таким храбрым воином. Принц говорит, что этот Ана убил своими руками троих из этих собак и ранил еще многих.
— Это было отлично, — ответил врач, — но еще лучше была его предусмотрительность, ведь это он обеспечил арьергард и послал возницу поторопить их. Кто действительно спас жизнь его высочеству, так эта та еврейская девушка: именно она, забыв, что она только женщина, нанесла удар убийце, который держал его за горло.
— Да, такова версия принца, насколько я понимаю, — холодно ответила она. — И все же странно, чтобы слабая и выбившаяся из сил девушка могла пронзить насквозь такого гиганта.
— По крайней мере, она предупредила принца о засаде, ваше высочество.
— Да, говорят. Может быть, Ана вскоре расскажет нам правду об этом деле. Лечи его хорошенько, врач, и ты не останешься без награды.
Потом они ушли, продолжая разговаривать, а я лежал не двигаясь, преисполненный чувства благодарности и удивления, ибо теперь я вспомнил все, что с нами произошло.
Немного позже, когда я лежал, по-прежнему закрыв глаза, ибо даже слабый свет, казалось, причинял боль, я вдруг услышал тихие женские шаги у моей кровати и почувствовал нежное благоухание, какое исходит от одежды и волос женщины. Я поднял веки и увидел сияющие, как звезды, глаза Мерапи, смотревшие на меня сверху точно так же, как в моих снах.
— Привет тебе, Луна Израиля, — сказал я. — Воистину мы встречаемся снова при странных обстоятельствах.
— О, — прошептала она, — ты наконец проснулся? Благодарение богу, писец Ана, — ведь я три дня думала, что ты умрешь.
— Ах, если бы не ты, госпожа, я бы умер, — я и кое-кто еще. Но теперь, кажется, мы все трое будем жить.
— Лучше бы только двое остались жить, Ана, — принц и ты. Лучше бы мне умереть, — ответила она с тяжелым вздохом.
— Но почему?
— А ты не догадываешься? Потому что я — отверженная, предательница своего народа. Потому что их кровь пролилась между мной и ними. Ибо я убила того человека, моего родственника, ради египтянина, то есть ради египтян. Теперь на мне проклятие Яхве, и так же, как умер мой родич, так и я вскоре умру, а потом — что потом?
— Потом покой и великая награда, если есть справедливость на земле или в небесах, о благороднейшая из женщин!
— Если бы я могла думать так же! Чу, я слышу шаги. Выпей это; я — главная из твоих сиделок, писец Ана, это — почетный пост, ибо сегодня тебя любит и прославляет весь Египет.
— Право же, это тебя, Мерапи, должен любить и прославлять весь Кемет, — сказал я.
Вошел принц Сети. Я попытался приветствовать его жестом, но он схватил мою руку и нежно сжал ее в своей.
— Здравствуй, любимец Ментху, бога войны, — сказал он, засмеявшись своим приятным смехом. — Я-то думал, что нанял писца, и вдруг! — в этом писце я нахожу воина, который мог бы стать гордостью армии.
В этот момент он заметил Мерапи, которая отошла при его появлении и стояла в полутьме.
—Здравствуй и ты, Луна Израиля, — произнес он, кланяясь. — Если я назвал Ану лучшим из воинов, каким же именем мы оба можем назвать тебя, кому мы обязаны жизнью? Нет, не опускай глаза, отвечай!
— Принц Египта, — ответила она в смущении, — я не совершила ничего особенного. Я услышала о заговоре от Джейбиза, моего дяди, и, с детства зная кратчайшие пути к перевалу, успела вовремя. Если бы я сначала подумала, то, возможно, не осмелилась бы…
— А все остальное, госпожа? Что ты скажешь о израильтянине, который хотел задушить меня, и о некоем ударе мечом, который навеки разжал его руки.
— Об этом, ваше высочество, я ничего не помню или помню очень мало. — Потом, несомненно вспомнив то, что она говорила мне перед его приходом, она низко поклонилась и вышла из комнаты.
— Она лжет с тем же очарованием, с каким делает все другое, — сказал Сети, проводив ее взглядом. — О! Какая женщина, Ана! Совершенство красоты, совершенство мужества, совершенство ума. Где же ее недостатки, а? Попробуй, найди их ты, ибо я не вижу в ней никаких.
— Спроси об этом у Ки, принц. Он великий маг, такой великий, что его искусство в силах открыть даже то, что женщина старается скрыть. А также вспомни о том, что он предупредил тебя кое о чем перед нашим отъездом в Гошен.
— Да… он сказал мне, что моя жизнь будет в опасности, — так оно и случилось. В этом он был прав. Он сказал также, что я увижу женщину, которую полюблю. Вот в этом он ошибся. Я не встретил такой женщины. О! Я хорошо знаю, о чем ты сейчас подумал. Из-за того, что я считаю госпожу Мерапи прекрасной и храброй, ты вообразил, что я ее люблю. Но этого нет. Я не люблю ни одну женщину, исключая, разумеется, ее высочество. Ана, ты судишь обо мне по себе.
— Ки сказал «полюбишь», принц. Еще есть время.
— Нет, Ана. Если кто любит, то любит сразу. Скоро я состарюсь, а она станет толстой и безобразной, и как можно тогда полюбить? Скорее поправляйся, Ана, — я хочу, чтобы ты помог мне с моим докладом фараону. Я скажу ему: я считаю, что этих израильтян жестоко угнетают и он должен возместить им потери и отпустить их с миром.
— А что скажет на это фараон, зная, что они пытались убить его наследника?
— Думаю, что фараон разгневается, как и народ Хемета, который не умеет рассуждать здраво. Он не поймет, что Лейбэн и его компания с их взглядами и верой были правы, пытаясь убить меня, — ведь я все-таки, хотя и нечаянно, осквернил святилище их бога. Если бы они поступили иначе, они были бы плохими израильтянами, и я не могу желать им зла. Однако весь Египет охвачен жаждой мести и вопит, что народ Израиля должен быть уничтожен.
— Мне кажется, принц, каков бы ни был исход второго пророчества Ки, его третье предсказание близко к осуществлению, — а именно, что эта поездка в Гошен может заставить тебя рисковать троном.
Он пожал плечами и ответил:
— Даже ради власти, Ана, я не скажу фараону то, чего нет у меня в мыслях. Но оставим это до твоего выздоровления.
— Чем кончилась битва, принц, и как я попал сюда?
— Наши убили большинство израильтян, которые еще оставались в живых. Несколько человек бежали и скрылись в темноте, в том числе и их предводитель, Лейбэн, хотя ты его и ранил, а шестерых взяли живыми. Теперь они ждут суда. Я был легко ранен, а ты — мы сначала думали, что ты погиб, — был просто без сознания и в таком состоянии или в бреду оставался до этого часа. Мы принесли тебя на носилках, и вот уже три дня, как ты здесь.
— А госпожа Мерапи?
— Мы посадили ее в колесницу и привезли в город. Если бы мы оставили ее, то ее сородичи, конечно, убили бы. Когда фараон услышал, что она сделала, он отдал ей маленький домик в этом саду (мне казалось, что нехорошо, если она останется здесь, во дворце) — там она будет в безопасности, и послал рабынь, чтобы они о ней заботились и прислуживали ей. Там она и живет и может свободно приходить во дворец, и все это время она за тобой ухаживала.
В этот момент мной вдруг овладела страшная слабость, и я закрыл глаза. Когда я открыл их снова, принца уже не было. Прошло еще шесть дней, прежде чем мне разрешили встать с постели, и за это время я часто видел Мерапи. Она была очень печальна и жила в страхе, ожидая, что израильтяне ее убьют. Вместе с тем ее мучила мысль, что она предала свою веру и свой народ.
— По крайней мере, ты избавилась от Лейбэна, — сказал я.
— Никогда я от него не избавлюсь, пока мы живы, — ответила она. — Я ему принадлежу, и он ни за что не разорвет эти узы, потому что жаждет меня всем сердцем.
— А ты тоже жаждешь его всем сердцем? — спросил я. Ее прекрасные глаза наполнились слезами.
— Женщина не смеет иметь сердце. О Ана, я так несчастна, — ответила она и ушла.
Я виделся и с другими. Меня навестила принцесса. Она горячо благодарила меня за то, что я сдержал данное ей обещание и охранял принца. Кроме того, она передала мне золото — дар фараона, и сама подарила мне нарядную одежду. Она подробно расспросила меня о Мерапи, к которой, как я видел, уже питала чувство ревности, и обрадовалась, узнав, что она обручена с израильтянином. Пришел и старый Бакенхонсу и много спрашивал о принце, о евреях и о Мерапи, особенно о Мерапи, о подвиге которой, сказал он, говорит весь Египет. На все эти вопросы я постарался ответить как можно лучше.
— Так вот она, эта женщина, о которой говорил нам Ки, — сказал он, — та, которая принесет так много радости и так много горя принцу Египта.
— Но почему? — спросил я. — Он же не взял ее в свой дом и, по-моему, не собирается.
— И однако, он это сделает, Ана, хочет он того или не хочет. Ради него она предала свой народ, а у израильтян это — преступление, которое карается смертью. Дважды она спасла ему жизнь, один раз когда предупредила о засаде, и второй раз — когда своими руками вонзила меч в одного из своих сородичей, который душил его. Разве не так? Скажи мне, ведь ты там был.
— Так, но что из этого следует?
— Вот что: она его любит, что бы она ни говорила, если, конечно, не тебя? — И он зорко взглянул на меня.
— Когда рядом с женщиной принц, да еще такой принц, стала бы она утруждать себя и расставлять силки для какого-то писца? — спросил я не без горечи.
— Ого! — сказал он, рассмеявшись. — Так вот как обстоят дела. Правда, я так и думал. Но, друг Ана, остерегись, пока не поздно! Не старайся превратить Луну в свой домашний светильник, а то как бы она не зашла, и Солнце, ее повелитель, не разгневался бы и не спалил тебя до смерти. Нет, она любит его и поэтому рано или поздно заставит его полюбить себя, иначе и быть не может.
— Но каким образом, Бакенхонсу?
— С большинством мужчин, Ана, это было бы просто. Вздох, полускрытые слезы в подходящий момент — и дело сделано. Я видел, как это делается, тысячу раз. Но с этим принцем, при том, каков он есть, все может быть иначе. Может быть, она даст ему понять, что ради него она потеряла свою честь, что из-за него ее народ ненавидит ее, а бог ее отверг, и это пробудит в нем жалость, а жалость — родная сестра любви. А может быть, поскольку она, как я знаю, еще и мудрая, она станет его советницей во всех делах с израильтянами и таким образом, под видом дружбы проникнет в его сердце, а тогда ее нежность и красота сделают все остальное по законам самой Природы. Во всяком случае, тем или другим способом, вверх или вниз по течению, но к этому она придет.
— Если даже так, что из того? По обычаю цари Кемета могут иметь больше чем одну жену.
— Да, Ана, но Сети, думаю, такой человек, который по-настоящему может иметь только одну, и ею будет эта еврейка. Да, еврейская женщина будет править Египтом и заставит принца принять ее бога, ибо она никогда не станет поклоняться нашим богам. Больше того, когда ее народ поймет, что потерял ее, он использует ее именно для этих целей. А может статься, что ее использует сам этот бог, чтобы довершить то, что он, возможно, уже начал, наведя ее на этот путь.
— А что потом, Бакенхонсу?
— Потом — кто знает. Я не маг, во всяком случае — не настолько владею этим искусством. Спроси у Ки. Но я очень, очень стар и наблюдал жизнь и людей и говорю тебе — так и случится, если только…
— Если только, что?
— Если только Таусерт не смелее, чем я думаю, и не убьет ее прежде, а еще лучше — не найдет какого-нибудь иудея, который бы убил ее, — скажем, ее отвергнутого любовника. Если бы ты был другом фараону и Египту, Ана, ты бы мог шепнуть ей об этом на ушко.
— Никогда! — ответил я с гневом.
— Я и не думал, что ты на это способен, Ана! Ты ведь сам бьешься в этих сетях из лунных лучей, которые прочнее и осязаемее, чем любые сети, сплетенные человеческой рукой. Да и я этого не сделаю, при моем возрасте. Я люблю наблюдать борьбу человеческих стремлений и, подойдя уже столь близко к богам, страшусь вмешиваться в их замыслы и планы. Пусть этот свиток развернется, прочти его, Ана, и вспомни, что я тебе сегодня сказал. Это будет прекрасная повесть, написанная под конец кровью вместо чернил. Охо-хо! — И, смеясь, он заковылял прочь из комнаты, оставив меня в страхе.
Но чаще всех я видел принца. Он навещал меня каждый день и еще до того, как я встал с постели, начал диктовать мне свой доклад фараону, ибо не признавал никакого другого писца. Суть доклада соответствовала тому, что он еще раньше набросал в разговоре со мной, а именно: что народу Израиля, который в течение многих поколений достаточно настрадался под властью Египта, следует ныне разрешить уйти спокойно и куда он хочет. Нападению на нас в ущелье он не придал большого значения, изобразив его как злой умысел нескольких фанатиков, внушенный им воображаемым оскорблением их бога, как дело, за которое не должен пострадать весь народ. Доклад завершался следующими словами:
Помни, о фараон, молю тебя, что Амон, бог египтян, и Яхве, бог израильтян, не могут править в одной и той же стране. Если оба они останутся в Египте, вспыхнет война богов. Поэтому молю тебя дать Израилю уйти.
Поднявшись и окончательно оправившись, я переписал этот доклад своим самым красивым почерком, отказываясь сообщить кому-либо о его содержании, хотя меня спрашивали все и среди прочих визирь Нехези, который предложил мне взятку, если я открою этот секрет. Не знаю как, но это дошло до слуха Сети, и он был очень доволен мной, говоря, как он рад, что в Египте есть хоть один писец, которого нельзя подкупить. Таусерт тоже допросила меня, и когда я отказался отвечать, она, странным образом, даже не рассердилась, потому что, сказала она, я лишь исполнял свой долг.
Наконец свиток был дописан и запечатан, и принц собственноручно, но без единого слова положил его на колени фараону во время царского приема, ибо он не хотел его никому доверять. Аменмес тоже представил свой доклад, как и визирь Нехези, и начальник отряда, который спас нас от смерти. Спустя восемь дней принца вызвали на Большой Совет государства, равно как и всех членов царского дома и всех высших военачальников. Я тоже получил вызов как причастный к этому делу.
Принц в сопровождении принцессы прибыл во дворец в золотой колеснице фараона, запряженной парой белых, как молоко, лошадей, потомков тех знаменитых боевых коней, которые спасли жизнь Рамсесу Великому во время сирийской войны. На протяжении всего пути тысячи людей, высыпавших на улицы, встречали его приветственными криками.
— Видишь, — сказал старый Бакенхонсу, который, как член Совета, ехал со мной во второй колеснице, — Кемет гордится и радуется. Он считал своего принца всего лишь мечтателем, далеким от жизни. Но теперь все слыхали о засаде в ущелье и узнали, что он — человек отважный, воин, который может сражаться наряду с лучшими. Поэтому Кемет теперь любит его и ликует при его появлении.
— Тогда, по этой же мерке, Бакенхонсу, мясник — более великий, чем самый мудрый из писцов.
— Так оно и есть, Ана, особенно если он убивает не скот, а людей. Писатель создает, но убийца разрушает, и в мире, где правит смерть, тот, кто убивает, в большем почете, чем тот, кто творит. Послушай, теперь они выкрикивают твое имя. Потому ли, что ты автор неких произведений? Говорю тебе, нет. Это потому, что там, в ущелье, ты убил трех человек. Если ты хочешь, чтобы тебя прославляли и любили, Ана, брось писание книг и начинай резать глртки.
— Но писатель живет даже после смерти.
— Ого! — засмеялся Бакенхонсу. — Ты даже глупее, чем я думал. Какая польза человеку от того, что будет после его смерти? Да сегодня вон тот слепой нищий, который скулит на ступенях храма, значит для Кемета больше, чем мумии всех фараонов — разве что их еще можно ограбить. Бери то, что предлагает тебе жизнь, Ана, и не заботься о приношениях, которые кладут в гробницу на съедение времени.
— Это низменные взгляды, Бакенхонсу.
— Крайне низменные, Ана, как и все другое, что мы можем попробовать на вкус и на ощупь. Низменные взгляды, годные для низменных сердец, к которым можно причислить всех, кроме, пожалуй, одного из каждой тысячи. И все же, если хочешь преуспевать, следуй им, и когда ты умрешь, я приду и посмеюсь, стоя над твоей , могилой, и скажу: «Здесь лежит тот, от кого я ждал более высоких дел», — как я с надеждой жду их и от твоего господина.
— И не напрасно, Бакенхонсу, что бы ни случилось с его слугой.
— Ну, это мы узнаем и, думаю, скоро. Интересно, кто будет рядом с ним в колеснице перед следующим разливом Нила. К тому времени, может статься, он сменит золотую колесницу фараона на простую телегу, а ты будешь погонять волов и говорить с ним о звездах — или, может быть, о луне. Эта богиня ревнива и любит, когда ей поклоняются. Возможно, мы оба чувствовали бы себя счастливее. Охо-хо! Вот и дворец. Помоги мне сойти с колесницы, жрец богини Луны.
Мы вошли во дворец, и нас провели через большой зал в меньшую комнату, где фараон не в самом парадном облачении уже ожидал нашего прихода, сидя в кресле кедрового дерева. Взглянув на него, я увидел, что лицо мрачно и сурово; мне показалось также, что он как будто постарел. Принц и принцесса склонились перед ним, как и мы, менее значительный люд, но он не обратил на эти приветствия никакого внимания. Когда все собрались и двери закрыли, фараон сказал:
— Я прочитал твой доклад, сын Сети, о посещении страны Гошен и обо всем, что с тобой случилось; и твой тоже, племянник Аменмес, и всех остальных, кто сопровождал принца Египта. Прежде чем говорить об этих докладах, пусть писец Ана, который был вашим спутником, выйдет вперед и расскажет мне все, что там произошло.
Я вышел вперед и, склонив голову, повторил эту историю, по возможности опуская лишь то, что касалось меня самого. Когда я кончил, фараон сказал:
— Тот, кто говорит только полуправду, иногда приносит больше вреда, чем лжец. Так что же, писец, ты просидел все время в колеснице и бездействовал, пока принц бился за свою жизнь? Или ты сбежал? Говори, Сети, и скажи, какую роль сыграл этот человек, будь то во зло или на благо.
Тогда принц рассказал о моем участии в сражении, описав его такими словами, что вся кровь бросилась мне в лицо. Он рассказал также, что именно я, рискуя вызвать его гнев, приказал отряду в двадцать человек незаметно следовать за нами, переодел бегунами двух солдат и, не растерявшись, когда началось побоище, послал возницу за помощью, как я тоже был ранен и лишь недавно поправился. Когда он кончил, фараон сказал:
— О том, что все так и было, я знаю от других. Писец, ты действовал прекрасно. Если б не ты, сегодня его высочество лежал бы на столе для бальзамирования — что, может быть, он и заслужил за свое безрассудство — и весь Кемет, от Фив до устья Сихора, погрузился бы в траур. Подойди сюда.
Дрожащими ногами я подошел и преклонил колени перед его величеством. На груди фараона висела красивая золотая цепь. Он снял ее и надел мне на шею, говоря:
— Потому что ты проявил и храбрость, и мудрость, я жалую тебе вместе с этой цепью титул советника и друга царя и право вписать этот титул на твоей могильной стеле. Ступай, писец Ана, советник и друг царя.
Я отошел в смущении и когда проходил мимо Сети, тот прошептал мне на ухо:
— Прошу тебя, останься товарищем принца и после того, как Ты стал другом царя.
Затем фараон приказал, чтобы начальника отряда повысили в чине, солдаты получили награды, а дети убитых — необходимую помощь, и чтобы семьи тех двух воинов, которых я переодел бегунами, были обеспечены вдвойне.
Закончив эти дела, фараон снова заговорил медленно и многозначительно, предварительно велев всем слугам и страже удалиться. Я тоже хотел уйти, но старый Бакенхонсу удержал меня, поймав за одежду и сказав, что я в моем новом чине имею право остаться.
— Принц Сети, — сказал фараон, — после всего, что я слышал, я нахожу твой доклад весьма странным. Более того, он написан совершенно в ином духе, чем доклады Аменмеса и других. Ты советуешь мне отпустить этих израильтян на все четыре стороны из-за неких лишений и невзгод, которые они претерпели в прошлом и которые, однако, не уменьшили ни их числа, ни их богатства. Я не намерен принять этот совет. Скорее я намерен послать в страну Гошен армию с приказом — прогнать этот народ, сговорившийся тайно убить принца Египта, сквозь Врата Запада27, чтобы там они поклонялись своему богу на небесах или в аду. Да, да, умертвить их всех до единого, от седобородого старца до младенца, сосущего материнскую грудь!
— Я слышу фараона, — спокойно сказал Сети.
— Такова моя воля, — продолжал Мернептах, — и те, кто сопровождал тебя в этой поездке, и все мои советники думают так же, как я, ибо поистине Кемет не может терпеть столь мерзкой измены. Однако согласно нашему закону и обычаю, прежде чем предпринимать столь значительные военные и политические шаги, необходимо, чтобы тот, кто стоит ближе всех к трону и кому суждено занять его, дал свое согласие на эти действия. Ты согласен, принц Египта?
— Я не согласен, фараон. Я считаю, что было бы злодеянием уничтожать десятки тысяч людей по той причине, что несколько глупцов напали на человека, оказавшегося принцем царской крови, потому что тот по досадной случайности осквернил их святилище.
Я увидел, что этот ответ сильно разгневал фараона, ибо никогда еще его воля не встречала подобного сопротивления. Все же он овладел собой и спросил:
— Тогда, принц, ты, может быть, согласишься на более мягкий приговор, а именно — чтобы еврейский народ был рассеян: самые опасные были бы сосланы трудиться в шахтах и каменоломнях пустыни, а остальные расселены по всему Египту на положении рабов?
— Я не согласен, фараон. Мой скромный совет записан в этом свитке и не может быть изменен.
Глаза Мернептаха вспыхнули, но он снова сдержался и спросил:
— Случись тебе занять мое место, принц Сети, скажи нам всем, собравшимся здесь, какую политику ты будешь проводить по отношению к этим израильтянам?
— Ту политику, о фараон, которую я рекомендую в моем докладе. Если я когда-нибудь займу этот трон, ядам им уйти, куда они захотят, и унести с собой свои богатства.
Теперь все взоры были прикованы к нему, послышался ропот. Но фараон поднялся, трясясь от гнева. Схватившись за одежду, там, где она была скреплена на груди, он разорвал ее и вскричал страшным голосом:
— Слушайте его вы, боги Кемета! Слушайте этого сына, который бросает мне вызов в лицо и готов подставить ваши головы под пяту чужого бога! Принц Сети, в присутствии этих членов царского дома и моих советников я…
Он не сказал больше ни слова, ибо принцесса Таусерт, сидевшая до этого молча, подбежала к нему и, обняв, зашептала ему на ухо. Он выслушал ее, потом сел и вновь заговорил:
— Принцесса напоминает мне, что это слишком важный вопрос, который нельзя решать слишком поспешно. Может случиться, что когда принц посоветуется с ней и со своим собственным сердцем и, возможно, обратится к мудрости богов, он возьмет обратно слова, слетевшие с его уст. Приказываю тебе, принц, явиться сюда в этот же час на третий день от нынешнего. Тем временем ни один из присутствующих не должен, под страхом смерти, произнести ни слова о том, что произошло в этих стенах. Это приказ.
— Я слышу фараона, — сказал, поклонившись, принц. Мернептах поднялся, показывая, что Совет окончен, но в этот момент к нему подошел визирь Нехези и спросил:
— А что насчет израильских пленников, о фараон, тех убийц, которые были захвачены в ущелье?
— Их вина доказана. Прикажи бить их розгами до тех пор, пока они не умрут, а если у них есть жены или дети, пусть их схватят и продадут в рабство.
— Да будет воля фараона! — сказал Нехези.
IX. Поражение Амона
В тот вечер я сидел глубоко встревоженный в своей рабочей комнате, тщетно пытаясь писать, ибо я чувствовал, что принцу грозят большие беды, и не знал, что сделать, чтобы отвратить их от него. Дверь отворилась и появился старый Памбаса; назвав меня моим новым титулом, он сказал, что госпожа Мерапи, которая ухаживала за мной, пока я лежал в постели, желает со мной поговорить. И вот она пришла и остановилась передо мной.
— Писец Ана, — сказала она, — я только что видела моего дядю' Джейбиза, который приехал, или был послан, чтобы встретиться со мной.
— Зачем он был послан, госпожа? Сообщить тебе что-нибудь о Лейбэне?
— Нет, Лейбэн скрылся, и никто не знает, где он. А сам Джейбиз избежал неприятностей как дядя предательницы только потому, что согласился взять на себя эту миссию.
— Какую миссию?
— Просить меня, чтобы я, если хочу спастись от смерти или мщения богов, подействовать на сердце его высочества, а я не знаю, как это сделать…
— Но, я думаю, ты бы нашла способы, Мерапи.
— …кроме как через тебя, его друга и советчика, — продолжала она, отвернув в сторону лицо. — Джейбиз узнал, что фараон намерен поголовно истребить народ Израиля.
— Откуда он узнал, Мерапи?
— Не могу сказать, но думаю, это знает весь народ Израиля. Я сама знала с первого же дня, хотя никто мне об этом не говорил. Он узнал также, что по египетским законам это можно сделать только с согласия принца, если он наследник престола и достиг совершеннолетия. Вот я и пришла молить тебя, чтобы ты попросил принца не соглашаться.
— Почему бы тебе самой не попросить принца, Мерапи, — начал я, но вдруг за спиной услышал из полумрака голос принца, который вошел с каким-то писанием в руке через потайную дверь, говоря:
— И с какой же просьбой хочет обратиться ко мне госпожа Мерапи? Нет, не уходи, говори, Луна Израиля.
— О принц, — сказала она умоляюще, — моя просьба в том, чтобы ты спас израильтян от насильственной смерти, ибо ты один в силах это сделать.
В этот момент дверь распахнулась, и явилась царственная Таусерт.
— Что здесь делает эта женщина? — спросила она.
— Думаю, она пришла повидать Ану, жена, так же, как я и, несомненно, ты. И поскольку она здесь, она просит меня спасти ее народ от меча.
— А я прошу тебя, супруг, предать ее народ мечу; они вполне этого заслужили, ибо они хотели убить тебя.
— И заплатили за это, Таусерт, все до единого, — если кто-нибудь еще не мучается под розгами, — добавил он, содрогнувшись. — Остальные невиновны, почему же они должны умереть?
— Потому что от этого зависит судьба твоего трона, Сети. Говорю тебе: если ты будешь по-прежнему перечить воле фараона, а по закону ты имеешь на это право, он лишит тебя права престолонаследия и посадит на твое место твоего кузена Аменмеса, тоже на основании египетских законов.
— Я думал об этом, Таусерт. И все же, почему я должен повернуться спиной к правому делу ради моих личных интересов? Вопрос в том, правильно ли это?
Она с изумлением смотрела на него — она никогда не понимала Сети и не могла представить себе, что он откажется от самого могущественного трона в мире из-за спасения подвластного ему народа только потому, что, по его мнению, этот народ не должен погибнуть. Однако предупрежденная каким-то инстинктом она оставила первый вопрос без ответа, обратившись прямо ко второму.
— Конечно, правильно, — сказала она, — и по многим причинам. Укажу лишь одну, ибо она включает все другие. Боги Кемета — истинные боги, которым мы должны служить и повиноваться или погибнуть теперь и навеки. Бог израильтян — ложный бог, и те, кто ему поклоняются, заслуживают смертного приговора. Поэтому в высшей степени правильно, чтобы те, кого истинные боги осудили, погибли бы от мечей их слуг.
— Хорошо обосновано, Таусерт, и если это действительно так, то может статься, я и соглашусь с твоим мнением и не буду стоять между фараоном и его желанием. Но так ли это? Вот в чем трудность. Не стану спрашивать, почему ты считаешь богов египтян истинными, ибо знаю, что бы ты ответила или, скорее, вообще бы не ответила на этот вопрос. Но я спрошу эту госпожу, действительно ли ее бог — ложный бог, и если она ответит отрицательно, я попрошу ее доказать мне свою правоту, если она может. Если она в состоянии доказать, что она права, тогда, я думаю, через три дня я повторю то, что сказал фараону сегодня. Если она не в состоянии доказать этого, тогда я очень серьезно рассмотрю этот вопрос. Отвечай же, Луна Израиля, и помни — от того, что ты сейчас скажешь, зависят тысячи жизней.
— О принц, — начала было Мерапи. Потом она умолкла, молитвенно сложила руки и подняла глаза. Думаю, она действительно молилась, ибо ее губы шевелились. И вдруг я увидел — и, по-моему, Сети тоже увидел — что какой-то чудесный свет озарил ее лицо и засиял в глазах какой-то божественный огонь вдохновения и решимости.
— Как могу я, простая еврейская девушка, доказать твоему высочеству, что мой бог — истинный бог, а боги Кемета — ложные боги? Не знаю… И все же среди всех богов, которым вы поклоняетесь, есть ли какой-нибудь один, кого вы могли бы противопоставить нашему богу?
— Разумеется, израильтянка, — ответила Таусерт. — Амон-Ра, Отец Богов, от кого все другие боги берут свое существование и свою силу. В святилище его храма, древнего храма, высится его статуя. Пусть твой бог сдвинет ее с места! Но что ты выставишь против величия Амона-Ра?
— Мой бог не имеет статуй, принцесса, и его место в сердцах людей — по крайней мере, так учили меня его пророки. Мне нечего выставить в этой войне кроме того, что неизбежно предлагается во всех войнах, — своей жизни.
— Что ты имеешь в виду? — спросил ошеломленный Сети.
— То, что я, одинокая, без друзей и поддержки, предстану перед Амоном-Ра в его святилище и брошу ему вызов — и пусть он убьет меня, если сможет.
Мы уставились на нее, и Таусерт воскликнула:
— Если сможет! Какое богохульство! И ты, Сети, наследственный верховный жрец бога Амона, принимаешь ее вызов? Пусть же она заплатит жизнью за это святотатство!
— А если великий бог Амон не сможет ил и не пожелает убить тебя, госпожа, как это докажет, что твой бог более велик, чем он? — спросил принц. — Что, если он улыбнется тебе и, пожалев тебя, пренебрежет оскорблением, как поступил со мной твой бог?
— Это будет доказано так, принц: если со мной ничего не случится или если я останусь невредима после того, что все-таки случится, тогда я осмелюсь воззвать к моему богу, чтобы он подал знак или сотворил чудо и принизил Амона-Ра у вас на глазах.
— А если твой бог тоже улыбнется и оставит твою просьбу без ответа, как он поступил с вашими жрецами, когда они воззвали к нему против меня в тот раз, — как мы тогда узнаем, кто из богов сильнее, твой или Амон-Ра?
— О принц, тогда вы ничего не узнаете. Но если я избегну гнева Амона, а мой бог останется глух к моей мольбе, тогда я готова отдаться в руки жрецов Амона, и пусть они отомстят мне за мое кощунство.
— Вот голос великого сердца, — сказал Сети, — но я не хочу, чтобы эта женщина рисковала жизнью на таких условиях. Я не верю, что верховный бог Кемета или бог израильтян откликнутся на этот вызов, но я совершенно уверен в том, что жрецы Амона отомстят за кощунство и притом жестоко. Твоя игра проигрышная, госпожа. Ты не должна доказывать истинность своей веры своей кровью.
— Почему же? — спросила Таусерт. — Что тебе эта девушка, Сети, что ты так страшишься стать между нею и плодами ее кощунства, хотя ты, по крайней мере по званию, являешься верховным жрецом бога, которого она оскорбляет, и носишь его одеяние во времена храмовых мистерий? Она верит в своего бога, пусть он ей и поможет, — она же имеет дерзость утверждать, что он ей поможет.
— Ты веришь в Амона, Таусерт. Ты готова поставить свою жизнь против ее жизни в этом состязании?
— Я еще не сошла с ума и не настолько тщеславна, Сети, чтобы поверить, что бог всего мира спустится с небес спасать меня по моей просьбе, как верит — или говорит, что верит, — эта несчастная девушка.
— Ты отказываешься. Тогда, Ана, что скажешь ты, верный приверженец Амона?
— Скажу, принц, что было бы слишком самонадеянным с моей стороны высказывать свое мнение по такому вопросу, прежде чем выскажется его верховный жрец.
Сети улыбнулся и ответил:
— А верховный жрец говорит, что было бы самонадеянностью настолько расширять прерогативы его высокой должности, к которой он, к тому же, никогда не стремился.
— О принц, — сказала Мерапи умоляющим голосом, — молю тебя, будь милостив ко мне и дай мне пройти через это испытание, мысль о котором, сама не знаю почему, пришла мне в голову. Слова, сказанные мной, нельзя взять обратно. Они уже внесены в Книгу Вечности и рано или поздно, так или иначе должны осуществиться. Вопрос касается моей жизни, и я желаю сразу же узнать, потеряна ли она.
Теперь даже Таусерт посмотрела на нее с восхищением, но сказала только:
— Поистине, израильтянка, я верю, что это мужество не покинет тебя, когда тебя отдадут на милость Ки, жреца храма Амона, и других жрецов в подземелье храма, который ты осквернишь своим кощунством.
— Я тоже верю, что оно меня не оставит, принцесса, если такова будет моя судьба. Твое слово, о принц Египта.
Сети посмотрел на нее — она стояла перед ним спокойная, склонив голову и скрестив на груди руки. Потом он перевел взгляд на Таусерт, на лице которой играла насмешливая улыбка. Он прочитал значение этой улыбки, как прочел его и я. Она означала, что принцесса не верит, чтобы он позволил этой прекрасной женщине, которая спасла ему жизнь, рисковать своей жизнью ради какой-либо или всех сил неба и ада. Некоторое время он ходил взад и вперед по комнате, потом остановился и сказал, обращаясь неожиданно не к Мерапи, а к Таусерт:
— Будь по-твоему, но помни — если эта смелая женщина умрет, ее кровь будет на твоих руках, а если она восторжествует и будет жить, я сочту ее самой благородной из женщин и займусь изучением всех вопросов ее религии. Луна Израиля! Как титулованный верховный жрец Амона-Ра я принимаю твой вызов от имени бога, хотя и не знаю, обратит ли он на него внимание. Испытание состоится завтра ночью в святилище храма, в час, о котором тебе сообщат. Я буду присутствовать — и другие тоже — и следить, чтобы все было по справедливости. Запиши мои распоряжения, писец Ана, и вызови ко мне главного жреца Амона Рои и жреца Амона мага Ки — я хочу поговорить с ними. Прощай, госпожа.
Она пошла, но у дверей обернулась и сказала:
— Благодарю тебя, принц, от своего имени и от имени моего народа. Что бы ни случилось, умоляю тебя — не забудь моей просьбы спасти их, невинных, от меча. А сейчас, пока меня не вызовут в храм, прошу оставить меня совсем одну. Я должна, насколько смогу, подготовиться к тому, что меня ожидает, какова бы ни была моя судьба.
Вслед за ней ушла и Таусерт, не сказав ни слова.
— О друг, что я сделал! — сказал Сети. — Есть ли на свете боги? Скажи мне, есть ли вообще боги?
— Возможно, мы узнаем это завтра ночью, принц, — сказал я. — По крайней мере, Мерапи считает, что один бог есть, и, несомненно, получила приказ доказать правоту своей веры. Именно этот приказ ей и передал, думаю, ее дядя Джейбиз.
Это было за час до рассвета, когда ночь всего темнее. Мы стояли в святилище древнего храма Амона-Ра, освещенного множеством светильников. Все внушало благоговейный ужас. Величественные колонны подымались к массивной крыше. Во главе алтаря на троне высилась статуя Амона-Ра, втрое превышавшая рост человека. Над его челом, как бы вырастая из короны, возвышались два каменных пера, а в руках он держал Бич Власти и символы Могущества и Бессмертия. Отблески света мерцали на его суровом, страшном неподвижном лице, с неподвижным взором, обращенным к востоку.
Справа от него была статуя Мут, Матери всех вещей28. На голове ее была двойная корона Египта с царственным уреем, в руке — перекрещенная петля, символ вечной Жизни. Слева сидел Хонсу — бог луны с головой ястреба, увенчанный серпом молодого месяца, несущий диск полной луны, в правой руке он тоже держал перекрещенную петлю, знак вечной Жизни, а в левой — Жезл Силы. Такова была эта могущественная триада, но самым великим в ней был Амон-Ра, коему и был посвящен этот алтарь. Страшно выглядели они, возвышаясь над нами на фоне черной тьмы.
Здесь собрались: принц Сети, облаченный в белое одеяние жреца и в льняном головном уборе, но без украшений, принцесса Таусерт, верховная жрица Хатхор, богини Любви и Природы. На ней был головной убор богини — голова грифа с диском луны, отлитым из серебра. Были здесь также главный жрец Рои в торжественном жреческом облачении — старый, иссохший человек с властным, жестоким лицом, Ки — жрец и маг, старый Бакенхонсу, я и группа жрецов Амона-Ра, Мут и Хонсу. Из-за статуи доносилось торжественное пение, хотя мы и не видели, кто пел.
Но вот из тьмы, обступившей освещенную часть святилища, появилась женщина, окутанная длинным плащом. Ее вели две жрицы. Выведя ее на открытое пространство перед статуей Амона, они сняли с нее плащ и удалились, оглядываясь на нее со страхом и ненавистью. Перед нами стояла Мерапи, вся в белом; белое покрывало, наброшенное на голову, обрамляло ее лицо, закрывая щеки, подбородок и шею, закрепляясь на груди застежкой со скарабеем, которую Сети дал ей в пустыне у города Гошен, — единственное яркое пятно, голубевшее среди облака белизны. Она не смотрела ни вправо, ни влево. Только однажды она взглянула вверх, на мрачную статую бога и, слегка задрожав, отвела взгляд, устремив его на выложенный в полу узор.
— На кого она похожа? — прошептал мне на ухо Бакенхонсу.
— На мертвеца, готового для бальзамирования, — ответил я. Он отрицательно покачал головой.
— Ну, тогда на молодую жену, подготовленную к приему своего мужа.
Он снова покачал головой.
— Тогда на жрицу, которая собирается читать свиток Тайн.
— Верно, Ана, — и понять то, что она читает. А на это способны лишь немногие из жриц. Но все три ответа были правильны, ибо в этой женщине, мне кажется, я вижу судьбу, которая есть Смерть, жизнь, которая есть Любовь, и дух, который есть Сила. У нее душа, которую целовали и Небо и Земля.
— Да, но кто из них предъявит на нее свои права в конечном итоге?
— К рассвету мы узнаем, Ана. Тише! Борьба начинается. Главный жрец Рои выступил вперед и, остановившись перед богом, окропил его ступни водой и благовониями. Потом он простер руки и все пали ниц, исключая Мерапи, которая оставалась стоять, как одинокий воин, уцелевший на поле битвы.
— Привет тебе, Амон-Ра, — начал он. — Повелитель Небес, Творец всего сущего, Создатель богов, воздвигший небесные своды и построивший основание Земли! О бог богов, перед тобой эта женщина Мерапи, дочь Натана, дитя израильского народа, который не признает тебя. Эта женщина сомневается в твоем могуществе; эта женщина ставит своего бога выше тебя. Не так ли, женщина?
— Так, — ответила Мерапи тихим голосом.
— Она бросает тебе вызов, о Единственный и Единый во многих формах, говоря: «Если бог египтян Амон — более великий бог, чем мой бог, пусть он вырвет меня из объятий моего бога и здесь, в этом самом святилище Амона, похитит дыхание из моих уст и оставит меня безжизненным телом из глины». Это твои слова, о женщина?
— Это мои слова, — сказала она тем же тихим голосом, и, услышав это, я содрогнулся.
Жрец продолжал:
— О повелитель времени, повелитель жизни, повелитель духов и небожителей, повелитель ужаса, явись в своем величии и сотри в прах эту богохульницу.
Рои отступил, и его место занял Сети.
— Узнай, о бог Амон, — сказал он, обращаясь к статуе, как будто говорил с живым человеком, — узнай от меня, твоего верховного жреца, урожденного принца и наследника трона Кемета, что это дело будет иметь великие последствия на земле Кемета, может быть, даже в том, кто займет трон, который ты даруешь его царям. Эта женщина Израиля дерзает говорить тебе прямо в лицо, что есть бог более великий, чем ты, и что ты не сможешь повредить ей, ибо она за щитом его силы. Она говорит также, что попросит своего бога подать знак и сотворить над ней чудо. Наконец, она говорит, что если ты оставишь ее невредимой, а ее бог не подаст о себе никакого знака, тогда она готова остаться в руках твоих жрецов и умереть смертью богохульницы. Твоя честь поставлена против ее жизни. О великий бог Кемета, и мы, поклоняясь тебе, ждем и следим, куда склонится чаша весов.
— Хорошо и правильно изложено, — пробормотал Бакенхонсу. — Теперь, если Амон не поддержит нас, что ты подумаешь об Амоне, Ана?
— Я узнаю мнение верховного жреца и подумаю то, что подумает верховный жрец, — ответил я уклончиво, хотя в душе я смертельно боялся за Мерапи и, сказать по правде, за себя тоже, ибо во мне возникли сомнения и я никак не мог их подавить.
Сети вернулся на свое место рядом с Таусерт, и теперь вперед выступил Ки и сказал:
— О Амон, я, твой жрец и маг, кому ты дал власть и силу, я, жрец и слуга Исиды, Матери Таинств, царицы богов, к тебе я взываю! Та, что стоит перед тобой, всего лишь еврейская женщина. И однако ты знаешь, как знаю я, о Отец, что в этом доме она больше, чем женщина, ибо она — Глас и Меч твоего врага Яхве, бога Израиля. Она, может быть, считает, что пришла сюда по своей воле, но ты, Отец Амон, знаешь, как и я, что ее послали великие пророки ее народа, те маги, которые своими чарами склоняют ее душу к тому, чтобы причинить тебе зло и подвести тебя, Амона, под пяту Яхве. Ставка как будто малая — жизнь лишь одной этой девушки, не больше; однако это великая ставка, о Отец: кто будет править миром — Амон или Яхве. Если ты падешь этой ночью — ты падешь навсегда, если ты восторжествуешь — ты восторжествуешь навсегда. В этом образе из камня скрывается твой дух, в этом образе из женской плоти скрывается дух твоего врага. Сокруши ее, о Амон, сокруши ее в мелкий прах, не дай силе, что таится в ней, одержать верх над твоей силой, иначе имя твое будет осквернено, и горе и лишения обрушатся на землю, которая служит тебе троном, и колдуны израильтян одолеют нас, твоих слуг. Так молит тебя Ки, твой маг, в чью душу тебе угодно было вдохнуть силу и мудрость.
Наступило глубокое молчание.
Следя за статуей бога, я вдруг подумал, что она шевельнулась, и по движению остальных понял, что они увидели то же, что и я. Мне показалось, что ее каменные глаза ожили, что она подняла гранитную руку, державшую Бич Власти, — хотя было ли это результатом действий какого-либо духа или кого-нибудь из жрецов, или магии Ки, я не знаю. По крайней мере, сильный порыв ветра пронесся по храму, всколыхнув наши одежды и чуть не погасив светильники. Только одеяние Мерапи не шелохнулось. Однако она увидела нечто, недоступное моему взору, ибо в глазах ее появился страх.
— Бог пробудился, — шепнул Бакенхонсу. — Теперь прощай, наша красавица-израильтянка. Смотри, принц дрожит, Ки улыбается, а лицо Таусерт сияет торжеством.
Не успел он договорить, как голубой скарабей отделился от ткани на груди Мерапи, как будто сорванный чьей-то рукой. Он упал на пол, как и покрывало с головы Мерапи, и ее густые черные волосы рассыпались по плечам. Потом глаза статуи перестали двигаться, ветер стих и снова наступило молчание.
Мерапи нагнулась, подняла покрывало, набросила его на голову, нашла скарабея и очень спокойно, как сделала бы одевающаяся женщина, снова приколола его на груди; при этом я услышал, как охнула Таусерт.
Долго мы ждали. Наблюдая за окружающими, я видел изумление и сомнение на лицах жрецов, ярость в глазах Ки; на лице же Сети промелькнула легкая улыбка. Мерапи закрыла глаза, как будто уснула. Наконец она открыла их и, повернув голову в сторону принца, сказала:
— Верховный жрец Амона-Ра, проявил ли твой бог свою волю по отношению ко мне, или я должна еще подождать, прежде чем воззвать к моему богу?
— Делай, что хочешь или что можешь, женщина, и кончай с этим, — уже скоро рассвет, когда в храме начнется обычный ритуал.
Тогда Мерапи сложила руки и, подняв глаза, начала молиться вслух, нежно и просто говоря:
— О Бог моих отцов, вверяясь тебе, я, бедная девушка твоего народа Израиля, отдаю жизнь, что ты даровал мне, в твои руки. Если, как я верю, ты Бог богов, молю тебя — подай знак и соверши чудо над этим богом египтян, подтверди свою Честь и сохрани дыхание в моей груди. Если же тебе неугодно, тогда пусть я умру, как я несомненно заслуживаю за многие свои грехи. О Бог отцов моих, я сотворила свою молитву. Выслушай ее или отвергни, да будет на все твоя воля.
Так закончила она, и, слушая ее, я почувствовал, что глаза мои наполняются слезами, потому что она была так одинока, и я боялся, что ее бог ни за что не спасет ее от уготованных ей жрецами мук. Сети тоже отвернулся и устремил взор на полоску неба над открытым двориком, где уже появились первые проблески зари.
И опять наступило молчание. И вдруг снова поднялся ветер, сильнее, чем прежде, погасил светильники и, как мне показалось, отбросил Мерапи в сторону, ибо теперь она стояла сбоку от статуи. В святилище воцарилась тьма; и вот первые лучи восходящего солнца коснулись крыши. С каждой минутой они продвигались все ниже и ниже, пока наконец не опустились, как пламенный меч, на статую Амона-Ра. И вновь статуя как будто шевельнулась. Мне показалось, что она подняла свою каменную руку, словно защищая голову. И потом в одно мгновение вся эта могучая глыба раскололась с оглушительным шумом и рассыпалась прахом вокруг трона, почти целиком покрыв его.
— Смотрите, мой Бог ответил мне, самой смиренной из его слуг, — сказала Мерапи тем же нежным и мягким голосом. — Вот его знак и чудо!
— Ведьма! — закричал главный жрец Рои и бежал в сопровождении своих коллег.
— Колдунья! — прошипела Таусерт и тоже обратилась в бегство, как и все остальные, кроме принца, Бакенхонсу, меня — Аны, и мага Ки.
Мы стояли в изумлении, а Ки повернулся к Мерапи и заговорил. Лицо его, выражавшее страх и ярость, было ужасно, глаза горели, точно светильники. Хотя он говорил шепотом, я стоял ближе, чем все остальные, и слышал все, что говорилось и чего те не могли слышать.
— Твоя магия хороша, израильтянка, — пробормотал Ки, — настолько, что превзошла мою даже в этом храме, где я служу.
— Я не владею никакой магией, — отвечала она очень тихо. — Я повиновалась Высшей воле, не больше.
Он жестко рассмеялся и спросил:
— Стоит ли двум коллегам терять время на глупости? Послушай: научи меня твоим секретам, я же научу тебя своим, и вместе мы станем править Египтом, как колесницей.
— У меня нет секретов, у меня только вера, — снова сказала Мерапи.
— Женщина, — не отступал он, — женщина или дьявол, ты хочешь иметь во мне друга или врага? Сейчас я посрамлен — ведь это на меня, а не на твоих богов полагались жрецы, готовясь уничтожить тебя. Однако я еще могу простить. Выбирай — и знай, что так же, как моя дружба дает тебе власть, жизнь и богатство, так же моя ненависть обречет тебя на позор и смерть.
— Ты вне себя и сам не знаешь, что говоришь. Повторяю, я не владею никакими секретами магии, которыми могла бы с тобой поделиться или которые хотела бы скрыть, — ответила она тоном человека, несведущего или равнодушного к предмету разговора, и отвернулась от него.
В ответ он пробормотал какое-то проклятие, которого я не уловил, поклонился груде пыли, которая была до этого статуей бога, и исчез среди колонн святилища.
— Охо-хо! — засмеялся Бакенхонсу. — Не зря я дожил до такой старости, ибо в Египте, кажется, появился новый бог, и вот его пророчица.
Мерапи подошла к принцу.
— О верховный жрец Амона, — сказала она, — угодно ли тебе отпустить меня? Я очень устала.
X. Смерть фараона
Наступил назначенный день и час. По распоряжению принца я поехал во дворец фараона в его колеснице, так как ее высочество принцесса отказалась сесть с нами рядом, и мы впервые заговорили о том, что произошло.
— Ты видел госпожу Мерапи? — спросил принц.
Я ответил, что нет, ибо мне сказали, что она нездорова и лежит в постели в своем доме, страдая от переутомления или не знаю от чего еще.
— Хорошо, что она не выходит из дома, — сказал Сети, — если бы она вышла, эти жрецы, я думаю, умертвили бы ее при первой возможности. Кроме того, есть и другие. — И он оглянулся на колесницу, в которой во всем царственном великолепии ехала Таусерт. — Скажи мне, Ана, ты можешь найти объяснение всему, что произошло?
— Я? Нет, принц. Я думал, что, может быть, твое высочество, верховный жрец Амона, смог бы просветить меня.
— Верховный жрец Амона сам блуждает в густой тьме. Ки и все прочие клянутся, будто эта израильтянка — колдунья, которая превзошла наших магов, но, по-моему, проще поверить в то, что она говорит правду: что ее бог сильнее, чем Амон.
— А если так, принц, что же нам делать? Ведь мы поклялись в верности богам Кемета?
— Склонить головы и пасть вместе с нашими богами, Ана, ибо чувство чести не позволит нам покинуть их.
— Даже если они ложные, принц?
— Я не думаю, что они ложные, Ана, хотя, возможно, и не такие истинные. Во всяком случае, это боги Кемета, а мы — египтяне. — Он помолчал, глядя на переполненные людьми улицы, и добавил: — Смотри, когда я проезжал здесь три дня назад, народ встречал меня приветственными криками. А сейчас они молчат, все как один.
— Может быть, они слышали о том, что было в храме?
— Несомненно, но не это их беспокоит, ибо они считают, что боги сами постоят за себя. Они слышали также, что я хочу поддержать израильтян, которых они ненавидят, и поэтому начинают ненавидеть и меня. Впрочем, почему бы мне жаловаться, если сам фараон подает им пример?
— Принц, — прошептал я, — что ты скажешь фараону?
— Это зависит от того, что фараон скажет мне. Но, Ана, если я — даже, может быть, в ущерб себе — не хочу покинуть наших богов потому, что они кажутся слабыми, неужели ты думаешь, что я покинул бы этих евреев, которые кажутся слабее, даже ради того, чтобы получить трон?
— Вот голос величия, — пробормотал я, и когда мы сошли с колесницы, он поблагодарил меня взглядом.
Мы прошли через большой зал в ту же комнату, где фараон назначил меня советником и наградил золотой цепью. Он был уже там в торжественном облачении и увенчанный двойной короной. Вокруг собрались все члены царского дома и высшие государственные сановники. Мы почтительно склонились перед ним, но он как будто не обратил на нас никакого внимания. Он сидел прикрыв глаза, и я подумал, что у него вид тяжело больного человека. Но когда вслед за нами вошла Таусерт, он сказал ей несколько слов приветствия и протянул руку для поцелуя. Потом он приказал закрыть двери. В этот момент доложили, что прибыл еврейский посол, который хочет поговорить с фараоном.
— Пусть войдет, — сказал Мернептах, и тот явился.
Это был человек средних лет с дикими глазами и длинными волосами, ниспадавшими на его одежду из овчины. На мой взгляд, он был похож на прорицателя. Он остановился перед фараоном, даже не поклонившись.
— Изложи, что тебе нужно, и уходи, — сказал визирь Нехези.
— Моими устами говорят Отцы Израиля! — воскликнул этот человек громким голосом, наполнившим гулким эхом сводчатую комнату. — До нашего слуха дошло, о фараон, что женщина Мерапи, дочь Натана, прозванная также Луной Израиля, та, что нашла убежище в твоем городе, оказалась пророчицей, которую наш бог наделил особой силой, так что она, стоя одна среди жрецов и магов Амона, бога египтян, была неуязвима для их колдовских чар и смогла мечом молитвы сокрушить идола Амона, превратив его в прах. Мы требуем, чтобы эта пророчица была нам возвращена, и со своей стороны клянемся, что она будет доставлена целой и невредимой ее нареченному мужу и не пострадает за те преступления или измены, какие она могла совершить против своего народа.
— По этому делу, — спокойно ответил фараон, — обратись со своей просьбой к принцу Египта, в чьем доме, как я понимаю, живет эта женщина. Если ему угодно выдать ее — эту, как я считаю, колдунью или ловкую фокусницу — ее жениху и родственникам, пусть выдаст. Не дело фараона решать судьбы отдельных рабов.
Человек резко обратился к Сети:
— Ты слышал, сын царя? Ты освободишь эту женщину?
— Не обещаю ни освободить ее, ни удержать, — сказал Сети, — поскольку госпожа Мерапи не принадлежит к моему дому, и я не имею над ней власти. Она спасла мне жизнь, если ей угодно будет уйти, она уйдет, если ей угодно остаться здесь, она останется. Когда Совет кончится, я дам тебе почетную охрану, и ты пройдешь к ней и узнаешь о ее желании из ее собственных уст.
— Ты получил ответ, а теперь уходи, — сказал Нехези.
— Нет! — воскликнул человек. — Я еще не все сказал. Отцы Израиля говорят: мы знаем о черных замыслах твоего сердца, о фараон. Нам ясно свыше, что ты намерен предать сынов Израиля мечу, в то время, как принц Египта намерен спасти их от меча. Откажись от своего намерения, о фараон, и поскорее, чтобы смерть не сразила тебя по воле небес.
— Замолчи! — вскричал Мернептах громовым голосом, заглушившим возмущенный ропот придворных. — Еврейская собака, ты смеешь угрожать фараону на его собственном троне? Да не будь ты послом и потому, по древнему обычаю, неприкосновенным, пока не зашло солнце, тебя бы тотчас разрубили на мелкие куски. Прочь его! И если его обнаружат в этом городе после наступления ночи, он будет убит.
Тогда на него набросились несколько советников и грубо поволокли его к выходу. У дверей он вырвался и прокричал:
— Подумай о моих словах, фараон, пока не село солнце! И вы, знатные мужи Кемета, подумайте о них, пока оно не появится вновь!
Они ударами прогнали его и закрыли двери. И фараон снова заговорил:
— Теперь, когда этот скандалист убрался, что ты хочешь сказать мне, принц Египта? Ты все еще настаиваешь на рекомендаций, которую дал в своем докладе? Ты все еще отказываешься, пользуясь правом наследника Трона, согласиться с моим решением — уничтожить этих проклятых израильтян мечом моего правосудия?
Все взгляды устремились на Сети, который, немного подумав, сказал:
— Да простит меня фараон, но мой совет остается все тем же, мое несогласие с твоим решением — то же. Потому что сердце говорит мне, что это справедливо, и я думаю, что это спасет Египет от многих бед.
Подождав, пока писцы зафиксируют эти слова, фараон снова спросил:
— Принц Египта, если бы в недалеком будущем ты занял мое место, остался бы ты при своем намерении — дать израильскому народу беспрепятственно уйти и унести с собой все богатства, которые они здесь накопили?
— Да простит меня фараон, я останусь при своем намерении. При этих роковых словах у всех, кто их слышал, вырвался вздох изумления. Прежде чем он замер, фараон уже повернулся к Таусерт, спрашивая ее:
— Является ли это и твоим советом, твоей волей и твоим намерением, о принцесса Египта?
— Да услышит меня фараон, — ответила Таусерт холодным и ясным голосом. — Нет. В этом важном вопросе мой супруг принц идет одной дорогой, а я — другой. Мой совет, моя воля и мое намерение те же, что у фараона.
— Сети, сын мой, — сказал Мернептах мягким и добрым голосом, какого я еще никогда у него не слышал, — последний раз, не как царь, а как отец твой, прошу тебя — подумай. Вспомни, что так же, как в твоей власти (поскольку ты совершеннолетний и участвовал вместе со мной во многих государственных делах) отказаться дать согласие в вопросе важного государственного значения, точно так же в моей власти, с согласия верховных жрецов и моих помощников-министров, устранить тебя с моего пути. Сети, я могу лишить тебя прав наследника и посадить на твое место другого и, если ты будешь упорствовать и дальше, именно это я и сделаю. Поэтому подумай хорошенько, сын мой.
Среди напряженного молчания Сети ответил:
— Я подумал, о отец мой, и чего бы мне это ни стоило, не могу взять свои слова обратно.
Тогда фараон поднялся и вскричал:
— Запомните все, собравшиеся здесь, и пусть об этом объявят народу Кемета, чтобы все за этими стенами тоже запомнили, что я низлагаю моего сына Сети как принца Египта и объявляю, что он лишен права унаследовать двойную корону. Запомните, что моя дочь Таусерт, принцесса Египта, жена принца Сети, остается при всех своих правах. Все права и привилегии, положенные ей как наследнице короны, остаются за ней, и если у нее и у принца Сети родится дитя и будет жить, это дитя будет наследником египетского трона. Запомните, что если такое дитя не родится, или до его рождения, я нарекаю моего племянника Аменмеса, сына моего брата Кхемуаса, почившего в царстве Осириса, тем, кто вступит на престол Египта, когда меня не станет. Подойди ко мне, Аменмес.
Тот подошел и остановился перед ним. Фараон снял с головы двойную корону и на минуту увенчал ею Аменмеса, говоря в то время, как снова надевал ее на себя:
— Этим актом и знаком я нарекаю и назначаю тебя, Аменмес, царственным принцем Египта вместо моего сына, низложенного принца Сети. Иди, царственный сын — принц Египта. Я сказал!
— Жизнь! Кровь! Сила! — воскликнули все, склоняясь перед фараоном, — все, кроме принца Сети, который не поклонился и не двинулся с места. Он только воскликнул:
— О, я слышал! Угодно ли фараону объявить, не лишит ли он меня вместе с наследством и жизни? Если так, пусть это будет здесь и сейчас же. Мой кузен Аменмес имеет при себе меч.
— Нет, сын, — печально ответил Мернептах, — твоя жизнь остается с тобой, и вместе с нею — все твои личные титулы и твои владения, каковы бы они ни были.
— Да будет воля фараона, — произнес Сети безразличным тоном, — ив этом деле, как и во всех других, фараон оставляет мне жизнь до того времени, когда его преемник, Аменмес, займет его место и отнимет ее у меня.
Мернептах вздрогнул; эта мысль не приходила ему в голову.
— Выйди вперед, Аменмес, — воскликнул он, — поклянись тройной клятвой, которую нельзя нарушить! Поклянись Амоном, Птахом и Осирисом, богом смерти, в том, что ты никогда не попытаешься причинить вред принцу Сети, твоему двоюродному брату, — ни телесный, ни в его делах и правах, которые за ним остаются. Пусть Рои, главный жрец Амона, примет у тебя эту клятву в нашем присутствии.
Тогда Рои произнес слова клятвы в ее древней форме, клятвы, которую даже слушать было страшно, и Аменмес весьма неохотно, как я подумал, повторил ее за ним, слово в слово, добавив, однако, в конце следующие слова: «Все это я клянусь исполнить, и все кары в этом мире и в будущем призываю на свою голову лишь в том случае, если принц Сети оставит меня в покое, когда наступит мое время занять трон, который фараону угодно было мне завещать».
Кое-кто осмелился заметить вполголоса, что этого недостаточно, ибо мало было таких, кто в глубине души не любил бы Сети и не скорбел бы, глядя, как его лишили прав наследника из-за того, что его мнение в одном вопросе государственной политики расходится с мнением фараона. Но Сети только засмеялся и презрительно сказал:
— Пусть будет, как есть, ибо какую цену имеют такие клятвы? Фараон на троне выше всяких клятв, он отвечает только перед богами, а от некоторых сердец боги очень и очень далеки. Пусть Аменмес не боится, что я начну ссориться с ним из-за короны! По правде говоря, я никогда не жаждал величия и тревог царской власти и лишенный их по-прежнему имею все, чего мог бы желать. Отныне я пойду дорогой многих, как один из египетской знати, не более; и если в будущем фараону угодно прекратить мои странствия, я и тогда не стану горевать; я готов принять приговор богов, как в конце концов должен будет принять его и он сам. И все же, фараон, отец мой, прежде чем мы расстанемся, позволь мне высказать мысли, которые подымаются во мне.
— Говори, — пробормотал Мернептах.
— Фараон, с твоего разрешения скажу тебе: сегодня ты совершил большое зло — дело, которое не одобряют силы, правящие миром, кто бы или чем бы они не были; дело, которое принесет Кемету беды, неисчислимые, как песчинки в пустыне. Я думаю, что эти израильтяне, которых ты несправедливо собираешься уничтожать, поклоняются богу столь же великому, как наш бог, если не более, и что они и он восторжествуют над Египтом. Я думаю также, что великое наследство, которое ты у меня отнял, не принесет ни радости, ни почета тому, кто его получил.
Аменмес готов был вспылить, но Мернептах поднял руку, и он промолчал.
— Я думаю, фараон, — мне больно говорить об этом, но я должен, — что дни твои на земле сочтены и что мы смотрим в этой жизни друг на друга последний раз. Прощай, фараон, отец мой, кого я люблю в этот час расставания, может быть, больше, чем когда-либо прежде. Прощай, Аменмес, принц Египта. Прими от меня это украшение, которое отныне будешь носить только ты. — И сняв с головы венец наследника престола, он протянул его Аменмесу, который взял его с торжествующей улыбкой и надел на себя.
— Прощайте, вельможи и советники; надеюсь, в этом принце вы найдете хозяина, который будет вам больше по вкусу, чем мог бы стать я. Пойдем, Ана, друг мой, — если ты все еще хочешь быть мне другом, ведь теперь мне нечего делить.
Несколько мгновений он постоял, не сводя с отца проникновенного взгляда, в то время, как тот смотрел на него со слезами в запавших выцветших глазах.
Потом — не знаю, было ли это преднамеренно или случайно — Сети выпрямился и, не обращая внимания на Таусерт, которая смотрела на него в замешательстве и с гневом, воскликнул:
— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон! — и поклонился почти до земли.
Мернептах слышал. Бормоча почти шепотом:
— О Сети, сын мой, самый любимый мой сын! — он простер руки, словно пытаясь вернуть, а может быть обнять его. И вдруг я увидел, что он изменился в лице. И в следующий миг он упал лицом вниз и остался лежать, не двигаясь. Все замерли, охваченные ужасом, только придворный врач бросился к нему, а Рои и другие жрецы забормотали молитвы.
— Добрый бог отошел к Осирису? — произнес Аменмес хриплым голосом. — Ибо, если это так, то я — фараон!
— Нет, о Аменмес! — воскликнула Таусерт. — Его указы еще не утверждены и на них нет печати. Они не имеют ни силы, ни веса.
Прежде чем тот успел ответить, врач вскричал:
— Тише! Фараон еще жив, сердце бьется. Это только припадок, он может оправиться. Уходите все, ему нужен покой.
И мы ушли, но прежде Сети опустился на колени и поцеловал отца в лоб.
Час спустя принцесса Таусерт ворвалась в комнату Сети в его дворце, где мы с ним разговаривали.
— Сети, — сказала она, — фараон еще жив, но врачи говорят, что к рассвету он умрет. Еще есть время. Вот у меня тут написано, за его печатью и с подписями свидетелей, что он отменяет все сегодняшние приказы и объявляет тебя, своего сына, истинным и единственным наследником египетского трона.
— В самом деле, жена? Объясни мне, как умирающий человек, к тому же без сознания, мог продиктовать такое завещание и поставить на него печать? — И он дотронулся до свитка, который она держала в руке.
— Он ненадолго пришел в себя; Нехези скажет тебе, как, — ответила она, смотря ему в лицо холодным взглядом. Прежде чем он мог возразить, она добавила: — Не теряй времени на вопросы, а действуй, и немедленно. Начальник охраны ждет внизу; он твой преданный слуга. Через него я обещала наградить каждого солдата в день твоей коронации. Нехези и большинство сановников на твоей стороне. Против нас только жрецы — из-за этой еврейской колдуньи, которой ты дал убежище, и из-за ее племени, которому ты хочешь помочь; но они еще не успели поднять народ и не решатся восстать. Действуй, Сети, действуй, — без твоего личного приказа никто не тронется с места. Да и потом не возникнет никаких вопросов, ведь от Фив до моря и во всем мире тебя знают как наследника Египта.
— Что ты хочешь, чтобы я сделал? — спросил Сети, когда она остановилась, чтобы перевести дух.
— А ты не догадываешься? Неужели я должна вкладывать идеи в твою голову, как и меч в руку? Даже твой писец, который ходит за тобой по пятам, как любимый пес, был бы лучшим учеником. Ну, так слушай. Аменмес собирает войско, но пока что у него нет и пятидесяти человек, на которых он мог бы положиться. — Она наклонилась к нему и неистово зашептала: — Убей предателя Аменмеса — все примут это как акт справедливости, а начальник ждет твоего слова. Я позову его?
— Нет, — сказал Сети. — Разве то, что фараон, пользуясь своим правом, назвал другого человека царской крови своим наследником, делает того предателем по отношению к фараону, который еще жив? Нет, предатель или не предатель, я не убью моего кузена Аменмеса.
— Тогда он убьет тебя!
— Может быть. Это дело между ним и богами, пусть они и решают. Клятву, которую он дал сегодня, не так-то легко нарушить. Но нарушит он ее или нет, я тоже дал клятву, по крайней мере в сердце, в том, что я никогда не стану оспаривать решения фараона, которого я, в конце концов, люблю, как своего царя, фараона, который еще жив и, я надеюсь, еще может оправиться. Что бы я сказал ему, если бы он поправился или, в худшем случае, если бы мы встретились в другом мире?
— Фараон никогда не поправится; я говорила с врачом, он мне сказал. Они уже пробуравливают ему череп, чтобы выпустить злой дух болезни, а после этого никто из нашей семьи не жил долго.
— Потому что они впускают внутрь добрый дух смерти, что бы там ни говорили жрецы и врачи. Ана, прошу тебя, если я…
— Сети, — прервала она, стукнув рукой по столу, возле которого стояла, — ты понимаешь, что пока ты тут размышляешь и морализируешь, твоя корона уходит из твоих рук?
— Она уже ушла, госпожа. Разве ты не видела, как я передал ее Аменмесу?
— Да понимаешь ли ты, что вместо того, чтобы стать величайшим царем во всем мире, ты — если вообще тебя оставят в живых — через несколько часов будешь ничем, простым египетским горожанином, в которого может безнаказанно плюнуть даже нищий?
— Конечно, жена, больше того, в том, что я делаю, нет особой добродетели, поскольку такая перспектива меня, в целом, даже устраивает, и я готов пойти на риск и покинуть этот мир зла. Послушай, — добавил он совсем другим тоном. — Ты думаешь, что я глуп и слаб, и мечтатель тоже, ты — проницательная, хладнокровная женщина с государственным умом, готовая платить кровью за блеск и торжество момента, не стараясь понять, что за всем этим скрывается. У меня нет этих качеств, за исключением, может быть, последнего. Я лишь человек, который смирился, стремится быть справедливым и поступать правильно, насколько я это понимаю; и если я мечтаю, то о добре, а не о зле, — как я понимаю добро и зло. Ты убеждена, что эти мечтания приведут меня к житейским потерям и позору. Я же не уверен даже в этом. Мне приходит в голову, что они приведут меня к тем же самым побрякушкам, которых жаждешь ты, но только по дороге, усыпанной благоухающими цветами, а не костями людей, издающими трупный запах. Короны, которые покупаются ценой крови и удерживаются жестокостью, обычно и утрачиваются в кровопролитии, Таусерт.
Она замахала руками:
— Пожалуйста, замолчи! Оставь остальное до того дня, когда у меня будет время слушать. Уж если мне понадобятся пророчества, я лучше обращусь к Ки и к тем, для которых это — дело жизни. Для меня сегодня — это время действий, а не мечтаний, и, поскольку ты отвергаешь мою помощь и ведешь себя, как больная девчонка во власти фантазии, мне придется рассчитывать только на себя. Но пока ты жив, я не могу ни править одна, ни вести войну от твоего имени, так что я пойду к Аменмесу — он щедро заплатит мне за мир между нами.
— Ты пойдешь — и вернешься, Таусерт?
Она гордо выпрямилась, приняв царственный вид, и медленно сказала:
— Я не вернусь. Я, египетская принцесса, не могу жить как жена простого человека, того, кто свалился с трона на землю и начинает пачкать грязью собственный лоб, который венчала корона с уреем. Когда твои предсказания сбудутся, Сети, и ты выберешься из пыли, тогда, возможно, мы поговорим.
— Да, Таусерт, вопрос лишь в том, что мы друг другу скажем?
— А пока, — добавила она, собираясь уйти, — оставляю тебя с избранными тобой советчиками — твоим писцом, который преждевременно поседел от глупости, но не от мудрости, и, может быть, с еврейской колдуньей, которая может напоить тебя лунными лучами из своих лживых уст. Прощай, Сети, когда-то принц и мой супруг. 102
— Прощай, Таусерт, только боюсь, ты все равно останешься моей сестрой.
Он проводил ее взглядом и, повернувшись ко мне, сказал:
— Сегодня, Ана, я потерял и корону, и жену, и, однако, как ни странно, я не знаю, которое из этих зол меньше. Но на этот раз зло еще не исчерпано. Может быть, и ты тоже уйдешь, Ана? Хоть принцесса и издевается над тобой в гневе, на самом деле она о тебе хорошего мнения и с удовольствием приняла бы тебя к себе на службу. Запомни, в Египте может пасть кто угодно, но только не она: она-то продержится до конца.
— О принц, — ответил я, — неужели я так мало вытерпел сегодня, что ты хочешь добавить еще и оскорбление к моим горестям? Не я ли разделил с тобой чашу и поклялся быть твоим другом?
— Как! — засмеялся он. — Неужели в Кемете еще есть человек, который помнит клятвы себе в ущерб? Спасибо тебе, Ана. — И взяв мою руку, он крепко пожал ее.
В этот момент дверь открылась и вошел старый Памбаса.
— Эта женщина, Мерапи, хотела бы видеть тебя, а также два израильтянина, — сказал он.
— Впусти их, — ответил Сети. — Заметь, Ана, как этот старый служака отворачивает лицо от заходящего солнца. Еще утром он сказал бы «видеть твое высочество» и поклонился бы так низко, что его борода коснулась бы пола. А теперь это просто «видеть тебя» и не более чем легкий кивок в знак обычной учтивости. Да еще со стороны того, кто грабил меня из года в год и разжирел на взятках. Это первый из горьких уроков — нет, пожалуй, второй, ибо первый я получил от ее высочества. Только бы научиться принимать их со смирением.
Пока он предавался этим размышлениям вслух, а я, не находя слова утешения, внимал ему с печалью в сердце, вошла Мерапи, а минутой позже следом за ней явились тот посланец с дикими глазами, которого мы видели утром при дворе фараона, и хитроумный купец Джейбиз. Она низко поклонилась Сети и улыбнулась мне. Затем вошли эти двое, и с легким Поклоном посланец заговорил:
— Ты знаешь мое требование, принц. Эта женщина должна быть возвращена ее народу. Вот ее дядя, Джейбиз, — он ее увезет.
— А ты знаешь мой ответ, израильтянин, — возразил Сети. — Я не имею власти над действиями госпожи Мерапи, во всяком случае — не желаю никакого принуждения с моей стороны. Обратись к ней самой.
— Что ты от меня хочешь, жрец? — быстро спросила его Мерапи.
— Чтобы ты вернулась в город Гошен, дочь Натана. Или ты не слышишь, что я сказал?
— Слышала, но если я вернусь, чего ты от меня потребуешь?
— Чтобы ты, доказавшая своим подвигом в их храме что у тебя пророческий дар, посвятила бы его твоему народу. За это тебе простят все зло, какое ты ему нанесла, и в этом мы клянемся тебе именем бога.
— У меня нет дара пророчества, и я не причинила моему народу никакого зла, спасая от убийства человека, который доказал, что он их друг; он даже отказался ради них от короны.
— Об этом судить не тебе, женщина, а Отцам Израиля. Твой ответ?
— Об этом судить не им и не мне, а только богу. — Помолчав, она добавила: — Это все, о чем ты просишь?
— Это все, о чем просят Отцы, но Лейбэн просит вернуть ему нареченную жену.
— И меня выдадут замуж за… за этого убийцу?
— Без сомнения, тебя выдадут за этого храброго воина, ведь ты давно ему принадлежишь.
— А если я откажусь?
— Тогда, дочь Натана, моя обязанность — проклясть тебя от имени бога и объявить, что твой народ отвергает тебя. Моя обязанность, далее, заявить тебе, что твоя жизнь поставлена вне закона и что любой еврей может убить тебя, как и где сможет, и не понести за это никакого наказания.
Мерапи немного побледнела и, обернувшись к Джейбизу, спросила:
— Ты слышат, дядя. Что скажешь ты?
Джейбиз исподтишка огляделся и сказал елейным тоном:
— Племянница, ты, конечно же, должна повиноваться Старейшинам Израиля, выражающим волю неба, так же, как ты повиновалась им, когда решилась померяться силой с Амоном.
— Вчера ты мне советовал другое, дядя. Ты сказал, что мне лучше остаться здесь.
Посланец повернулся и смерил его свирепым взглядом.
— Между вчера и сегодня большая разница, — поспешил ответить Джейбиз. — Вчера ты была под защитой того, кто должен был вскоре стать фараоном и мог бы повернуть общее мнение в пользу твоего народа. Сегодня он лишился своего величия и его воля не имеет в Египте никакого веса. Кто же станет бояться мертвого льва?
При этом оскорблении Сети усмехнулся, но лицо Мерапи, как и мое лицо, покраснело, должно быть от гнева.
— Спящих львов и раньше принимали за мертвых, дядя, в чем не раз убеждались те, кто пытался их лягнуть. Принц Сети, ты не скажешь хоть слово, чтобы помочь мне в этом затруднении?
— Но в чем же затруднение, госпожа? Если ты желаешь вернуться к своему народу и к Лейбэну, который, как я понимаю, оправился от своих ран, то ничего не стоит между тобой и мной, кроме моей благодарности, которая дает мне право сказать, что ты не должна возвращаться. Однако, если ты желаешь остаться здесь, то, пожалуй, я еще не так бессилен, как думает достойный Джейбиз, и могу защитить и нанести удар. Я по-прежнему первый из вельмож в Египте, и рядом с мной люди, которые меня любят. Так что, пожелай ты остаться, я думаю, тебя здесь никто не обидит — и меньше всего тот друг, под покровительством которого ты можешь спокойно жить.
— Это очень благородные слова, — пробормотала Мерапи, — слова, какие мало кто сказал бы девушке, от которой ничего не ждут и которая ничего не может дать.
— Довольно болтовни! — закричал посланец. — Ты подчиняешься или нет? Твой ответ?
— Я не вернусь в Гошен и к Лейбэну — я достаточно насмотрелась на его меч.
— Может статься, ты видела его не в последний раз. Подумай все-таки, прежде чем тебя постигнет божья кара и на тебя обрушится проклятие твоего народа, а потом — смерть. Ибо это проклятие падет на тебя, говорю я, а я, как уже знает фараон и сам принц тоже, не какой-нибудь самозваный пророк!
— Я не верю, что мой бог, который видит сердца своих созданий, обрушит свою месть на женщину за то, что она отказывается стать женой убийцы, которого она сама не выбирала себе в мужья, — а именно такую участь ты мне сулишь, жрец. Поэтому я вручаю свою судьбу в руки великого Судьи над всеми людьми. В остальном же я отвергаю тебя и твои приказы. Если я должна погибнуть, пусть я умру, но по крайней мере я умру свободной, а не чьей-то любовницей, женой или рабыней.
— Хорошо сказано, — шепнул мне Сети.
Вид посланца стал ужасен. Размахивая руками и дико вращая своими дикими глазами, он призвал на голову бедной девушки какое-то отвратительное проклятие, большую часть которого мы не поняли, так как он говорил быстро и на каком-то незнакомом древнем еврейском наречии. Он проклял ее живую, умирающую и после смерти. Он проклял ее в любви и ненависти, в замужестве и бездетности и проклял ее детей и потомков во всех поколениях. Под конец он объявил, что она отвергнута богом, которому поклоняется, и приговорил ее к смерти от руки любого, кто сможет ее убить. Это проклятие было столь ужасно, что она отшатнулась, а Джейбиз скорчился на полу, закрыв лицо руками, и даже я почувствовал, как кровь стынет в моих жилах.
Наконец он умолк с пеной на губах и вдруг с криком: «После приговора — смерть!» — выхватил из-под одежды нож и бросился на Мерапи.
Она спряталась за нашими спинами. Он погнался за ней, но Сети воскликнул: «Ага! Я так и знал!» — и очутился между ними, с железным мечом в руке, который он носил обычно с парадной одеждой. Он схватился с нападавшим, и в следующий миг я увидел покрасневшее острие клинка, который пронзил того насквозь и выступил между лопатками.
Жрец упал, бормоча:
— Так-то ты показываешь свою любовь к Израилю, принц?
— Так я показываю свою ненависть к убийцам, — ответил Сети. Потом этот человек умер.
— О! — вскричала Мерапи, ломая руки. — Опять из-за меня пролилась еврейская кровь, и теперь все его проклятие падет на меня.
— Нет, на меня, госпожа, — если в проклятиях есть какой-то смысл (в чем я сомневаюсь). Ведь это я убил его, иначе нож этого сумасшедшего поразил бы тебя.
— Да, мне оставлена жизнь, хотя бы ненадолго. Если бы не ты, принц, я бы сейчас… — И она содрогнулась.
— А если бы не ты, Луна Израиля, я бы сейчас… — И он улыбнулся, добавив: — Право же, судьба плетет вокруг тебя и меня странную сеть. Сначала ты спасаешь меня от меча, потом я спасаю тебя. Я думаю, госпожа, что в конце концов мы умрем вместе и дадим Ане материал для лучшего из всех его рассказов. Друг Джейбиз, — обратился он к израильтянину, который все еще сидел, скорчившись и забившись в угол, — возвращайся к своему мягкосердечному народу и доходчиво объясни всем, почему госпожа Мерапи не может сопровождать тебя; в доказательство захвати с собой эту бренную плоть. Скажи им, что если они пришлют еще кого-нибудь, чтобы преследовать твою племянницу, его постигнет такая же участь, но что и теперь, как и раньше, я не отвернусь от них из-за поступков нескольких безумцев или злодеев. Ана, собирайся, ибо вскоре я уеду в Мемфис. Проследи, чтобы госпожа Мерапи, которая поедет одна, имела надежный эскорт во время путешествия, если, конечно, ей угодно будет покинуть Танис.
XI. Коронация Аменмеса
И вот, невзирая на все несчастья, выпавшие на долю Кемета, и на некую скорбь, которую я скрывал в своем сердце, начались самые счастливые дни, какие мне послали боги. Мы переехали в Мемфис, белостенный город, где я родился, город, который я любил. Теперь я уже больше не жил в маленьком домишке возле храма Птаха, который просторнее и великолепнее, чем любой храм в Фивах или Танисе. Моим домом стал прекрасный дворец Сети, доставшийся ему в наследство от матери, великой царской жены. Дворец этот стоял, да и до сих пор стоит на насыпном холме, не огражденный стенами, близ храма богини Нейт29, которая всегда обитает к северу от стены — почему, я не знаю, ибо этого не могут объяснить мне даже жрецы. Перед дворцом на северной стороне — портик, крыша которого покоится на раскрашенных колоннах с капителями в форме пальмовых листьев, и отсюда открывается самый прекрасный вид во всем Египте. Сначала — сады, потом пальмовые рощи, за ними возделанные поля, простирающиеся до широкого и благородного Сихора, а потом — уходящая вдаль пустыня.
Итак, здесь мы поселились, держа маленький двор и почти не имея охраны, но в богатстве и комфорте, проводя время в дворцовой библиотеке или в библиотеках при храмах, а когда уставали от работы — в прелестных садах или иногда скользя под парусом по глади Нила. Госпожа Мерапи жила здесь же, но в отдельном крыле дворца, с избранными рабами и слугами, которых предоставил ей Сети. Иногда мы встречались с нею в садах, где она любила гулять в те же часы, что и мы, — до того, как солнце начинало припекать слишком жарко, или в прохладные вечерние часы, а время от времени и ночью, когда выходила луна. Мы втроем часто разговаривали, ибо Сети никогда не искал ее общества один или в стенах дворца.
Эти разговоры доставляли нам много удовольствия. Более того, они происходили все чаще, а так как Мерапи жаждала знаний, принц приносил ей длинные свитки, которые она читала в маленьком летнем павильоне. Мы часто сидели там, а если было слишком жарко, то снаружи, в тени двух раскидистых деревьев, ветви которых простирались над крышей домика; Сети рассуждал о содержании свитков и учил ее секретам нашего письма. Иногда я читал им свои рассказы, которые оба они любили слушать, — по крайней мере, так они говорили, а я в своем тщеславии этому верил. Мы говорили о тайнах и чудесах мира, о израильтянах и их судьбе или о том, что происходило в Египте и в соседних странах.
Мерапи не чувствовала себя одинокой и потому, что в Мемфисе жили некоторые знатные женщины, в жилах которых текла еврейская кровь или, будучи израильтянками по рождению, вопреки своим законам вышли замуж за египтян. Среди этих женщин Мерапи нашла себе подруг, и вместе они молились на свой лад, и никто не запрещал им этого, поскольку жрецам не позволено было их беспокоить.
Мы же общались с кем хотели, ибо мало кто забыл, что по рождению Сети был принцем Египта, то есть почти полубогом, и все стремились попасть во дворец. К тому же его очень любили ради него самого, особенно бедняки, помогать которым было для него наслаждением, и он никогда не жалел для них своего богатства. Потому и получалось, совершенно против его воли, что стоило ему выйти в город, как его встречали с такими почестями и поклонением, словно он — почти царь; да и в самом деле, хотя фараон и мог отобрать у него корону, он не мог очистить его вены от царской крови.
Но именно поэтому я боялся за него; я был уверен, что Аменмес все знает через своих шпионов и начнет ревновать и возненавидит низложенного принца, который столь горячо любим теми, над кем он по праву должен был бы царствовать. Я поделился с Сети моими сомнениями и попытался внушить ему, что, выходя на улицы, он должен брать с собой вооруженных людей. Но он только рассмеялся и ответил, что если уж израильтянам не удалось его убить, то едва ли это удастся другим. Больше того, он верил, что ни один египтянин в стране не поднимет на него меч и не всыплет яду в его питье, от кого бы ни исходило подобное поручение. И он заключил такими словами:
— Лучший способ избежать смерти — это не бояться смерти, ибо тогда Осирис сторонится нас.
А теперь я должен рассказать о событиях в Танисе. Фараон Мернептах протянул еще несколько часов и ни разу не пришел в сознание. Тогда перед тем, как его дух отлетел на небо, во всей стране наступил великий траур, ибо если Мернептаха и не любили, то во всяком случае его почитали и боялись. Только израильтяне открыто радовались и ликовали, потому что он был их врагом и их пророки, предсказали ему близкую смерть, они представили его кончину, как ниспосланную их богом кару, и за это египтяне возненавидели их еще сильнее, чем прежде. Наряду с этим, в Египте возникло много сомнений и недоумений, ибо, хотя приказ о низложении принца Сети распространился по стране, народ, особенно жители юга, не могли понять, почему это следовало сделать из-за рабского пастушеского племени, обитавшего в Гошене. В самом деле, захоти только принц поднять руку, как десятки тысяч стеклись бы под его знамя. Однако он решительно отказался от этого, изумив весь мир, считавший просто чудом, что кто-то может отказаться от трона, который возвысил бы его почти до уровня богов. Именно с целью избежать подобных высказываний и назойливых советов Сети сразу же уехал в Мемфис и скрывался там весь период траура по своему отцу. Вот почему, когда Аменмес вступил на трон, не было ни одного человека, кто бы сказал ему «нет», поскольку Таусерт, оставшись без мужа, не могла — или не захотела — предпринять никаких действий.
После того как тело умершего было набальзамировано, фараона Мернептаха повезли вверх по Нилу в его вечный дом — роскошную гробницу, которую он заготовил для себя в Долине Царей в Фивах. Принца Сети не пригласили на эту великую церемонию, дабы его присутствие (как сказал мне впоследствии Бакенхонсу) не вызвало какого-нибудь выступления в его пользу с его или без его ведома. По этой же причине мертвый бог, как назвали Мернептаха, не получил передышки в Мемфисе во время своего последнего путешествия вверх по Нилу. Переодевшись простым горожанином, принц следил, как тело его отца проплывает мимо в траурной лодке, охраняемой бритыми, облаченными в белое жрецами, в центре великолепной процессии. Впереди шли другие лодки, заполненные воинами и государственными сановниками; позади следовали новый фараон и все великие мира сего в Египте, и над всем этим, и над гладью вод неслись стоны, плач и причитания. Они появились, они проследовали, они исчезли, и когда они скрылись из виду, Сети тихо заплакал, ибо он по-своему любил отца.
— Какая польза быть царем и называться полубогом, Ана, — сказал он, — если такие боги кончают тем же, чем нищий у ворот?
— Та польза, принц, — отвечал я, — что царь может принести больше добра пока он жив, чем нищий, а после себя оставить хороший пример другим.
— Или больше вреда, Ана. Кстати, нищий тоже может оставить великий пример — терпения в несчастьях. Все же, будь я уверен, что принесу только добро, я бы, возможно, стал царем. Но я заметил, что те, кто стремятся делать наибольшее добро, часто наносят величайший вред.
— Из чего логически следует, что это довод в пользу стремления делать зло, принц.
— Вовсе нет, — ответил он, — потому что в конечном счете торжествует добро. Ведь добро — это истина, а истина правит и землей, и небом.
— Тогда ясно, принц, что ты должен стремиться стать царем.
— Я вспомню этот довод, Ана, если мне когда-либо представится такая возможность, но не запятнанная кровью, — ответил он.
Когда погребение фараона свершилось, Аменмес вернулся в Танис и был там коронован. Я присутствовал при этой торжественной церемонии, принеся в дар фараону царственные эмблемы и украшения, передать которые поручил мне принц, говоря, что ему самому, как частному лицу, не годится их носить. Я преподнес их фараону, который взял их с сомнением, заметив при этом, что не понимает намерений и поступков принца Сети.
— Тут нет никакой ловушки, о фараон, — сказал я. — Так же, как ты радуешься славе, посланной тебе богами, так принц, мой господин, радуется покою и миру, которые дали ему боги, и не просит ничего иного.
— Возможно и так, писец, но я нахожу это таким странным, что иногда боюсь, как бы в пышных цветах моей славы не таилась какая-то смертоносная змея, о которой принц знает, хотя и не спрятал ее сам.
— Не могу сказать, о фараон, но без сомнения, хотя принц и не столь искусен, он не такой, как другие. У него широкий и глубокий ум.
— Слишком глубокий для меня, — пробормотал Аменмес. — Тем не менее скажи моему царственному кузену, что я благодарю его за эти дары, тем более, что некоторые из них, будучи наследником Египта, носил мой отец Кхемуас, — мне жаль, что вместе с царской кровью он не оставил мне своей мудрости. Скажи своему принцу также, что пока он, как до сих пор, не пытается вредить мне на троне, он может быть уверен, что я не причиню ему зла в том положении, которое он сам для себя выбрал.
Я видел также принцессу Таусерт, которая подробно расспросила меня о своем супруге. Я рассказал ей все, ничего не скрывая. Выслушав, она спросила:
— А как насчет той еврейки, Мерапи? Она, конечно, заняла мое место?
— Нет, принцесса, — ответил я. — Принц живет один. Ни она, ни какая-либо другая женщина не заняла твоего места. Она ему друг, не более.
— Друг! Ну, мы-то знаем, чем кончается такая дружба. О! Несомненно, боги наслали на принца безумие.
— Может быть и так, принцесса, но если бы боги поразили безумием больше людей, мир, думаю, был бы лучше, чем он есть.
— Мир есть мир, и дело тех, кто родился в величии, править им таким, каков он есть, а не прятаться среди книг и цветов и не вести глупые разговоры с красивой чужестранкой и писцом, даже самым ученым, — возразила она с горечью, добавив: — О! Если принц и не безумен, он способен свести с ума других, в том числе и меня, его супругу. Этот трон принадлежит ему, ему! И однако он позволил этому безмозглому болвану сесть на его место и шлет ему дары и благословение!
— Думаю, твоему высочеству следует подождать конца этой истории, прежде чем судить о ней.
Она пристально взглянула на меня и спросила:
— Почему ты так говоришь? Или принц в конце концов не так глуп? Может быть, он и ты, с виду такие простаки, ведете большую, скрытную игру, как некоторые притворяются дураками ради своей безопасности? Или эта колдунья-израильтянка наставляет вас в своих секретных знаниях, ведь женщина, обратившая в мелкий порошок статую Амона, вполне может обладать такими знаниями. Ты притворяешься, что ничего не знаешь, а на самом деле просто не хочешь отвечать. О писец Ана, если бы я не знала, что это опасно, я бы нашла способ вырвать у тебя правду, хотя ты и прикидываешься невинным младенцем.
— Твоему высочеству угодно угрожать, и без всякой на то причины.
— Нет, — ответила она, изменив тон и манеру, — я не угрожаю. Это только безумие, которым я заразилась от Сети. Разве ты бы не сходил с ума на моем месте, зная, что завтра не ты, а другая женщина наденет корону, потому что… потому что… — И она заплакала, испугав меня своими слезами больше, чем испугали меня ее резкие слова.
Вскоре она осушила слезы и сказала:
— Скажи моему супругу, я рада слышать, что он здоров, и шлю ему свои приветствия, но никогда по своей воле не посмотрю на его живое лицо, если он не передумает и не станет добиваться того, что принадлежит ему по праву. Скажи ему, хотя он и равнодушен ко мне и не обращает никакого внимания на мои желания, я забочусь о его благополучии и безопасности, как только могу.
— Его безопасности, принцесса! Только час назад фараон заверил меня, что ему нечего бояться, — впрочем он и не боится.
— О, кто из нас глупее, — воскликнула она, топнув ногой, — слуга или его хозяин? Ты веришь, что принцу нечего бояться, потому что так сказал узурпатор, а он верит, потому что просто никого не боится. Пока он может спать спокойно. Но подожди — случись в Египте какая-нибудь беда, и люди, поняв, что боги посылают эти бедствия за то большое зло, какое совершил мой отец, когда смерть схватила его за горло и помутила его разум, обратят свои взоры к законному царю.
Тогда узурпатором овладеет ревность и, если он захочет, Сети заснет спокойно — навсегда. Если ему не перережут горло, то лишь по одной причине: я удержу руку убийцы. Прощай, я не могу больше говорить с тобой: мой мозг охвачен пожаром; завтра его бы короновали, и меня с ним. — И она ушла, величественная и царственная как всегда, оставив меня гадать, имела ли она что-нибудь реальное в виду, говоря о грядущих бедствиях Египта, или это были случайные слова.
Позже мы с Бакенхонсу ужинали в школе при храме Птаха, где его называли отцом из-за его преклонного возраста, и я узнал кое-что еще.
— Ана, говорю тебе, такой мрак висит над Кеметом, какого я не видел даже тогда, когда все думали, что варвары победят нас и поработят страну. Аменмес будет пятым фараоном на моем веку, первого я видел, когда был совсем ребенком и держался за подол моей матери, но ни разу коронация не была столь безотрадной.
— Может быть, потому, что корона перейдет к тому, кто ее недостоин, Бакенхонсу?
Он покачал головой:
— Не только поэтому. Мне кажется, эта тьма, как и свет, спускается с небес. Люди боятся, сами не зная чего.
— Израильтяне? — предположил я.
— Вот это ближе к делу, Ана, ибо они несомненно имеют к этому отношение. Если бы не они, завтра короновали бы не Аменмеса, а Сети. Кроме того, весть о чуде, которое совершила в храме красавица-еврейка, разнеслась по стране, и в этом видят дурное предзнаменование. Я говорил тебе, что через шесть дней в храме была освящена прекрасная новая статуя Амона? Так вот, на другое утро ее нашли лежащей на боку, вернее, ее голова покоилась на груди Мут.
— Но в этом Мерапи не виновата, она ведь уехала из этого города.
— Конечно, уехала, но разве Сети тоже не уехал? Все-таки, думаю, она что-то оставила позади. Что бы то ни было, даже наш новый божественный повелитель не может подавить страх. Ему снятся дурные сны, Ана, — добавил он, понизив голос, — такие дурные, что он призвал Ки, главного мага, чтобы тот истолковал его видения.
— И что сказал Ки?
— Ки ничего не мог сказать; вернее, когда он и его компания вопросили своих Ка, то единственным ответом было, что царствование этого нового бога будет очень кратким и кончится одновременно с его жизнью.
— Что, пожалуй, не очень обрадовало бога Аменмеса, Бакенхонсу?
— Что совсем не обрадовало бога. Он даже пригрозил Ки. Довольно глупо угрожать великому магу, Ана, — как, между прочим, сказал ему сам Ки, смотря ему в глаза. Тогда тот попросил у него прощения и осведомился, кто сменит его на троне, но Ки сказал, что не знает, ибо керхеб, когда ему угрожают, ничего не помнит.
— А он знал, Бакенхонсу?
Вместо ответа старый советник раскрошил на столе кусочек хлеба, потом, водя пальцем, выложил из них приблизительное подобие бога с головой шакала и двух птичьих перьев, после чего быстрым движением смахнул все крошки на пол.
— Сети! — прошептал я, прочитав иероглифы имени принца, и он кивнул и засмеялся своим раскатистым смехом.
— Иногда люди приходят к тому, на что имеют право, Ана, особенно если они не ищут своих прав, — сказал он. — Но в таких случаях сперва происходит много всяких ужасов. Новый фараон — не единственный, кому снятся сны. В последние годы я плохо сплю и иногда вижу сны, хотя и не владею искусством магии, как Ки.
— Что же тебе снилось?
— Мне снилась огромная толпа, движущаяся, подобно саранче, по всему Египту. Перед ней двигалась огненная колонна, из которой простирались две руки. Одна держала за горло Амона, а другая — нового фараона. Следом за толпой — колонна из тучи, а в ней образ, подобный незапеленатой мумии, образ смерти, стоявшей на воде, в которой плавали бесчисленные мертвецы.
Мне вспомнилась картина, которую мы с принцем наблюдали в закатном небе над страной Гошен, но об этом я ничего не сказал. Однако Бакенхонсу, видимо, читал мои мысли, ибо он спросил:
— А тебе никогда ничего не снится, друг? Тебе доступны видения, например — Аменмес на троне. Так ты не видишь снов, хотя бы иногда? Нет? Ну, ладно. А принц? Вы похожи на людей, которые способны на это. О, я вспомнил, вы оба видите сны, только вам снятся не те картины, которые проходят перед страшными глазами Ки, а те, что рисует луна на водах Мемфиса. Луна Израиля. Ана, послушайся моего совета, иссуши плоть и наращивай дух, ибо только в нем счастье, а женщина и все наши радости — лишь символы его, тени той смертной тучи, которая лежит между нами и небесным светом над ней. Я вижу, ты меня понимаешь, потому что отблески этого света проникли в твое сердце. Помнишь, ты видел его в тот час, когда умерла твоя маленькая дочь? Ага, я так и думал. Именно она оставила тебе этот дар, который будет расти и расти в твоей груди, только подави плоть и оставь для него место. Ана, не плачь — смейся, как смеюсь я, охо-хо! Подай мне мой посох, и спокойной ночи. Не забудь, что завтра мы встречаемся на коронации, ибо ты ведь друг царя, а этот титул, однажды пожалованный, никакой новый фараон отменить не может. Это то же, что дар духа, Ана, — дух трудно обрести, но если! ты его обрел, он более вечен, чем звезды. О, почему я так долго живу на земле, когда мог бы купаться в небе, как ребенком купался в Ниле?
На следующий день в назначенный час я пришел в большой зал дворца, где впервые увидел Мернептаха, и занял отведенное мне место. Оно было несколько в глубине, возможно потому, что меня знали как личного писца Сети, и было нежелательно, чтобы мой вид напоминал о нем.
Как ни велик был зал, толпа заполнила его до последнего уголка. При этом здесь не было ни одного простого человека, но присутствовали каждый вельможа и каждый главный жрец Египта, а с ними их жены и дочери, так что в полумраке колонн и вестибюлей сверкали золото и драгоценности, украшавшие праздничные одежды. Пока я ждал, я увидел Бакенхонсу. Ковыляя, он направлялся ко мне, и толпа расступилась, давая ему дорогу.
— Плохие у нас места, Ана, — сказал он, и я заметил, что в его глазах искрится смех. — Зато мы будем в безопасности, если кто-нибудь из многочисленных богов Кемета осыплет фараона огненным дождем. Кстати, о богах, — продолжал он шепотом, — ты слышал, что случилось час назад в храме Птаха здесь, в Танисе? Я только что оттуда. Фараон и все лица царской крови — кроме одного — по обычаю прошли перед статуей бога, которая, как ты знаешь, должна наклонить голову и тем показать, что бог выбирает и принимает царя. Впереди Аменмеса шла принцесса Таусерт, и когда она проходила, голова бога склонилась — я сам видел, хотя остальные притворились, что ничего не заметили. Потом подошел фараон и даже остановился в ожидании, но статуя не двигалась, хотя жрецы выкрикивали старинную формулу «Бог приветствует царя». Наконец он прошел, с лицом чернее ночи, а за ним прошли и все остальные из рода Рамсеса; последним шел Саптах и — можешь себе представить? — бог опять склонил голову.
— Каким образом и почему статуя это делает? — спросил я. — Да еще и невпопад?
— Спроси жрецов, Ана, или Таусерт, или Саптаха. Может быть, божественную шею давно не смазывали или смазали слишком густо, или слишком мало. А может быть, молитвы или шнурки подвели. Или фараон поскупился, одаривая этот храм великого бога Царского Дома. Кто я такой, чтобы разбираться в делах богов. Тот, что в храме в Фивах, где я служил пятьдесят лет назад, не притворялся, что кланяется, и не утруждал себя вопросом, кто из царской семьи должен сидеть на троне. Тише! Фараон идет!
И вот в пышной процессии, в окружении принцев, советников, дам, жрецов и странников появился Аменмес и с ним царственная жена, Унирет, крупная женщина с неуклюжей походкой, — в целом, блестящая группа. Главный жрец Рои и визирь Нехези встретили фараона и подвели его к трону. Толпа простерлась ниц, зазвучали фанфары, и трижды раздался приветственный клич: Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!
Аменмес привстал и поклонился, и я увидел, что лицо его мрачно и как будто постарело. Потом он принес клятву богам и людям, повторяя слова за Рои, и надел двойную корону и прочие эмблемы, и взял в руки бич и золотой серп. Затем началось чествование фараона. Первой подошла принцесса Таусерт и поцеловала руку фараона, но колен не преклонила. Она даже сказала ему несколько слов. О чем она говорила, мы не слышали, но потом узнали, что она требовала, чтобы он повторил в присутствии всех те обещания, которые дал публично ее отец, Мернептах, утверждая ее место и права. В конце концов Аменмес это сделал, хотя, как мне показалось, весьма неохотно.
Так, со многими формальностями в соответствии с древними традициями церемония продолжалась, и все уже устали, ожидая, когда наконец фараон обратится с речью к народу. Однако эта речь так и не состоялась, ибо неожиданно появились двое, и я узнал в них тех пророков Израиля, которые нанесли Мернептаху визит в этом же зале. Все невольно расступились перед ними, так что они прошли прямо к трону, и даже стражники не решились преградить им путь. Что они сказали, я не слышал, но полагаю, что они требовали разрешения служить своему богу по-своему, и Аменмес отказал им так же, как это сделал раньше Мернептах.
Тогда один из них бросил на пол жреческий жезл и он превратился в змею, зашипевшую на фараона. В ответ керхеб Ки и его товарищи побросали свои жезлы, которые тоже обернулись змеями, — я услышал их свист и шипенье. После этого зал окутала густая тьма, так что люди, не видя лиц друг друга, стали перекликаться, поднялась суматоха, и в страхе и замешательстве церемония была прервана. Толпа вынесла меня и Бакенхонсу к дверям, и мы с радостью увидели над собой чистое небо.
Так закончилась коронация Аменмеса.
XII. Миссия Джейбиза
В тот вечер на улицах не было ни торжества, ни ликования, никто не пировал, кроме как во дворце и в домах придворных. Я вышел на рыночную площадь и заметил, что люди мрачно слоняются тут и там или собираются кучками и разговаривают шепотом. Неожиданно со мной заговорил человек, лицо которого было скрыто капюшоном. Он сказал, что должен передать кое-что моему господину, принцу Сети. Я ответил, что не беру никаких поручений от людей, скрывающих свое лицо, и тогда он откинул капюшон и я узнал Джейбиза, дядю Мера-пи. Я спросил, сделал ли он то, что велел ему принц, — отвез ли тело того пророка обратно в Гошен и объяснил ли, каким образом умер этот человек.
— Да, — ответил он, — и старейшины признали, что принц был прав. Они сказали, что их посланец превысил свои полномочия, ибо они вовсе не велели ему проклинать Мерапи и тем более — убивать ее, и что принц поступил правильно, уничтожив человека, который пытался совершить убийство перед его царственными глазами. Но все-таки они добавили, что проклятие, произнесенное тем жрецом, так или иначе падет на Мерапи.
— Так что же ей делать, Джейбиз?
— Не знаю. Если она вернется к своим, может быть, она получит отпущение, но тогда она наверняка должна выйти за Лейбэна. Ей решать.
— А что бы ты сделал на ее месте, Джейбиз?
— Думаю, остался бы здесь и добился бы любви Сети, положившись на то, что проклятие не сбудется, поскольку оно было незаконно. Куда бы она ни повернулась, ее всюду ждут неприятности, так что, на худой конец, женщина может предпочесть дать волю своему сердцу, прежде чем грянет беда, — особенно если ее сердце принадлежит тому, кто станет фараоном.
— Почему ты говоришь «кто станет фараоном»? — спросил я, видя, что вокруг нас никого нет.
— Этого мне не позволено сказать тебе, — ответил он с хитрым видом, — однако будет так, как я говорю. Тот, кто сейчас на троне, безумен, как был безумен Мернептах, и будет бороться с силой, которая сокрушит его. Только в сердце принца сияет свет мудрости. То, что ты видел сегодня, — только первое из чудес, писец Ана. Большего я не смею сказать тебе.
— Так что же я должен передать принцу, Джейбиз?
— Следующее. Поскольку принц старался помочь народу Израиля и ради этого даже отказался от трона, ему нечего бояться, что бы ни произошло с другими. С ним не случится ничего плохого, как и с его близкими вроде тебя, писец Ана; с тобой тоже поступят по справедливости. Однако может случиться, что принца и мою племянницу Мерапи постигнет большое горе из-за проклятия, павшего ей на голову. Поэтому, возможно, — хотя одно противоречит другому, — с ее стороны будет мудро остаться в доме Сети, а с его стороны, для равновесия, — прогнать ее от своих дверей.
— Какое горе? — спросил я, сбитый с толку его туманными рассуждениями, но не получил ответа: Джейбиза и след простыл.
Недалеко от дома, где я остановился, меня задержал другой человек, и при свете луны я увидел устремленные на меня страшные глаза Ки.
— Писец Ана, — сказал он, — на рассвете ты едешь в Мемфис — на два дня раньше, чем ты предполагал.
— Откуда ты знаешь, маг Ки? — спросил я, ибо я никому не говорил об изменении своих планов, даже Бакенхонсу, да и не мог, поскольку принял это решение только после разговора с Джейбизом.
— Я ничего не знаю, Ана, кроме одного — что верный слуга, который услышал то, что сегодня услышал ты, поспешит сообщить об этом своему хозяину, особенно если есть кто-то еще, кому он тоже хотел бы сообщить эти сведения, как говорит Бакенхонсу.
— Бакенхонсу слишком много говорит, что бы он про себя ни думал, — сказал я раздраженно.
— Старики часто болтливы. Ты был сегодня на коронации, не правда ли?
— Да, и если правильно заметил из своего угла, эти еврейские пророки побили тебя в твоем же ремесле, керхеб, что, должно быть, очень тебя раздражает, как и падение Амона в храме.
— Вовсе не раздражает и не раздосадовало, Ана. Если я владею какими-то силами, то могут быть и другие, чьи силы более могущественные, — как я узнал в храме Амона. Почему же я должен этого стыдиться?
— Силы! — ответил я со смехом, ибо нервы мои разошлись в ту ночь. — Почему не сказать точнее — ловкость? Как ты можешь превратить палку в змею, ведь для человека это невозможно?
— Может быть, «ловкость» и более подходящее слово, ибо ловкость означает знание, а не только трюкачество. «Невозможно для человека!» После того что ты видел в храме Амона, ты еще считаешь, что есть что-то невозможное для человека — или для женщины? Может быть, и ты способен на подобное же.
— Зачем ты дразнишь меня, Ки? Я изучаю книги, а не укрощение змей.
Он смотрел на меня со свойственным ему пристальным вниманием, словно читая — не лицо мое, но скрытые мои мысли. Потом, взглянув на кедровую палочку, которую держал в руке, он протянул ее мне со словами:
— Вглядись в это, Ана, и скажи мне, что это?
— Что я, ребенок, — возразил я сердито, — чтобы не узнать жреческого жезла, когда я его вижу?
— Думаю, ты в каком-то смысле ребенок, Ана, — пробормотал он, не отводя своих особенных глаз от моего лица.
И вдруг случилось что-то ужасное. Ибо палочка стала извиваться у меня в руке, и когда я присмотрелся к ней, я понял, что это длинная желтая змея, и я держу ее за хвост. Вскрикнув, я бросил тварь на землю, ибо она уже поворачивала голову, как будто собираясь ужалить меня; и она, извиваясь в пыли, поползла к Ки. Мгновение — и это снова была палочка из желтого кедрового дерева, хотя между мною и Ки остался извилистый змеиный след.
— И не стыдно тебе, Ана, — сказал Ки, подняв палочку, — упрекать меня в трюкачестве, если ты сам не можешь отличить жалкого фокусника от мастера в таком искусстве, как вот это?
Тут меня прорвало; не знаю, что я ему наговорил, помню только, что в конце сказал, что следующим номером он припишет мне, пожалуй, искусство погружать зал в мрак средь бела дня и поражать толпу ужасом.
Внезапно его лицо и тон изменились.
— Оставим шутки, — сказал он, — хотя в данном случае в них и есть определенный смысл. Хочешь взять эту палочку еще раз и наставить ее на луну? Ты отказываешься, и правильно: ни ты ни я не можем заслонить ее лик, Ана, из-за того, что ты по-своему мудр и общаешься с теми, кто еще мудрее, и вы оба были в храме, когда статуя Амона рухнула на пол по воле колдуньи, которая противопоставила свою силу моей и победила меня. Я, великий маг, хочу спросить у тебя, откуда сегодня явилась эта тьма в зале?
— От бога, я думаю, — прошептал я в страхе.
— Я тоже так думаю, Ана. Но скажи — или попроси Мерапи, Луну Израиля, сказать мне — от какого бога? О, говорю тебе, — какая-то ужасная сила грядет на нашу землю, и принц Сети хорошо сделал, что отказался от трона и бежал в Мемфис. Повтори ему это, Ана.
Он повернулся и ушел.
Я благополучно вернулся в Мемфис и рассказал обо всем принцу, который жадно слушал меня. Только один раз им овладело волнение — когда я передал слова Таусерт о том, что она никогда больше не взглянет ему в лицо, если он не обратит его к престолу. Когда он услышал это, глаза его наполнились слезами и, поднявшись, он несколько раз прошелся по комнате.
— Побежденные не должны ожидать милосердия, — сказал он, — и, конечно, Ана, ты считаешь, что с моей стороны глупо печалиться о том, что меня покинули.
— Нет, принц, ибо меня тоже покинула жена, и эта боль до сих пор со мной.
— Не о жене я думаю, Ана. Ведь в сущности, ее высочество мне не жена. Каковы бы ни были древние законы Кемета, разве может быть реальным такой брак, во всяком случае, между ней и мной? Я печалюсь о сестре. Хотя у нас разные матери, все же мы росли вместе и по-своему любим друг друга, хотя для нее удовольствием было командовать мной, а для меня — подчиняться и платить ей шутками. Наверное потому она так и рассердилась, что я вдруг вышел из-под ее власти и поступил по своей воле, из-за чего она потеряла трон.
— Удар был тем сильнее, что выйти замуж за фараона — долг наследницы Египта, освященный самим законом.
— Тогда для нее самое лучшее — выйти за того, кто стал фараоном, отодвинув в сторону его глупую жену. Но этого она никогда не сделает. Аменмеса она всегда ненавидела настолько, что даже избегала встречаться с ним. Да и он не женился бы на ней. Он желает править сам, а не через женщину, которая имеет больше прав на корону чем он. Ну, да что говорить. Она меня отвергла, и между нами все кончено. Отныне мне суждено одиночество — если только… Продолжай свой рассказ, друг. Очень мило с ее стороны обещать в ее величии свое покровительство лицу в столь скромном положении. Я это запомню… хотя и верю, что павшие иногда снова поднимают головы, — добавил он с горечью.
— По крайней мере, так думает Джейбиз, — заметил я и рассказал ему об уверенности израильтян в том, что он будет фараоном. В ответ он засмеялся и сказал:
— Может быть. Они ведь неплохие прорицатели. Что до меня, мне это неведомо, да и безразлично. А может быть, Джейбиз говорит так просто из выгоды, ведь он, как ты знаешь, умный купец.
— Не думаю, — начал я и запнулся.
— Джейбиз говорил еще что-нибудь, Ана? О госпоже Мерапи, например?
Тут я почувствовал, что мой долг — рассказать ему слово в слово все, что произошло между мной и Джейбизом, хотя кое-что меня и смущало.
— Этот израильтянин слишком во многом уверен, Ана, вплоть до того, кому Луна Израиля пожелает светить своими лучами. А может быть, это ты, на кого она направит свой свет, или какой-нибудь юноша из страны Гошен — только не Лейбэн — или никто.
— Я, принц? Я?
— Ну что ж, Ана, я уверен, ты бы этого хотел. Послушайся моего совета и спроси, что она думает на этот счет. Да не смущайся, друг! Для человека, который был женат, ты слишком скромен. Расскажи мне, как прошла коронация.
Радуясь тому, что можно больше не говорить о Мерапи, я подробно рассказал обо всем, что случилось с того момента, как Аменмес занял свое место на троне. Когда я описал превращение жреческой палочки пророка в змею и то, как Ки и его товарищи сделали то же самое, он засмеялся и сказал, что это обыкновенные жонглерские трюки. Но когда я перешел к описанию тьмы, которая окутала зал и наполнила мраком сердца людей, и зловещего сна Бакенхонсу, он выслушал меня очень серьезно и потом сказал:
— Я думаю то же, что и Ки. Я тоже считаю, что на Кемет движется какая-то ужасная сила, источник которой — страна Гошен, и что я поступил правильно, отказавшись от трона. Но от какого бога исходит эта сила, я не знаю. Может быть, время покажет. А пока, если в пророчествах израильтян действительно есть что-то, что в них увидел Джейбиз, то по крайней мере мы с тобой можем спать спокойно, чего нельзя сказать про фараона на троне, который так жаждет Таусерт. Если все так, игра стоит свеч и наблюдения. Ты хорошо выполнил свою миссию, Ана, иди и отдыхай, а я пока подумаю обо всем, что ты рассказал мне.
Был вечер, и так как во дворце было жарко, я вышел в сад и, направившись к тому летнему домику, где Сети и я любили сидеть над книгами, устроился там и побежденный усталостью задремал. Мне приснилась плачущая женщина, и от этого сна я проснулся. Уже наступила ночь. В небе сверкала полная луна, заливая сад своими лучами.
Перед летним домиком, как я уже говорил, росли деревья, покрытые в эту пору белыми цветами, а между деревьями было устроено сиденье, выложенное из обожженных солнцем кирпичей. На этой скамье сидела женщина, в которой по очертаниям фигуры я сразу узнал Мерапи. Она была печальна, ибо, хотя она опустила голову так, что волосы скрывали лицо, я услышал, как она тихо и грустно вздохнула.
Я почувствовал глубокое волнение и вспомнил, что говорил мне принц, советуя спросить у нее, как она ко мне относится. Поэтому не было бы ничего предосудительного в том, если бы я действительно это сделал. Однако я был уверен, что не ко мне склоняется ее сердце, хотя, признаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы было иначе. Но кто же посмотрит в сторону ибиса на болоте, если высоко в небе парит, раскинув крылья, орел?
Злая мысль пришла мне на ум, подсказанная Сетом, богом зла. Предположим, что глаза этой созерцательницы прикованы к орлу, царю воздуха. Предположим, что она поклоняется этому орлу, любит его, потому что его дом — небо, потому что для нее он — царь над всеми птицами. И предположим, ей говорят, что если она приманит его на землю из его сияющей небесной выси, где ему не грозит никакая опасность, она тем самым приговорит его к неволе или к смерти от руки птицелова. Не скажет ли тогда эта влюбленная созерцательница: «Пусть он будет свободен и счастлив, как бы я ни любила смотреть на него», — а когда он скроется из виду, не обратит ли она свой взор к скромному ибису на илистом болоте?
Джейбиз сказал мне, что если эта женщина и принц станут дороги друг другу, она навлечет большую беду на его голову. Если бы я повторил ей эти слова, она, веря в пророчества своего народа, несомненно поверила бы им. Более того, на что бы ни толкало ее страстное сердце, она никогда не согласится сделать то, что может навлечь беду на голову Сети, даже если бы отказ от него причинил ей глубокое горе. Не вернулась бы она и к своему народу, чтобы не попасть в руки ненавистного человека. Тогда, может быть, я?.. Сказать ей? Если бы Джейбиз не хотел, чтобы она об этом знала, стал ли бы он вообще вести со мной такие речи? Короче говоря, не в этом ли состоит мой долг перед ней и, возможно, перед принцем, и не уберегу ли я их от грядущих несчастий, если, конечно, эти предупреждения о грозящих бедствиях не пустая болтовня?
Таковы были злые мысли, которыми Сет атаковал мой дух. Не знаю, как я поборол их. Не своей добродетелью, во всяком случае, — ибо в этот момент я весь пылал от любви к этой нежной и прекрасной женщине и в своем безрассудстве, думаю, тут же отдал бы жизнь за то, чтобы поцеловать ей руку. И не ради нее тоже, ибо страсть глубоко эгоистична. Нет, я думаю, это было потому, что моя любовь к принцу была глубже и осязаемей, чем любовь к какой-либо женщине, и я хорошо знал, что не будь она сейчас здесь, передо мной, никогда бы такое предательство не закралось в мое сердце. Ибо я был уверен, хотя Сети не обмолвился об этом ни словом, что он любит Мерапи и больше всех земных благ желал бы иметь ее своей спутницей; но если бы я сказал ей, что хотел было сказать, то, чем бы это ни кончилось для меня и каковы бы ни были ее тайные желания, она никогда не стала бы его подругой.
Итак, я победил, но эта победа досталась мне нелегко: я дрожал, как слабое дитя, и роптал на судьбу, давшую мне жизнь для того, чтобы познать боль несбыточной любви. Награда не заставила себя ждать, ибо как раз в этот момент Мерапи отстегнула драгоценную застежку со своего белого одеяния и, подняв ее, повернула к лунному свету, словно желая лучше ее рассмотреть. Я узнал ее в одно мгновение. Это был тот царский скарабей, которым принц скрепил повязку на раненой ноге Мерапи и который таинственная сила сорвала с ее груди, когда статуя Амона в храме была повергнута в прах.
Долго и серьезно она смотрела на него, а потом, оглянувшись, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет, прижала его к груди и трижды страстно поцеловала, шепча — не знаю что — между поцелуями. Пелена спала с моих глаз, и я понял, что она любит Сети, и — о! — как я благодарил моего бога-хранителя, который избавил меня от ненужного позора.
Я стер холодный пот со лба и хотел бежать без лишних слов, как вдруг, подняв глаза, увидел стоящего позади Мерапи человека, который наблюдал за тем, как она снова прикрепляла скарабея к платью. Пока я колебался, человек заговорил, и я узнал голос Сети. Я снова подумал о бегстве, но при моем несколько робком и застенчивом характере не решился выдать свое присутствие, чтобы не стать мишенью для шуток Сети. Через мгновение бежать было уже поздно. Поэтому я притаился в тени и поневоле стал свидетелем их встречи.
— Что это за драгоценность, госпожа, которой ты так восхищаешься и так дорожишь? — спросил Сети своим неторопливым голосом, так часто скрывающим намек на улыбку.
Она слегка вскрикнула и, вскочив со скамьи, увидела его.
— О принц, — воскликнула она, — прости твою служанку! Я сидела здесь, в прохладе, как ты позволил мне, а луна так ярко светит, что я — мне хотелось узнать, смогу ли я при се свете прочесть надпись на этом скарабее.
Никогда еще, подумал я про себя, я не знал никого, кто бы читал устами, говоря по правде, она прежде воспользовалась глазами.
— И как, госпожа? Позволишь и мне попробовать?
Очень медленно и краснея так, что даже при луне можно было заметить вспыхнувший на ее щеках румянец, она снова сняла с платья застежку и протянула ему.
— Право, мне кажется, я ее узнаю? Не мог я видеть ее раньше? — спросил он.
— Может быть. Она была на мне в ту ночь в храме, ваше высочество.
— Ты не должна называть меня высочеством, госпожа. Я больше не имею никаких титулов в Египте.
— Знаю — из-за моих… моего народа. О! Это было благородно.
— Но этот скарабей, — сказал он, как бы отмахнувшись жестом от ее слов, — право же, это тот самый, который скрепил повязку на твоей ране — о, много-много дней назад.
— Да, тот самый, — подтвердила она, потупившись.
— Я так и подумал. И когда я дал его тебе, я сказал несколько слов, показавшихся мне в то время очень уместными. Помнишь, что я сказал? Я забыл. Или ты тоже забыла?
— Да — то есть — нет. Ты сказал, что теперь у меня под пятой весь Египет, — имея в виду царский девиз на скарабее.
— А, теперь и я вспомнил. Как верна и, однако, как ложна эта шутка или это пророчество.
— Как может что-то одновременно быть и истинным, и ложным, принц?
— Я мог бы очень легко доказать тебе это, но это заняло бы целый час, если не больше, так что отложим до следующего раза. Этот скарабей — жалкая вещица, верни его мне и ты получишь что-нибудь более ценное. А хочешь этот перстень с печаткой? Поскольку я уже не принц Египта, он мне не нужен.
— Возьми скарабея, принц, он твой. Но я не возьму это кольцо, потому что…
— …мне не нужно, а ты не хотела бы иметь то, что не нужно дарителю. О! Я плохо подбираю слова, но я хотел сказать совсем другое.
— Нет, принц, — потому что твое царское кольцо слишком велико для того, кто так мал.
— Как ты можешь знать, пока ты его не померила? Кроме того, этот недостаток можно исправить.
Тут он засмеялся и она тоже засмеялась, но кольца все-таки не взяла.
— Ты видела Ану? — продолжал он. — Мне кажется, он пошел тебя искать и так спешил, что едва закончил свой доклад.
— Он так и сказал?
— Нет, но у него был такой вид. Настолько, что я сам предложил ему идти не мешкая. Он сказал, что хочет отдохнуть после долгого путешествия, — или, может быть, это я велел ему пойти отдохнуть. Я забыл. Да и как не забыть в такую прекрасную ночь, когда совсем другие мысли приходят в голову.
— Зачем Ана хотел меня видеть, принц?
— Откуда я знаю? Почему человек, который еще молод, хочет видеть милую и красивую женщину? О, вспомнил! Он встретил в Танисе твоего дядю, который спросил его о твоем здоровье. Может быть, поэтому он и хотел тебя видеть.
— Я не хочу слышать о моем дяде в Танисе. Он напоминает мне о слишком многих вещах, которые причиняют боль, а бывают ночи, когда хочется забыть о боли, — она и так возвращается утром.
— Ты по-прежнему полна решимости не возвращаться к своим? — спросил он более серьезно.
— Конечно. О, не говори, что ты отправишь меня обратно…
— …к Лейбэну, госпожа?
— В том числе и к Лейбэну. Вспомни, принц, ведь на мне проклятие. Если я вернусь в Гошен, то так или иначе, рано или поздно, но я умру.
— Ана говорит, что, как сказал твой дядя Джейбиз, тот сумасшедший, который пытался убить тебя, не имел права тебя проклинать, тем более убивать. Спроси у Аны, он все тебе расскажет.
— Все же проклятие остается и в конце концов раздавит меня. Как же мне, одинокой женщине, противостоять мощи народа Израиля и его жрецов?
— Разве ты одинока?
— Как же может быть иначе с тем, кто вне закона?
— Ты права. Я знаю это, я ведь тоже отверженный.
— По крайней мере есть ее высочество, твоя жена, которая несомненно приедет, чтобы утешить тебя, — сказала она, опустив глаза.
— Ее высочество не приедет. Если бы ты видела Ану, он бы, возможно, сказал тебе, что она поклялась никогда не смотреть мне в лицо, если над ним не засияет корона.
— О, как может женщина быть столь жестокой! Ведь этот удар должно быть поразил тебя в самое сердце, — воскликнула она с невольным выражением жалости.
— Ее высочество не только женщина, она принцесса Египта, а это большая разница. Вообще мне, конечно, очень больно, что моя сестра покинула меня ради того, что она любит больше всего, — власти и величия. Но такова истина — разве что Ане все приснилось. Так что мы, как видишь, в одинаковом положении, оба отверженные, ты и я — разве не так?
Она молчала, по-прежнему не поднимая глаз, и он медленно проговорил:
— Мне пришла в голову одна мысль, о которой я бы хотел услышать твое мнение. Если бы двое покинутых и одиноких объединились, они стали бы наполовину менее одинокими, не так ли?
— Наверно так, принц, — то есть, если бы они были действительно покинуты и одиноки. Но я не понимаю этой загадки.
— Да ты ее решила. Если ты одинока и я одинок, по отдельности, то вместе мы, как ты говоришь, были бы менее одиноки.
— Принц, — прошептала она, отшатнувшись от него, — я этого не говорила.
— Нет, за тебя говорил я. Послушай меня, Мерапи. В Египте меня считают странным, поэтому у меня не было ни одной дорогой и близкой мне женщины, — я никогда не встречал женщины, которая стала бы мне дорога. — Тут она испытующе посмотрела на него, а он продолжал: — Не так давно, перед моей поездкой в Гошен, — Ана может рассказать тебе об этом, по-моему он все записал, — ко мне пришли Ки и старый Бакенхонсу. Ки, как ты знаешь, великий маг, хотя, видимо, и не такой великий, как некоторые ваши пророки. Он сказал мне, что они оба прочитали мое будущее. В Гошене я встречу женщину, которую мне суждено полюбить. Он добавил, что эта женщина принесет мне много радости, — Сети на миг умолк, очевидно вспомнив, что это не все, что говорил Ки и Джейбиз тоже. — Ки сказал мне также, — продолжал он медленно, — что я знаю эту женщину уже тысячи лет.
Она вздрогнула, и на лице ее мелькнуло странное выражение.
— Как это возможно, принц?
— То же самое я спросил у него и не получил вразумительного ответа. Но он сказал также не только об этой женщине, но и о моем друге Ане, а это кое-что объясняет и, насколько я понял, об этом же говорили другие маги. Потом я поехал в Гошен и там встретил женщину…
— В первый раз, принц?
— Нет, в третий…
Тут она опустилась на скамью и закрыла лицо руками.
— …я полюбил ее, и у меня было такое чувство, будто я любил ее уже «тысячи лет».
— Это неправда. Ты смеешься надо мной, это неправда! — прошептала она.
— Это правда, ибо если тогда я этого не знал, то узнал потом, но окончательно, пожалуй, только теперь, когда Ана сказал мне, что Таусерт действительно меня покинула. Луна Израиля, та женщина — ты. Я не буду говорить тебе, — продолжал он страстно, — что ты красивее других женщин или нежнее. Я скажу только, что люблю тебя, да, люблю, какой бы ты ни была. Я не могу предложить тебе трон Кемета, даже если бы позволял закон, но я могу предложить тебе трон моего сердца. Что ты скажешь на это, госпожа Мерапи? Постой — прежде чем отвечать, запомни, что хотя ты в Мемфисе как будто моя пленница, тебе нечего бояться меня. Каков бы ни был твой ответ, ты всегда, пока я жив, будешь иметь здесь кров и дружбу, и никогда я не стану навязывать тебе свое общество, как бы мне ни было больно проходить мимо тебя. Я не знаю, что сулит будущее. Может статься, я дам тебе высокое положение и власть, может статься, я не дам тебе ничего, кроме бедности и изгнания или даже возможности разделить со мной мою гибель, но всегда, в любом случае, с тобой будет мое поклонение тебе, служение всего моего существа. А теперь говори.
Она отняла от лица руки и подняла на него взгляд, в ее прекрасных глазах блестели слезы.
— Это невозможно, принц.
— То есть, ты не хочешь?
— Я сказала — это невозможно. Такие узы между египтянином и израильтянкой незаконны.
— Так думают некоторые в этом городе и в других местах.
— И у меня есть муж, я хочу сказать — нареченный, по крайней мере, формально.
— А у меня есть жена; я хочу сказать…
— Это совсем другое. Есть и другая причина, самая главная: надо мной висит проклятие, и я принесу тебе не радость, как говорил Ки, а горе или, по крайней мере, горе вместе с радостью.
Он испытующе посмотрел на нее.
— Разве Ана… — начал он и затем продолжал: — Даже если так, скажи: ты когда-нибудь видела жизнь, в которой радость не смешивалась бы с горем?
— Никогда. Но горе, которое принесла бы я, пересилило бы радость — для тебя. На мне лежит проклятие моего бога, а я не могу научиться служить твоим богам. На мне проклятие моего народа, закон моего народа разделяет нас, как меч, и если я стану тебе близкой, все это еще больше сгустится — не только над моей головой, что не так важно, но и над твоей тоже! — И она зарыдала.
— Скажи мне, — молвил он, взяв ее за руку, — только одно, и если ответом будет нет, я больше не стану тебе досаждать. Твое сердце — мое?
— Да, — вздохнула она, — с тех самых пор, как мои глаза увидели тебя на улицах Таниса. О! Тогда во мне вдруг что-то изменилось и я возненавидела Лейбэна, который раньше мне просто не нравился. Больше того, я тоже почувствовала то, о чем говорил Ки, — как будто я знала тебя уже тысячи лет. Мое сердце — твое, моя любовь — твоя, все, что делает меня женщиной, — твое и никогда не может принадлежать никакому другому мужчине. И все-таки мы должны быть врозь — ради тебя, мой принц, ради тебя.
— Значит, если бы не я, ты была бы готова пойти на риск?
— Конечно! Разве я не женщина, которая любит?
— А если так, — сказал он, слегка засмеявшись, — то, поскольку я совершеннолетний и, по мнению некоторых, неплохо разбираюсь в жизни, я, с твоего разрешения, тоже пойду на риск. О неразумная женщина, неужели ты не понимаешь, что на свете есть только одна хорошая вещь, единственное, что помогает забыть свое «я» и все его несчастья и горести, и это любовь? Могут случиться беды — пусть, какое они имеют значение, если существует любовь и память о ней? Если мы однажды сорвали этот прекрасный цветок и хоть час носили его у себя на груди? Ты говоришь, что у нас разные боги: может быть, эта разница и существует, но все боги посылают на землю дар любви, без которого жизнь прекратилась бы. Больше того, моя вера учит меня — может быть, яснее, чем твоя, — что жизнь не кончается и после смерти, и поэтому любовь, будучи душой жизни, продолжается вместе с ней. И последнее: я думаю, как и ты, что в каком-то непонятном смысле, в словах магов есть правда, и что в далеком прошлом мы были тем, чем снова собираемся стать; и сила этой невидимой связи выделила нас из всего мира и свела воедино и будет держать нас вместе еще долго после того, как этот мир умрет. Дело не в том, Мерапи, чего желаем мы, дело в том, что определила нам судьба. Еще раз — отвечай!
Она не ответила, и когда я через короткое время поднял глаза, она была в его объятиях и ее губы сомкнулись с его губами.
Так Сети, принц Египта, и Мерапи, Луна Израиля, соединились в Мемфисе, в Египте.
XIII. Красный Нил
На следующее утро я застал принца одного и, побыв с ним немного, напомнил ему о кое-каких древних рукописях, которые он хотел прочитать, но они хранились в Фивах, и я мог только там переписать их. Там же, как мне сказали, были в продаже и другие рукописи. Принц ответил, что они могут и подождать, но я возразил, что, если я не поеду в Фивы сейчас же, на них может найтись и другой покупатель.
— Ты слишком любишь далекие путешествия по моим делам, Ана, — сказал он. Потом с любопытством смотрел на меня некоторое время, и поскольку он мог читать мои мысли — так же, впрочем, как я его, — он понял, что я все знаю, и мягко добавил:
— Тебе следовало действовать, как я говорил, и спросить у нее первым. Кто знает…
— Ты, принц, — ответил я, — ты и никто другой.
— Поезжай, и да будут с тобой боги, друг. Но не сиди слишком долго над перепиской этих свитков, их может переписать любой писец. Думаю, в Кемете будет неспокойно, и я хочу, чтобы ты был рядом со мной. И кому-то другому, которому ты дорог, тоже нужно твое присутствие.
— Спасибо тебе и тому другому, — сказал я, поклонившись, и ушел.
Но этого мало; в то время как я занимался скромными приготовлениями к путешествию в Фивы, я обнаружил, что это совершенно излишне, ибо ко мне пришел раб и передал мне, что барка принца готова к отплытию и ждет только попутного ветра. На этой барке я и отправился в Фивы совсем как важный вельможа или как мумия царя, плывущая к месту погребения. Только вместо жрецов (пока я отослал их обратно в Мемфис) на корме сидели музыканты, а когда мне хотелось, появлялись танцовщицы, чтобы развлекать меня на досуге или в одеждах, сплетенных из золотых нитей, прислуживать мне во время трапезы.
Так я ехал, как будто сам принц, и поскольку меня знали как его друга, ко мне были внимательны правители номов, главные люди городов, мимо которых мы плыли, и верховные жрецы храмов в каждом городе, где мы делали остановку. Ибо, как я уже говорил, хотя на троне сидел Аменмес, в сердцах египтян по-прежнему царил Сети. И это ощущалось тем сильнее, чем дальше я продвигался вверх по Нилу, в районы, где мало знали об израильтянах и связанных с ними неприятностях. Почему, шептали мне на ухо великие мира сего, его высочество принц Сети не занял место своего отца? Тогда я рассказывал им о израильтянах, и они очень смеялись и говорили:
— Пусть только принц развернет здесь свое царское знамя, и мы покажем ему, что мы думаем по вопросу об этих израильских рабах. Неужели наследник Египта не может иметь собственное суждение о том, должны ли они жить на севере или уйти в пустыню, которой так жаждут?
На все это и многое другое я отвечал только, что передам их слова; большего я не мог, да и не смел сказать, ибо всюду я обнаруживал, что за мной следуют и наблюдают шпионы фараона.
Наконец я прибыл в Фивы и остановился в прекрасном доме, принадлежавшем принцу и подготовленном к моему прибытию, как мне сказали, по распоряжению специально присланного им гонца. Дом стоял неподалеку от входа на аллею сфинксов, которая ведет к величайшему из всех фиванских храмов, где находится великолепный колонный зал, построенный Сети Первым и достроенный Рамсесом Вторым, дедом принца.
Здесь я часто бродил ночью, и никогда мой дух не возносился так близко к небесам, как во время этих странствий. Переехав на западный берег Сихора, я посетил также ту уединенную и пустынную долину, где покоятся правители Кемета. Гробница фараона Мернептаха еще не была закрыта, и в сопровождении единственного жреца, несшего факел, я спустился в ее украшенные фресками залы и посмотрел на саркофаг того, кого я совсем недавно видел во всем великолепии на троне; и в уме моем невольно возникал вопрос, как много или как мало знает он обо всем, что происходит в Египте.
Кроме того, я переписал папирусы, ради которых приехал в Фивы, но не нашел ничего, достойного сохранения, и несколько других, действительно очень ценных, которые обнаружил в библиотеках храмов, а также купил несколько свитков. Один из этих последних запечатлел очень странный рассказ, давший мне много поводов к размышлениям, особенно теперь, в последние годы, когда никого из моих друзей уже нет в живых.
Так я провел два месяца и пробыл бы еще больше, если бы ко мне не явились гонцы из Мемфиса с вестью, что принц желает моего возвращения. Второй гонец прибыл через три дня после первого и передал мне послание принца: «Не думаешь ли ты, писец Ана, что если я уже не принц Египта, мне можно не повиноваться? Если так, то имей в виду, что по воле богов я в один прекрасный день могу вырасти выше, чем был когда-либо раньше, и тогда, будь уверен, я вспомню о твоем неповиновении и сделаю тебя на голову короче. Приезжай поскорее, мой друг, ибо я чувствую себя одиноко и нуждаюсь в собеседнике».
Я ответил, что вернусь со всей скоростью, с какой только способна двигаться барка, нагруженная рукописями, которые я переписал и купил в Фивах.
Итак, я тронулся в обратный путь. Признаться, я был даже рад покинуть — Фивы и вот по какой причине. Дня за два до этого, когда я шел вечером один, направляясь из храма домой, меня окликнула женщина в пестрой и яркой одежде, какую носят заблудшие создания. Я попытался отделаться от нее, но она вцепилась в меня, и я увидел, что она пьяна. Между прочим, она спросила (и ее голос показался мне знакомым), не знаю ли я, кто это прибыл в Фивы по делам какого-то члена царской семьи и остановился в так называемом Доме Принца. Я ответил, что его имя — Ана.
— Когда-то я знала одного Ану, — сказала она, — но я ушла от него.
— Почему? — спросил я, холодея, ибо, хотя я не видел ее лица, скрытого под капюшоном, мной овладел ужас.
— Потому что он жалкий дурак, — ответила она, — совсем не мужчина, — только и думал о своих писаниях; а тут подвернулся другой, он мне очень понравился, — только потом он меня бросил.
— А что случилось с Аной? — спросил я.
— Не знаю. Наверно, продолжал мечтать, а может взял другую жену. Жаль мне ее, если так. Только если этот Ана, что прибыл в Фивы, мой бывший Ана, то он должен быть теперь богат, и я пойду к нему — уж я заставлю его взять меня обратно!
— У тебя были дети? — спросил я.
— Только одна девочка, благодарение богам, — да и та умерла; еще раз благодарение богам, а то бы выросла и стала бы такой, как я.
— И она надрывно всплакнула и тут же перешла к своим гнусным заигрываниям.
При этом капюшон соскользнул у нее с головы, и я увидел лицо своей жены, все еще красивое, но уже носящее следы пьянства и разврата. Я задрожал с головы до ног, а потом сказал измененным голосом:
— Женщина, я знал твоего Ану. Он уже умер, и ты причина его гибели. Но все же, поскольку я был его другом, возьми это и постарайся исправиться. — И я дал ей весьма увесистый мешочек с золотом.
Она схватила его, как ястреб добычу, и, заглянув в него при свете луны, поблагодарила меня и сказала:
— Право, Ана мертвый стоит больше, чем Ана живой. Пожалуй, хорошо, что он умер, — он ушел туда, куда ушло наше дитя, а ее он любил больше жизни и даже мной стал пренебрегать. Оттого я стала тем, что я есть. Да к тому же будь он жив, он бы еще немало натерпелся от женщин, он ведь совсем их не понимал. Ну, да ладно. Прощай, друг Аны. С тем, что ты мне дал, я, пожалуй, найду себе другого мужа! — И дико засмеявшись она, шатаясь, обошла сфинкса и исчезла в темноте.
После этой встречи неудивительно, что мне не терпелось покинуть Фивы. Кроме того, эта несчастная больно уязвила меня, убедив в том, о чем я до сих пор только смутно догадывался, а именно — я совершенный глупец в отношении женщин, такой непроходимый глупец, что лучше мне с ними не иметь дела. И я тут же поклялся именем моего бога-хранителя, что отныне никогда не взгляну ни на одну из них с любовью. И если другие клятвы я потом и нарушал, эту клятву я держу до сих пор. Укололи меня также слова о нашей умершей дочери; ибо в самом деле, когда это нежное существо отлетело к Осирису, сердце мое разбилось и в каком-то смысле так и не исцелилось до конца. И теперь мне пришло в голову, что быть может она права; забыв о матери ради ребенка, которого я боготворил, — да, тогда и все последующие годы — я невольно толкнул ее на путь позора. Эта мысль так мучила меня, что через одного преданного человека, считающего, что я лишь отдаю должное той, кого несправедливо обидел, я постарался обеспечить ей безбедную и спокойную жизнь.
Она действительно вышла замуж за купца, вокруг которого раскинула свои сети; со временем она растратила все его богатство и довела его до разорения, после чего он бежал. Сама она умерла на третий год царствования Сети Второго. Но, благодарение богам, она так и не узнала, что личный писец и секретарь фараона — тот самый Ана, который когда-то был ее мужем. На этом я и закончу ее историю.
Итак, я плыл вниз по Нилу с тяжелым сердцем — тяжелее, чем большой камень, служивший нам якорем. На третий день в сумерках мы пришвартовались у борта судна, которое держало курс вверх по течению под северным ветром. На борту этого судна был чиновник, которого я знавал при дворе фараона Мернептаха; он направлялся в Фивы с каким-то поручением. У него был такой испуганный вид, что я спросил, в чем причина его страха. Тогда он отвел меня в сторону, в пальмовую рощу на берегу и, присев на шест, которым волы вращали водяное колесо, рассказал мне о странных вещах, происходивших в Танисе.
Оказалось, что израильские пророки еще раз явились к фараону, который до тех пор не трогал их народ и не пошел на них с мечом, как того хотел Мернептах, — считали, что его удерживал страх — он боялся умереть подобно предыдущему фараону. Как и прежде пророки изложили свою просьбу — отпустить их народ в пустыню, а фараон отказал им. Тогда они встретили его на следующее утро, когда он приехал к реке, чтобы пройтись под парусом, и один из них ударил по воде своим жезлом, и вода превратилась в кровь. В ответ керхеб Ки и его товарищи тоже ударили по воде в другом месте, и вода тоже превратилась в кровь. Это было лишь шесть дней назад, и чиновник клялся, что теперь кровь поднимается, расползаясь, вверх по течению Нила. Я не поверил и засмеялся.
— Ну, тогда пойдем, покажу, — сказал он и повел меня на свое судно, где вся команда была охвачена страхом не меньшим, чем тот, что овладел их начальником.
Он привел меня на корму и показал большой кувшин для воды, и
— о! — он был полон крови, а в ней — дохлая рыба, издававшая зловоние.
— Эту воду, — сказал он, — я сам набрал из Нила в пяти часах ходу отсюда. Но мы обогнали эту кровь, которая теперь движется за нами. Посмотри еще раз. — И, взяв светильник, он поднял его над кормой, и я увидел, что все доски были как будто обагрены кровью.
— Послушайся моего совета, высокоученый писец, — добавил он, — и наполни все кувшины и все кожаные мешки чистой водой, иначе завтра вас замучит жажда. — И он засмеялся смехом, от которого мне стало жутко.
Затем мы расстались, ничего больше не сказав, ибо ни один из нас не знал, что еще можно сказать об этих непонятных и страшных явлениях, и около полуночи чиновник отчалил, воспользовавшись поднявшимся ветром и рискуя наскочить в темноте на какую-нибудь песчаную мель.
Я последовал его совету, хотя мои гребцы, которым не пришлось говорить с его людьми, решили, что с моей стороны просто безумие загружать барку таким количеством воды.
При первых проблесках зари я дал команду к отплытию. Поглядывая за борт, я заметил, что там, где падали лучи разгоравшейся зари, вода принимает розовый оттенок. Больше того, этот оттенок, становясь все гуще, распространялся не вниз, а вверх по течению вопреки законам природы и, следовательно, не мог быть результатом смыва красной почвы с южных земель. Гребцы приглядывались и вполголоса переговаривались. Наконец один из них, перегнувшись через борт, зачерпнул в ладонь воды и отпил глоток—другой, но тут же выплюнул ее с криком ужаса.
— Кровь! — воскликнул он. — Кровь! Опять убили Осириса, и его кровь заполняет воды Сихора!
Гребцы так испугались, что если б не я, они тотчас бы повернули вспять и направили бы барку вверх по течению или пристали бы к берегу и сбежали в пустыню. Но я крикнул им, чтобы они продолжали путь на север и мы таким образом смогли бы скорее избавиться от этого ужаса, и они меня послушались. Но чем дальше мы плыли, тем краснее казалась вода, становясь почти черной, так что наконец нам стало казаться, что мы плывем в потоках крови, в которых мертвые рыбы плавали тысячами или бились, погибая, на поверхности. Зловоние стало таким ужасным, что пришлось наложить на нос повязку и хотя бы частично смягчить ощущение отравленного воздуха.
Мы поравнялись с одним городом и услышали общий вопль ужаса, поднимавшийся над его улицами. Люди стояли с видом пьяных, глядя на покрасневшие руки, которые они окунали в воду, а женщины бегали по берегу и рвали на себе волосы и одежду, испуская громкие крики: «Коварство! Колдовство! Проклятые боги перебили друг друга, и люди тоже должны погибнуть!» — и тому подобное.
Мы видели также, как на некотором расстоянии от берега крестьяне рыли колодец, надеясь добраться до чистой, здоровой воды.
Весь день мы плыли в этом ужасном потоке, а пена и брызги, срываемые сильным ветром, покрывали наши тела и одежды зловещими пятнами, от которых несло запахом крови и внутренностей. От этой пены исходили зловоние и соленый вкус свежей крови, и мы только пили заготовленную мной воду; и гребцы, которые сочли меня прежде сумасшедшим, теперь называли мудрейшим из людей, человеком, предвидящим то, что может случиться в будущем.
К вечеру мы наконец заметили, что с каждым часом красный цвет бледнеет. Это было вторым чудом, поскольку выше нас по течению вода еще сохраняла цвет яшмы. При этом чуде мы на время откинули весла и, несмотря на наш неподобающий вид, спели гимн и вознесли благодарственные молитвы Хапи, богу Нила, Великому, Таинственному, Незримому. И в самом деле, перед заходом солнца река уже вновь стала чистой. Только на берегу, куда мы причалили на ночь, камни и камыши были все в пятнах, а вокруг тысячами лежали мертвые рыбы, отравляя воздух. Чтобы уйти от этого зловония, мы взобрались на скалы, которые в этом месте подходили к самому Нилу, и, обнаружив вырубленные в них входы в древние гробницы, давно уже разграбленные и опустевшие, решили переночевать в одной из них.
Вытоптанная человеком тропинка вела к самой большой из этих гробниц. Приблизившись, мы вдруг услышали доносившиеся из нее плач и причитания. Я заглянул внутрь и увидел женщину и нескольких детей, которые скорчились на полу гробницы, посыпая головы песком и пылью. Увидев нас, они завопили еще громче сухими, резкими голосами, — без сомнения, они приняли нас за разбойников или, возможно, за привидения, судя по нашей запачканной кровью одежде. С ними был еще один ребенок, совсем младенец, который не плакал: он был мертв. Я спросил женщину, что произошло, но даже когда она поняла, что мы обычные люди и не причиним ей зла, она была в состоянии лишь выдохнуть одно слово: «Воды! Воды!» Мы дали ей и детям напиться из принесенных нами кувшинов, что они и сделали с жадностью, после чего я выспросил у нее их историю.
Она была женой рыбака, который поселился в этой пещере. Она рассказала, что семь дней назад вода в Ниле вдруг превратилась в кровь, что ее невозможно было пить, а весь их запас воды ограничивался небольшим горшочком. Вырыть колодец они были не в состоянии из-за скалистой почвы. Бежать отсюда они тоже не могли, ибо при виде этого страшного чуда ее муж в ужасе выпрыгнул из лодки и вброд добрался до берега, а лодку унесло течением.
Я спросил, где же ее муж, и она показала в глубину пещеры. Я пошел взглянуть, что там, и увидел человека, висевшего с петлей вокруг горла на веревке, которая была закреплена на капители одной из колонн гробницы; человек был мертв и холоден. У меня сжалось сердце, и я спросил женщину, как это произошло. Она рассказала, что когда он увидел, что вся рыба погибла, лишив его пищи и ремесла, а жажда убила его младшее дитя, он обезумел, отполз в глубину пещеры и тайком от жены повесился на веревке от невода. Поистине ужасная история.
Оставив вдове нашу еду, мы переночевали в другой гробнице, ибо нам не хотелось спать в обществе мертвецов. На следующее утро едва забрезжила заря, мы взяли женщину и ее детей на барку и отвезли их в город, в трех часах ходу от ее мрачного жилья. Там у нее жила сестра, которую она и разыскала. Мужа и ребенка мы оставили в гробнице, ибо мои люди не хотели осквернить себя, прикоснувшись к мертвым телам.
Наконец после стольких ужасов и несчастий мы благополучно прибыли в Мемфис. Оставив гребцов привести в порядок барку, я отправился во дворец, ни с кем не разговаривая на пути, и меня немедленно провели к принцу. Я застал его в затененной от солнца комнате, где он сидел рядом с госпожой Мерапи и держал ее за руку, и они живо напомнили мне статуи Ка мужа и жены, в рост человека, какие я видел в древних гробницах, созданные в те времена, когда скульпторы умели передавать точные подобия живых мужчин и женщин. Сегодня они этого не делают, думаю потому, что жрецы внушили им, что это незаконно. Он разговаривал с ней вполголоса, в то время как она слушала его с нежной, как всегда, улыбкой, но в ее глазах, устремленных куда-то в пространство, мне почудился страх. Я подумал, что она очень красива в белой одежде, на которую падали ее волосы, приподнятые на висках узкой золотой полоской-повязкой. Но глядя на нее, я к своей радости почувствовал, что сердце мое уже не жаждет ее, как в ту ночь, когда она сидела перед летним домиком. Теперь оно радовалось ей, как другу, не более, и другом она осталась до самого конца, как хорошо знали и принц, и она сама.
Когда Сети увидел меня, он вскочил и пошел мне навстречу как человек, который счастлив приветствовать любимого друга. Я поцеловал его руку и, подойдя к Мерапи, поцеловал ее руку тоже, заметив при этом, что на ней сверкает то кольцо, которое она однажды отвергла под предлогом, что оно ей велико.
— Расскажи, Ана, обо всем, что с тобой случилось, — сказал он своим приятным, дружелюбным голосом, который никогда не звучал равнодушно.
— Многое, принц, в том числе нечто очень странное и ужасное, — ответил я.
— Здесь тоже произошло нечто странное и ужасное, — сказала Мерапи, — и, увы, это лишь начало бедствий.
С этими словами она поднялась, как будто не решаясь сказать большего, поклонилась сначала своему мужу, потом мне и вышла из комнаты.
Я посмотрел на принца, и он ответил на вопрос, который прочел в моих глазах.
— Здесь был Джейбиз, — сказал он, — и поселил в ее сердце дурные предчувствия. Если фараон не отпустит израильтян с миром, клянусь Амоном, я хотел чтобы он отослал хотя бы Джейбиза б какое-нибудь место, где тот и остался бы. Но скажи мне, вы тоже видели, как кровь поднималась вверх по течению Сихора? Должно быть, да. — И он взглянул на ржавые пятна, которых никакая стирка не могла смыть с моей одежды.
Я кивнул, и мы долго и серьезно разговаривали, но в конце разговора не стали умнее, чем были в начале, несмотря на все наши рассуждения. Ибо ни один из нас не понимал, как могло случиться, что люди, ударив по воде палкой, превратили ее в подобие крови, как это сделали израильские пророки и Ки, и каким образом эта кровь могла подняться по Нилу против течения и держаться в реке на протяжении семи дней, да и проникнуть во все каналы Египта, так что люди были вынуждены рыть колодцы, чтобы добыть чистую воду, и притом каждый раз заново, ибо кровь просачивалась и туда. Но мы оба думали, что это — работа богов, и скорее всего того бога, которому поклоняются израильтяне.
— Помнишь, Ана, — сказал принц, — слова Джейбиза, которые он просил тебя мне передать? Он сказал, что от израильтян и их проклятий мне не будет ничего плохого. Ничего до сих пор и не было плохого — кроме появления самого Джейбиза. За день до того, как мы услышали об этом кровавом бедствии на Ниле, сюда явился Джейбиз, переодетый торговцем сирийских товаров, которые он продал мне втридорога. Он проник на половину Мерапи, где она обычно принимает тех, кого любит и хочет видеть, под предлогом, что хочет показать ей свой товар, и говорил с ней и, боюсь, рассказал ей все, что мы с тобой так старались от нее скрыть — что она навлечет на меня беду. По крайней мере, с тех пор она как-то изменилась, и я счел разумным заставить ее дать клятву, которую, я знаю, она никогда не нарушит: теперь, когда мы вместе, она никогда не покинет меня, пока мы оба живы.
— Джейбиз хотел, чтобы Мерапи с ним уехала, принц?
— Не знаю. Об этом она мне ничего не говорила. Однако я уверен, что если бы он явился сюда со своей гнусной болтовней до твоего возвращения из Таниса, она бы уехала. Но теперь есть причины, которые, надеюсь, удержат ее от этого.
— Что же он мог ей сказать, принц1 :
— Приблизительно то же, что и тебе. Что страну Кемет ожидают большие бедствия. Он сказал еще, что послан спасти меня и моих друзей от этих бедствий, потому что я был другом евреев, насколько мог. Потом он обошел весь дом и сад и что-то вычитывал вслух из какого-то папируса, что именно — я не понимал, и время от времени молился своему богу: там, где канал входит в сад, там, где он вытекает из сада, и около источника с питьевой водой. Но это еще не все! Вместе с Мерапи он побывал в моих полях и на пастбищах и тоже читал и молился, так что слуги решили, что он просто сумасшедший. Потом они вернулись, и я слышал, как они прощались. Она сказала: «Дом ты благословил, и он в безопасности; поля тоже — не благословишь ли ты и меня, о мой дядя, и моих будущих детей?» А он покачал головой и ответил: «У меня нет власти ни благословлять тебя, ни проклинать, как тот глупец, которого убил принц. Ты сама выбрала свой путь, независимый от твоего народа. Может быть, это хорошо, может быть — плохо, а может быть и то и другое, и отныне ты должна идти этим путем одна, куда бы он тебя ни привел. Прощай, ибо, возможно, мы больше не увидимся».
Потом они прошли, и я больше ничего не услышал, но я видел, что она упрашивала его, а он по-прежнему качал головой. Под конец, однако, она поднесла ему дар — наверно, все что у нее было, но не знаю, ему ли или для их храма. Во всяком случае он, кажется, смягчился и весьма нежно поцеловал ее в лоб и отбыл с видом удачливого купца, продавшего весь свой товар. Но Мерапи ни за что не хочет рассказать мне, о чем они говорили. Я тоже не сказал, что слышал кое-что из их разговора.
— А потом?
— А потом, Ана, мы узнали, что израильский пророк превратил воду в кровь и что Ки и его ученики сделали то же самое. Последнему я не поверил, потому что мне казалось, было бы естественнее, если бы Ки превратил кровь обратно в воду вместо того, чтобы прибавлять крови туда, где ее и так достаточно.
— Мне кажется, маги лишились рассудка.
— Или способны только на злые дела, Ана. Во всяком случае, кровь действительно появилась, и так было целых семь дней, а потом начались болезни из-за гниющей рыбы. А теперь о чуде: у меня ни в доме, ни в садах не было никакой крови, хотя канал был ею переполнен. Вода оставалась чистой, как всегда, и рыбы плавали в ней, как всегда, в колодце вода тоже была чистая и свежая. Как только об этом стало известно, сюда сбежалась тысячная толпа, и все кричали, тре^ буя воды, — до того момента, как увидели, что едва они выходили за ворота, вода в их кувшинах краснела; правда, некоторые все-таки приходили и старались поскорее выпить воды, не сходя с места.
— А что говорят об этом в Мемфисе, принц? — спросил я, с удивлением выслушав его рассказ,
— Кое-кто считает, что не Ки, а я — великий маг Египта; никогда еще слава, Ана, не доставалась так легко! Другие говорят, что настоящий маг — Мерапи, не только потому, что ее история в танисском храме дошла до Мемфиса, но и потому, что она — израильтянка из племени еврейских пророков. Тише! Она возвращается!
XIV. Ки приезжает в Мемфис
Обо всех ужасах, началом которых было это превращение воды в кровь, я, писец Ана, рассказывать здесь не буду, ибо я уже стар, и, если бы стал перечислять все, что последовало, я бы не успел кончить свой рассказ. На протяжении многих и многих новолуний обрушивались они на Кемет, одно бедствие за другим, пока вся страна не обезумела от нужды и страданий. И всякий раз повторялось одно и то же. Израильские пророки являлись в Танис и требовали от фараона, чтобы он отпустил их народ, угрожая в случае отказа местью. Но тот неизменно отказывал, как будто во власти какого-то безумия, а может быть, завороженный богом израильтян, — не знаю почему.
Так, вскоре после ужаса крови страну поразило бедственное нашествие лягушек, которые заполнили Египет от северной до южной границы, распространяя вокруг зловоние. Ки и его товарищи тоже сотворили подобное же чудо в стране Гошен, где лягушки изводили израильтян. Но каким-то образом во дворце Сети в Мемфисе и в прилегающих к нему владениях лягушек не было или, по крайней мере, их были единицы, хотя по ночам с полей доносилось их кваканье, похожее на дробь множества барабанов.
Потом страну одолели вши, и Ки с товарищами хотели напустить их и на Гошен, но тщетно, и после этого уже не пытались бороться против магии израильтян. За вшами появились мухи, от которых в воздухе стало черно и невозможно было сохранить пищу свежей. Только во дворце Сети не было мух и очень мало — в саду. После этого началась страшная болезнь скота, от которой погибли тысячи животных. Но в большом стаде Сети не заболело ни одно, и как мы узнали позже, в Гошене тоже не стало ни на одно копыто меньше.
Это бедствие обрушилось на Кемет вскоре после того, как Мерапи родила сына — очень красивое дитя с глазами, как у матери, которому дали имя в честь его отца — Сети. К этому времени весть о том, что принц и все его хозяйство каким-то чудом избежали этих напастей, вызванных проклятием, разнеслась и вызвала много толков, так что и к нему стали присылать ходоков, чтобы узнать, как это могло случиться.
Среди первых явился старый Бакенхонсу с поручением от фараона и отдельно ко мне с поручением от принцессы Таусерт, ибо гордость не позволила ей обратиться прямо к Сети. Но мы не могли сообщить ему ничего, кроме того, о чем я здесь написал, и на первых порах он нам не поверил. Однако, удостоверившись, что мы говорим правду, он отказался от всего, сказался больным и попросил разрешения принца остаться на некоторое время в его доме, поскольку он был другом его отца, деда и прадеда. Сети засмеялся — как, впрочем, и сам хитрый старец и Бакенхонсу остался, к нашей великой радости ибо он был самым очаровательным собеседником и к тому же большим ученым. Что касается его поручения, то в Танис был послан один из его слуг с ответом фараону и Таусерт и с уведомлением о прискорбном недомогании его хозяина.
Спустя дней восемь я стоял утром, греясь на солнце, у той садовой калитки, что выходит к храму Птаха, и праздно следил за процессией жрецов, с пением проходящих по его территории, ибо из-за частых болезней, случавшихся в эту пору в Мемфисе, я редко покидал пределы дворца. Неожиданно я увидел темную фигуру человека, кутавшегося в плащ, так как солнце еще не разогнало утреннюю прохладу. Человек приблизился и, обратившись ко мне через голову стражника, просил, не может ли он видеть госпожу Мерапи. Я ответил, что она занята, ибо нянчит своего сына.
— И кое-чем еще, я полагаю, — ответил он многозначительно, и его голос показался мне знакомым. — Ну, тогда могу я видеть принца Сети?
Я ответил, что он тоже занят.
— Тем, что нянчит свою душу, изучает глаза госпожи Мерапи, улыбку своего младенца, мудрость писца Аны и атрибуты ста одного бога, в том числе, как можно предположить, бога Израиля, — произнес этот знакомый голос, добавив: — Тогда я, возможно, могу повидать этого писца Ану, который, насколько я понимаю, приписывает свою удачливость своей учености.
Рассерженный насмешливым тоном незнакомца, который, как я уже ясно чувствовал, на самом деле вовсе не незнакомец, я ответил, что писец Ана, стремясь пополнить недостаток удачливости, занят беседой с богиней учености в своем кабинете.
— Что ж, пусть его беседует, — насмешливо сказал незнакомец, — поскольку она — единственная женщина, какую ему, похоже, удалось поймать. Хотя одна его однажды поймала. Если ты его знакомый, спроси у него, о чем он с ней беседовал в аллее сфинксов у большого храма в Фивах скольких золотых монет и слез ему это стоило.
Услышав это, я поднял руку и протер глаза, думая что я, должно быть, задремал, пригревшись на солнце. Но когда я отнял руку, все оставалось, как было: стоял стражник, равнодушный к тому, что его не касалось, петух, распустив хвост, все так же разгребал лапой грязь, гриф по-прежнему сидел с распростертыми крыльями на голове одной из двух больших статуй Рамсеса, возвышающихся словно стражи у ворот. Поодаль продавец воды расхваливал свой товар — но незнакомец исчез. Тогда я понял, что я действительно видел сон, и повернулся, собираясь уйти, — и оказался лицом к лицу с незнакомцем.
— Эй, ты, — сказал я возмущенно, — как, во имя Птаха и всех его жрецов, ты прошел мимо стражника и через эти ворота, а я даже не заметил?
— Не утруждай себя новой задачей, когда их и так уже достаточно, чтобы сбить тебя с толку, друг Ана. Скажи, ты уже решил ту — про палку, которая превратилась у тебя в руке в змею? — И он отбросил капюшон, и я увидел бритую голову и сверкающие глаза керхеба Ки.
— Нет, — ответил я, — благодарю покорно, ибо он протянул мне свой жезл. — Я не повторю больше этот фокус. В следующий раз зверь может и укусить. Ну ладно, Ки, если ты смог войти сюда без моего разрешения, к чему о нем спрашивать? Короче, чего ты от меня хочешь после того, как израильские пророки положили тебя на обе лопатки?
— Тихо, Ана! Никогда не давай воли гневу, это напрасная трата сил, которых у нас и так мало; ты ведь мудрый и знаешь — а может быть, не знаешь — что при нашем рождении боги дают нам определенный запас сил, а когда они истощаются, мы умираем и должны идти куда-то в другое место, чтобы пополнить этот запас. При твоем характере, Ана, жизнь твоя будет короткой, ибо ты растрачиваешь слишком много сил на эмоции.
— Что тебе нужно? — повторил я, слишком сердитый, чтобы спорить с ним.
— Хочу найти ответ на вопрос, который ты так грубо сформулировал: почему израильские пророки, как ты выразился, положили меня на обе лопатки?
— Я не маг, каким являешься — или претендуешь быть — ты, и не могу ответить на твой вопрос.
— Я ни на минуту не предполагал, что можешь, — ответил он благодушно, протянув руки и выпустив из них свой посох, который так и остался стоять перед ним. (Только позже я вспомнил, что этот проклятущий кусок дерева стоял сам по себе, без видимой поддержки, ибо его кончик упирался в вымощенную дорожку у ворот.) — Но, по счастливой случайности, ты имеешь в этом доме мастера или, скорее, мастерицу над всеми магами — как известно сегодня каждому египтянину — госпожу Мерапи, и я хотел бы повидаться с ней.
— Почему ты называешь ее мастерицей над вами, магами? — спросил я с возмущением.
— Почему одна птица узнает другую по полету? Почему вода остается здесь чистой, когда во всех других местах она превращается в кровь? Почему лягушки не квакают в садах Сети, а мухи не садятся на мясо у него на столе? Почему, наконец, статуя Амона рассыпалась под ее взглядом, в то время как все мои чары отскакивали от ее груди, как стрелы от кольчуги? Вот вопросы, которые задает весь Египет, и я хотел бы получить на них ответы от возлюбленной Сети, или бога Сети, — от той, кого называют Луной Израиля.
— Тогда почему не пробраться туда самому, Ки? Тебе, несомненно, ничего не стоит принять вид змеи или крысы, или птицы, и проползти или прокрасться, или прилететь в покои Мерапи.
— Возможно, это и не было бы очень трудно, Ана. Или, еще лучше, я мог бы посетить ее во сне, как я сделал в одну памятную ночь в Фивах, когда ты поведал мне о разговоре с одной женщиной в аллее сфинксов и о том, сколько золота она тебе стоила. Но в данном случае я хочу появиться как человек и друг и немного погостить здесь. Бакенхонсу говорит, что находит жизнь в Мемфисе очень приятной, К тому же свободной от болезней, которые сейчас стали, видимо, обычными для Кемета. Так почему бы мне тоже не пожить здесь, Ана?
Я посмотрел на его круглое, полное лицо, на котором застыла | неподвижная улыбка, неизменная, как улыбка масок на гробах мумий (которую, я думаю, он и скопировал) и холодно сверкали глубоко сидящие глаза, и почувствовал легкую дрожь. Сказать по правде, я боялся этого человека, чувствуя, что он соприкасается с существами и вещами какого-то иного мира, и решил больше ему не противодействовать.
— С этим вопросом тебе лучше обратиться к моему господину. Сети, кому принадлежит этот дом. Пойдем, я проведу тебя к нему.
Итак, мы направились к большому портику дворца, прошли между его раскрашенными колоннами к той части дворца, где жил я, откуда я решил сообщить принцу о неожиданном госте. Оказалось, что это излишне, ибо мы увидели, что он сидит в тени маленькой ниши; рядом с ним сидела Мерапи, а между ними на вытканном коврике лежал сияющий младенец, на которого оба смотрели с обожанием.
— Странно, что в сердце этой матери скрыта сила, которой могли бы гордиться все боги Кемета. Странно, что эти материнские глаза могут превратить древнюю славу Амона в прах, — сказал мне Ки таким тихим голосом, что мне почудилось, будто я слышу не слова его, а мысли. Может быть, так оно и было.
Теперь мы стояли перед этой троицей, и так как раннее солнце было еще позади нас, тень облаченного в плащ Ки упала на дитя и покрыла его. Страшная фантазия пришла мне вдруг в голову: тень Ки выглядела как фигура бальзамировщика, склонившегося над только что умершим ребенком. Младенец что-то почувствовал, открыл большие глаза и заплакал. Мерапи вскочила и подняла его на руки. Сети тоже поднялся со скамьи, воскликнув:
— Кто пришел?
К моему изумлению Ки простерся перед ним и произнес приветствие, с которым обращаются только к царю Египта:
— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!
— Кто смеет приветствовать меня этими словами? — воскликнул Сети. — Ана, какого сумасшедшего ты привел?
— Если принцу угодно, это он привел меня сюда, — ответил я слабым голосом.
— Скажи, кто научил тебя обратиться ко мне с такими словами? Худшего приветствия нельзя придумать.
— Те, кому я служу, принц.
— А кому ты служишь?
— Богам Кемета.
— Ну, тогда боги по тебе плачут. Фараон сидит не в Мемфисе, и если бы он услышал твои слова…
— Фараон никогда не услышит их, принц, до тех пор, пока не услышат все.
Они смотрели друг на друга. Потом, как раньше у ворот сделал я, Сети протер глаза и сказал:
— Право же, это Ки! Почему же ты только что выглядел иначе?
— Боги могут изменять вид своих посланцев тысячи раз в мгновение ока, если на то их воля, о принц.
Гнев Сети прошел, и он засмеялся.
— Ки, Ки, — сказал он, — ты бы лучше приберег эти трюки для Двора. Но раз уж ты в таком настроении, как бы ты приветствовал эту госпожу, что стоит рядом со мной?
Ки устремил на нее взгляд, от которого она, всегда боявшаяся и ненавидевшая мага, невольно вздрогнула.
— Корона Хатхор, приветствую тебя. Любимица Исиды, сияй в небесах, проливая свет и мудрость, пока ты не зайдешь.
Это приветствие озадачило меня. Я его даже не совсем понял, пока Бакенхонсу не напомнил мне, что прозвище Мерапи было Луна Израиля, Хатхор, богиня Любви, увенчана луной на всех изображающих ее статуях, Исида — царица таинств и мудрости, и что Ки, считая Мерапи совершенной в любви и красоте и величайшей из всех чародеек, сравнивал ее с Луной, Хатхор и Исидой.
— Да, — ответил я, — но что он имел в виду, говоря о ее заходе?
— Разве луна не всегда садится и разве иногда на нее не находит тень? — спросил он как-то странно.
— Но солнце тоже садится, — ответил я.
— Верно, солнце тоже! Ты становишься мудрецом, Ана, настоящим мудрецом. Охо-хо!
Но вернемся к сцене в саду. Когда Сети услышал это приветствие, он снова рассмеялся и сказал:
— Я должен в это вдуматься, но ясно, что у тебя талант к восхвалению. Не правда ли, Мерапи? Корона Хатхор и воплощение мудрости Исиды? '
Но Мерапи, которая, думаю, понимала больше, чем любой из нас, побледнела и отступила подальше, из тени на солнце.
— Ладно, Ки, — сказал Сети, — закончим с приветствиями. Как насчет младенца?
Ки всмотрелся в него:
— Теперь, когда он не в тени, я вижу, что этот побег из корня фараона растет столь быстро и высоко, что мои глаза не достигают его венчика. Он слишком высок и велик для приветствий, принц.
Тогда Мерапи слегка вскрикнула и унесла ребенка прочь.
— Она боится магов и их темных изречений, — сказал Сети, глядя ей вслед с огорченной улыбкой.
— Она не должна бояться, принц, учитывая, что она — властительница всего нашего племени.
— Госпожа Мерапи — и маги? Ну, в каком-то смысле, да, — там, где это касается мужских сердец, как ты думаешь, Ана? Но говори яснее, Ки. Еще рано, а загадки хороши только ночью.
— Какая другая женщина могла бы разрушить крепкий и священный дом великого Амона на земле? Даже пророки Израиля не могли бы, я думаю. Кто еще смог бы оградить этот сад от проклятий, которые пали на весь Кемет? — серьезно спросил Ки, ибо вся его насмешливость с него слетела.
— Я не думаю, что все это делает она, Ки. Я думаю, что через нее действует какая-то сила, и я знаю, что она осмелилась стать лицом к лицу с Амоном в его храме только потому, что так велели жрецы ее народа.
— Принц, — ответил он с коротким смешком, — недавно я отправил тебе с Аной послание. Возможно, другие мысли вытеснили его у тебя из памяти. Оно было о природе той Силы, о которой ты говоришь. В моем послании я назвал тебя мудрым, но теперь вижу, что в тебе так же мало мудрости, как и во всех остальных; ибо, если бы она у тебя была, ты бы знал, что резец, обрабатывающий камень, — это не направляющая рука, а разящая молния — это не посылающая ее сила. Так и с твоей прекрасной любимой, так и со мной, и со всеми, кто творит чудеса. Но мы делаем, что нам приписывают, — мы лишь резец и молния. Я хотел бы знать лишь одно: кто или что направляет ее руку и дает ей власть и силу защищать или разрушать.
— Это очень серьезный вопрос, Ки; во всяком случае, так кажется мне, с моей малой, как ты говоришь, мудростью. Тот, кто может на него ответить, держит ключ к знанию. Твое искусство не так велико, оно кажется великим лишь потому, что доступно очень немногим. Какое чудо заставляет цветок расти, ребенка — родиться, Сихор — разливаться, а солнце и звезды — сиять в небесах? Что делает человека наполовину зверем, а наполовину богом, толкает его вниз — к зверю, или поднимает вверх — к богу — или к тому и другому сразу? Что такое вера и что — неверие? Ты качаешь головой, ты не знаешь; как же могу знать я, ведь я, по-твоему, глупец? Так что ищи ответа на твой вопрос у госпожи Мерапи — только может случиться, что твои вопросы встретят противодействие.
— Все-таки попробую. Спасибо повелителю Мерапи! Прошу о милости, принц (раз уж ты не разрешаешь называть тебя другим именем, которое естественно вырвалось из уст того, для кого настоящее и будущее — почти одно и то же)…
Сети пристально посмотрел на него, и впервые в его глазах промелькнуло выражение страха.
— Оставь Будущее — Будущему, Ки! — воскликнул он. Каково бы ни было мнение Египта, сейчас меня вполне удовлетворяет настоящее. — И он взглянул на кресло, в котором недавно сидела Мерапи, и на коврик, где лежал его сын.
— Беру свои слова обратно. Принц мудрее, чем я думал. Маги знают будущее потому, что временами оно нисходит на них и они поневоле должны обращать к нему взор. Это и делает их одинокими, поскольку они не могут сказать о том, что они знают. Но только глупец пытается проникнуть в будущее.
— И все же время от времени они приподнимают краешек завесы, Ки. Я помню, например, твои собственные слова о ком-то, кто найдет в стране Гошен великое сокровище, а потом испытает временные потери и — дальше я забыл. Да перестань же улыбаться мне и пронзать меня насквозь острыми, как мечи, глазами. Ты все можешь, — какой же милости ты хочешь просить у меня?
— Дай мне пожить здесь немного, в обществе Аны и Бакенхонсу. Послушай, я больше уже не керхеб. Я поссорился с фараоном, может потому что струйка этого великого ветра Будущего проникает мне в душу, или возможно потому, что он не вознаграждает меня по заслугам, — какое значение имеет, почему. По крайней мере, я пришел к тому же мнению, какого придерживаешься ты, о принц, и считаю, что фараон сделал бы правильно, отпустив израильтян на свободу, и поэтому я никогда больше не попытаюсь противопоставить свою магию их магии. Но он опять отказал, так что мы расстались.
— Почему он отказывается, Ки?
— Может быть, потому, что написано — он должен отказаться. Или, возможно, потому, что считает себя величайшим из царей, а не игрушкой в руках богов, и гордость запирает двери его сердца, чтобы в какой-то грядущий день буйный ветер Будущего, о котором я говорил, смел бы и разрушил дом, где оно обитает. Не знаю, почему он отказывается, но ее высочество Таусерт весьма активно его поддерживает.
— Для человека, который не знает, у тебя слишком много толкований и все разные, о высокоученый Ки, — сказал Сети.
Он помолчал, прохаживаясь взад и вперед по портику, и я, всегда понимавший его настроения, догадывался, что он ищет ответа на вопрос, что лучше — приютить Ки, которого он временами боялся, потому что его окружала тайна и он никогда не менялся, или отослать его прочь. Ки тоже было как бы не по себе, и, слегка передернувшись, он вышел из портика на яркое солнце. Здесь он протянул руку, и с крыши вдруг спустилась большая ночная бабочка и села ему на руку, а он поднял ее к губам и как будто заговорил шепотом с этим насекомым.
— Что мне делать? — пробормотал Сети, проходя мимо меня.
— Мне не очень нравится его общество, да и госпоже Мерапи, думаю, тоже, но он такой человек, которого опасно обижать, принц, — сказал я. — Смотри, он разговаривает с себе подобным.
Сети вернулся на свое место; Ки стряхнул с руки бабочку, которая, казалось, не желала с ним расстаться, ибо дважды садилась ему на голову, и тоже вернулся в тень портика.
— Какая польза задавать мне вопросы, Ки, если — как ты сам показал — ты уже знаешь, что я на них отвечу? Ну, что я тебе отвечу? — спросил принц.
— Это пестрое существо, которое только что сидело у меня на руке, кажется, шепнуло мне, что ты скажешь: «Оставайся, Ки, будь мне верным слугой и используй все знания, какие у тебя есть, чтобы оградить мой дом от зол».
Тогда Сети рассмеялся, как будто его ничто не угнетало, и ответил:
— Будь по-твоему, поскольку есть правило: ни один член царского дома в Египте не может отказать в гостеприимстве тем, кто его просит, особенно бывшему другу! И не стану противопоставлять твоей бабочке то, что шептала мне этой ночью летучая мышь. Нет, и никаких приветствий, подсказанных мне насекомым или будущим! — И он протянул Ки руку, которую тот поцеловал.
Когда Ки ушел, я сказал:
— Я говорил тебе, что та ночная тварь ему сродни.
— Значит, ты сказал глупость, Ана. Ки получает свои знания не от бабочек или жуков. Однако как жаль, что я поторопился и не спросил госпожу Мерапи, хочет ли она оставить Ки у нас в доме. Ты бы лучше подумал об этом, Ана, вместо того, чтобы наблюдать за бабочкой у него на руке, — он специально приманил ее, чтобы отвлечь твои мысли. Ладно, в наказание тебя ожидает приятная участь — изо дня в день смотреть на человека с лицом, похожим на… на что?
— На тот лик, что я видел на саркофаге доброго бога, твоего божественного отца, Мернептаха, — и он был изготовлен для фараона еще при жизни в мастерской бальзамировщика в Танисе.
— Да, — сказал принц, — лицо вечно улыбающегося в Нечто, которое есть Жизнь и Смерть, но в иные моменты — с глазами, пылающими огнем.
На следующий день по приглашению госпожи Мерапи я гулял с ней в саду; за нами шла няня, неся на руках царское дитя.
— Хочу спросить у тебя про Ки, друг Ана, — сказала она. — Ты знаешь, что он мой враг, ведь ты, должно быть, слышал, что он говорил в храме Амона в Танисе. Видимо, мой господин пригласил его погостить у нас в доме — о, смотри! — И она указала в ту сторону, куда мы шли.
Впереди, в нескольких шагах от нас, там, где тень сплетающихся над дорожкой ветвей была особенно густой, стоял Ки. Он опирался на свой жезл, тот самый, который в моих руках превратился/в змею, и смотрел вверх с видом человека, погруженного в мысли или внимающего пению птиц. Мерапи повернула было обратно, в этот момент Ки нас увидел, хотя и продолжал смотреть вверх.
— Привет тебе, о Луна Израиля! — сказал он и поклонился. — Привет тебе, о победительница Ки!
Она поклонилась в ответ и замерла, как птичка, увидевшая змею. Наступило долгое молчание, которое он прервал, спросив ее:
— Зачем требовать от Аны того, что Ки сам жаждет дать! Ана — ученый, но разве его сердце — сердце Ки? А главное, зачем говорить ему, что Ки, смиреннейший из твоих слуг, — твой враг?
Теперь Мерапи выпрямилась, посмотрела ему в глаза и ответила:
— Разве я сказала Ане то, чего он не знал? Разве Ана не слышал, что ты сказал мне напоследок в храме Амона в Танисе?
— Несомненно слышал, госпожа, и потому я рад, что он здесь и теперь услышит мои объяснения. Госпожа Мерапи, в тот момент во мне, служителе Амона, говорил не мой собственный дух, но разгневанный дух бога, которого ты унизила так, как его не унижал еще ни один человек в Египте. Этот бог через меня потребовал, чтобы ты раскрыла секрет твоей магии, угрожая своей ненавистью, если ты откажешь. Госпожа, тебе грозит его ненависть, но не моя, поскольку я тоже заслужил его ненависть, ибо меня, а через меня и его, победили твои пророки. Госпожа, мы с тобой спутники в скитаниях по долине бедствий.
Она не сводила с него глаз, и я видел, что она не верит ни одному его слову. Не отвечая ему, она только спросила:
— Зачем ты явился сюда вредить мне, ведь я не желаю тебе зла?
— Ты ошибаешься, госпожа, — возразил он. — Я ищу здесь убежища, защиты от Амона и его слуги-фараона, которого Амон толкает на путь гибели. Я хорошо знаю, что если ты захочешь, то стоит тебе шепнуть одно слово на ухо принцу и он выставит меня отсюда. Но тогда… — И он взглянул через ее голову туда, где нянька покачивала на руках спящего ребенка.
— Что тогда, маг?
Не отвечая, он повернулся ко мне.
— Высокоученый Ана, помнишь, ты встретил меня однажды вечером в Танисе?
Я покачал головой, хотя отлично знал, какой вечер он имеет в виду.
— У тебя слабеет память, Ана, а может быть, ты просто не совсем точно помнишь, ведь мы часто встречались, не так ли?
Сказав это, он уставился на свою палку, я тоже, потому что не мог противиться, и увидел (или мне почудилось), как мертвое дерево вдруг начало вспухать и выгибаться. Этого было достаточно, и я поспешил ответить.
— Если ты имеешь в виду день коронации, то я действительно припоминаю…
— А! Я так и думал. Ты, Ана, наблюдателен, как все писцы, и, конечно, замечал, как часто сущие мелочи — запах цветов, пролетевшая птица или даже змея, извивающаяся в пыли, — воскрешают в памяти слова или события, которые уже давно забылись.
— Ну, так что о нашей встрече? — перебил я поспешно.
— Решительно ничего — или разве что вот: как раз перед этим ты разговаривал с Джейбизом, дядей госпожи Мерапи, да?
— Да, разговаривал с ним на открытом месте, один на один.
— Не совсем так, ученый писец, ибо ты знаешь, что мы никогда не бываем одни — полностью. Если б позволяло наше зрение, ты бы увидел, что каждая песчинка имеет ухо.
— Будь любезен объяснить, Ки, что ты имеешь в виду? — спросил я с гневом и в следующий же миг пожалел, что не откусил себе язык, с которого слетели эти слова.
— Многое, многое. Дай вспомнить. Вы разговаривали о госпоже Мерапи и о том, как ей лучше поступить — остаться ли под защитой принца в Мемфисе или вернуться в страну Гошен под защиту — я забыл его имя. Джейбиз, человек знающий, сказал, что по его мнению в Мемфисе она была бы счастлива, хотя, возможно, ее присутствие принесло бы много горя ей и… другому.
Тут он снова взглянул на ребенка, который будто почувствовал его взгляд, ибо проснулся и стал бить ручонками воздух.
Нянька тоже почувствовала этот взгляд, хотя и смотрела в другую сторону: она вздрогнула, а потом отступила и спряталась за стволом одной из пальм. Мерапи сказала тихо и потрясенно:
— Я знаю, что ты имеешь в виду, маг, ибо с тех пор я уже виделась с моим дядей Джейбизом.
— Как и я, притом несколько раз, госпожа, и это может объяснить то, что Ана считает столь загадочным, а именно — как я узнал, о чем они говорили «один на один», по его мнению. Но, как я уже сказал, никто никогда не бывает один, по крайней мере в Египте, стране подслушивающих богов…
— И подсматривающих чародеев! — воскликнул я.
— …и подсматривающих чародеев, — повторил он, — и писцов, которые все записывают и выучивают наизусть свои записи, и жрецов с большими, как у ослов ушами, и листьев, которые шепчут, и многих других вещей.
— Брось свои насмешки и говори то, что хотел сказать, — произнесла Мерапи тем же тихим, прерывающимся голосом.
Он не ответил, но лишь посмотрел в сторону дерева, за которым скрылись нянька и ребенок.
— О! Знаю, знаю! — воскликнула она почти со стоном. — Мое дитя в опасности! Ты угрожаешь моему ребенку, потому что ненавидишь меня.
— Прошу прощения, госпожа. Действительно, этому царственному младенцу грозит опасность — во всяком случае, так я понял Джейбиза, который так много знает. Но это не я угрожаю ему, это так же неверно, как то, что я тебя ненавижу. Я признаю в тебе товарища по ремеслу, настолько превосходящего меня, что мой долг — повиноваться.
— Перестань! Зачем ты меня мучаешь?
— Разве могут жрецы богини Луны мучить Исиду, Мать Волшебства, своими просьбами и приношениями? И могу ли я, собираясь обратиться к тебе с просьбой и приношением…
— С какой просьбой и с каким приношением?
— С просьбой о том, чтобы ты позволила мне укрыться в этом доме от многих опасностей, которые грозят мне со стороны фараона и пророков твоего народа, и с приношением всей помощи, какую я только могу оказать посредством моего искусства и знаний, в противовес еще более мрачным опасностям, грозящим… другому.
Тут он еще раз взглянул на ствол пальмы, из-за которого донесся плач младенца.
— Если я соглашусь, что тогда? — спросила она хриплым голосом.
— Тогда, госпожа, я употреблю все силы, чтобы защитить некоего младенца от проклятия, которое, по словам Джейбиза, ему угрожает, а также некоторых других, в ком течет египетская кровь. Я постараюсь, если мне будет позволено остаться здесь, — я не говорю, что мне удастся, ибо, как мне напомнил твой господин и как ты сама доказала мне в храме Амона, моя сила уступает силам пророков и пророчиц Израиля.
— А если я откажусь?
— Тогда, госпожа, — ответил он голосом, который звенел, как железо, — я уверен, что тот, кого ты любишь, как любят матери, будет вскоре спать в объятиях бога, называемого нами Осирисом.
— Оставайся, — крикнула она и, повернувшись, бросилась бежать.
— Ну вот, она ушла, — сказал он, — а я даже не успел поторговаться насчет награды. Придется ее искать в вашей компании. Странные существа — женщины, Ана! Вот, например, эта — одна из величайших представительниц своего пола, как ты узнал в храме Амона: однако и она расцветает под солнцем надежды и сжимается в тени страха, как листья того нежного растения на берегу реки, если до них дотронуться; а между тем ее глазам доступны тайны, скрытые от нашего взгляда, ее слух ловит шепот ветров, которого не слышит никто из нас; и она могла бы попирать ногами земные надежды и страхи или сделать их ступенями, ведущими к славе и величию. Она бы так и поступила, будь она мужчиной, но ее пол губит ее — для нее поцелуй младенца больше, чем весь блеск и все сокровища мира. Да, младенца, одного жалкого, крошечного младенца. У тебя ведь тоже был такой когда-то, Ана?
— О! Иди ты к Сету со всей твоей мерзкой болтовней! — сказал я и пошел прочь.
Пройдя несколько шагов, я оглянулся и увидел, что он смеется, подбрасывая вверх и снова ловя свою палку.
— К Сету? — крикнул он мне вдогонку. — Интересно, как бы он принял меня, этот Сет! Ну что ж, может быть, когда-нибудь мы это узнаем, ты и я вместе, писец Ана.
Так Ки поселился с нами, в той же части дворца, где Бакенхонсу, и почти каждый день я встречал их в саду, поскольку я, постоянный гость за столом принца (за исключением тех случаев, когда он уходил на половину Мерапи), никогда не участвовал в их трапезах. Встречаясь, мы беседовали о многих предметах. Когда дело касалось науки и даже религии, я одерживал верх над Ки, который не был ни большим ученым, ни знатоком теологии. Но всегда, прежде чем расстаться, он всаживал какую-нибудь стрелу мне в ребра, а старый Бакенхонсу смеялся вновь и вновь, но неизменно прикрывал меня щитом своей мудрости — просто потому, я думаю, что искренне любил меня.
После вселения Ки на египетский скот напала чума, так что десятки тысяч животных погибли, но не все, как сообщалось. Как я уже говорил, стада Сети не пострадали, так же как, судя по слухам, не пострадал и скот в стране Гошен. Страх и уныние охватили весь Кемет, но Ки улыбался и уверял, будто он знал, что так будет и худшее еще впереди. Мне так и хотелось треснуть его по голове его собственной палкой, и, пожалуй, я бы не утерпел, если бы не боялся, что она опять превратится в моей руке в желтую змею.
Старый Бакенхонсу смотрел на все это иначе. Он сказал мне, что с тех пор, как умерла его последняя жена (лет пятьдесят назад), ему стало казаться, что жить очень скучно, ибо ему не хватало проявлений ее нрава и ее привычки представлять вещи такими, какими они никогда не были и никогда не могли стать. Однако теперь жизнь снова полна интереса, поскольку чудеса, которые происходят в стране Кемет, противоречат всяким законам Природы и тем самым напоминают ему его последнюю жену и ее рассуждения. Так он в своеобразной форме выразил мысль, что последние годы мы живем в новом мире, в котором, по мнению египтян, воцарился Сет, бог Зла.
Но фараон все так же упорно отказывался уступить просьбам израильских пророков, то ли потому, что дал клятву Мернептаху, когда тот посадил его на трон, то ли по причинам — или одной из причин — которые Ки изложил принцу.
Потом на страну обрушилось проклятие болячек и язв, не пощадившее ни мужчин, ни женщин, ни детей — за исключением тех, кто жил во владениях Сети. Так, сторож и его семья, которые жили в доме за воротами, пострадали, тогда как садовник и его семья, жившие всего лишь в двадцати шагах, но в пределах ограды, не пострадали, что стало причиной вражды между их женами. Таким же образом Ки, будучи гостем во дворце принца в Мемфисе, не пострадал от язв, тогда как его товарищи и ученики в Танисе были поражены ими даже сильнее, чем все другие, так что кое-кто из них даже умер. Когда Ки услышал об этом, он засмеялся и заявил, что он им это предсказывал. Болезнь не обошла даже самого фараона и ее высочество Таусерт: у последней язва появилась на щеке и обезобразила ее на некоторое время. Бакенхонсу слышал даже, уж не знаю от кого, будто ее ярость была столь велика, что она готова была вернуться к Сети, в чьих владениях, как она узнала, люди остались целы и невредимы, а красота ее преемницы, Луны Израиля, не только не потерпела урона, но даже возросла; эти сведения, думаю, сообщил ей сам Бакенхонсу. Но в конце концов гордость или ревность помешали ей осуществить это намерение.
Теперь сердце Египта начало всерьез поворачиваться к Сети. Принц, говорили люди, был против притеснения евреев и, не в силах изменить положения вещей, отказался от своего права на престол, а фараон Аменмес купил это право ценой принятия политики, плоды которой оказались столь разрушительными. Поэтому, рассуждали они, если бы Аменмес был низложен, а принц стал бы царствовать, бедствия народа прекратились бы. Они стали тайно посылать к нему людей, умоляя его восстать против Аменмеса и обещая свою поддержку. Но он не хотел их слушать, говоря, что счастлив в своем положении и не желает иного. Все же фараон проникся ревностью, ибо его шпионы доносили ему обо всем слово в слово, и начал плести интриги, чтобы погубить Сети.
О первой из них меня предупредила Таусерт, послав ко мне своего гонца, но вторую, гораздо худшую, раскрыл Ки и притом каким-то странным образом, так что убийца был захвачен в воротах и убит сторожем; после того Сети сказал, что, в конечном итоге, он поступил мудро, оказав Ки гостеприимство, если конечно желание остаться в живых можно назвать мудростью. Госпожа Мерапи сказала мне примерно то же самое, но я заметил, что она всегда избегала Ки, относясь к нему с недоверием и страхом.
XV. Ночь ужаса
Потом разразился град, а спустя несколько месяцев налетела саранча, и весь Кемет сходил с ума от отчаяния и ужаса. Нам стало известно, ибо с водворением Ки и Бакенхонсу в дом Сети мы всегда обо всем знали, что эта буря с градом была обещана израильскими пророками, если фараон откажется их выслушать. Поэтому Сети велел оповестить народ по всей стране, чтобы египтяне при первых же признаках бури укрыли свой скот. Но фараон услышал об этом и объявил свой приказ, запрещающий подобные действия, ибо они были бы оскорблением для богов Кемета. Все же многие последовали совету Сети и так спасли свой скот. Необычное зрелище представляла собой эта сплошная стена падающего льда, как бы воздвигшаяся от земли до небес и уничтожавшая все, на что она обрушивалась. Град сдирал кору даже с высоких финиковых пальм, взламывал и поднимал почву. Попадая под него, люди и животные погибали или покрывались рваными ранами. Я стоял в воротах и следил за происходящим. Там, на расстоянии какого-нибудь шага, падал белый град, превращая мир в руины, в то время как здесь, по нашу сторону ворот, не упала ни единая градина. Мерапи тоже смотрела, а вскоре к нам присоединился Ки, а за ним и Бакенхонсу, который за всю свою долгую жизнь никогда не видел ничего подобного. Но Ки больше наблюдал за Мерапи, чем за падающим градом, ибо я видел, что его безжалостные глаза стремятся проникнуть в самую глубину ее души.
— Госпожа, — сказал он наконец, — молю тебя, открой твоему слуге, как ты это делаешь? — И он указал сначала на деревья и цветы по нашу сторону ворот, потом на хаос разрушения снаружи.
Сперва я подумал, что она его не расслышала из-за рева бури, ибо она подошла и открыла боковую калитку, чтобы впустить беднягу-шакала, который скребся о забор. Однако я ошибся, ибо затем она обернулась и сказала:
— Неужели, керхеб, самый искусный маг Египта, просит неученую женщину научить его чудесам? Нет, Ки, я не могу, потому что этому не училась и не делаю этого, и не знаю, как это делается.
Бакенхонсу засмеялся, а неподвижная улыбка Ки стала как будто еще ярче, чем обычно.
— В стране Гошен говорят иное, госпожа, — ответил он, — и еврейские женщины в Мемфисе тоже. Как и жрецы Амона. Эти жрецы утверждают, что твое искусство превосходит искусство всех магов на берегах Сихора. И вот доказательство. — И он опять показал на то, что было у нас, и на то, что происходило снаружи, добавив: — Госпожа, если ты можешь защитить свой собственный дом, почему же ты не можешь защитить невинных людей Египта?
— Потому что не могу, — ответила она с гневом. — Если бы я когда-нибудь и имела такую способность, она теперь покинула бы меня, — я теперь мать ребенка от египтянина. Но я не обладаю такой способностью. Там, в храме Амона, через меня действовала какая-то сила, вот и все. Сила, которая никогда больше не изберет меня своим орудием из-за моего греха.
— Какого греха, госпожа?
— Из-за того, что я приняла принца Сети как своего мужа и господина. Теперь, если бы даже какой-нибудь боги действовал через меня, это был бы один из богов египтян, ибо бог Израиля отверг меня— .
Ки вздрогнул, словно его осенила какая-то новая мысль; она же повернулась и ушла.
— Вот бы она стала верховной жрицей Исиды, чтобы действовать на пользу нам, а не против нас! — сказал он.
Бакенхонсу покачал головой.
— Не надейся, — ответил он. — Будь уверен, ни одна израильтянка не станет служить тому, что она считает египетской мерзостью.
— Если она не пожертвует собой, чтобы спасти народ, пусть остережется, как бы народ не пожертвовал ею, чтобы спасти себя, — холодно сказал Ки.
Затем он тоже удалился.
— Если такой час когда-нибудь настанет, думаю, что Ки получит свою долю, — засмеялся Бакенхонсу. — Какая польза от пастуха, который укрывается здесь в уюте и довольстве, в то время как овцы гибнут, а, Ана?
После того как налетела саранча и пожрала все, что оставалось съедобного на полях Египта, так что бедняки, которые никому не причиняли зла и не имели никакого отношения к делам между фараоном и израильтянами, страдали и умирали от голода тысячами, — наступила великая тьма; и вот тогда появился Лейбэн. Тьма опустилась на страну подобно плотной туче и лежала целых три дня и три ночи. Тем не менее, хотя тени стали гуще, над домом Сети в Мемфисе настоящей тьмы не было: дом стоял как бы под колоколом сумеречного света, простиравшегося от земли до небес.
Теперь ужас усилился в десять раз против прежнего, и мне казалось, что все сотни тысяч жителей Мемфиса столпились под нашими стенами, лишь бы хоть смотреть на этот свет, каков бы он ни был, если им не оставалось ничего другого. Сети впустил бы всех, кому хватило места, но Ки запретил это, сказав, что если он откроет ворота, за ними вольется вся эта тьма. Только Мерапи впустила нескольких израильтянок, которые были замужем за египтянами и жили в Мемфисе, — хотя они и проклинали ее как ведьму. Ибо теперь большинство жителей Мемфиса были уверены, что именно Мерапи, сама живя в безопасности, навлекла на них все эти бедствия, так как поклонялась чужому богу.
— Если бы она, возлюбленная наследника Египта, принесла бы жертву египетским богам, эти ужасы нас миновали бы, — говорили они, заучив, как я думаю, эту фразу из уст Ки. А может быть, их научили посланцы Таусерт.
И снова мы стояли у ворот, наблюдая за тем, как движутся и мелькают в темноте люди, ибо это зрелище действовало на Мерапи так же, как змея действует на птичку. Вот тогда и явился Лейбэн. Я сразу узнал его горбатый нос и ястребиные глаза, и она тоже его узнала.
— Уходи со мной, Луна Израиля, — закричал он, — и все тебе простится. А не уйдешь, тебя постигнет ужасная кара!
Она стояла, не сводя с него глаз и не отвечая ни слова, и в этот момент к нам подошел принц Сети и увидел его.
— Схватить этого человека! — приказал он, вспыхнув от гнева, и стражники бросились в темноту выполнять его приказ. Но Лейбэн исчез.
На второй день этой тьмы волнение было велико, на третий оно стало ужасающим. Толпа отбросила стражника, сорвала ворота и ворвалась во дворец, смиренно требуя, чтобы госпожа Мерапи вышла помолиться за них, но показывая всем своим видом, что если она откажется, они выведут ее силой.
— Что делать? — спросил Сети у Ки и Бакенхонсу.
— Об этом судить принцу, — сказал Ки, — хотя я лично не вижу, как это может повредить госпоже Мерапи, если она помолится за нас на площади Мемфиса.
— Пусть пойдет, — сказал Бакенхонсу, — пока дело не зашло дальше, чем мы хотели бы.
— Я не хочу! — воскликнула Мерапи. — Я не знаю, за кого молиться и как.
— Будет так, как хочешь ты, госпожа, — сказал Сети своим мягким серьезным тоном. — Только послушай, как ревет толпа. Если ты откажешься, я думаю, мы все скоро пойдем туда, где, может быть, уже совсем не надо будет молиться. — И он посмотрел на младенца, которого она держала на руках.
— Я пойду, — сказала она.
Она двинулась, неся ребенка, и я последовал за ней. Принц тоже, но в темноте его отрезала от нас бегущая тысячная толпа, и я вновь 148
увидел его уже после того, как все было кончено. Бакенхонсу шел со мной, опираясь на мою руку, но Ки ушел вперед, думаю — для своих собственных целей. Огромная масса людей клубилась вокруг нас во тьме, в которой тут и там отдельные огоньки плыли, как фонари над спокойным морем. Я не знал, куда мы идем, пока свет одного из этих фонарей не осветил колени гигантской статуи Рамсеса Великого и часть орнамента. Тогда я понял, что мы у ворот самого большого храма в Мемфисе, возможно, самого большого в мире.
Следуя за жрецами, которые вели нас за руку, мы прошли колоннадами одного дворика за другим и приблизились к алтарю в самом большом дворе, который был до отказа заполнен мужчинами и женщинами. Это было святилище Исиды, которая держала у груди младенца Гора.
— О, друг Ана, — воскликнула Мерапи, — помоги! Меня одевают в странные одежды.
Я попытался пробиться к ней, но был отброшен назад и чей-то голос — мне показалось, голос Ки — произнес:
— Под страхом смерти, глупец!
Подняли фонарь, и при его свете я увидел Мерапи, которая сидела в кресле, одетая как богиня, в жреческом облачении Исиды и в головном уборе с изображением грифа, поразительно прекрасная. В ее объятиях лежал ее сын, одетый как маленький Гор.
— Молись за нас, Матерь Исида! — вскричали тысячи голосов. — Молись, чтобы проклятие тьмы было снято!
Тогда она начала молиться, говоря:
— О мой бог, сними проклятие тьмы с этих невинных людей, — и все присутствующие повторяли за ней ее молитву.
И вдруг небо стало светлеть, и не прошло и полчаса, как засияло солнце. Когда Мерапи увидела, как одеты она и ее дитя, она громко вскрикнула и сорвала с себя драгоценные украшения, восклицая:
— Горе! Горе! Горе! Горе народу Кемета! — Но от радости при виде вновь засиявшего солнца мало кто слышал ее, уверенные, что именно она вернула свет дня. И снова на мгновение появился Лейбэн.
— Ведьма! Изменница! — закричал он. — Ты была в одежде Исиды и молилась в храме египетских богов! Да падет на тебя проклятие бога Израиля, на тебя и тобой рожденных.
Я бросился на него, но он извернулся и исчез. Потом мы отнесли лишившуюся чувств Мерапи домой.
Итак, бедствие прекратилось, но с того дня Мерапи не позволяла уносить от нее сына и не спускала с него глаз.
— Почему ты так носишься с ним, госпожа? — спросил я однажды.
— Потому что я хочу любить его, пока он еще здесь, друг, — ответила она, — но не говори об этом его отцу.
Прошло некоторое время, и мы услышали, что фараон все еще не дает израильтянам уйти. Тогда принц Сети отправил Бакенхонсу и меня в Танис к фараону с таким посланием: «Я ничего не добиваюсь для себя и забыл то зло, которое ты пытался причинить мне из ревности. Но говорю тебе: если ты не отпустишь этих чужестранцев, великие и ужасные бедствия постигнут тебя и весь Египет. Поэтому внемли моей мольбе и дай им уйти».
И вот Бакенхонсу и я предстали перед фараоном и увидели, что он сильно постарел, ибо волосы его побелели у висков и кожа под глазами тяжело обвисла. К тому же он ни одной минуты не мог держаться спокойно.
— Или ваш господин и вы сами — слуги этого израильского пророка, которому египтяне поклоняются как богу за то, что он причинил им так много зла? — спросил он. — Должно быть, не иначе, ибо я слышу, что мой кузен Сети держит у себя в доме израильскую ведьму, которая отгоняет от него все беды, поражающие остальных людей Кемета, и что керхеб Ки, мой маг, тоже сбежал к нему. Более того, я слышу, что в награду за эти колдовские штучки ему обещан трон Египта при поддержке многих легкомысленных и трусливых из моих подданных. Пусть он поостережется, а то как бы я не поднял его выше, чем он надеется, — уж слишком много предателей развелось у меня в стране; и вас тоже, с ним заодно.
Я промолчал, понимая, что этот человек просто с ума сошел, но Бакенхонсу засмеялся громко и сказал:
— О фараон, я знаю мало, но одно знаю наверняка: хоть я и стар, но даже тогда, когда люди перестанут произносить твое имя, я все еще буду беседовать с тем, кто будет носить двойную корону Египта. Скажи, ты дашь израильтянам уйти или предпочтешь обречь Кемет на гибель?
Фараон злобно посмотрел на него и ответил:
— Я не дам им уйти.
— Почему же, фараон? Объясни, ибо мне любопытно.
— Потому что не могу, — ответил он со стоном. — Потому что нечто более сильное, чем я, вынуждает меня отказывать в их просьбе. Ступайте же прочь!
Мы ушли, и это был последний раз, когда я видел Аменмеса в Танисе.
Когда мы выходили из зала, я заметил входящего туда израильского пророка. Впоследствии до нас дошел слух, что он грозил погубить всех людей в Египте, но что фараон по-прежнему не желал освободить израильтян. Говорили даже, будто он сказал пророку, что если тот явится в Танис еще раз, его предадут смертной казни.
Со всеми этими вестями мы вернулись в Мемфис и доложили обо всем Сети. Когда Мерапи услышала обо всем, она почти обезумела, плакала и ломала руки. Я спросил ее, чего она боится. Она ответила — смерти, которая грозит всем нам. Я сказал:
— Если так, то есть вещи похуже смерти, госпожа.
— Может быть, для вас — верных и добродетельных на свой лад, но только не для меня. Неужели ты не понимаешь, друг Ана, что я нарушила закон бога, которому меня учили поклоняться?
— А кто из нас не нарушал закона бога, которому нас учили поклоняться, госпожа? Если ты и действительно совершила нечто подобное, бежав от кровожадного злодея к тому, кто тебя искренне любит (я не верю, что это грех), то, несомненно, такой грех заслуживает прощения.
— Да, возможно, но — увы! — я поступила намного хуже. Или ты забыл, что я сделала? В одеянии Исиды я молилась в храме Исиды, держа моего мальчика, который играл роль Гора. Такое преступление не простится ни одной еврейской женщине, Ана, ибо мой бог — ревнивый бог. Правда, меня обманом вовлек в это Ки.
— А если бы не он, госпожа, я думаю, никого бы из нас не осталось: ты же видела, как люди обезумели от ужаса перед этой тьмой и верили, что ты одна можешь ее рассеять — так оно и вышло, — добавил я с сомнением.
— Еще один трюк Ки! О, как ты не понимаешь, что это тоже была его работа, потому что он хотел, чтобы люди окончательно поверили, что я колдунья.
— Зачем? — спросил я.
— Не знаю. Может быть, для того, чтобы иметь наготове жертву, которую можно подсунуть на алтарь вместо себя в нужный момент. Во всяком случае, я знаю, что платить буду я, я и моя плоть и кровь, что бы ни говорил нам Ки. — И она взглянула на спящего ребенка.
— Не бойся, госпожа, — сказал я. — Ки уехал, и ты его больше не увидишь.
— Да, потому что принц очень рассердился на него за его трюк в храме Исиды. Поэтому он и уехал или сделал вид, что уехал, ибо кто знает, где может находиться такой человек? Но он вернется. Подумай, Ки был самым главным магом Египта; даже старый Бакенхонсу не помнит никого, кто мог бы с ним сравниться. И вот он пробует состязаться с пророками моего народа и терпит крах.
— Но потерпел ли он крах, госпожа? То, что сделали они, сделал и он, наслав на израильтян те же бедствия, что они обрушили на нас.
— Да, но не все. Его опередили, или он боялся, что в конце концов его опередят. Может ли такой человек, как Ки, забыть об этом? А если Ки действительно поверит, что я его соперница и превосхожу его в его черных делах, как думают тысячи людей после того, что произошло в храме Амона, не отплатит ли он мне полной мерой рано или поздно? О, я боюсь Ки, Ана, и египтян, и если бы не мой любимый супруг, я бы бежала с моим сыном в пустыню из этой злополучной страны. Тише! Он просыпается.
С этого времени — и пока не упал меч — великий ужас охватил Кемет. Никто не мог точно сказать, чего они боятся, но все считали, что это имеет какое-то отношение к смерти. Люди ходили мрачные, оглядываясь через плечо, как будто кто-то их преследовал, а по вечерам собирались кучками и о чем-то подавленно шептались. Только израильтяне выглядели радостными и счастливыми. Больше того, они готовились к чему-то новому и необыкновенному. Так, израильтянки, жившие в Мемфисе, начали продавать ту собственность, какую имели, и занимать у египтян. Особенно они старались получить займы в виде бриллиантов и других драгоценностей, говоря, что у них будет большой праздник и им хочется выглядеть богатыми и красивыми в глазах их соотечественников. Никто не отказывал им в их просьбах, потому что все их боялись. Они явились даже во дворец и попросили Мерапи отдать им свои украшения, хотя Мерапи была их соотечественницей и всегда относилась к ним с искренней добротой. Увидев, что волосы на голове ее сына перехвачены золотым венчиком, одна из женщин стала просить Мерапи отдать ей этот венец, и та не отказала ей. Но как раз в этот момент в комнату случайно вошел принц и, увидев в руках женщины этот знак царского рода, очень рассердился и заставил ее вернуть его.
— Какая польза от короны, если для нее нет головы? — насмешливо сказал она и со смехом убежала, унося с собой остальную добычу.
После того как Мерапи услышала такие слова, она стала еще печальнее, и все чаще ею овладевало смятение; и эти настроения повлияли на Сети. Им тоже овладели печаль и беспокойство, хотя на мои вопросы — почему? — он клялся, что не знает причины, но думает, что это предчувствие каких-то новых бедствий.
— Однако, — добавил он, — если я смог пережить девять тяжких бед, не знаю, почему я должен бояться десятой.
И все же он страшился ее и даже советовался с Бакенхонсу о том, нет ли какого-нибудь способа отвратить или смягчить гнев богов.
Бакенхонсу засмеялся и сказал, что, по его мнению, такого способа нет, ибо если боги не гневаются по одному поводу, они сердятся по другому. Сотворив мир, они только и делают, что ссорятся с ним или с другими богами, которые тоже приложили руку к его созданию, а жертвами этих ссор становятся люди.
— Неси свои несчастья, принц, — добавил он, — если они тебя постигнут, ибо еще до того, как Нил разольется в пятидесятый раз, тебе уже будет все равно, были эти несчастья или не были.
— Значит, ты считаешь, что, уходя на запад, мы действительно г умираем и что Осирис — лишь другое имя для захода солнца, Бакенхонсу?
Старый советник покачал своей большой головой и ответил:
— Нет. Если тебе когда-то суждено потерять того, кого ты очень любишь, утешься, принц, ибо, я думаю, смерть — не конец жизни. Смерть — это нянька, которая укладывает жизнь спать, не более, а утром она проснется снова, чтобы идти сквозь другой день вместе с теми, кто были ее спутниками с самого начала.
— Куда же все эти дни приведут ее в конце концов, Бакенхонсу?
— Спроси у Ки, я не знаю.
— К Сету Ки, я сердит на него, — сказал принц и вышел из комнаты.
— И не без причины, я думаю, — задумчиво произнес Бакенхонсу, но когда я спросил его, что он имеет в виду, он не захотел или не смог мне объяснить.
Итак, мрак сгущался, и дворец, где прежде было на свой лад весело, погрузился в печаль.
Никто не знал, что будет, но все знали, что-то надвигается, и простирали руки, пытаясь защитить то, что они больше всего любили, от сокрушительного гнева воинствующих богов. Для Сети и Мерапи это был их сын, красивый мальчуган, который уже умел бегать и болтать и был слишком здоровым и энергичным для потомка Рамсеса, династия которого образовалась из людей, состоявших в кровном родстве. Ни на минуту этого мальчика не выпускали из поля зрения его родители, так что теперь я редко видел Сети одного, и наши ученые занятия фактически прекратились: он постоянно был озабочен и поочередно с Мерапи выполнял роль няньки, оберегая своего сына.
Когда об этом узнала Таусерт, она сказала в присутствии одного из моих друзей:
— Не сомневаюсь, что он готовит своего ублюдка к тому, чтобы тот мог занять трон Египта.
Но, увы! Единственным местом, которое маленькому Сети суждено было занять, оказался гроб.
Был тихий жаркий вечер, такой жаркий, что Мерапи велела няньке вынести кроватку ребенка в портик и поставить ее между колоннами. Там он и спал, прелестный, как божественный Гор. Она сидела у кроватки в кресле, ножки которого имели форму ног антилопы. Сети ходил взад и вперед по террасе перед портиком, опираясь на мое плечо и разговаривая о том о сем. По временам проходя мимо, он приостанавливался, чтобы при свете луны убедиться, что с Мерапи и ребенком все благополучно: последнее время это у него стало привычкой. Тогда, не говоря ни слова из боязни разбудить сына, он улыбался Мерапи, которая сидела, задумавшись, подперев голову рукой.
Глубокая тишина царила вокруг. Листья пальм не шелестели, шакалы притаились, и даже звонкоголосые насекомые замолчали в темноте. Большой город, раскинувшийся внизу, притих и замер словно город мертвых. Казалось, будто предчувствие надвигающегося конца сковало всех страхом и ввергло мир в безмолвие. Ибо, несомненно, что-то роковое витало в воздухе. Это ощущали все, вплоть до няни, которая подобралась как можно ближе к креслу своей госпожи и даже в эту жаркую ночь не могла временами унять дрожь.
Но вот маленький Сети проснулся и залепетал что-то о том, что ему приснилось.
— Что же тебе снилось, сын? — спросил его отец.
— Мне снилось, — ответил он чистым детским голоском, — что какая-то женщина, одетая, как была одета мама тогда в храме, взяла меня за руку и мы стали подниматься все выше и выше. Я посмотрел вниз и увидел тебя и маму: у вас лица были белые и вы плакали. Я тоже заплакал, а женщина с перьями на голове говорит «не плачь», потому что она ведет меня на красивую большую звезду, и мама скоро придет туда и меня найдет.
Принц и я переглянулись, а Мерапи с преувеличенной хлопотливостью стала уговаривать его снова заснуть. Приближалась полночь, но, казалось, никто не помышляет об отдыхе. Пришел старый Бакенхонсу и начал было говорить что-то насчет того, какая странная и неспокойная эта ночь, как вдруг маленькая летучая мышь, мелькавшая то тут то там над нашими головами, упала ему на голову, а оттуда на землю. Мы посмотрели на нее и увидели, что она мертва.
— Странно, что она так вдруг погибла, — сказал Бакенхонсу, и в этот же миг на землю упала еще одна. Черный котенок маленького Сети, спавший за его кроваткой, выскочил и бросился на нее. Но прежде чем он успел ее схватить, летучая мышь резко повернулась, встала на лапки, царапая воздух, потом издала жалобный писк и упала мертвой.
Мы уставились на нее. Вдруг вдали пронзительно завыла собака. Потом заревела корова, как ревут эти животные, потеряв детенышей. Затем, совсем близко, но за воротами, раздался вопль женщины, как будто в агонии, от которого кровь застыла в жилах и который разбудил многократное эхо, так что казалось, что весь воздух наполнился стонами и плачем.
— О Сети! Сети! — воскликнула Мерапи странным свистящим голосом. — Посмотри на твоего сына!
Мы бросились к ребенку. Он не спал, но смотрел куда-то вверх широко раскрытыми глазами и с застывшим лицом. Страх, если он его и испытывал, как будто исчез, хотя взгляд был все так же неподвижен. Он привстал, продолжая смотреть вверх. Потом его лицо озарилось улыбкой, сияющей улыбкой; он протянул руки, словно желая обнять кого-то, кто склонился над ним и, откинувшись, упал навзничь — мертвый.
Сети замер, неподвижный, как статуя; мы все молчали и не двинулись, даже Мерапи. Потом она наклонилась и подняла тело мальчика.
— Ну вот, господин мой, — сказала она, — вот и обрушилось на тебя то горе, о котором предупреждал тебя Джейбиз, мой дядя, если ты свяжешь свою судьбу с моей. Теперь проклятие Израиля пронзило мое сердце, а наше дитя, как предсказывал злой маг Ки, теперь так высоко, что не услышит ни приветствий, ни слов прощания.
Все это она произнесла холодным и спокойным голосом, как может говорить человек, который давно предвидел то, что сейчас произошло; потом низко поклонилась принцу и ушла, унося тело ребенка. Никогда, кажется, Мерапи не была так прекрасна, как в этот час роковой утраты, ибо теперь сквозь ее женскую прелесть сиял отсвет ее души. В самом деле, такие глаза и такие движения могли принадлежать духу, а не женщине, которая удалилась, унося с собой то, что еще недавно было ее сыном.
Сети оперся на мое плечо, глядя на опустевшую кроватку и на испуганную няню, которая все еще сидела возле нее, и я почувствовал, что на мою руку упала слеза. Старый Бакенхонсу поднял голову и посмотрел на него.
— Не горюй так, принц, — сказал он, — прежде чем пройдет столько лет, сколько я прожил, об этом ребенке уже никто не вспомнит и его мать тоже забудут, и даже ты, о принц, останешься жить лишь как имя, которое некогда было в Египте великим. А потом, о принц, где-то в другом краю игра начнется сызнова, и то, что ты потерял, будет найдено вновь, еще прекраснее вдали от нечистого дыхания людей. Магия Ки — не все ложь, а если даже и так, то в ней есть какая-то тень истины; и когда он сказал тебе тогда в Танисе, что недаром тебя назвали Вновь Возрождающимся, в этом была какая-то правда, хотя нам и трудно постичь ее скрытый смысл.
— Благодарю тебя, советник, — сказал Сети и, повернувшись, ушел следом за Мерапи.
— Ну, эта смерть — только начало, — воскликнул я, едва понимая в своем горе, что я говорю.
— Не думаю, Ана, — ответил Бакенхонсу, — поскольку нас прикрывает щит Джейбиза или его бога. Он ведь предсказывал, что несчастье постигнет Мерапи, а Сети — через Мерапи, но это и все.
Я взглянул на котенка.
— Он забрел сюда из города три дня назад, Ана. И летучие мыши наверно тоже прилетели из города. Слышишь эти вопли? Когда мы еще слышали такое в Кемете?
XVI. Джейбиз продает лошадей
Бакенхонсу был прав. Кроме сына Сети никто не умер в доме и владениях принца. Однако в других местах в Египте все младенцы-первенцы лежали мертвые и все первенцы зверей — тоже. Когда это стало известно, по всей стране египтян охватила ярость против Мерапи: припомнили, что она призывала горе на головы египтян после того, как ее заставили молиться в храме и рассеять (как все верили) окутавшую Мемфис тьму.
Бакенхонсу и я, и другие, кто любил ее, указывали на то, что ее собственный ребенок умер наряду с остальными. Нам отвечали (и в этом я увидел руку Таусерт и Ки), что это ровно ничего не значит, поскольку ведьмы не любят детей. Больше того, они говорили, что она может иметь столько детей, сколько захочет и в любое время, делая их похожими на глиняные статуэтки детей и превращая их позже в злых духов, терзающих страну. Наконец, утверждали, будто слышали, как она говорила, что она еще отомстит египтянам, обращающимся с ней, как с рабыней, и убившим ее отца. Передавали также, будто некая израильтянка (или кто-то из них, среди них, возможно, и Лейбэн) призналась, что виновницей всех бедствий, поразивших Ке-мет, была именно та колдунья, которая очаровала принца Сети.
В результате египтяне возненавидели Мерапи, из всех женщин самую прелестную и нежную и самую достойную любви, и ко всем ее предполагаемым преступлениям добавилось еще и то, что она своим колдовством похитила сердце Сети у его законной жены и даже заставила его прогнать от своих ворот эту принцессу, наследницу Египта, так что та была вынуждена жить одна в Танисе. Ибо никто не порицал самого Сети, которого в Египте все любили, зная, что он поступил бы с израильтянами совершенно иначе и тем самым предотвратил бы все бедствия и страдания, поразившие их древнюю землю. Что касается еврейской девушки с большими глазами, которая опутала его своими чарами, то это было его несчастьем, не более. Они не видели ничего странного в том, что среди многих женщин, которыми, как они воображали, Сети по обычаю принцев заселил свой дом ^фавориткой оказалась именно колдунья. Я даже уверен, что только общая осведомленность о любви к ней Сети спасла Мерапи от смерти, по крайней мере в то время, иначе ее бы отравили или покончили с ней каким-либо другим тайным способом.
И вот до нас дошла радостная весть о том, что гордость фараона наконец была сломлена (ибо его первенец умер, как и другие) или, может быть, туча, затмившая его мозг, рассеялась; как бы то ни было, он объявил, что дети Израиля могут уйти из Египта куда и когда им угодно. Тогда народ вздохнул с облегчением, воодушевленный надеждой, что их страданиям, кажется, приходит конец.
Именно в это время в Мемфис явился Джейбиз, гоня перед собой упряжку лошадей, которых он, по его словам, решил продать принцу, не желая, чтобы они попали в другие руки. Судя по цене, которую он запросил, это, должно быть, были превосходные животные.
— Почему ты хочешь продать своих лошадей? — спросил Сети.
— Потому что вместе с моим народом я ухожу в земли, где слишком мало воды, и они могут погибнуть, о принц.
— Я куплю их. Займись этим, Ана, — сказал Сети, хотя я хорошо знал, что у него лошадей более чем достаточно.
Принц встал, показывая, что беседа закончена, но Джейбиз, который истово кланялся, выражая свою благодарность, поспешно сказал:
— Я рад слышать, о принц, что все было, как я предсказывал вернее — как мне было велено предсказывать, и что несчастья, поразившие Египет, миновали твой царственный дом.
— Значит, ты рад слышать неправду, поскольку худшее из несчастий случилось именно в этом доме. Мой сын умер. — И он отвернулся
Джейбиз поднял глаза от земли и взглянул на принца.
— Знаю, — сказал он, — и скорблю, потому что эта утрата поразила тебя в самое сердце. Однако ни я, ни мой народ в этом не виноваты. Если ты подумаешь, то вспомнишь, что и тогда, когда я воздвиг вокруг этого дома защитную стену в благодарность за твое доброе отношение к Израилю, о принц, и еще раньше я предсказывал и велел другим предупредить тебя о том, что, если ты и Мерапи, Луна Израиля, сойдетесь вместе, тебя могут постичь большие невзгоды через нее, ибо, став женой египтянина вопреки нашему закону, она должна разделять участь египетских женщин.
— Возможно, — сказал принц. — Я не хочу говорить на эту тему. Если эта смерть была делом ваших чародеев, могу сказать лишь одно — плохо заплатили они мне за все, что я стремился сделать для израильтян. Впрочем, чего еще я мог ожидать от такого народа в таком мире? Прощай.
— Одна просьба, о принц. Разреши мне поговорить с моей племянницей Мерапи.
— Она не принимает. С тех пор как с помощью колдовства убили ее ребенка, она никого не хочет видеть.
— Все же я думаю, она не откажется повидаться со своим дядей, о принц.
— Что же ты хочешь ей сказать?
— О принц, милостью фараона мы, бедные рабы, собираемся навсегда покинуть Египет. Поэтому, если моя племянница останется здесь, я, естественно, хотел бы проститься с ней и сообщить ей кое-какие подробности, касающиеся нашего рода и нашей семьи, которые она, может быть, пожелала бы передать своим детям.
Услышав слово «дети», Сети смягчился.
— Я тебе не доверяю, — сказал он. — Может быть, у тебя наготове еще какие-нибудь проклятия против Мерапи, или ты скажешь ей что-нибудь такое, от чего она почувствует себя еще более несчастной, чем теперь. Но если бы ты захотел поговорить с ней в моем присутствии…
— Достойный принц, я не решаюсь настолько утруждать тебя. Прощай. Не откажись передать ей…
— Или, если это тебя смущает, — перебил его Сети, — в присутствии Аны, если только она сама не откажется принять тебя.
Джейбиз минутку подумал и ответил:
— Пусть будет так — в присутствии Аны. Это человек, который знает, когда надо молчать.
Джейбиз поклонился и ушел, и по знаку принца я последовал за ним. Вскоре нас впустили в комнату госпожи Мерапи, где она сидела в глубокой печали и одиночестве, закрыв голову черной накидкой.
— Привет тебе, дядя, — сказала она, взглянув на меня и, думаю, поняв причину моего присутствия. — Ты хочешь сообщить мне еще о каких-нибудь пророчествах? Пожалуйста, не надо, твои последние оправдались с лихвой. — И она дотронулась пальцем до черной накидки.
— У меня новости и просьба, племянница. Новости — то, что народ Израиля покидает Египет. Просьба — она же и приказ — о том, чтобы ты приготовилась сопровождать нас.
— Лейбэна? — спросила она, подняв на него глаза.
— Нет, племянница. Лейбэн не желает иметь женой ту, что стала любовницей египтянина. Но ты должна сыграть свою роль, хотя бы и самую скромную, в судьбе нашего народа.
— Я рада, что Лейбэн не хочет того, что никогда не мог получить. Скажи, прошу тебя, почему же я должна выполнить эту просьбу — или этот приказ?
— По весьма важной причине, племянница, — потому что от этого зависит твоя жизнь. До сих пор тебе было позволено следовать желанию твоего сердца. Но теперь, если ты останешься в Египте, где ты уже выполнила свою миссию — направлять мысли твоего возлюбленного, принца Сети, в сторону, благоприятную для дела Израиля, — ты умрешь!
— Ты хочешь сказать, что наши люди меня убьют?
— Нет, не наши. Но ты все равно умрешь. Она подошла к нему и посмотрела ему в глаза.
— Дядя, ты уверен в том, что я умру?
— Уверен… или, по крайней мере, другие уверены.
Она засмеялась; впервые за несколько новолуний я увидел, что: она смеется.
— Тогда я остаюсь, — сказала она. Джейбиз удивленно смотрел на нее.
— Я так и думал, что ты любишь этого египтянина, который и в самом деле достоин любви любой женщины, — пробормотал он в бороду.
— Может быть именно потому, что люблю его, я и хочу умереть. Я отдала ему все, что имела: от моего сокровища только и осталось то, что может навлечь беду или несчастье на его голову. Поэтому чем больше любовь — а она больше всех пирамид, если бы их сложить в одну, — тем больше потребности в том, чтобы похоронить ее на время. Понимаешь?
Он покачал головой.
— Я понимаю только одно — ты очень странная женщина, совершенно не такая, как все, кого я знал.
— Мой ребенок, убитый со всеми другими, был для меня всем на свете, и я хотела бы быть там, где он. Ну теперь понимаешь?
— И ты бы рассталась с жизнью, ты, еще совсем молодая, способная иметь еще много детей, ради того, чтобы лежать в гробнице вместе с твоим умершим сыном? — спросил он медленно, как человек крайне удивленный.
— Я хочу жить, только пока моя жизнь нужна тому, кого я люблю, а когда придет день и он вступит на престол, как сможет служить ему дочь ненавистных здесь израильтян? И детей мне больше не нужно. Мой сын, живой или мертвый, владеет моим сердцем, и в нем нет места для других. Эта любовь, по крайней мере, чиста и совершенна и, забальзамированная смертью, навсегда останется неизменной. Кроме того, я буду с ним не в гробнице — в это я верю. Религия египтян, которую мы так презираем, говорит о вечной жизни на небесах; туда я и пошла бы искать то, что потеряла, и ждать того, кто временно остался позади.
— Ах! — сказал Джейбиз. — Что до меня, то я не утруждаю себя этими вопросами: в нашей временной жизни на земле и без того много дела для рук и головы. Однако, Мерапи, ты ведь бунтовщица, а как принимает царь — небесный или земной, все равно — тех, кто восстает против него?
— Ты говоришь — я бунтовщица, — сказала она, повернувшись к нему, и глаза ее вспыхнули. — Почему? Потому что я не захотела бесчестья и не вышла замуж за человека, которого ненавижу, за убийцу, к тому же и потому, что я, пока жива, не покину человека, которого люблю, и не вернусь к тем, от кого видела только зло! Разве бог создал женщин для того, чтобы их продавали, как скот, ради удовольствия и выгоды того, кто может больше заплатить?
— Видимо, для этого, — сказал Джейбиз, разводя руками.
— Видимо, это вы так думаете, представляя себе бога таким, каким хотели бы, чтобы он был. Но я — я в это не верю, а если б верила, то поискала бы себе другого царя. Дядя, я обращаюсь против жреца и старейшин к Тому, что создало и их, и меня, и я буду жить или умру по его приговору.
— Весьма опасная позиция, — произнес Джейбиз, как бы размышляя вслух, — поскольку жрец имеет возможность взять закон в свои руки, прежде чем подсудимый успеет апеллировать к другой инстанции. Однако кто я такой, чтобы оспаривать ту, которая может стереть Амона в порошок в его собственном святилище, и поэтому кто может достоверно знать все, что она думает и делает.
Мерапи топнула ногой.
— Ты отлично знаешь, что именно ты передал мне приказ бросить вызов Амону в его храме. Это не я…
— Знаю, знаю, — возразил Джейбиз, махнув рукой. — Знаю также, что это именно то, что говорит каждый маг (каковы бы ни были его боги и его народ) и во что никто не верит. Именно потому, что ты, веруя, повиновалась приказу свыше и через тебя Амон был повержен, египтяне и израильтяне считают тебя величайшей из волшебниц, какие когда-либо существовали на берегах Нила; а это, племянница, — опасная слава!
— На которую я не претендую и которой никогда не добивалась.
— Совершенно верно, но она все равно пришла к тебе. Так что же
— зная (а я не сомневаюсь в том, что ты знаешь) обо всем, что скоро произойдет в Египте, и получив предупреждение (если ты в нем нуждаешься) об опасности, которая грозит тебе самой, — ты все-таки отказываешься повиноваться приказу, который я считаю своим долгом тебе передать?
— Отказываюсь.
— Тогда пеняй на себя и прощай. Да, хотел еще сказать тебе: там есть кое-какое имущество в виде скота и урожая с полей, которые принадлежат тебе по наследству от твоего отца. В случае твоей смерти…
— Возьми все себе, дядя, и да поможет оно твоему процветанию. Прощай.
— Великая женщина, друг Ана, и красавица к тому же, — сказал старый еврей, проводив ее взглядом. — Печально, что я никогда ее больше не увижу. Да и никто не будет смотреть на нее долго. Скорблю, ибо она все-таки мне племянница и я люблю ее. А теперь мне пора, тем более, что я выполнил данное мне поручение. Будь счастлив, Ана. Ты ведь уже не солдат, правда? Нет? Оно и к лучшему, как ты увидишь. Мое почтение принцу. Думай обо мне иногда, когда состаришься, и не поминай лихом, ибо я служил тебе, как только мог, и твоему господину тоже, — надеюсь, он вскоре вновь обретет то, что не так давно потерял.
— Ее высочество принцессу Таусерт, — предположил я.
— И ее, кроме всего прочего, Ана. Скажи принцу, если он сочтет мою цену слишком высокой, что эти лошади, которых я ему продал, действительно самых лучших сирийских кровей и что эту породу моя семья разводила в течение многих поколений. Да, если у тебя есть друг, которому ты желаешь добра, не дай ему уйти в пустыню в период нескольких ближайших новолуний, особенно если командовать войском будет фараон. Нет-нет, я ничего не знаю, но просто это пора у больших бурь. Прощай, друг Ана, и еще раз прощай.
Что же он хотел этим сказать? — думал я, направляясь к принцу, чтобы доложить о происшедшем. Но никакой ответ не приходил мне в голову.
Очень скоро я начал понимать. Оказалось, что наконец израильтяне действительно покидают Египет, огромная масса их, а с ними и , десятки тысяч арабов из разных племен, которые поклонялись их богу и были — некоторые из них — потомками гиксосов, пастухов, некогда правивших Кеметом. Что это действительно так, подтверждалось известием о том, что все еврейские женщины в Мемфисе, даже те, что были замужем за египтянами, ушли из города, оставив своих мужей, а иногда даже детей. В самом деле, перед их уходом несколько таких женщин, которые были подругами Мерапи, посетили ее и спросили, не уйдет ли она с ними. Покачав головой, она ответила:
— Почему вы уходите? Или вам так хочется скитаться в пустыне, что ради этого вы готовы навсегда расстаться с мужьями, которых вы любите, и с детьми вашей плоти и крови?
— Нет, госпожа, — ответили они плача, — мы счастливы в белоснежном Мемфисе и здесь, под журчание Нила, мы хотели бы состариться и умереть, вместо того, чтобы жить в пустыне, в какой-нибудь палатке вместе с чужими мужчинами или в одиночестве. Но страх гонит нас отсюда.
— Страх? Чего же вы боитесь?
— Египтян, которые, конечно же, убьют всякого израильтянина, оставшегося среди них, когда оценят все, что они претерпели от нас в обмен за те богатства и приют, что мы имели от них в течение многих поколений, превратившись из горсти семей в великий народ. А еще мы боимся проклятия наших жрецов, которые велели нам уходить.
— Тогда и мне тоже надо бояться, — сказала Мерапи.
— О нет, госпожа, ведь ты — единственная любовь принца Египта, который, по слухам, скоро станет фараоном Египта и защитит тебя от гнева египтян. А поскольку ты еще, как всем известно, самая великая чародейка в мире, победительница могущественного Амона-Ра и пожертвовала собственным ребенком, чтобы отвратить все несчастья от своего жилища, тебе нечего бояться со стороны жрецов и их магии.
Тогда Мерапи вскочила, требуя, чтобы они предоставили ее своей участи и пошли навстречу собственной, что они и поспешили сделать, боясь ее чар. Вот и вышло так, что вскоре прекрасная Луна Израиля и некоторые дети смешанной крови оказались единственными из всей еврейской расы, кто остался в Египте. Тогда, несмотря на то, что страдания и бедствия последних лет со всеми их ужасами, смертями и голодом уменьшили численность египтян почти вполовину, народ Кемета возликовал, преисполнившись великой радости.
В каждом храме каждого бога состоялись торжественные процессии, и все, у кого что-нибудь осталось, приносили пожертвования, в то время как статуи богов наряжали в новые красивые одежды и увешивали гирляндами цветов. Но это еще не все: на Ниле и на священных озерах плавали лодки, украшенные фонарями, как в праздник Воскресения Осириса. Как титулованный верховный жрец Амона — должность, являвшаяся пожизненной, — принц Сети присутствовал на этих празднествах в большом храме Мемфиса, куда я сопровождал его. Когда обряды закончились, он во всем своем великолепном жреческом облачении вывел процессию из храма сквозь массы поклоняющихся, и тысячи глоток приветствовали его громогласным криком: «Фараон!» или, по крайней мере, прославляя как наследника Египта.
Когда крики наконец замерли, он обратился к собравшимся и сказал:
— Друзья, если вам хочется послать меня не на пир фараона, а в общество, что сидит за столом Осириса, вы можете повторить это безрассудное приветствие, — оно доставит нашему повелителю Аменмесу весьма мало радости.
В наступившем молчании вдруг раздался голос:
— Не бойся, о принц, пока еврейская колдунья спит каждую ночь у тебя на груди! Та, что навлекла на Кемет столько бед, уж конечно убережет тебя от опасности! — на что толпа ответила новым взрывом одобрения и приветствий.
На следующий день из Таниса, куда он ездил с визитом, вернулся старый Бакенхонсу и принес новые вести. Оказывается, там, в самом большом зале одного из самых больших храмов состоялся многолюдный совет, открытый для всех желающих. На этом совете Аменмес сообщил, как обстоит дело с израильтянами, которые, как он сказал, уходят тысячами. Были также совершены приношения, чтобы умилостивить разгневанных богов Кемета. Когда обряд закончился, но еще до того, как начали расходиться, ее высочество принцесса Таусерт поднялась с места и обратилась к фараону:
— Во имя духов наших отцов, — воскликнула она, — и особенно во имя духа доброго бога Мернептаха, моего родителя, я спрашиваю тебя, фараон, и всех вас, о люди, — должна ли гордая земля Кемета терпеть наглость этих рабов-евреев и их магов? Наших богов оскорбляли и оскверняли; на нас навлекали несчастья, огромные и ужасные, о каких не знала история; десятки тысяч новорожденных, начиная от первенца фараона, погибли за одну ночь. И вот теперь эти израильтяне, убившие их своим колдовством, — ибо все они колдуны, и мужчины и женщины, особенно одна, которая сидит в Мемфисе, но о которой я не хочу говорить, потому что она нанесла мне лично вред, — эти израильтяне с разрешения фараона уходят из страны! Мало того, они берут с собой весь свой скот, весь собранный с полей урожай, все сокровища, которые они накопили в течение поколений, и все украшения и драгоценности, которые они страхом отняли у наших людей, забирая в долг то, что они никогда не собираются возвращать. Поэтому я, царственная принцесса Египта, хочу спросить фараона — это приказ фараона?
При этом, как рассказал Бакенхонсу, фараон сидел повесив голову и не отвечал ни слова.
— Фараон молчит, — продолжала Таусерт. — Тогда я спрошу — это приказ Совета фараона и воля египетского народа? Еще есть в Кемете большая армия, сотни колесниц и тысячи пехотинцев. И эта армия будет сидеть и ждать, пока эти рабы уйдут в пустыню, поднимут против нас наших врагов-сирийцев и вместе с ними вернутся, чтобы расправиться с нами?
— При этих словах, — продолжал свой рассказ Бакенхонсу, — вся эта масса собравшихся там людей ответила громким криком «нет!».
— Народ говорит — нет. А что скажет фараон? — воскликнула Таусерт.
Наступило молчание, пока наконец Аменмес не встал и не заговорил.
— Будь по-твоему, принцесса, и если это обернется злом, пусть падет оно на твою голову и на головы тех, кого ты подстрекаешь на это дело, хотя, я думаю, это твой муж, принц Сети, должен был бы сейчас стоять там, где стоишь ты, и задавать мне свои вопросы.
— Мой муж, принц Сети, привязан к Мерапи веревкой, сплетенной из волос колдуньи, по крайней мере, так мне сказали, — ответила она с презрительным смехом, и ропот присутствующих поддержал ее слова.
— Этого я не знаю, — сказал Аменмес, — но знаю одно: принц всегда настаивал на освобождении израильтян, и временами, когда одно несчастье следовало за другим, я думал, что он прав. Воистину, не раз я и сам хотел бы, чтобы они ушли, но всегда какая-то сила, не знаю, какая, сдавливала мое сердце, превращая его в камень, и вырывала у меня слова, каких я не хотел произносить. Даже сейчас я дал им уйти, но все вы — против меня, и может быть, если я буду противиться вам, я заплачу за это своей жизнью и троном. Военачальники, прикажите привести в готовность мои войска и соберите их здесь, в Танисе ибо я сам поведу их, преследуя народ Израиля, и разделю с ними участь.
На этом, под громкие крики одобрения, собрание закончилось, и вскоре только фараон остался сидеть на своем троне, с видом человека, — по словам Бакенхонсу, — который скорее мертв, чем жив, но отнюдь не с видом царя, собирающегося начать войну против своих врагов.
Принц выслушал рассказ Бакенхонсу в глубоком молчании, но когда тот кончил, он спросил:
— Что ты об этом думаешь, Бакенхонсу?
— Думаю, о принц, — ответил старый мудрец, — что ее высочество поступила дурно, подняв снова все это дело, хотя я не сомневаюсь, что она говорила голосами жрецов и армии, и фараон не нашел в себе достаточно сил, чтобы сопротивляться.
— Я думаю то же, что и ты, — сказал Сети.
В этот момент в комнату вошла госпожа Мерапи.
— Я слышу, мой муж, — сказала она, — что фараон решил преследовать народ Израиля со своим войском. Я пришла просить моего супруга, чтобы он не присоединялся к армии фараона.
— Вполне естественно, госпожа, что ты не хочешь, чтобы я воевал против твоих соотечественников, и сказать по правде, у меня нет никакого желания действовать в этом направлении, — сказал Сети и, повернувшись, вышел вместе с ней из комнаты.
— Она думает вовсе не о своих соотечественниках, а о спасении своего любимого, — заметил Бакенхонсу. — Она не колдунья, как о ней говорят, но она действительно знает то, что нам неведомо.
— Да, — ответил я, — это верно.
XVII. Сон Мерапи
Прошло дней четырнадцать, и за это время стало известно, что израильтяне действительно тронулись в путь. Их было огромное множество и они несли с собой гроб и мумию своего пророка, человека их крови, бывшего, как говорили, визирем того фараона, который приютил их в Египте сотни лет тому назад. О том, куда они идут, говорили по-разному, но всезнающий Бакенхонсу утверждал, что они направляются к озеру Крокодилов, которое некоторые называют также Красным морем; оттуда они пойдут на ту сторону, в пустыню, и дальше — в Сирию. Я спросил его, как же им удастся переправиться на ту сторону, ведь это озеро даже в самом узком месте имеет тридцать тысяч футов30 в ширину, а глубина донного ила вообще неизмерима. Он ответил, что не знает, но что я мог бы спросить об этом госпожу Мерапи.
— Значит, ты изменил мнение о ней и тоже считаешь ее колдуньей, — сказал я, на что ой ответил:
— Человек поневоле вдыхает дующий в лицо ветер, а Египет так насыщен колдовскими чарами, что трудно что-нибудь сказать. И все-таки это она сокрушила древнюю статую Амона. О да, колдунья она или нет, было бы интересно спросить ее, как ее народ собирается переправиться через Красное море, особенно если за их спинами вдруг появятся колесницы фараона.
Я действительно задал ей этот вопрос, но она ответила, что ничего об этом не знает и знать не хочет, поскольку она порвала со своим народом и осталась в Египте.
Потом появился Ки, уж не знаю, откуда, и, помирившись с Сети, которого он клятвенно уверил, что переодевание Мерапи в наряд Исиды было делом жрецов против его воли, сообщил, что фараон и большое войско выступили из Таниса и начали преследование израильтян. Принц спросил его, почему он не присоединился к ним. В ответ Ки возразил, что, во-первых, он не воин, а во-вторых, фараон отвратил от него свое лицо. В свою очередь он спросил принца, почему же он сам не с ними.
Сети ответил, что он отстранен от командования, как и его офицеры, и не имеет желания участвовать в этом деле как простой горожанин.
— Ты мудр, как всегда, принц, — сказал Ки.
На следующий вечер, почти ночью, когда принц, Ки, Бакенхонсу и я, Ана, сидели и разговаривали, к нам вдруг ворвалась госпожа j Мерапи, как была в ночном одеянии, по которому разметались ее распущенные волосы, и с диким выражением в глазах.
— Я видела сон! — вскричала она. — Мне приснилось, будто я | вижу, как мой народ, все множество людей, следует за пламенем, пылающим от земли до самого неба. Они подошли к кромке большого водного пространства, и вдруг позади них появился фараон и с ним — все египетское войско. Тогда люди Израиля устремились прямо в воду, и вода держала их, как будто это была твердая земля. Воины фараона бросились вслед за ними, но тут явились боги Кемета — Амон, Осирис, Гор, Исида, Хатхор и все остальные, и пытались их остановить. Однако они не хотели их слушать и, увлекая за собой богов, ринулись в воду. Тут наступила тьма, и в этой тьме раздались крики и плач, и громкий смех. Потом — она рассмеялась, — взошла луна и осветила пустоту. Я проснулась, вся дрожа. Растолкуй мне этот сон, если можешь, о Ки, мастер магии.
— Какая в этом нужда, госпожа, — ответил он, как будто очнувшись ото сна, — если видевшая этот сон — сама ясновидящая? Осмелится ли ученик наставлять учителя или новичок — разъяснять тайны верховной жрице храма? Нет, госпожа, я и все маги — мы считаем тебя выше всех магов, какие были и есть в Кемете.
— Почему ты всегда меня дразнишь? — сказала она задрожав. Тогда Бакенхонсу, слушавший до сих пор молча, сказал:
— Последнее время мудрость Ки погрузилась в тучу и не светит нам, его ученикам. Однако смысл твоего сна достаточно ясен, хотя я и не знаю, насколько этот сон правдив. Он означает, что всему египетскому войску, а вместе с ним и богам Кемета, угрожает гибель из-за их вражды к израильтянам, если только не найдется кто-то, кого они будут слушать и кто убедит их отказаться от намерения, которое мне неясно. Но кого послушают безумные, о, кого они послушают? — И подняв свою большую голову, он посмотрел прямо на принца.
— Боюсь, что не меня, я ведь никто в Египте, — сказал Сети.
— Почему не тебя, о принц, если завтра ты можешь стать всем в Египте? — спросил Бакенхонсу. — Ты всегда вступался за израильтян и говорил, что вражда к ним не принесет Кемету ничего, кроме зла, — так оно и вышло. К кому же еще более охотно прислушается народ и армия?
— Более того, о принц, — вмешался Ки, — госпоже твоего дома приснился очень плохой сон, из которого, что ни говори, следует, что это был не сон, а проявление силы, направленной против величия Кемета, той силы, которая сбросила великого Амона с его престола, той силы, которая оградила магической стеной этот дом.
— Я опять повторяю, что не обладаю никакой силой, о Ки, иначе я бы не заплатила за это жизнью собственного ребенка.
— И однако колдовские чары были приведены в действие, госпожа; а сила, как издавна известно, достигает совершенства только в жертвоприношении, — загадочно произнес Ки.
— Кончай свои разговоры о чарах, маг, — воскликнул принц, — а если тебе уж так хочется, то говори о своих собственных, их у тебя достаточно. Это Джейбиз защитил нас от бедствий, а статую Амона разбил какой-то бог.
— Прошу прощения, принц, — сказал Ки, кланяясь, — это не госпожа защитила твой дом от бедствий, которые свирепствовали в Египте, и не госпожа, а какой-то бог, действующий через нее, сокрушил Амона в Танисе. Так сказал принц. Однако ей же приснился некий сон, который Бакенхонсу нам объяснил, хотя я не могу, и я думаю, что фараону и его военачальникам нужно рассказать об этом сне, чтобы они вынесли свое суждение о нем.
— Так почему бы тебе не рассказать им, Ки?
— Фараону угодно было, о принц, отстранить меня от моих обязанностей как потерпевшего провал и передать должность керхеба другому. Если я появлюсь теперь там, меня убьют.
Слыша это, я, Ана, от души пожелал, чтобы Ки появился перед лицом фараона, хоть я и не верил, что его кто-нибудь убьет, ибо он знал особые заклинания против смерти. Дело в том, что я боялся Ки и был уверен в том, что он опять замышляет козни против Мерапи, в невиновности которой я не сомневался.
Принц ходил взад и вперед по комнате, что было его привычкой в минуты размышлений. Наконец он остановился и сказал:
— Друг Ана, будь добр, распорядись, чтобы мои колесницы были наготове, а также эскорт в сто человек и запасные лошади для каждой колесницы. Мы выезжаем на рассвете, ты и я, чтобы разыскать армию фараона и добиться приема у фараона.
— О супруг мой, — умоляюще произнесла Мерапи, — прошу тебя, не уезжай, не оставляй меня одну!
— Зачем одну? Поезжай со мной, госпожа, если хочешь. Но она покачала головой и сказала:
— Я не смею. Принц, последнее время я чувствую, будто какие-то чары толкают меня обратно к моему народу. Дважды ночью я просыпалась и обнаруживала, что стою в саду, лицом к северу, и слышала голос моего покойного отца, который говорил мне: «Луна Израиля, твой народ блуждает в пустыне, и ему нужен твой свет». И я боюсь, что если я окажусь поблизости от этих людей, меня затянет, как водоворот затягивает щепку, и я никогда больше не увижу Египет.
— Тогда прошу тебя, останься здесь, Мерапи, — сказал принц, слегка засмеявшись, — ведь ясно, — куда пойдешь ты, туда следом пойду и я, а у меня нет ни малейшего желания блуждать с твоими евреями в пустыне. Так что, поскольку ты не хочешь покинуть Мемфис и не поедешь со мной, я должен остаться с тобой.
Ки устремил на них обоих пронзительный взгляд.
— Да простит меня принц, — сказал он, — но клянусь богами, я никогда не думал, что доживу до того часа, когда принц Сети Мернептах поставит женские капризы выше своей чести.
— Твои слова грубы, — сказал Сети, гордо выпрямившись, — и будь сейчас другое время, может быть, я бы, Ки…
— О мой принц! — сказал Ки, простершись перед ним, так что его лоб коснулся пола. — Подумай только, как важна должна быть причина, побудившая меня вымолвить такие слова. Когда я приехал сюда из Таниса в первый раз, дух, живущий во мне и говорящий моими устами, произнес по отношению к твоему высочеству определенные титулы, за которые тебе угодно было упрекнуть меня. Однако этот дух во мне не может лгать, и я знаю точно и прошу всех, кто сейчас здесь, запомнить мои слова, что этой ночью я стою перед тем, кто менее чем через два новолуния будет фараоном.
— Поистине, ты всегда приносил плохие вести, Ки, но даже если это так, что из этого следует?
— А вот что, мой принц: если бы духи Истины и Справедливости не побуждали меня говорить, разве посмел бы я, человек из уязвимой плоти, бросить жестокие слова в лицо тому, кто скоро станет фараоном? Разве посмел бы я перечить нежной голубке, которая свила гнездо в его сердце, мудрой белой голубке, шепчущей тайны небес, откуда она прилетела, которая сильнее, чем гриф Исиды, и быстрее, чем ястреб Ра, голубке, которая в гневе могла бы растерзать меня на более мелкие частицы, чем Сет разрубил Осириса?
Тут я заметил, что Бакенхонсу раздувается от внутреннего смеха, подобно лягушке, готовой заквакать; но Сети ответил усталым голосом:
— Клянусь всеми птицами Кемета и священными крокодилами в придачу — я не знаю. Твой ум, Ки, — не открытая книга, которую может читать проходящий мимо. Все же, если бы ты объяснил мне, по какой причине богини Истины и Справедливости вдохновили тебя…
— Причина, принц, в том, что судьба всей египетской армии, быть может, сейчас в твоих руках. Время не терпит, и я скажу прямо: что ни говори, а эта госпожа, которая кажется лишь воплощением любви и красоты, на самом деле величайшая волшебница во всем Египте, уж я, кого она превзошла, хорошо это знаю. Она бросила вызов высокому богу Кемета и сокрушила его в прах и заплатила ему, его пророкам и всем, кто его чтит, тем же злом, которое он мог бы причинить ей, — как в подобном случае сделал бы любой из нас. Теперь ей приснилось или ее дух открыл ей, что армии Египта грозит гибель, и я знаю, что этот сон исполнится. Так поспеши, о принц, спасти войска Египта, ведь они понадобятся тебе, когда ты сядешь на египетский трон.
— Я не волшебница! — вскричала Мерапи. — И однако — о горе, что я должна сказать об этом! — в словах этого улыбчивого чародея с холодными глазами правда. Меч смерти готов сразить войска Египта!
— Вели приготовить колесницы, — сказал Сети.
Прошло восемь дней. Солнце садилось, когда мы остановили коней недалеко от Красного моря. День и ночь мы двигались по следам фараоновой армии, по дороге, проложенной через пустыню его колесницами и ногами его солдат, и десятками тысяч израильтян, прошедших ранее этим же путем. И теперь с вершин холмов, где мы остановились, мы увидели внизу лагерь фараона — весьма большую армию. Кроме того, отставшие солдаты говорили нам, что за этой армией тоже расположилась лагерем несметная масса израильтян, а еще дальше, за нею, расстилалось Красное море, преградившее им путь. Но ни израильтян, ни воды не было видно по очень странной причине: между ними и армией фараона возвышалась черная стена туч, как бы воздвигнутая с земли до самого неба. Один из отставших солдат рассказал, что эта огромная туча двигалась днем перед израильтянами, а ночью превращалась в столб пламени. Но в день, когда к ним приблизилась армия фараона, туча обошла лагерь израильтян и стала между ними и египетской армией.
Когда принц, Бакенхонсу и я услышали об этом, мы посмотрели друг на друга и не проронили ни слова. После долгого молчания принц, слегка засмеявшись, сказал:
— Нам бы следовало захватить с собой Ки, даже если бы пришлось привязать его к колеснице, — уж он бы объяснил нам это чудо, ибо, конечно, он единственный, кто мог бы.
— Ки не так-то легко привязать, принц, если он желает быть на свободе, — сказал Бакенхонсу. — Кроме того, еще раньше, чем мы сели в колесницу, он покинул Мемфис, направляясь к югу, в Фивы. Я видел, как он уходил.
— А я приказал больше не принимать его, ибо его появление, я считаю, не сулит добра; во всяком случае, так думает госпожа Мерапи, — ответил Сети со вздохом.
— Теперь, когда мы здесь, что принц намерен делать? — спросил я.
— Спуститься в лагерь фараона и сказать то, что мы должны сказать, Ана.
— А если он не пожелает слушать?
— Тогда громко прокричать наше сообщение и повернуть обратно.
— А если он нас задержит, принц?
— Тогда спокойно стоять и жить или умереть — как решат боги.
— Поистине, у нашего принца мужественное сердце! — воскликнул Бакенхонсу. — И хотя я чувствую себя слишком молодым, чтобы умереть, я склонен остаться с ним и увидеть исход этого дела, — и он громко захохотал.
Но я, не в силах подавить в себе страх, подумал, что его «охо-хо», на которое как будто само небо отозвалось эхом, прозвучало над нашими головами как странное и даже зловещее преднамеренное.
Между тем мы облачились в парадные одежды, которые привезли с собой, но без оружия и с половиной нашего эскорта проехали туда, где видели флаги над шатром фараона. Остальную часть наших воинов мы оставили в лагере, приказав им, если с нами что-то случится, вернуться назад и объявить обо всем в Мемфисе и других больших городах. Когда мы приблизились к лагерю фараона, передовые посты увидели нас и приказали остановиться. Но когда при свете заходящего солнца они узнали принца, раздался шепот: «Принц Египта! Принц Египта!» — ибо они всегда продолжали называть Сети этим титулом — и, салютуя своими копьями, они пропустили нас.
Так мы достигли шатра фараона, который был окружен целым полком стражников. Края шатра были подняты, ибо вечер стоял жаркий, а внутри кроме самого фараона находились его военачальники, его советники, жрецы, маги и еще многие другие, кто участвовал в трапезе или разносил еду и напитки. Они сидели за столом лицом ко входу, и фараон восседал в центре, а позади него стояли его дворецкие и слуги с опахалами.
Мы прошли в шатер — принц посередине, по правую его руку Бакенхонсу, по левую — я с дарованной мне фараоном Мернептахом с золотой цепью на шее; сопровождавшие нас воины остались снаружи, где стояли часовые.
— Кто это? — спросил Аменмес, подняв глаза. — Кто это входит сюда без приглашения?
— Трое граждан Египта с вестью для фараона, — ответил Сети своим спокойным негромким голосом, — которую мы поспешили вовремя доставить.
— Как вас зовут, граждане Египта, и кто посылает эту весть?
— Нас зовут Сети Мернептах, принц Египта и наследник престола, Бакенхонсу, старый советник, и Ана, писец и друг царя; а наша весть послана богами.
— Мы слышали эти имена, кто их не слыхал? — сказал фараон, и при его словах все присутствующие поднялись и поклонились в сторону принца. — Не желаешь ли ты с твоими товарищами сесть и откушать с нами, принц Сети?
— Мы благодарим божественного фараона, но мы уже поужинали. Не позволит ли нам фараон сообщить нашу весть ему?
— Говори, принц.
— О фараон, много раз обновлялась луна с тех пор, как мы последний раз смотрели друг другу в лицо, в тот день, когда мой отец, добрый бог Мернептах, лишил меня наследства и позже отошел в край Осириса. Фараон помнит, почему я был таким образом отрезан от царского корня Египта. Это было в связи с вопросом об израильтянах, которые, по моему убеждению, терпели от нас много зла и должны были быть отпущены на свободу. По твоему совету, о фараон, и по совету других добрый бог Мернептах хотел покончить с ними, уничтожив их мечом, и потребовал моего согласия как наследника Египта. Я отказался дать согласие и был лишен своих прав, и с тех пор ты, о фараон, носишь двойную корону Кемета, в то время как я живу как гражданин Мемфиса на тех землях и на те средства, которые являются моей собственностью. Между тем часом и этим, о фараон, много бедствий обрушилось на Кемет, и последнее стоило жизни твоему первенцу и моему. Однако, о фараон, при всех этих бедствиях ты отказывался отпустить этих евреев, вопреки тому, что я советовал с самого начала. Наконец после смерти твоего сына ты объявил, что они могут уйти куда угодно. А теперь ты преследуешь их с большой армией и намерен сделать то, что сделал бы мой отец, славный бог Мернептах, если бы я согласился, — уничтожить их мечом. Слушай меня, фараон!
— Я слушаю; дело изложено хорошо, хоть и кратко. Что еще хотел бы ты сказать, принц Сети?
— Только одно, о фараон: молю тебя, откажись от преследования израильтян и уйди обратно со всей своей армией — не утром и не на следующий день, а сейчас, в этот вечер.
— Почему же, о принц?
— Из-за некоего сна, который приснился госпоже моего дома, еврейской женщине, и который предсказывает гибель тебе и армии Египта, если ты не прислушаешься к моим словам.
— Кажется, мы знаем об этой змее, которую ты приютил и пригрел у себя на груди, откуда она может оплевывать Кемет ядом. Ее зовут Мерапи, Луна Израиля, не так ли?
— Так зовут госпожу, которой приснился этот сон, — ответил Сети холодным тоном, хотя я, стоя рядом с ним, чувствовал, как он дрожит от гнева, — сон, который, если фараон пожелает, мои товарищи могут пересказать слово в слово.
— Фараон не пожелает, — закричал Аменмес, ударив кулаком по столу, — потому что он знает, что это лишь еще один трюк для спасения этих колдунов и воров от участи, которую они заслужили.
— Значит, я — исполнитель трюков, о фараон? Если так, зачем бы я ехал сюда с этим предупреждением, хотя завтра, сидя в Мемфисе, я мог бы снова стать наследником двойной короны? Ибо если ты не послушаешь меня, то очень скоро ты погибнешь, а вместе с тобой и все эти… — И он указал на сидящих за столом. — Ас ними и вся огромная армия, что там снаружи. Прежде чем отвечать, скажи, что значит эта черная туча, закрывающая лагерь врагов, евреев? Ты не находишь ответа? Тогда я скажу: это покров, который окутает ваши кости, всех вас до единого.
Теперь вся компания дрожала от страха, — да, даже жрецы и маги — и те дрожали. Но фараон обезумел от ярости. Вскочив со своего места, он сорвал с головы двойную корону и швырнул ее на землю, и я заметил, что золотая лента с уреем отлетели в сторону и легли на сандалию Сети. Аменмес разорвал на себе одежду и закричал:
— По крайней мере, ты разделишь со мной судьбу, отступник, продавший Кемет еврейской колдунье за ее поцелуи? Схватить этого человека и его товарищей! И когда эта тьма рассеется завтра утром и мы атакуем израильтян, пусть они идут вместе с нами в первых рядах. Вот тогда и увидим, где правда!
Таков был приказ фараона, и Сети, не ответив ни слова, скрестил на груди руки и ждал, что последует.
Люди поднялись со своих мест, как бы повинуясь этому приказу, но снова сели; стражники устремились вперед — и однако застыли в неподвижности. Тогда Бакенхонсу разразился торжествующим хохотом.
— Охо-хо! — смеялся он. — Как фараоны приходили и уходили — один и два, и три, и четыре, и пять — я видел, но чтобы ни один советник и ни один стражник не выполнили приказа фараона, даже если б они не хотели — такого я еще не видел! Когда ты станешь фараоном, принц Сети, надеюсь, тебе больше повезет. Дай руку, Ана, друг мой, и веди нас, царственный наследник Египта! Истина показана, но слепые глаза не желают видеть. Слово сказано, но глухие уши не желают слышать. Долг исполнен. Доброго вам сна, избранники Осириса, доброго сна!
Потом мы повернулись и пошли прочь из шатра. У выхода я оглянулся, и в сумерках, которые предшествуют ночной тьме, мне почудилось, будто сидящие за столом уже мертвы. Лица их посинели, глаза мерцали пустым блеском и ни одного слово не сорвалось с их уст. Они лишь неотрывно смотрели на нас, пока мы шли, все смотрели и смотрели.
Снаружи я по приказу принца громко прокричал суть ясновидения госпожи Мерапи и предупредил всех, кому было слышно, чтобы они перестали преследовать народ Израиля, если им дороги жизнь и свет солнца. Но даже после этого, хотя моя речь была прямой изменой фараону, ни одна рука не поднялась ни на принца, ни на меня, его слугу. С тех пор я часто спрашивал себя, почему так было, и не. находил ответа на свои вопросы. Возможно потому, что в глубине души все знали, что Сети — истинный фараон, и любили его. Возможно потому, что они верили принцу и считали, что если он отправился в такую даль и отдал себя во власть Аменмеса, то лишь с тем, чтобы спасти армии Египта и передать им весть, полученную от самих богов.
Или, может быть, он все еще был под покровительством, которое израильтяне обещали ему через своих пророков голосом Джейбиза. Во всяком случае, все было, как я описал. Фараон мог приказать, но его слуги не повиновались ему. Более того, эта весть распространилась, и в ту же ночь многие дезертировали из войска фараона и расположились поблизости от нашего лагеря или бежали обратно в города, откуда пришли. Среди них было немало советников и жрецов, которые тайно переговорили с Бакенхонсу. Потому и случилось, что даже если фараон хотел покончить с нами — как, вероятно, он и собирался сделать под покровом ночи, — он все же счел более мудрым выполнить это намерение после того, как он расправится с народом Израиля.
Это была очень странная ночь — полное безмолвие, тяжелый неподвижный воздух. Звезд не было, но в завесе черной тучи, как будто опустившейся над лагерем египтян, вспыхивали живые молнии, принимая формы каких-то букв, которые я не мог прочесть.
— Смотри — вот Книга Судеб31, написанная огнем рукою бога! — сказал Бакенхонсу, наблюдавший зловещее зрелище.
Около полуночи вдруг налетел восточный ветер, столь сильный, что нам пришлось лечь наземь лицом вниз, укрывшись за колесницами. Потом он замер, и мы услышали волнение и крики как из египетского лагеря, так и из лагеря Израиля, скрытого за тучей. Затем последовал толчок, как во время землетрясения, который сбил с ног тех из нас, которые стояли, и при свете появившейся кроваво-красной луны мы увидели, что вся армия фараона начинает двигаться в сторону моря.
— Куда они идут? — спросил я принца, который ухватился за мою руку.
— Навстречу судьбе, я думаю, — ответил он, — но какой судьбе, не знаю.
Больше мы не сказали ни слова, нам было страшно.
Наконец занялась заря, осветив самое ужасное зрелище, какое когда-либо видели глаза человека.
Стена туч исчезла, и при ясном свете утра мы увидели, что глубокие воды Красного моря расступились, оставив посередине твердую дорогу — не то расчищенную ветром, не то приподнятую землетрясением. Кто знает? Только не я, чья нога так и не ступила на эту дорогу смерти. По этой широкой дороге устремлялись десятки тысяч израильтян, двигаясь между водой справа и водой слева, а за ними следовала вся армия фараона, кроме тех, которые дезертировали и теперь стояли или лежали вокруг нас, наблюдая. Видны были даже золотые колесницы, указывая, где сам фараон и его телохранитель, — в самой гуще беспорядочного войска, рвавшегося вперед, не соблюдая ни дисциплины, ни боевого строя.
— Что же теперь? О, что же теперь? — прошептал Сети, и в этот момент последовал второй подземный толчок. Затем в западной части моря поднялась огромная волна, высокая, как пирамида. Она катилась, курчавясь и пенясь на гребне, и у ее основания мы на миг, не более, увидели армию Египта. Но в то же мгновение мне почудилось, что вдоль ее гребня несутся могучие фигуры, которые я принял за богов Кемета, а за ними, преследуя их и гоня их бичом, — какой-то образ из сияющего света. Они появились, они исчезли, сопровождаемые звуками стенаний, и волна упала.
Но за ее пределами по-прежнему шли толпы израильтян — на дальнем берегу.
Наступил густой мрак, и сквозь этот мрак я увидел — или подумал, что вижу, — Мерапи, Луну Израиля, стоящую перед нами с выражением отчаяния на лице, и услышал — или подумал, что слышу, — ее крик:
— О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети! Потом она тоже исчезла.
— Запрягайте лошадей! — крикнул Сети глухим голосом.
XVIII. Коронация Мерапи
Как ни мчались наши кони, но слух, а точнее — истина, которую несли ушедшие раньше нас, летела быстрее. О! Это путешествие казалось сном, ниспосланным злыми богами. День и ночь неслись мы, и в каждом городе навстречу нам выбегали женщины, крича:
— Это верно, о путники, это верно, что фараон и его войско погибли в море?
И старый Бакенхонсу отвечал им:
— Верно, что тот, кто был фараоном, и его войско погибли в море. Но фараон жив — вот он! — И он указывал на принца, который не обращал ни на кого внимания и повторял только одно слово: — Вперед! Вперед!
И снова мы мчались вперед, в то время как стоны и плач замирали далеко позади.
Солнце садилось, когда мы наконец приблизились к Мемфису. Принц повернулся ко мне и прервал молчание.
— До сих пор я не смел спросить, — сказал он, — но скажи мне, Ана. В темноте, когда большая волна упала и ужасные образы пронеслись мимо, тебе не показалось, что перед нами стоит женщина, и не послышалось, что она что-то говорит.
— Все так и было, принц.
— Кто была эта женщина, и что она говорила?
— Это была та, что родила тебе сына, о принц, которого уже нет, и она говорила: «О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети!»
Его лицо, даже под слоем покрывавшей его пыли, стало пепельного цвета, и он застонал.
— Двое любящих ее видели и двое любящих ее слышали, — сказал он. — Сомнений нет, Ана, она погибла.
— Молю богов…
— Не моли, ибо боги Кемета тоже погибли — пали от руки бога Израиля. Ана, кто ее убил?
Неплохой рисовальщик, я изобразил пальцем на толстом слое песка и пыли, покрывавшем борт колесницы, брови человека и под ними два глубоких глаза… Позолота, отражая солнце, выглядела, как блеск в глазах.
Принц кивнул и сказал:
— Теперь мы узнаем, могут ли великие маги, вроде Ки, умереть, как другие люди. Чтобы узнать это, я готов даже, если необходимо, надеть корону фараона.
У ворот Мемфиса мы остановились. Они были заперты, но слышно было, что за ними большой город шумит и волнуется.
— Открывай! — крикнул Сети стражнику.
— Кто приказывает мне открывать? — отозвался начальник стражи, всматриваясь в наши лица, ибо солнце стояло низко у нас за спиной.
— Фараон приказывает тебе открыть!
— Фараон! — сказал начальник стражи. — Мы получили точные сведения, что фараон и его армия утонули в результате колдовства.
— Глупец! — вскричал принц. — Фараон никогда не умирает.
Фараон Аменмес отошел к Осирису, но славный бог Сети Мернептах,
фараон Египта, велит тебе открыть ворота.
Тогда бронзовые ворота отворились, и те, кто охраняли их, простерлись в пыли.
— Скажи, — обратился я к начальнику стражи, — что значат эти крики?
— Господин, — ответил он, — я точно не знаю, но говорят, что на площади перед храмом сжигают на костре колдунью, которая навлекла на Кемет все эти бедствия и своими чарами погубила фараона Аменмеса и его армию.
— По чьему приказу? — крикнул я, но возница стегнул лошадей, и мы не услышали ответа.
Мы промчались по широкой улице на большую площадь, заполненную десятками тысяч людей. Мы погнали лошадей прямо на них.
— Дорогу фараону! Дорогу могучему славному богу, Сети Мернептаху, Царю Верхних и Нижних Земель! — закричали сопровождавшие Сети воины.
Толпа обернулась, и все увидели высокую фигуру принца все в той же парадной одежде, в которой он стоял перед Аменмесом в его шатре близ моря.
— Фараон! Фараон! Слава фараону! — закричали люди, падая ниц, и этот крик пронесся по Мемфису подобно ветру.
Мы пробились к центру площади. Там, перед большими воротами храма пылал огромный костер из высоко сложенных дров. Перед ним мелькали фигуры, и в одной из них я узнал Ки, облаченного в одежду мага. Двойная цепь солдат окружала костер, сдерживая напор толпы, которая неистовствовала, будто охваченная безумием, крича и потрясая кулаками. Группа жрецов разделилась, и я увидел стоящих рядом мужчину и женщину. Одежда на женщине была порвана, волосы растрепались; видно было, что с ней обошлись грубо. В этот момент силы ее покинули и она упала на колени, подняв лицо. Это было лицо Мерапи, Луны Израиля.
Значит, она не погибла!.. Человек, стоящий рядом, нагнулся, чтобы поднять ее, но пущенный ему в спину камень заставил его с проклятием выпрямиться. Я сразу узнал этот голос, хотя широкий плащ скрывал облик этого человека.
Это был голос Лейбэна, израильтянина, обрученного с Мерапи и пытавшегося убить нас в стране Гошен. «Что он здесь делает?» — подумал я.
Ки заговорил:
— Слыхали, как зашипела эта еврейская кошка? — сказал он. — Ну что ж, дело рассмотрено, приговор вынесен. Я думаю, первым пойдет в огонь соучастник, а потом колдунья. Теперь следите за ним — он, может статься, оборотень.
Все это Ки произнес, приятно улыбаясь, — даже когда подал знак черным рабам храма, ожидавшим поблизости. Они бросились вперед, и я увидел, как вспыхнуло отражение пламени на их медных браслетах, когда они схватили Лейбэна. Он яростно сопротивлялся, крича:
— Где ваши армии, египтяне, где ваш собака-фараон? Ступайте выуживать их из Красного моря! Прощай, Луна Израиля! Хорошо же увенчал тебя твой царственный любовник, о неверная…
Больше он ничего не успел сказать, ибо в этот момент рабы швырнули его головой вперед в самую середину костра, который на миг потемнел и вновь вспыхнул ярким пламенем.
И тогда Мерапи с трудом поднялась и воскликнула — теми же словами, которые принц и я услышали, когда ее образ явился нам у далекого Красного моря: «О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети!» Да, это были те же самые слова, которые — по крайней мере, нам так показалось — поразили наш слух за много дней до того, как они сорвались с ее уст.
Продвижение наших колесниц фут за футом сквозь толпу заняло не больше времени, чем нужно, чтобы досчитать до ста, и едва замерло эхо ее зова, как мы были уже рядом и спрыгнули наземь.
— Колдунья зовет того, кто сегодня ужинает за столом Осириса вместе с фараоном и его войском, — издевательски усмехнулся Ки. — Пусть пойдет да поищет его там, если позволят боги, — и он снова подал знак черным рабам.
Но Мерапи уже увидела — или почувствовала, что Сети рядом, и кинулась ему на грудь. У всех на глазах он поцеловал ее в лоб, потом велел мне поддержать ее и повернулся лицом к толпе.
— На колени! На колени! На колени! — раздался громкий голос Бакенхонсу. — Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон! — И воины эскорта повторили его слова.
И толпа вдруг поняла. Все упали на колени, и со всех сторон грянуло древнее приветствие. Сети поднял руку и благословил их. В этот момент я заметил, что Ки скользнул в темноту, и шепнул несколько слов стражникам, которые тут же бросились ему вслед и привели его обратно.
Между тем принц заговорил:
— Вы называете меня фараоном, люди Мемфиса, и боюсь, что сегодня я действительно фараон по праву кровного родства. Не знаю, соглашусь ли я нести и дальше бремя правления, если Кемет об этом попросит. Но тот, кто носил двойную корону, погиб на дне моря: по крайней мере, я видел, как волны сомкнулись над ним и его армией. Поэтому, хотя бы на час, я должен быть фараоном, чтобы властью фараона решить некоторые дела. Госпожа Мерапи, скажи, прошу тебя, как все это произошло?
— Господин мой, — ответила она тихим голосом в наступившем молчании, — после того как ты уехал, чтобы предупредить армию фараона о моем сне, Ки, который ушел в тот же день, снова вернулся. С помощью служанки, которую он, я думаю, заговорил, он проник в мои покои, где я сидела одна, и предъявил мне свои условия.
«Открой мне, — сказал он, — секрет твоей магии, чтобы я мог отомстить виновникам моего падения — израильским пророкам и вообще всем израильтянам и другим моим врагам, и таким образом снова стать самым большим человеком в Египте. За это я исполню все твои желания и сделаю тебя, именно тебя, царицей Египта, и до конца ваших дней буду служить тебе и твоему супругу Сети, который станет фараоном. Откажешься — и я подниму против тебя весь народ, и прежде чем принц вернется, люди, которые верят, что ты злая колдунья, предадут тебя участи колдуньи».
Муж мой, я ответила Ки так же, как и раньше: что у меня нет никаких секретов, ибо я не владею искусством черной магии, а статую Амона в танисском храме разбила не я, но та же сила, которая потом причинила Кемету тяжкие бедствия. А еще я сказала, что мне не нужны его дары, потому что я не хочу быть царицей Египта. Тогда он рассмеялся мне в лицо и сказал, что он не из тех, кого можно дразнить, как уже многие узнали на свою беду. Потом он направил на меня свою палочку и пробормотал какое-то заклинание, так что я совершенно лишилась сил и не могла ни двинуться, ни закричать еще долго после того, как он ушел. Я велела своим слугам от твоего имени схватить его и задержать до твоего возвращения, но его нигде не могли найти.
С того часа мне стали угрожать расправой. Люди собирались тысячами у дворцовых ворот днем и ночью, крича, что убьют меня, колдунью. Я молилась о помощи, но, видимо, небо отвернулось от меня грешной, и мои молитвы оставались без ответа. Даже слуги во дворце обратились против меня и не желали смотреть мне в лицо. Все меня покинули. Я сходила с ума от страха и одиночества. Наконец однажды ночью перед рассветом я вышла на террасу и, так как никакой бог не желал меня слушать, повернулась в ту сторону, куда ты уезжал, и позвала тебя на помощь — так же, как сейчас, перед тем, как ты явился… — Тут принц взглянул на меня, а я, Ана, взглянул на него. — В ту же минуту из-за кустов вышел какой-то человек в широком плаще, так что я не могла разглядеть его лицо, и сказал мне: «Луна Израиля, меня прислал его высочество принц Сети, чтобы предупредить тебя: твоя жизнь в опасности, как и его жизнь, и поэтому он не может сейчас приехать к тебе. Он велит тебе приехать к нему, чтобы вы вместе могли бежать из Египта в другую страну, где вы сможете спокойно переждать, пока кончатся все наши невзгоды».
«Твое лицо закрыто, — сказала я, — откуда мне знать, что именно он послал тебя ко мне с этой вестью. Дай мне знак».
Тогда он протянул ту застежку со скарабеем, которую ты дал мне далеко в стране Гошен, ту же, что ты попросил меня вернуть тебе в знак любви, когда мы с тобой обручились и ты подарил мне свое царское кольцо; этого скарабея я видела на твоей одежде, когда ты с Аной уезжал из Мемфиса…
— Я потерял его по дороге к Красному морю, — шепотом сказал мне принц, — но боялся признаться тебе, Ана, приняв это за дурной знак; ночью мне приснилось, будто явился Ки и украл его у меня.
«Этого недостаточно, — сказала я. — Эта драгоценность могла быть похищена или снята с одежды убитого принца, или получена с помощью магии».
Человек в плаще подумал немного и сказал:
«Этой ночью, меньше чем час назад, фараона и все его колесницы поглотило море. Да послужит это тебе знаком».
«Как это возможно? — ответила я. — Ведь Красное море далеко отсюда, и такая весть не дошла бы сюда за час. Уходи, лживый искуситель!»
«И все же это правда», — сказал он.
«Когда ты это докажешь, я поверю и поеду с тобой».
«Хорошо», — сказал он и ушел.
На следующий день в Мемфисе пронесся слух, что это ужасное событие действительно произошло. Слух расходился все шире и шире, и вскоре все стали клясться, что так и было на самом деле. И тогда людей охватила ярость против меня, и они бесновались вокруг дворца как львы пустыни, рыча и требуя моей крови: как только они кидались на ворота, что-то отбрасывало их назад, как будто какой-то дух охранял дворец. Так прошло несколько дней. Но сегодняшней ночью, даже уже на рассвете, я опять стояла на террасе, и из-за деревьев опять вышел тот человек в плаще.
«Теперь ты слышала, Луна Израиля, — сказал он, — и должна поверить и уехать отсюда, хоть ты и считаешь себя здесь в безопасности, потому что дом Сети с самого начала был чудесным образом защищен от всех зол».
«Слышала и думаю, что в это можно поверить, хотя и не понимаю, как могла эта весть дойти до Мемфиса за один час. И однако повторяю тебе, незнакомец, это еще не доказательство».
Тогда он вынул из-под плаща свиток папируса и бросил его к моим ногам. Я подняла его, сломала печать и прочла написанное. Я сразу узнала почерк — это был почерк Аны, а в конце стояла твоя подпись и свиток был запечатан твоей печатью и печатью Бакенхонсу как свидетеля. Вот он, — и Мерапи вынула спрятанный на груди папирус и отдала его мне, так как опиралась на меня, чтобы не упасть.
Я развернул папирус и при свете факела прочел то, что было написано. Почерк действительно выглядел как мой, и подпись, и печати — все было в точности, как она сказала. Вот это письмо слово в слово:
«Мерапи, Луне Израиля, в моем доме в Мемфисе. Приезжай, госпожа, Цветок Любви, ко мне, твоему супругу, куда тебя проводит надежный человек, вручивший тебе это письмо. Приезжай немедля, ибо мне грозит большая опасность, так же как и тебе, и только вместе сможем мы ее избежать».
— Ана, что это значит? — спросил принц страшным голосом. — Если ты предал меня и ее…
— Клянусь богами, — начал я, закипев от возмущения, — человек я или подлый шакал, чтобы слышать такие обвинения, да еще из уст твоего высочества… — Я умолк, ибо в этот момент Бакенхонсу начал громко смеяться.
— Посмотрите на письмо! — проговорил он. — Посмотрите на письмо!
Мы посмотрели в недоумении — и на наших глазах строчки сперва покраснели как кровь, а потом стали бледнеть и совсем исчезли: вместо письма у меня в руках остался чистый лист папируса.
— Охо-хо! — смеялся Бакенхонсу. — Поистине, друг Ки, ты — первый среди магов, не считая тех пророков Израиля, которые привели тебя — куда они привели тебя, друг Ки?
Тогда, первый раз за все время, что я его знал, вечная улыбка исчезла с лица Ки, и оно словно превратилось в камень со вставленными в него двумя бриллиантами — его злобно сверкающими глазами.
— Продолжай, госпожа, — сказал принц.
— Я поверила письму. Я бежала с этим человеком. Он сказал, что нас ждет колесница. Мы вышли через боковую калитку.
«Где же колесница?» — спросила я.
«Мы поедем в лодке», — сказал он и повел меня вниз к реке. Когда мы пробирались через пальмовую рощу, из-за деревьев вдруг появились люди.
«Ты меня предал!» — воскликнула я.
«Нет, — ответил он, — меня самого предали».
Тогда впервые я узнала его голос — голос Лейбэна.
Нас схватили. Во главе этих людей был Ки.
«Вот она, колдунья, — сказал он, — которая, завершив свое черное дело, решила сбежать вместе со своим любовником-евреем, соучастником ее колдовских действий».
Они сорвали с него плащ и фальшивую бороду, и передо мной оказался действительно Лейбэн. Я прокляла его, глядя ему в лицо. Но он ответил только:
«Мерапи, то, что я сделал, я сделал из любви к тебе. Я хотел привести тебя обратно к нашему народу, потому что знал, что здесь тебя убьют. Этот маг в награду за некоторые сведения, которые я ему доставал, обещал отпустить тебя со мной, если мне удастся выманить тебя из дворца».
Это все, что он успел сказать. Нас притащили в тайную темницу большого храма и там нас разлучили. Целый день сегодня Ки и его жрецы мучили меня вопросами, на которые я не отвечала. К вечеру они вывели меня из темницы и привели сюда, и Лейбэна тоже. Когда люди увидели меня, они подняли страшный крик : «Колдунья! Колдунья! Еврейская колдунья!» Они прорвались через стражу, схватили меня, бросили на землю и стали избивать. Лейбэн пытался защитить меня, но его оттащили в сторону. Наконец толпу оттеснили, а потом — о муж мой, остальное ты знаешь. Все, что я рассказала, правда. Не могу больше.
Колени ее подогнулись, и она лишилась чувств. Мы отнесли ее в колесницу.
— Ты слышал, Ки, — сказал принц. — Что скажешь в ответ?
— Ничего, о фараон, — холодно произнес он, — ибо фараоном ты стал, как я предсказывал. Фараон, мой дух покинул меня, его похитили израильские пророки. То письмо должно было исчезнуть после того, как его прочла твоя супруга, а потом я рассказал бы тебе иную историю: историю ее тайной любви, измены и бегства с любовником. Но какой-то злой бог удержал письмо на папирусе до тех пор, пока ты сам не прочел его, — ты, никогда не писавший этого письма! Я побежден. Поступай со мной как хочешь, и прощай! Любим ты будешь всегда, тебя ведь всегда любили, но счастливым в этом мире — никогда.
— О люди! — воскликнул Сети. — Я не могу быть судьей в моем собственном доме. Вы слышали все, вы и судите. Ваш приговор этому магу.
Ответом был мощный крик:
— Смерть! Смерть от огня! Смерть, какую он готовил для невинных.
Это был конец. Но потом мне рассказывали, что когда костер догорел, была обнаружена голова Ки, похожая на раскаленный камень. Однако, лишь только ее коснулись лучи солнца, она рассыпалась и исчезла, как исчезли с папируса строчки того письма. Не знаю, правда это или нет, ибо я при этом не присутствовал.
Мы привезли Мерапи во дворец. Она прожила только три дня, ибо ее телесные и духовные силы были подорваны. Последний раз я видел ее, когда она послала за мной за час до смерти. Она лежала в объятиях Сети, шепча ему что-то об их ребенке, и выглядела особенно прелестной и счастливой. Она поблагодарила меня за дружбу и улыбнулась так, что я понял: она знала, что мои чувства к ней были больше, чем просто дружбой, и попросила заботиться о моем друге и повелителе, пока мы все не встретимся снова где-то в ином мире. Потом она протянула мне руку, я поцеловал ее и ушел, плача.
После того как она умерла, странная фантазия овладела Сети. В большом зале дворца он приказал воздвигнуть золотой трон и на этот трон он посадил ее во всем царском облачении, с нагрудными украшениями и жемчужным ожерельем; корона царицы Египта венчала ее голову. И в таком виде он представил ее знатным и государственным людям. Потом он велел набальзамировать ее и похоронить в гробнице, местонахождение которой я дал клятву никогда не разглашать; погребение состоялось без традиционных обрядов, потому что она исповедовала другую веру. Там она и спит в своем вечном доме, пока не настанет день Воскресения, и с нею спит ее маленький сын.
После этих похорон еще до появления новой луны все великие люди страны Кемет собрались в Мемфисе, чтобы провозгласить принца фараоном, а вместе с ними явилась и ее высочество принцесса Таусерт. Я присутствовал на церемонии, и странное чувство не покидало меня. Я снова видел визиря Нехези, я видел верховного жреца Рои и с ним многих других жрецов, здесь был даже старый Памбаса, с длинной белой бородой, которой он очень гордился, ибо она была не искусственной, — такой же напыщенный и пресмыкающийся, как и прежде, хотя он покинул дом принца, когда тот был лишен прав наследства, и стал служить Аменмесу. Его появление с официальным жезлом в руке заставило Сети засмеяться — единственный раз в течение многих недель.
— Так ты опять здесь, камергер Памбаса, — сказал он.
— О священнейший, о царственный повелитель, — ответил старый мошенник, — разве Памбаса, ничтожная песчинка у тебя под ногами, когда-нибудь покидал дом фараона, или того, кто будет фараоном?
— Нет, — сказал Сети, — ты ведь оставляешь только того, кто, как ты думаешь, не будет фараоном. Ну, хорошо, приступай к своим обязанностям, плут, может быть, в душе ты такой же честный, как и все остальные.
Начался величественный и древний ритуал Подношения Короны, когда говорили жрецы, переодетые в богов, и другие жрецы, изображавшие могущественных фараонов прошлого, а также знатные люди и правители других городов. Когда церемония закончилась, Сети ответил:
— Я принимаю это наследство — не потому, что я желаю им обладать, но потому, что это мое наследие и я знаю, пока я жив, я должен выполнять свой долг, в чем и дал клятву тому, кого уже нет в живых. Удар за ударом поражали Египет — чего, я думаю, никогда бы не случилось, если бы прислушались к моему голосу. Теперь Кемет истекает кровью и почти мертв. Да будет вашим и моим делом постараться вылечить и вернуть его к жизни. То недолгое время, что я буду с вами — ибо и на меня обрушились несчастья, неважно какие, — я, хотя и царствую, буду вашим слугой и слугой Кемета. Я отменяю всякие пиры и торжества в честь моего вступления на престол, но все богатства, которые пошли на их устройство, будут розданы вдовам и детям тех, кто погиб в Красном море. Теперь идите!
Все разошлись притихшие, но счастливые, поскольку на трон вступил фараон, который знал нужды Египта, любил его и был единственным, кто проявил мудрость и мужество в ту пору, когда другими овладело безумие. Потом явилась ее высочество в великолепном наряде, увенчанная короной и сопровождаемая своими приближенными, и склонилась перед троном.
— Привет фараону! — воскликнула она.
— Привет царственной принцессе Египта, — ответил он.
— О нет, фараон, — царице Египта!
Рядом с троном Сети стоял другой, тот, на который он тогда посадил мертвую Мерапи, увенчанную царской короной. Сети повернулся и некоторое время смотрел на него. Потом он сказал:
— Я вижу, это кресло свободно. Пусть царица займет его, если пожелает.
Она уставилась на него, как на сумасшедшего, хотя несомненно слышала кое-что о связанной с этим троном истории, потом гордо поднялась по ступеням и села в царское кресло.
— Твое величество долго отсутствовало, — сказал Сети.
— Да, — ответила она, — но как мое величество обещало, оно вернулось на свое законное место рядом с фараоном — и никогда больше его не покинет.
— Фараон благодарит ее величество, — сказал Сети и низко поклонился.
Прошло лет шесть. Однажды поздним вечером я сидел с фараоном Сети Мернептахом в его дворце в Мемфисе, где он всегда предпочитал жить, когда позволяли государственные дела.
Это было как раз в годовщину смерти их первенца, и об этом ему хотелось со мной говорить. Он ходил взад и вперед по комнате, и, наблюдая за ним в лучах светильника, я заметил, что он вдруг стал как будто намного старше, а лицо его — еще милее и добрее, чем прежде. Он также заметно похудел, и в глазах его появилось такое выражение, какое бывает у человека, созерцающего далекие пространства.
— Ты, конечно, помнишь ту ночь, друг? — сказал он. — Может быть, самую ужасную ночь, какую когда-либо видел мир, по крайней мере в его малой частице, называемой Кеметом. — Он помолчал, приподнял полог над входом и указал на портик снаружи. — Вон там стоял ты, а там лежал мальчик, а рядом сидела его няня — между прочим, я с огорчением узнал, что она больна. Ты ведь присматриваешь за ней, да, Ана? Скажи ей, что фараон навестит ее, когда сможет.
— Я все помню, фараон.
— Да, конечно, как не помнить, ведь ты любил ее и мальчика тоже, и даже меня — его отца. И будешь по-прежнему любить нас, когда мы достигнем той страны, где забывается плотская жизнь со всеми ее запретами и страстями и остается только одна любовь — и мы тоже будем всегда любить тебя.
— Да, — ответил я, — поскольку любовь — ключ к жизни, и только над теми, кто никогда не научился любить, тяготеет проклятие.
— Почему же проклятие, Ана, ведь, если жизнь продолжается, они еще могут научиться любить. — Он замолчал и после недолгой паузы заговорил снова: — Я рад, что он умер, Ана, хотя, если бы он был жив, он стал бы фараоном после меня, поскольку у царицы никогда не будет детей. Но что значит — быть фараоном? Вот уже шесть лет я царствую и, кажется, меня любят. Царствую над растерзанной страной, которую стараюсь связать воедино, над больной страной, которую стараюсь вылечить, над опустевшей землей, которую стараюсь заставить забыть. О! Проклятие этих израильтян хорошо сработало. И я думаю, в этом моя вина, Ана. Если бы я был настоящим мужчиной, то вместо того, чтобы сбросить с себя бремя ответственности, я должен был восстать против моего отца Мернептаха и его политики, и если нужно — поднять народ. Тогда бы израильтяне свободно ушли и никакие бедствия не постигли бы Кемет. Впрочем, возможно, я сделал то, что должен был сделать, и что случилось, то случилось. А теперь мое время подходит к концу, и я уйду отсюда, чтобы уравнять свой счет, насколько смогу, моля о том, чтобы нашлись понимающие и великодушные судьи.
— Почему фараон так говорит? — спросил я.
— Не знаю, Ана, но в последнее время моя жена Мерапи почему-то не выходит у меня из головы. Она была по-своему мудрой, такой же мудрой, как и любящей, не правда ли, и если бы мы ее снова сейчас увидели, может быть, она бы ответила на твой вопрос. Но хотя мне кажется, что она совсем рядом, я никак не могу ее увидеть. А ты можешь, Ана?
— Нет, фараон. Правда, однажды вечером старый Бакенхонсу поклялся, что видел, как она прошла мимо нас и, проходя, пристально посмотрела на меня.
— А, Бакенхонсу! Ну, он тоже мудрый и любил ее на свой лад. К тому же плоть все больше с него сходит — хотя, возможно, он еще успеет возложить свои приношения в наших с тобой гробницах. Впрочем, Бакенхонсу теперь в Танисе — или в Фивах — у ее величества, за которой он любит наблюдать, как и я. Так что он ничего не может рассказать нам о своих видениях. В этой комнате очень жарко, Ана. Давай выйдем.
Мы откинули полог и остановились между колоннами портика, глядя в сад, таинственно сумеречный в лунном свете, и разговаривая о том о сем, кажется об израильтянах, которые, как мы слышали, в это время странствовали в пустынях Синая. Потом мы вдруг замолчали — и он, и я.
Туча наплыла на лицо луны, погрузив мир во тьму. Она ушла, и я вдруг почувствовал, что мы уже не одни. Перед нами лежал коврик, а на коврике — мертвое дитя, царственное дитя по имени Сети; возле коврика стояла женщина и смотрела на ребенка глазами, полными муки, — еврейская женщина, прозванная Луной Израиля.
Сети коснулся моей руки и указал на женщину, а я указал на ребенка. Мы стояли, затаив дыхание. Потом, внезапно нагнувшись, Мерапи подняла ребенка и протянула его отцу. Но — о чудо! — он уже не был мертвым: нет, он заливался смехом и, увидев отца, обнял, как мне показалось, его за шею и поцеловал в губы. Более того, мука в глазах женщины вдруг сменилась неизъяснимой радостью, и она стала прекраснее, чем звезда. Потом, смеясь так же, как и ребенок, Мерапи повернулась к Сети, поманила его и исчезла.
— Мы увидели мертвых, — сказал он мне, прервав молчание, — и, о Ана, мертвые продолжают жить!
В ту же ночь, еще не рассвело, во дворце раздался крик, пробудивший меня ото сна. Повторяясь, он звучал под сводами: «Славного бога фараона больше нет! Ястреб Сети улетел на небо!»
Во время погребения фараона я положил обе половинки чаши ему на грудь, чтобы он мог отпить из нее, когда настанет день Воскресения.
Здесь кончается рассказ писца Аны, советника и друга царя, им любимого.
Примечания
1
Исход (библейск.) — бегство израильского народа из Египта. — Примеч. перев.
(обратно)2
Каирский музей основан в 1858 г. французским ученым-археологом Огюстом Мариэттом первоначально как Булакский музей; в 1891 —1902 гг. — Гизехский музей. С 1902 г. открыт в Каире под названием Египетский музей.
(обратно)3
Речь идет о первой мировой войне. — Примеч. перев.
(обратно)4
Кемет — «Черная земля», древнеегипетское название Египта по цвету плодородной почвы. Слово «Египет» греческого происхождения.
(обратно)5
Египтяне верили в божественность происхождения фараона. Бог солнца Ра , создатель мира, отец всех богов, считался также отцом египетских царей.
(обратно)6
Осирис — бог умирающей и воскресающей природы, царь загробного мира. Осирис был коварно убит своим братом, злым богом пустыни Сетом. Сын Осириса Гор мстит за отца и убивает Сета, после чего происходит воскрешение Осириса из мертвых. Древние египтяне отождествляли умерших с Осирисом и считали, что человек после смерти может ожить подобно Осирису.
(обратно)7
Птах — верховное божество города Мемфиса, почитавшееся как творец мира и всего в нем существующего, как покровитель искусств и ремесел.
(обратно)8
Книги Мертвых рассказывают о странствиях души в загробном царстве.
(обратно)9
Сихор — так египтяне называли реку Нил.
(обратно)10
Ка — согласно представлениям древних египтян, одна из душ человека, его подобие («двойник»), продолжающее существовать и после смерти человека.
(обратно)11
Пилонами назывались массивные трапециевидные башни, оформлявшие вход в храм.
(обратно)12
Амон — в египетской мифологии бог солнца, почитался как «царь всех богов», бог-творец всего сущего.
(обратно)13
Пунт — древнеегипетское название южного Красноморья.
(обратно)14
Исида — в египетской мифологии богиня плодородия, богиня воды и ветра, символ женственности и семейной верности, позднее — богиня луны. Исида была сестрой и женой Осириса и матерью Гора.
(обратно)15
Первоначально Египет представлял собой два государства — Верхний (Южный) и Нижний (Северный). В начале III тысячелетия до н. э. при фараоне Менесе (Мине) произошло объединение двух государств. После этого в титулатуре фараона стали упоминать название обеих частей Египта, а царский венец, как символ объединения, стал состоять из двух корон.
(обратно)16
Хатхор — в египетской мифологии — богиня любви, веселья, пляски, музыки.
(обратно)17
Друг царя — высший придворный титул.
(обратно)18
Куш (Нубийская пустыня) — название страны, лежащей к югу от Египта, на территории современной Эфиопии.
(обратно)19
Египтяне делали кирпичи из нильского ила и соломы. — Примеч. автора.
(обратно)20
Анубис — в египетской мифологии бог-покровитель умерших, почитался в образе шакала черного цвета.
(обратно)21
Ном — провинция, область в Древнем Египте.
(обратно)22
Поля Иалу (Иару) — край вечного блаженства в загробном царстве.
(обратно)23
Апис — в древнеегипетской мифологии бог плодородия в образе жа; центром культа Аписа был Мемфис.
(обратно)24
Речь идет о скарабее — жуке, служившем в Древнем Египте символом созидательной жизни. Египтяне считали, что скарабей является воплощением Хепри, бога восходящего солнца, что он священен и приносит счастье.
(обратно)25
Гиксосы (от древнеегипетского «властители чужих стран») — скотоводческие племена Передней Азии и Аравии, захватившие часть Нижнего Египта около 1700 г. до н. э. более чем на 100 лет.
(обратно)26
Тейе — женщина не царского рода, жена Аменхотепа III, правление которого считается благословенным периодом в истории Египта, и мать Аменхотепа IV, Эхнатона, создателя новой, реформированной и более демократичной религии (2-е тысячелетие до н. э.). — Примеч. перев.
(обратно)27
Египтяне считали, что царство мертвых находится на Западе.
(обратно)28
Богиня Mут была супругой бога Амона.
(обратно)29
Нейт — в древнеегипетской мифологии богиня войны и охоты, покровительница царской власти.
(обратно)30
Фут равен 30,5 см.
(обратно)31
В Книгу Судеб вписывалась судьба каждого человека.
(обратно)


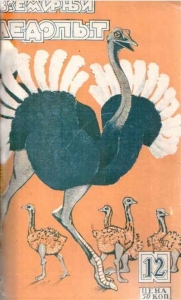

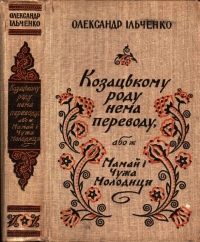

Комментарии к книге «Луна Израиля», Генри Райдер Хаггард
Всего 0 комментариев