Александр Дюма Завещание господина де Шовелена
I. ДОМ НА УЛИЦЕ ВОЖИРАР
Если идти с улицы Шерш-Миди на улицу Нотр — Дам-де-Шан, то с левой стороны, напротив фонтана, образующего угол улицы Регар и улицы Вожирар, вы увидите небольшой дом, помеченный в муниципальных списках города Парижа номером 84.
А теперь, прежде чем вести речь дальше, я — хоть и не без колебаний — сделаю одно признание. Это дом, где самая чистосердечная дружба встретила меня почти сразу по приезде моем из провинции; это дом, который в течение трех лет принимал меня по-братски; это дом, куда я в то время без раздумий стучался с каждой бедой и с каждым успехом моей жизни, уверенный, что он распахнет дверь навстречу моим слезам или моей радости; и вот сейчас, желая точно указать моим читателям его топографическое положение, я сам вынужден был отыскивать его на плане города Парижа.
Кто мог бы это мне сказать, Боже мой, двадцать лет тому назад?
Но дело в том, что за эти двадцать лет произошло много событий и они, подобно постоянно нарастающему морскому приливу, похитили у людей нашего поколения воспоминания об их юности, и, чтобы вспомнить прошлое, нужна уже не память (у нее есть свои сумерки, где теряются отдаленные события), а нужно сердце.
И вот, когда я отстраняю свою память, чтобы укрыться в своем сердце, я вновь нахожу там, как в священной дарохранительнице, все задушевные воспоминания, ускользнувшие одно за другим из моей жизни, как вода по капле просачивается сквозь трещины вазы; в сердце нет сумерек, которые становятся все темнее, в нем рассвет, который становится все ярче; память ведет к темноте, то есть к небытию; сердце ведет к свету, то есть к Богу.
Итак, он все там же, этот маленький дом, спрятанный за наполовину скрывающей его серою стеной; мне сказали, что он продается и — увы! — вот-вот выскользнет из рук, гостеприимно открывших мне его двери.
Позвольте мне рассказать вам, как я впервые вошел в него; знаю, что это уведет нас в сторону от истории, которую я вам рассказываю; но все равно, последуйте за мной, по дороге мы будем беседовать, и я постараюсь, чтобы дорога эта показалась вам не столь длинной, какова она в действительности.
По-моему, было это примерно в конце 1826 года. Видите, я жаловался вам на прошедшие двадцать лет, а их оказалось двадцать два. Мне же тогда только что исполнилось двадцать три.
В связи с бедным Джеймсом Руссо я говорил вам о своих литературных мечтаниях. В 1826 году они стали более честолюбивыми. Это была уже не «Охота и любовь», которую я создал в сотрудничестве с Адольфом де Лёвеном; это была уже не «Свадьба и погребение», которую я сочинил с Вюльпианом и Лассанем; это была «Христина», которую я страстно желал написать один. Прекрасная мечта! Сияющая мечта, в моих юношеских надеждах она должна была открыть передо мною этот сад Гесперид — сад с золотыми плодами, охраняемыми драконом по имени Критика.
А пока что мне, бедному Геркулесу, Необходимость взвалила на плечи мир. У этой злой богини по имени Необходимость, собирающейся раздавить меня, не было даже, как в случае с Атласом, предлога, будто она хочет часок отдохнуть.
Нет, Необходимость давила меня — меня и стольких других, — как я давлю муравейник. Почему? Кто знает? Потому что я оказался у нее под ногой и равнодушная богиня с повязкой на глазах и с железной хваткой меня не видела.
Миром, который она взвалила мне на плечи, была моя канцелярия.
Я получал сто двадцать пять франков в месяц, и вот что я обязан был делать за эти ежемесячные сто двадцать пять франков.
Я приходил в канцелярию к десяти часам и покидал ее в пять, но летом возвращался туда в семь часов вечера и уходил в десять.
Ради чего была эта дополнительная работа летом, в такие часы, то есть в пору, когда так хорошо было бы дышать чистым загородным воздухом или опьяняющей атмосферой театров?
Сейчас я вам скажу. Нужно было готовить портфель герцога Орлеанского. Этот адъютант Дюмурье при Жемапе и Вальми, этот изгнанник 1792 года, этот преподаватель коллежа в Рейхенау, этот путешественник на мыс Горн, этот принц, друживший с такими людьми, как Фуа, Манюэль, Лаффит и Лафайет, этот король 1830 года, этот изгнанник 1848 года в ту пору звался еще герцогом Орлеанским.
То была счастливая пора его жизни; подобно тому как у меня была моя мечта, у него была своя. Моей мечтой был успех; его мечтой был трон.
Господи, яви милосердие к королю! Господи, ниспошли мир старику! Господи, дай мужу и отцу все родительское и супружеское счастье, какое смогло остаться для него в неисчерпаемых сокровищах твоей доброты!
Увы! В Дрё я видел, как горько плакал этот коронованный отец на могиле сына, который должен был носить корону.
Не правда ли, государь, ваша утраченная корона не стоила вам стольких слез, как ваше мертвое дитя?
Но вернемся к герцогу Орлеанскому и его портфелю.
Этот портфель состоял из дневной почты и вечерних газет; все это надлежало отослать в Нейи.
Портфель отправляли с конным курьером, после чего надо было дождаться ответа.
Работу эту всегда поручали младшему по стажу служащему канцелярии, а так как младшим был я, то она и выпала на мою долю.
На моего товарища Эрнеста была возложена обязанность готовить утренний портфель.
Воскресный портфель мы готовили по очереди.
Итак, однажды вечером, когда я между отправкой и возвращением портфеля решил набросать несколько стихов «Христины», дверь моей комнаты приотворилась, в нее просунулась изящная, завитая белокурая голова и слегка насмешливый голос, звучавший чуть резковато, произнес два односложных слова:
— Ты здесь?
— Да, — ответил я с живостью, — входи!
Я узнал Корделье — Делану, как я, сына старого генерала Республики и, как я, поэта. Почему на жизненном поприще, которое мы прошли вместе, он преуспел меньше, чем я? Я ничего об этом не знаю; он, без сомнения, умен не меньше, чем я, а стихи пишет неоспоримо лучше меня.
По прихоти случая все становится счастьем или несчастьем на этом свете, и только в момент смерти мы узнаем, кто из нас — я или он — был счастлив или несчастлив.
Визит Корделье — Делану обрадовал меня. Как и всех людей, к кому я питал привязанность, я любил его тогда и люблю сегодня, даже еще больше; уверен, что то же чувство испытывает и он ко мне.
Он пришел спросить, не хочу ли я пойти в Атеней послушать какой-то ученый доклад на какую-то тему.
Докладчиком был г-н де Вильнав.
Я знал г-на де Вильнава только по имени, мне было известно, что ему принадлежит высоко оцененный перевод Овидия, что когда-то он был секретарем г-на де Мальзерба и учителем детей г-на маркиза де Шовелена.
В ту пору спектакли и развлечения были для меня редкостью. Все эти двери театров и гостиных, распахнувшиеся позже перед автором «Генриха III» и «Христины», были еще закрыты перед служащим, получающим полторы тысячи ливров в год и ведающим вечерним портфелем г-на герцога Орлеанского. Поэтому я согласился пойти, попросив, однако, Делану вместе со мной подождать возвращения курьера.
А пока Делану прочел мне только что сочиненную им оду, приготовленную к заседанию Атенея.
Курьер возвратился; я был свободен, и мы направились на улицу Валуа. Сказать вам, в каком месте улицы Валуа Атеней проводил свои заседания, я сейчас ни за что не смог бы; по-моему, это был единственный раз, когда я туда пошел. Я всегда не очень-то любил эти собрания, где один говорит, а все слушают. Надо, чтобы предмет, о котором идет речь, был очень интересным или совсем неизвестным; надо, чтобы слог того, кто говорит о нем, был весьма красноречив и весьма живописен, — тогда еще я смогу найти нечто привлекательное в подобных выступлениях без борьбы мнений, когда противоречить считается неприличным, а критиковать — неучтивым.
Я никогда не мог дослушать до конца ни одного оратора или проповедника. В их речи всегда есть какой-то угол, который я задеваю, и моя мысль вынуждена сделать остановку, в то время как оратор продолжает говорить. После этого я, вполне естественно, рассматриваю предмет уже со своей точки зрения и тихонько начинаю произносить свою речь или свою проповедь, в то время как говорящий делает это громко. И в конце пути мы часто оказываемся в ста льё друг от друга, хотя отправились из одной точки.
То же происходит с театральными пьесами: если только я присутствую не на первом представлении пьесы, написанной для Арналя, для Грассо или для Равеля, — то есть одного из тех сочинений, которые полностью выходят за пределы моих возможностей (я чистосердечно признаю свое бессилие создавать такие), — то я самый скверный на свете зритель премьер. Раз сюжет пьесы вымышлен, то, как только персонажи появились, они уже принадлежат не автору, а мне. В первом же антракте я завладеваю ими, присваиваю их себе. Вместо того неведомого, что мне предстоит узнать о них в оставшихся четырех актах, я ввожу этих героев в четыре акта, сочиненные мною, использую их характеры, их своеобразие; если антракт длится всего десять минут, мне этого более чем достаточно, чтобы построить для них карточный замок, куда я их увлекаю, и это уже мой карточный замок точно так же, как моя речь или моя проповедь, о которых я только что говорил. Мой карточный замок почти никогда не бывает таким же, как у автора; в результате, поскольку я создал действие из своего вымысла, то представление на сцене кажется мне вымыслом, и я готов его оспаривать, говоря: «Но это же не так, господин Артюр; но это же не так, мадемуазель Онорина. Вы ходите чересчур быстро или чересчур медленно; вы поворачиваетесь направо, вместо того чтобы повернуться налево; вы говорите „да“, когда должны сказать „нет“. О! Да это невыносимо».
С историческими пьесами еще хуже! Я, разумеется, присочиняю к названию полностью готовую пьесу, и поскольку она, естественно, придумана с присущими мне недостатками — избытком деталей, строгостью характеров, двойной, тройной, четверной интригой, — то очень редко бывает, что моя пьеса хоть в малейшей степени похожа на ту, которую показывают. Проще говоря, для меня становится пыткой то, что для других служит развлечением.
Итак, мои собратья предупреждены: если они станут приглашать меня на свои премьеры, то знают, на каких условиях.
Я поступил в тот вечер с г-ном де Вильнавом так же, как поступаю со всеми; однако, так как я явился, когда он произнес три четверти своей речи, то стал разглядывать докладчика, вместо того чтобы его слушать.
В ту пору это был высокий старик шестидесяти четырех или шестидесяти пяти лет, с красивыми, чистого серебра волосами, бледным лицом и живыми черными глазами; в его одежде была изысканная рассеянность, присущая труженикам, одевающимся всего лишь раз или два в неделю, а остальное время пребывающим в пыли своего кабинета, облачась в старые панталоны, что служат одновременно чулками, старый халат и старые туфли. Готовить им туалет Для торжественных дней: плоеную рубашку с мелкими складочками, жабо, отглаженный галстук — обязанность жены, дочери, наконец, домоправительницы. Отсюда своеобразный протест, выражаемый этим хорошо выколоченным, хорошо вычищенным костюмом по отношению к костюму ежедневному, ежечасному, испытывающему ужас перед камышовой выбивалкой и жесткой щеткой.
На г-не де Вильнаве был синий фрак с золочеными пуговицами, черные панталоны, белый жилет и белый галстук.
Как странна все-таки механика мысли, этих умственных колесиков, что движутся или останавливаются вопреки нашему желанию, ибо рука Господа заводит эти часы, вызванивающие по своей прихоти время прошлого, а иногда и время будущего!
Что заставило остановиться мою мысль при виде г-на де Вильнава? Был ли это, как я только что говорил, какой-то угол, который он задел, какой-то поворот его речи? Нет, это был поворот его жизни.
Я читал когда-то — где, я уже не помню — брошюру г-на де Вильнава, опубликованную в 1794 году и озаглавленную: «Отчет о путешествии ста тридцати двух жителей Нанта».
Вот за этот эпизод жизни г-на де Вильнава зацепилась моя мысль, когда я впервые его увидел.
Дело в том, что г-н де Вильнав жил в Нанте в 1793 году, то есть одновременно с кровавой памяти Жаном Батистом Каррье.
Там он видел, как проконсул, считающий суды слишком долгими, а гильотину слишком медлительной, отменил судебные заседания (впрочем, бесполезные, ибо они никогда не спасали обвиняемого) и заменил гильотину судами с затычками в трюме; возможно, это было на набережной Луары, когда 15 ноября 1793 года Каррье, в качестве первого опыта своих республиканских купаний и своей вертикальной ссылки (такие названия получил изобретенный им новый вид казни), велел посадить на корабль девяносто четыре священника под предлогом отправки их на Бель-Иль; возможно, это было на берегу реки, когда ужаснувшиеся волны выбросили на берег трупы девяноста четырех человек, принадлежавших Богу; может быть, тогда он возмутился этим деянием, которое, возобновляясь каждую ночь, через некоторое время настолько испортило речную воду, что ее запрещено было пить; может быть, будучи еще более неосторожным, он помог похоронить какую-нибудь из этих первых жертв, а за ними должны были последовать другие, — короче, случилось так, что однажды утром г-н де Вильнав был арестован, брошен в тюрьму и обречен, подобно своим товарищам, внести свою долю в порчу реки. В это время Каррье передумал: он отобрал сто тридцать два заключенных — все они были приговорены — и решил препроводить их в Париж как знак почтения провинциальных эшафотов к столичной гильотине; затем, после их отправки, Каррье снова передумал: знак почтения, несомненно, показался ему недостаточным, и он послал капитану Буссару, командовавшему конвоем, приказ расстрелять этих сто тридцать два заключенных по прибытии в Ансени.
Буссар был честным человеком; он не сделал этого и продолжал свой путь в Париж.
Узнав об этом, Каррье послал члену Конвента Генцу, проконсулу в Анже, приказ арестовать Буссара при проходе через город, а сто тридцать два жителя Нанта бросить в воду.
Буссара Генц велел арестовать; но когда дело коснулось того, чтобы утопить сто тридцать два человека, то броня его революционного сердца, которая не была, по-видимому, тройной, расплавилась, и он приказал жертвам продолжать путь в Париж.
Это заставило Каррье, презрительно покачав головой, сказать: «Неважный из него потопитель, из этого Генца, неважный потопитель!»
Итак, заключенные продолжали свой путь. Из ста тридцати двух человек тридцать шесть погибли, не дойдя до Парижа, а девяносто шесть прибыли, к счастью для себя, как раз вовремя, чтобы выступить свидетелями на процессе Каррье, а не оказаться обвиняемыми на своем собственном процессе.
Дело в том, что наступило 9 термидора; дело в том, что занялась заря возмездия; дело в том, что для судей настал черед быть судимыми и Конвент после месячного колебания предъявил обвинение великому потопителю.
Из всего сказанного следует, что при воспоминании об этой брошюре, опубликованной г-ном де Вильнавом тридцать четыре года назад, когда он находился в тюрьме, я восстановил всю цепь прошлого; то, что я сейчас видел и слышал, не было уже литературным докладом профессора из Атенея; нет, это было страшное, горячее, смертельное обвинение, бросаемое слабым сильному, бросаемое обвиняемым судье, бросаемое жертвой палачу.
И такова сила воображения, что всё — зал, зрители, трибуна — изменилось: зал Атенея стал залом Конвента; мирные слушатели превратились в яростных мстителей, и вместо медоточивых периодов красноречивого профессора гремело общественное обвинение, требуя смерти и сожалея, что у Каррье только одна жизнь и ее недостаточно, чтобы заплатить за пятнадцать тысяч прерванных им жизней.
И я увидел Каррье с его мрачным взглядом, полным угроз обвинителю, я услышал, как он своим пронзительным голосом кричит бывшим коллегам: «Почему упрекают меня сегодня за то, что вы мне приказывали вчера? Ведь, обвиняя меня, Конвент обвиняет себя; приговор мне — это приговор всем вам, подумайте об этом. Все вы подвергнетесь той же каре, к какой приговорят меня. Если я виновен, то виновно всё здесь; да, всё, всё, всё, вплоть до колокольчика председателя!..»
Невзирая на эту речь, приступили к голосованию; невзирая на эту речь, он был приговорен. Тот же террор, что рос в Революции, теперь рос в реакции, и гильотина, испив крови осужденных, бесстрастно пила кровь судей и палачей!
Я уронил голову на руки, словно мне претило видеть — сколь бы чудовищным убийцей ни был этот человек, — как обрекают его на смерть, которую он так щедро сеял среди людей.
Делану хлопнул меня по плечу.
— Кончилось, — сказал он.
— Ах! — ответил я. — Так его казнили?
— Кого?
. — Этого омерзительного Каррье.
— Да, да, да, — ответил Делану, — и скоро будет тридцать четыре года, как с ним случилась эта маленькая беда.
— Ах, — сказал я, — как хорошо ты сделал, что разбудил меня! Мне привиделся кошмар.
— Так ты спал?
— По крайней мере, я видел сон.
— Черт возьми! Я не скажу об этом господину де Вильнаву, к которому увожу тебя на чашку чаю.
— Ах, можешь сказать ему, так и быть! Я расскажу ему свой сон, и он вовсе не рассердится.
Вслед за этим Делану, все еще не уверенный, что я более или менее проснулся, увел меня из пустого зала и доставил в небольшую приемную, где г-н де Вильнав выслушивал поздравления друзей.
Там я был сначала представлен г-ну де Вильнаву, затем г-же Мелани Вальдор, его дочери, затем г-ну Теодору де Вильнаву, его сыну.
Потом все направились пешком через мост Искусств к Сен-Жерменскому предместью.
После получаса ходьбы мы оказались на месте и друг за другом вошли в тот дом на улице Вожирар, о котором я говорил в начале этой главы, но тогда я сделал общий набросок его, а теперь попытаюсь описать его внутренний вид.
II. ПАСТЕЛЬ ЛАТУРА
Этот дом имел свой характер, заимствованный у того, кто жил в нем.
Мы уже говорили, что стены его были серыми; следовало бы назвать их черными.
Вход в него был через большие ворота, пробитые в каменной ограде рядом с домом привратника; войдя, вы оказывались в саду без цветочных грядок, изобиловавшем шпалерами без винограда, беседками без тени и деревьями почти без листвы. Если где-то в углу случайно рос цветок, это было какое-нибудь из диких растений, почти стыдящихся показаться в городе; приняв этот темный и влажный уголок у ограды за маленькое необитаемое место, они вырастали там по ошибке, считая себя дальше от человеческого жилья, чем это было в действительности; здесь этот цветок срывало очаровательное розовое дитя с белокурыми кудрявыми волосами — оно казалось херувимом, упавшим с неба и потерянным в этом уголке земли.
Из этого сада, площадью примерно в сорок-пятьдесят квадратных футов, по длинной мощеной полосе, ведущей к дому, мы попали в выстланный плитками коридор.
В этот коридор, в глубине которого находилась лестница, выходили четыре двери: слева — в столовую; справа — в маленькую комнату; затем опять слева — в кухню и справа — в кладовую и буфетную.
Этот нижний этаж, темный и сырой, становился обитаемым только во время завтрака, обеда и ужина.
Настоящее жилище, куда нас ввели, располагалось на втором этаже.
На этом этаже была лестничная площадка, малая гостиная, большая гостиная, спальня г-жи Вальдор и спальня г-жи де Вильнав.
Гостиная была примечательна и своей формой и своей обстановкой.
Она представляла собою продолговатый четырехугольник; в каждом углу его располагались консоль и бюст.
Один из них был бюст г-на де Вильнава.
В глубине, между двумя бюстами, на консоли, напротив камина, стоял предмет искусства и археологии, самый важный в этой гостиной.
Это была бронзовая урна с сердцем Баяра; небольшой барельеф по ее окружности изображал рыцаря без страха и упрека, целующего крест на своем мече. Дальше можно было увидеть две большие картины: портрет Анны Болейн кисти Гольбейна и итальянский пейзаж кисти Клода Лор-рена.
В рамах, висевших напротив этих картин, были, по-моему: в одной — портрет г-жи де Монтеспан, в другой — то ли портрет г-жи де Севинье, то ли г-жи де Гриньян.
Мебель, обитая утрехтским бархатом, предлагала друзьям дома большие кушетки с тонкими белыми ручками, а для посторонних — кресла и стулья.
Этот этаж был особым владением г-жи Вальдор; именно здесь она осуществляла свои обязанности вице-королевы.
Мы говорим «вице-королевы», потому что, хотя отец и отказался от этой гостиной в ее пользу, она была в ней всего лишь вице-королевой; как только туда входил г-н де Вилънав, он брал королевскую власть в свои руки, и с этой минуты бразды разговора принадлежали ему.
У г-на де Вильнава было в характере нечто деспотическое, распространявшееся как на его семью, так и на посторонних. Входя в его дом, вы чувствовали, что становитесь частью собственности этого человека, много видевшего, много изучавшего, наконец, много знавшего. Этот деспотизм, хоть и умерялся учтивостью хозяина дома, оказывал, однако, некое угнетающее воздействие на все общество. Быть может, в присутствии г-на де Вильнава разговор был лучше направлен, как говорили когда-то; но он безусловно был менее свободен, менее занимателен, менее остроумен, чем в отсутствие хозяина.
Совсем наоборот было в гостиной Нодье, где каждый в такой же степени, как сам Нодье, чувствовал себя дома.
По счастью, г-н де Вильнав редко спускался в гостиную. Обыкновенно он оставался у себя, то есть на третьем этаже, и в обычные дни являлся только к обеду, а после него посвящал несколько минут разговору; поморализировав немного с сыном и побранившись немного с женой, он вытягивался в кресле, закрывал глаза и предоставлял дочери закрутить ему папильотки, после чего вновь поднимался к себе.
Эти четверть часа, когда зубья гребня ласково почесывали его голову, были минутами ежедневного блаженства, которое разрешал себе г-н де Вильнав.
«Но почему папильотки?» — спросит читатель.
Прежде всего, это, возможно, был лишь предлог для того, чтобы ему почесали голову.
Кроме того, лицо г-на де Вильнава с резко выраженными чертами (как мы уже сказали, это был старик с великолепной внешностью, а когда-то он, видимо, был очаровательным молодым человеком) чудесно обрамляли волны белых волос, подчеркивая блеск и силу взгляда его больших черных глаз.
И наконец, надо признаться, что при всей своей учености г-н де Вильнав был кокетлив, но кокетлив лишь в отношении своей прически.
Остальное было для него не важно: синий или черный на нем фрак, широки или узки его панталоны, округлы или квадратны носки его сапог — все это было делом его портного, его сапожника, а вернее сказать, его дочери, ведавшей всем этим.
Если он был хорошо причесан — этого ему было достаточно.
Когда его дочь заканчивала сооружение папильоток — операцию, выполняемую неизменно с восьми до девяти часов вечера, — г-н де Вильнав брал свой подсвечник и поднимался к себе.
Вот это «у себя» г-на де Вильнава, это at home 1 англичан мы попытаемся описать, хотя и без надежды в том преуспеть.
Третий этаж, разделенный на несравнимо большее число отсеков, нежели второй, имел площадку, украшенную гипсовыми бюстами, переднюю и четыре комнаты.
Мы не станем называть эти четыре комнаты гостиной, спальней, рабочим кабинетом, туалетной комнатой или еще как-нибудь.
Обо всех этих излишествах у г-на де Вильнава речи не шло: было пять комнат для книг и папок — вот и все.
Уже передняя представляла собой огромный книжный шкаф с двумя проходами; один из них, находившийся справа, вел в спальню г-на де Вильнава; та, в свою очередь, через коридор, шедший вдоль алькова, сообщалась с большим кабинетом, окна которого выходили в соседнее владение; проход слева вел в большую комнату, а из нее был вход в другую, меньшую.
Мало того, что по всем четырем стенам каждой из этих комнат стояли шкафы, набитые книгами и подпираемые цоколями из папок, посередине их были еще воздвигнуты весьма хитроумные сооружения, подобно тому как в центре гостиной ставят какой-нибудь предмет, чтобы все могли сидеть вокруг него. Из-за этого сооружения середина комнаты, представлявшая собой вторую библиотеку внутри первой, оставляла свободным лишь узкий четырехугольный промежуток, где мог беспрепятственно передвигаться только один человек. Второму это было бы уже трудно; поэтому г-н де Вильнав весьма редко впускал кого-нибудь — даже из близких друзей — в эту sanctum sanctorum 2.
Некоторые избранные просовывали голову в дверь и сквозь ученую пыль, что беспрестанно носилась в воздухе, поблескивая под редкими лучами солнца, проникавшими в эту скинию, могли увидеть библиографические тайны г-на де Вильнава, подобно тому как Клодий, переодевшись в женское платье, смог из атриума храма Исиды подсмотреть некоторые тайны Доброй богини.
Ведь здесь находились автографы: один только век Людовика XIV занимал пятьсот папок.
Здесь были бумаги Людовика XVI, переписка Мальзерба, четыреста автографов Вольтера и двести — Руссо. Здесь были генеалогии всех дворянских фамилий Франции со всеми их брачными союзами и со всеми документальными подтверждениями. Здесь были рисунки Рафаэля, Джулио Романо, Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Лебрена, Лесюэра, Давида, Тенирса; здесь были коллекции минералов, редкие гербарии, уникальные рукописи.
Здесь был, наконец, труд пятнадцати лет, посвященных день за днем одной-единственной мысли, поглощенных час за часом одной-единственной страстью — столь сладостной и столь жгучей страстью коллекционера, куда он вкладывает свой ум, свою радость, свое счастье, свою жизнь.
Эти две комнаты были бесценны. И, разумеется, г-н де Вильнав, который столько раз мог ни за что отдать свою жизнь, не отдал бы этих двух комнат и за сто тысяч экю.
Осталось сказать о спальне и темном кабинете, расположенных направо от передней и простиравшихся параллельно двум комнатам, что мы уже описали.
Первым из этих помещений была спальня г-на де Вильнава — спальня, где кровать, разумеется, была наименее заметным предметом, ибо помещалась в алькове, снабженном, в свою очередь, двустворчатой дверью, обшитой панелями.
В этой комнате г-н де Вильнав принимал посетителей, потому что здесь в крайнем случае можно было ходить; потому что здесь в крайнем случае можно было присесть.
Вот каким образом можно было здесь присесть и вот в каком случае можно было здесь ходить.
Старая нянька — я уже не помню ее имени, — приоткрыв дверь комнаты г-на де Вильнава, докладывала ему, что пришел посетитель.
Этот момент всегда застигал г-на де Вильнава погруженным в какую-нибудь сортировку, в задумчивость или в дремоту.
— А? Что такое, Франсуаза? (Предположим, что ее звали Франсуазой.) Боже мой! Неужели я не могу хоть минуту посидеть спокойно?
— Конечно, можете, сударь, — отвечала Франсуаза, — однако, раз уж я пришла…
— Послушайте, говорите скорее, чего вы от меня хотите? Почему это всегда случается в те минуты, когда я больше всего занят?.. Итак?..
И г-н де Вильнав с выражением отчаяния поднимал свои большие глаза к небу, скрещивал руки на груди и покорно вздыхал.
Франсуаза привыкла к этой мизансцене; она предоставляла г-ну де Вильнаву исполнить его пантомиму и произнести его реплику a parte 3. Когда он заканчивал, она говорила:
— Сударь, господин такой-то пришел к вам с кратким визитом.
— Меня нет дома; ступайте.
Франсуаза закрывала дверь не торопясь: она знала свое дело.
— Подождите, Франсуаза, — продолжал г-н де Вильнав.
— Да, сударь?
Франсуаза вновь приоткрывала дверь.
— Вы говорите, что это господин такой-то, Франсуаза?
— Да, сударь.
— Ну что же! Послушайте, впустите его; потом, если он останется слишком надолго, вы придете сказать, что меня спрашивают. Ступайте, Франсуаза.
Франсуаза вновь закрывала дверь.
— Ах, Боже мой, Боже мой, это просто невозможно, — шептал г-н де Вильнав, — ведь я никогда не стану никого беспокоить, так нужно же, чтобы меня постоянно беспокоили.
Франсуаза вновь открывала дверь, впуская посетителя.
— Ах, здравствуйте, друг мой, — говорил г-н де Вильнав, — добро пожаловать, входите, входите. Как давно вас не видно! Но садитесь же.
— На что? — спрашивал посетитель.
— Да на что угодно, черт возьми!.. На канапе.
— Охотно, но…
Господин де Вильнав бросал взгляд на канапе.
— Ах да, вы правы! Оно завалено книгами. Так придвиньте кресло.
— С удовольствием бы, но…
Господин де Вильнав делал обзор своих кресел.
— Да, правда, — говорил он, — но что вы хотите, мой дорогой? Я не знаю, куда девать мои книги. Возьмите стул.
— Я не желал бы лучшего, но…
— Что «но»? Вы спешите?
— Нет, просто я не вижу ни свободного стула, ни свободного кресла.
— Это невероятно, — говорил г-н де Вильнав, воздевая руки к небу, — это невероятно!.. Подождите.
И он, вздыхая, покидал свое место, осторожно, подхватив снизу, снимал книги, мешающие стулу выполнять свое назначение и помещал их на пол, где они напоминали еще одну кучу вырытой кротом земли в дополнение к двадцати или тридцати подобным кучам, покрывавшим пол комнаты; затем он относил этот стул к своему креслу, то есть в угол возле камина.
Я только что рассказал, в каком случае можно было присесть в этой комнате; теперь я расскажу, в каком случае можно было по ней ходить.
Иногда бывало, что в момент, когда посетитель входил и после неизбежного вступления, о котором мы только что сказали, усаживался; иногда бывало, что по какому-то сочетанию двух случайностей дверь алькова и дверь коридора, ведшего в кабинет, расположенный за альковом, были открыты; тогда эта комбинация двух одновременно открытых дверей позволяла увидеть в алькове пастель — на ней была изображена молодая красивая женщина, держащая в руке письмо; пастель оказывалась освещенной лучом дневного света, проникавшим через окно коридора.
И тогда посетитель (если только он был не из тех, кто не ) имел никакого представления об искусстве, хотя редко кто из гостей г-на де Вильнава не был художником в той или иной степени) поднимался со стула, восклицая:
— Ах, сударь, какая восхитительная пастель!
И он делал движение, собираясь перейти от камина к алькову.
— Подождите! — вскрикивал г-н де Вильнав. — Подождите!
В самом деле, оказывалось, что две или три. кротовые кучи, состоявшие из наваленных друг на друга книг, образуют нечто вроде контрэскарпа причудливой формы и его надо преодолеть, чтобы достичь алькова.
Тогда г-н де Вильнав поднимался, шел первым и, подобно опытному саперу в траншее, прокладывал сквозь ряды типографских укреплений ход сообщения, который позволял подойти к пастели, висевшей напротив его кровати.
Оказавшись там, посетитель повторял:
— О, какая восхитительная пастель!
— Да, — отвечал г-н де Вильнав с тем видом придворного былых времен (такой вид я знавал только у него и у двух-трех изящных, как он, стариков), — да, это пастель Латура; на ней изображена одна моя старинная подруга; она уже не молода: насколько я помню, в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году, когда я познакомился с нею, она была старше меня на пять или шесть лет. С тысяча восемьсот второго года мы больше не виделись, что не мешает нам писать друг другу каждую неделю и получать эти еженедельные письма с одинаковым удовольствием; да, вы правы, пастель очаровательна, но оригинал был еще очаровательнее. Ах!..
И луч молодости, мягкий, как солнечный отблеск, пробегал по радостному лицу красавца-старика, помолодевшего в эти минуты на сорок лет.
И очень часто в этом втором случае Франсуазе не было надобности являться со своим ложным сообщением, ибо, если посетитель принадлежал к хорошему обществу, он через несколько мгновений покидал г-на де Вильнава, погрузившегося в задумчивость, вызванную этой прекрасной пастелью Латура.
III. ПИСЬМО
Теперь ответим на вопрос: как собрал г-н де Вильнав эту прекрасную библиотеку?
Как составил он это собрание автографов, уникальное в мире коллекционеров?
Трудом всей своей жизни.
Прежде всего, г-н де Вильнав никогда не сжег ни одной бумажки, не разорвал ни одного письма.
Повестки ученых обществ, приглашения на свадьбы, извещения о похоронах — он все сохранил, все классифицировал, всему определил свое место. Он обладал коллекцией, где можно было найти все что угодно, даже тома, которые были 14 июля, полусожженные, выхвачены из огня, пожиравшего их во дворе Бастилии.
На г-на де Вильнава постоянно работали два искателя автографов: один из них был некто Фонтен (я знал его: он сам был автором книги, озаглавленной «Руководство по автографам»); другой был чиновник военного министерства; все бакалейщики Парижа знали этих двух неутомимых посетителей и откладывали для них всю бумагу, которую покупали. Отобрав в этой бумаге нужное, искатели платили по пятнадцати су за фунт, а г-н де Вильнав платил им тридцать.
Иногда и сам г-н де Вильнав совершал обход. Не было в Париже такого бакалейщика, кто не знал бы его и, едва завидев, не спешил бы представить на его ученое исследование всё, чему предстояло стать пакетами и кульками.
Само собой разумеется, что, выходя в такие дни на поиск автографов, г-н де Вильнав одновременно интересовался и книгами; неутомимый библиофил, он отправлялся на набережные и там, заложив руки в карманы панталон, склонив свою высокую фигуру с красивой умной головой, всю светящуюся страстным интересом, погружал горящий взгляд в самую глубину выставленного товара, обнаруживая там неведомое сокровище, несколько мгновений перелистывал его и, если это была книга, которой он домогался, если издание было тем, которое он искал, то книга покидала лоток торговца — нет, не для того, чтобы занять место в библиотеке г-на де Вильнава: в библиотеке г-на де Вильнава места давно уже не было и требовалось несколько обменов рисунками или автографами, чтобы создать это место, в данный момент отсутствующее, — нет, книге предстояло занять место на чердаке, разгороженном на три отделения: слева — отделение для томов ин-октаво, справа — отделение для томов ин-кварто, посредине — отделение для томов ин-фолио.
Там был первозданный хаос — из него г-н де Вильнав должен будет когда-нибудь создать новый мир, нечто вроде Австралии или Новой Зеландии.
Пока же книги пребывали на полу, сваленные друг на друга, покоясь в полутьме.
Этот чердак был тем преддверием рая, куда заключены души, которые Господь не отсылает ни в рай, ни в ад, ибо имеет по отношению к ним свои намерения.
Однажды злополучный дом без всякой видимой причины вздрогнул до самого фундамента, вскрикнул и дал трещину; его перепуганные обитатели, решив, что происходит землетрясение, бросились в сад.
Все было спокойно и в воздухе и на земле; фонтан продолжал журчать на углу улицы; на верхушке самого высокого дерева распевала птица.
Это был частный случай, происшедший от какой-то тайной, неведомой, непонятной причины.
Послали за архитектором.
Архитектор осмотрел дом, подверг его обстоятельному изучению и в конце концов заявил, что происшествие могло случиться только из-за перегрузки.
Он попросил разрешения осмотреть чердачные помещения.
Но высказанная им просьба встретила сильное сопротивление со стороны г-на де Вильнава.
Откуда проистекало это сопротивление, которому пришлось все же отступить перед твердостью архитектора?
Господин де Вильнав чувствовал: его спрятанному сокровищу, тем более драгоценному, что оно оставалось почти неизвестным для самого обладателя, грозит большая опасность от этого визита.
И действительно, только в среднем отделении чердака оказалось тысяча двести томов ин-фолио, весивших примерно восемь тысяч фунтов.
Увы! Эти тысячу двести томов, что заставили дом покоситься и несли ему угрозу обрушиться, нужно было продать.
Эта скорбная операция состоялась в 1822 году. И в 1826 году, когда я познакомился с г-ном де Вильнавом, он еще не вполне оправился от этой скорби, и не один вздох (ни чем он был вызван, ни кому он был адресован, семья не знала) провожал эти дорогие ин-фолио, собранные им с таким большим трудом и теперь, подобно детям, изгнанным из-под родительского крова, сиротски скитающиеся и разбросанные по свету.
Я уже говорил о том, насколько дом на улице Вожирар был ко мне ласков, добр и гостеприимен — и со стороны г-жи де Вильнав, ибо она была сердечна от природы; и со стороны г-жи Вальдор, ибо, сама поэт, она любила поэтов; и со стороны Теодора де Вильнава, ибо мы с ним были ровесниками и находились в том возрасте, когда испытываешь необходимость отдавать часть своего сердца, получая взамен часть сердца других.
И наконец, со стороны г-на де Вильнава, ибо, не будучи собирателем автографов, я, тем не менее, имея папку военных документов моего отца, обладал достаточно любопытной коллекцией.
В самом деле, поскольку мой отец с 1791 по 1800 год занимал высокие должности в армии и трижды был главнокомандующим, он оказался в переписке со всеми значительными лицами 1791 — 1800 годов.
Наиболее любопытными в этой переписке были автографы генерала Буонапарте. Наполеон недолго сохранял это итальянизированное имя. Через три месяца после 13 вандемьера он офранцуживает свое имя и подписывается «Бонапарт».
Вот в этот короткий период мой отец получил пять или шесть писем от молодого командующего Внутренней армией. Такое звание принял Наполеон после 13 вандемьера.
Я подарил г-ну де Вильнаву один из этих автографов, подкрепленный с флангов автографом Сен-Жоржа и автографом маршала де Ришелье; благодаря этой жертве — она для меня была удовольствием — я получил доступ на третий этаж.
Мало-помалу я стал настолько своим человеком в доме, что Франсуаза уже не докладывала обо мне г-ну де Вильнаву. Я сам поднимался на третий этаж. Я стучал в дверь, открывал ее, услышав «Войдите!», и почти всегда бывал хорошо принят.
Я говорю «почти всегда», потому что у великих страстей есть свои часы бури. Вообразите себе собирателя автографов, который взлелеял мечту о какой-нибудь драгоценной подписи вроде, например, подписи Робеспьера, оставившего их всего три или четыре; Мольера, оставившего их всего одну или две; Шекспира, по-моему, их вообще не оставившего, — и вот в момент, когда наш коллекционер должен заполучить эту уникальную или почти уникальную подпись, она каким-то случаем ускользает от него! Вполне естественно, что он в отчаянии.
Войдите к нему в такую минуту, и, будь вы его отцом, будь вы его братом, будь вы ангелом небесным, вы увидите, как вас примут, — разве что ангел своею божественной властью сотворит эту не существовавшую подпись или разделит надвое этот уникальный автограф.
Вот те исключительные случаи, когда я бывал плохо принят г-ном де Вильнавом. При любых других обстоятельствах я был уверен, что встречу ласковое лицо, обходительный ум и любезную память, даже в будни.
Я говорю «в будни», ибо воскресенье у г-на де Вильнава было выделено для визитеров-ученых.
Все без исключения иностранные библиофилы, все космополитические собиратели автографов, прибывавшие в Париж, непременно наносили визит r-ну де Вильнаву, как вассалы отправляются на поклон к своему сюзерену.
Таким образом, воскресенье становилось днем обменов. Благодаря этим обменам г-н де Вильнав пополнял свои зарубежные коллекции, для которых участия бакалейщиков было недостаточно, и отдавал в немецкие, английские или американские коллекции клочки из своих отечественных богатств.
Итак, я вошел в этот дом; итак, я был принят вначале на втором, а затем и на третьем этаже, где получил позволение являться по воскресеньям; затем, наконец, мне было разрешено приходить когда угодно — привилегия, которую я делил самое большее с двумя или тремя лицами.
И вот однажды в будни — по-моему, это было в среду — я пришел, чтобы попросить г-на де Вильнава позволения изучить автограф королевы Христины (известно, что я люблю представлять себе характер персонажей по почерку); и вот, повторяю, придя с такой целью — было это около пяти часов пополудни, в марте, — я позвонил у двери, спросил г-на де Вильнава; меня впустили.
Когда я уже собирался войти в дом, Франсуаза меня окликнула.
— Что, Франсуаза? — спросил я.
— Вы, сударь, идете к дамам или к хозяину?
— К хозяину, Франсуаза.
— Тогда не будете ли вы так добры, сударь, сэкономить два этажа для моих бедных ног и отдать господину де Вильнаву вот это письмо, которое только что для него принесли?
— Охотно, Франсуаза.
Франсуаза протянула мне письмо; я взял его и поднялся на третий этаж.
Подойдя к двери, я постучал, как обычно, но мне не ответили.
Я постучал немного сильнее.
То же молчание.
Наконец, я постучал в третий раз, теперь уже с некоторым беспокойством, так как ключ был в двери, а это неизменно свидетельствовало о присутствии г-на де Вильнава в комнате.
Тогда я решился открыть дверь и увидел его дремлющим в кресле.
От произведенного мною шума, а может быть, от струи ворвавшегося воздуха, прекратившей какие-то магнетические воздействия, г-н де Вильнав издал нечто вроде вскрика.
— Ах, простите! — сказал я ему. — Тысячу раз простите мою нескромность: я вас обеспокоил.
— Кто вы? Что вам от меня нужно?
— Я Александр Дюма.
— А!
И г-н де Вильнав вздохнул.
— Я действительно в отчаянии, — добавил я, — и ухожу.
— Нет, — сказал г-н де Вильнав, вздохнув и проводя рукою по лбу, — нет, входите.
Я вошел.
— Присядьте.
Случайно один стул оказался свободным; я взял его.
— Вот видите, — сказал он. — О, как это странно! Я задремал. Наступили сумерки, и в это время огонь у меня погашен; вы разбудили меня, я очутился в темноте, не отдавая себе отчета в том, что мой сон был прерван шумом; нет, конечно, это был воздух, проникнувший из двери, но мне показалось, что я вижу, как развевается большая белая ткань, нечто вроде савана. Как это странно, не правда ли? — продолжал г-н де Вильнав, вздрогнув всем телом, точно от холода. — Так это вы, тем лучше!
— Вы говорите мне это, чтобы утешить меня в моей неловкости.
— Нет, в самом деле, я очень рад вас видеть… Что это у вас в руке?
— Ах, простите, я забыл; письмо для вас.
— А, автограф! Чей?
— Нет, это не автограф, это просто-напросто — по крайней мере я так думаю, — письмо.
— Ах вот что, письмо!
— Письмо, пришедшее по почте; Франсуаза поручила мне отнести его вам — вот оно.
— Благодарю вас. Послушайте, будьте добры, протяните руку и дайте мне…
— Что?
— Спичку. В самом деле, я до сих пор словно в оцепенении. Если бы я был суеверен, я поверил бы в предчувствия.
Он взял спичку, что я подал ему, и зажег ее от догоравшего в камине огня.
По мере того как она разгоралась, свет все больше распространялся по комнате, позволяя различать предметы.
— О Господи! — вдруг воскликнул я.
— Что с вами? — спросил меня г-н де Вильнав, зажигая свечу.
— Ах, Боже мой! Ваша прекрасная пастель… что с ней случилось?
— Да, вы видите, — с грустью ответил г-н де Вильнав, — я поставил ее здесь, у камина; я жду стекольщика и багетчика.
— В самом деле, рама сломана и стекло разбито вдребезги.
— Да, — сказал г-н де Вильнав, меланхолически глядя на портрет и забыв о письме, — да, это просто непостижимо.
— Но с ней, значит, что-то случилось?
— Представьте себе, позавчера я работал весь вечер; было уже без четверти двенадцать; я намереваюсь лечь в постель, ставлю свечу на ночной столик и собираюсь просмотреть пробные оттиски миниатюрного издания моего Овидия; тут мой взгляд случайно устремляется на портрет моей бедной подруги. Я, как обычно, кивком пожелал ей доброй ночи; по комнате пробегал небольшой ветерок — без сомнения, окно было приоткрыто, — он колеблет пламя моей свечи, и мне кажется, что портрет отвечает мне «Доброй ночи!» таким же движением головы. Вы понимаете, что я счел это видение нелепостью; но не знаю, как это произошло, — и вот мой ум уже занят только этим, мои глаза не могут оторваться от портрета — еще бы: вы знаете, мой друг, что эта пастель относится к ранним дням моей юности, она вызывает во мне столько разных воспоминаний, — и вот я полностью погружен в воспоминания о поре, когда мне было двадцать пять лет. Я разговариваю с портретом. Моя память отвечает вместо него, а мне кажется, что портрет шевелит губами, что краски лица бледнеют, что на нем появляется выражение печали. В этот миг начинает бить полночь на церкви кармелитов; при этом мрачном колокольном звоне лицо моей бедной подруги становится все более скорбным. Ветер усиливается. При последнем ударе полуночи окно кабинета с силой распахивается. Я слышу что-то похожее на жалобу. Мне кажется, что глаза на портрете закрываются. Гвоздь, державший его, ломается, портрет падает, и моя свеча гаснет.
Я встаю, чтобы зажечь ее, мне ничуть не страшно, но я тем не менее сильно взволнован; к несчастью, я не могу найти спички, время слишком позднее, чтобы позвать прислугу, а сам я не знаю, где они лежат; я закрываю окно кабинета и в темноте снова ложусь в постель.
Все это взволновало и опечалило меня; я чувствовал огромное желание заплакать; мне казалось, что в комнате будто слышится шелест шелкового платья. Несколько раз я спрашивал: «Кто здесь?»
Наконец я заснул, но очень поздно, а проснувшись, нашел мою бедную пастель такой, как вы ее видите.
— О, это странно, — сказал я ему, — а получили вы ваше еженедельное письмо?
— Какое письмо?
— То, которое писал вам оригинал портрета.
— Нет, и это-то меня беспокоит; вот почему я приказал Франсуазе немедленно приносить или присылать с кем-нибудь все письма, приходящие на мое имя.
— А то, которое я принес вам…
— Это не ее манера складывать письмо.
— А!
— Но неважно, — оно из Анже.
— Эта дама жила в Анже?
— Да… Ах, Боже мой! Черная печать. Бедная подруга! Неужели с ней какое-то несчастье?
И г-н де Вильнав, побледнев, распечатал письмо.
При первых же словах, что он прочел, глаза его наполнились слезами.
Он взял другое письмо, обрывавшееся на четвертой строчке и вложенное в первое.
Он поднес это недописанное письмо к губам и протянул мне другое.
— Читайте, — сказал он. Я прочел:
«Сударь,
с личным моим прискорбием, еще более возрастающим от горя, которое испытаете Вы, сообщаю Вам, что г-жа *** скончалась в минувшее воскресенье при последнем ударе полуночи.
За два дня до этого, в то время, когда она писала Вам, она почувствовала недомогание, вначале мы сочли его легким, но оно становилось все тяжелее вплоть до момента ее кончины.
Имею честь отослать Вам — каким бы неполным оно ни было — начатое ею письмо к Вам. Это письмо докажет Вам, что до последней минуты чувства, испытываемые ею к Вам, остались неизменными.
С глубокой печалью, которую Вы, сударь, понимаете, остаюсь всегда покорнейшей Вашею слугой,
Тереза Миран».
Господин де Вильнав следил взглядом за моими глазами, пробегавшими по строчкам.
— В полночь! — сказал он мне. — Вот видите: именно в полночь портрет упал на пол и разбился. Совпадает не только день, совпадают и минуты.
— Да, — ответил я, — это так.
— Значит, вы верите? — воскликнул г-н де Вильнав.
— Разумеется, верю.
— О! Хорошо, тогда приходите как-нибудь, друг мой, когда я буду чуть меньше взволнован; вы придете, не правда ли, и я расскажу вам нечто гораздо более странное.
— Что-то случившееся с вами?
— Нет, но чему я сам был свидетелем.
— Когда это было?
— О, очень давно! Это было в тысяча семьсот семьдесят четвертом году, во времена, когда я был наставником у детей господина де Шовелена.
— И вы говорите…
— Да, обещаю рассказать вам об этом; а сейчас, вы понимаете…
— Понимаю, вам необходимо побыть одному. Я поднялся, собираясь уйти.
— Кстати, — сказал г-н де Вильнав, — скажите по пути дамам, чтобы они обо мне не беспокоились: я не спущусь.
Я кивнул в знак того, что выполню поручение.
Тогда г-н де Вильнав, сделав упор на заднюю ножку кресла, повернул его так, чтобы оказаться лицом к портрету; закрывая дверь, я слышал, как он прошептал:
— Бедная Софи!
А теперь вам предстоит прочесть историю, которую позже рассказал мне г-н де Вильнав.
IV. КОРОЛЕВСКИЙ МЕДИК
Двадцать шестого марта 1774 года король Людовик XV почивал в Версале, в своих голубых покоях; подле его ложа, на складной кровати, спал хирург Ламартиньер.
Башенные часы Большого двора пробили пять часов утра, и во дворце началось движение.
Это было движение мятущихся теней, оберегающих сон государя в этот час, когда он, утомленный бодрствованиями и излишествами, находил с некоторых пор хоть немного сна, купленного чрезмерными бессонницами, а когда их было недостаточно — наркотиками.
Король был уже не молод: ему шел шестьдесят пятый год; он исчерпал до дна удовольствия, наслаждения, восхваления, ему нечего было больше познавать; он скучал.
Лихорадка скуки была худшей из его болезней; острая при г-же де Шатору, она стала перемежающейся при г-же де Помпадур и хронической при г-же Дюбарри.
Тем, кому уже нечего познавать, остается иногда возможность любить; это превосходное средство против болезни, постигшей Людовика XV. Но, пресытившись любовью женщин после того, как он внушил целому народу любовь, доходившую до неистовства, он считал привычку души любить слишком вульгарной, чтобы король Франции мог предаться ей.
Итак, Людовик XV был любим своим народом, своей женой и своими любовницами, но сам он никогда никого не любил.
Тем, кто пресыщен, остается еще одно возбуждающее занятие — страдание. Людовик XV, если не считать двух или трех перенесенных им болезней, никогда не страдал; счастливый смертный, он испытывал лишь нечто вроде предчувствия старости — начинающуюся усталость, которую его врачи объясняли ему как сигнал к отступлению.
Иногда на знаменитых ужинах в Шуази, где вырастали из-под паркета уставленные яствами столы, где прислуживали пажи малых конюшен, где графиня Дюбарри подстрекала Людовика XV пить стакан за стаканом, герцога д'Айена — громко хохотать и маркиза де Шовелена — проявлять эпикурейскую веселость, — Людовик XV с удивлением замечал, что его руке лень поднять стакан, полный искрящейся влаги, которую он так любил; что лицо его отказывается скривиться в неудержимом смехе от острот, появлявшихся порой из уст Жанны Вобернье подобно осенним цветам, окаймляющим ее зрелый возраст; что, наконец, мозг его холоден к обольстительным картинам этой счастливой жизни, какую дают суверенная власть, огромное богатство и отменное здоровье.
Людовик XV вовсе не обладал открытым характером: и радость и печаль он таил в себе; может быть, благодаря этой способности скрывать свои чувства он стал бы великим политиком, если бы, как сам он говорил, у него нашлось на это время.
Едва лишь заметив изменения, что начали в нем совершаться, он, вместо того чтобы примириться с этим и философски вдохнуть первые дуновения старости, которые бороздят чело и серебрят волосы, замкнулся в себе и стал за собой наблюдать.
Самых жизнерадостных людей делает печальными анализ своей радости или страдания; анализ подобен молчанию, возникшему посреди смеха или рыданий.
С тех пор короля видели только скучающим или печальным. Он уже не смеялся над непристойностями г-жи Дюбарри, он уже не улыбался злословию герцога д'Айена, он уже не замирал от дружеской ласки г-на де Шовелена, своего сердечного друга, Ахата королевских эскапад.
Госпожа Дюбарри особенно жаловалась на эту печаль: по отношению лично к ней она перерастала в холодность.
Такая нравственная перемена заставила врачей заявить, что если король еще не болен, то непременно заболеет.
И вот 15 марта первый хирург Ламартиньер, заставив короля решиться на ежемесячный осмотр, рискнул высказать замечания, считая их не терпящими отлагательства.
— Государь, — сказал Ламартиньер, — поскольку ваше
величество больше не пьете, поскольку ваше величество больше не едите, поскольку ваше величество больше не… забавляетесь, что же станете вы делать?
— Разумеется, милый мой Ламартиньер, — ответил король, — то, что сможет меня больше всего развлечь, кроме всего того, о чем вы сказали.
— Дело в том, что я вряд ли сумею предложить вашему величеству что-нибудь новое. Ваше величество воевали; ваше величество пробовали полюбить ученых и художников; ваше величество любили женщин и шампанское. После того как вы отведали славу, лесть, любовь и вино, я заявляю вашему величеству, что тщетно ищу хоть один мускул, хоть одну ткань, хоть один нервный узел, который указал бы мне на существование у вас способности к какому-нибудь новому развлечению.
— А! — откликнулся король. — В самом деле вы так думаете, Ламартиньер?
— Государь, подумайте хорошенько: Сарданапал был очень умным царем, почти таким же умным, как ваше величество, хотя жил примерно за две тысячи восемьсот лет до вас. Он любил жизнь и много занимался тем, чтобы хорошо ее употребить. Насколько мне известно, он тщательно исследовал средства упражнять тело и ум, чтобы открыть наименее известные удовольствия. И все-таки никто из историков не поведал мне, что этот царь сумел найти нечто иное, отличное от найденного вами.
— Конечно, Ламартиньер.
— Я исключаю шампанское, государь, которое Сарданапалу было незнакомо. Его напитками были, наоборот, густые, тяжелые и вязкие вина Малой Азии — это жидкое пламя, сочащееся из мякоти винограда Архипелага; опьянение от них приводит к бешенству, тогда как опьянение от шампанского — всего лишь к безрассудству.
— Это верно, дорогой мой Ламартиньер, это верно; шампанское — прелестное вино, и я его очень любил. Но скажите-ка мне: разве он не кончил тем, что сжег себя на костре, ваш Сарданапал?
— Да, государь; это был единственный вид удовольствия, которого он еще не испробовал; он приберег его на конец.
— И без сомнения, чтобы сделать это удовольствие как можно более сильным, он сжег себя вместе со своим дворцом, своими богатствами и своей фавориткой?
— Да, государь.
— Уж не посоветуете ли вы мне, случайно, милый мой Ламартиньер, сжечь Версаль, а заодно с Версалем сжечь себя самого вместе с госпожой Дюбарри?
— Нет, государь; вы воевали, вы видели пожары, вы сами были под огнем во время канонады при Фонтенуа. Следовательно, пламя не послужило бы для вас новым развлечением. Ну-ка, переберем ваши средства защиты против скуки.
— О Ламартиньер, я совсем обезоружен.
— Прежде всего, у вас есть господин де Шовелен, человек остроумный, человек…
— Шовелен перестал быть остроумным, дорогой мой.
— С каких пор?
— С тех пор как мне скучно, черт возьми!
— Ба! — сказал Ламартиньер, — это все равно как если бы вы сказали, что госпожа Дюбарри перестала быть красивой с тех пор, как…
— С каких пор? — спросил король, слегка краснея.
— О, это понятно, — быстро ответил хирург.
— Итак, — сказал король, вздохнув, — решено, что я заболею.
— Боюсь, что так, государь.
— Тогда лекарство, Ламартиньер, лекарство! Предупредим беду.
— Отдых, государь; иного средства я не знаю.
— Хорошо!
— Диета.
— Хорошо!
— Развлечения.
— Тут я вас остановлю, Ламартиньер.
— Почему?
— Да вы предписываете мне развлечения и не говорите, как должен я развлекаться. Так вот, я считаю вас невежественным, невежественнейшим! Слышите, друг мой?
— И вы не правы, государь. Это ваша ошибка, а не моя.
— Как так?
— Да; незачем развлекать тех, кто скучает, имея другом господина де Шовелена и любовницей госпожу Дюбарри.
Наступило молчание; король, казалось, признал, что слова Ламартиньера не лишены основания. Затем он сказал:
— Ну хорошо! Ламартиньер, друг мой, поскольку мы говорим о болезни, порассуждаем, по крайней мере; вы говорите, что я развлекался всем, что есть на этом свете, не так ли?
— Я это говорю, и это так.
— Войной?
— Черт возьми! Выиграть битву при Фонтенуа!
— О, что касается этого, зрелище было занимательным: люди, разорванные в клочья; пространство в четыре льё длиной и в льё шириной, залитое кровью; запах бойни, возбуждающий сердце.
— И наконец, слава.
— Впрочем, разве это я выиграл битву? Разве не господин маршал Саксонский? Разве не господин герцог де Ришелье? Разве — и прежде всего — не Пекиньи с его четырьмя орудиями?..
— Не важно, а между тем, кому достался триумф? Вам.
— Согласен, и по этой причине вы считаете, что я должен любить славу. Ах, дорогой мой Ламартиньер, — добавил король со вздохом, — если бы вы знали, как плохо я спал накануне Фонтенуа!
— Что ж! Пусть так; перейдем к славе; вы можете, если не хотите сами приобретать ее, заставить создать ее вам при помощи художников, поэтов и историков.
— Ламартиньер, мне ужасны все эти люди: они либо болваны, еще более пошлые, чем мои лакеи, либо исполины гордости, не умещающиеся под триумфальными арками моего прадеда. Особенно Вольтер, этот шут; разве он однажды вечером не хлопнул меня по плечу, назвав Тра-яном? Ему сказали, что он король моего королевства, и негодяй этому верит. Поэтому я не хочу бессмертия, что эти люди могли бы мне дать; за него пришлось бы слишком дорого платить в этом тленном мире, а может быть, и в мире ином.
— В таком случае, чего вы желаете, государь? Скажите.
— Я желаю продлить свою жизнь настолько, насколько смогу. Я желаю, чтобы в жизни этой было как можно больше того, что я люблю; поэтому я не стану обращаться ни к поэтам, ни к философам, ни к военным; нет, Ламартиньер, видишь ли, решительно, кроме Бога, я почитаю только врачей, само собой разумеется, если они хороши.
— Черт возьми!
— Так говорите же со мною откровенно, дорогой Ламартиньер.
— Да, государь.
— Чего мне надо бояться?
— Апоплексического удара.
— От него умирают?
— Да, если вовремя не пустить кровь.
— Ламартиньер, вы больше меня не покинете.
— Это невозможно, государь: у меня есть мои больные.
— Прекрасно! Но мне кажется, что мое здоровье интересует Францию и Европу не меньше, чем здоровье всех ваших больных вместе взятых; вашу кровать будут каждый вечер ставить рядом с моей.
— Государь!..
— Какая вам разница — спать здесь или спать в другом месте? А вы ободрите меня одним вашим присутствием, мой дорогой Ламартиньер, и напугаете болезнь, ибо болезнь знает вас, она знает, что у нее нет более жестокого врага, чем вы.
Вот почему хирург Ламартиньер оказался 26 марта 1774 года на маленькой кровати в голубых покоях Версаля; около пяти часов утра он пребывал в глубоком сне, тогда как король не спал.
Людовик XV, не спавший, как мы только что засвидетельствовали, издал тяжелый вздох; но поскольку вздох имеет лишь то реальное значение, что придает ему вздыхающий, то Ламартиньер, который храпел, вместо того чтобы вздыхать, услышал его (хотя и храпел), но не придал ему — или, скорее, сделал вид, что не придает, — никакого значения.
Король, видя, что его постоянный хирург остается безучастным к этому зову, склонился над краем кровати и при свете толстой восковой свечи, горевшей в мраморной чаше, стал разглядывать своего стража, укрытого от самых пристальных взглядов толстым пушистым одеялом, доходившим до кисточки его ночного колпака.
— Ой! — произнес король. — Ах!
Ламартиньер услышал и это; но междометие может подчас вырваться у спящего человека, и это еще не причина, чтобы другой просыпался.
Поэтому хирург продолжал храпеть.
— Как счастлив он, что может так спать! — пробормотал Людовик XV и добавил: — До чего бесчувственны эти врачи!
Он решил еще подождать и наконец после четвертьчасового бесплодного ожидания произнес:
— Эй, Ламартиньер!
— Ну что, государь? — ворчливо спросил медик его величества.
— Ах, милый Ламартиньер, — повторил король, охая как можно жалобнее.
— Ну что?
И, ворча, как человек, который уверен, что может злоупотреблять своим положением, доктор соизволил вылезти из постели.
Он увидел короля сидящим в кровати.
— Что, государь, вы больны? — спросил врач.
— Думаю, что да, дорогой Ламартиньер, — отвечал его величество.
— О-о! Вы немного взволнованы.
— О, очень взволнован.
— Чем?
— Не знаю.
— А я знаю, — прошептал хирург, — это страх.
— Пощупайте мой пульс, Ламартиньер.
— Я это и делаю.
— Ну?
— Что ж, государь, восемьдесят восемь ударов в минуту — это много для стариков.
— Для стариков, Ламартиньер?
— Несомненно.
— Мне только шестьдесят четыре года, а человек в шестьдесят четыре года еще не стар.
— Он уже и не молод.
— Ну, так что же вы предписываете?
— Прежде всего, что вы чувствуете?
— По-моему, мне немного душно.
— Нет; наоборот, вам холодно.
— Я, наверное, красен?
— Да полно, вы бледны… Один совет, государь.
— Какой?
— Постарайтесь снова уснуть: это будет очень мило с вашей стороны.
— Мне уже не хочется спать.
— Так что же означает это волнение?
— Ну, ты, разумеется, должен это знать, Ламартиньер, иначе не стоило труда становиться врачом.
— Может быть, вы видели дурной сон?
— Ну да.
— Сон! — вскричал Ламартиньер, воздевая руки к небу. — Сон!
— Конечно, — ответил король, — ведь бывают же сны.
— Что ж, так расскажите ваш сон, государь.
— Об этом нельзя рассказать, друг мой.
— Почему это? Обо всем можно рассказать.
— Духовнику — да.
— Тогда пошлите меня скорее за вашим духовником, а я пока унесу свой ланцет.
— Сон иногда бывает тайной.
— Да, и кроме того, он бывает иногда даже укором совести. Вы правы, государь, прощайте.
Доктор стал натягивать чулки и влезать в штаны.
— Ну, Ламартиньер, ну не сердитесь, друг мой. Так вот, мне снилось… мне снилось, что меня везут в Сен-Дени.
— И что экипаж прескверный… Ба! Когда вы будете совершать это путешествие, вы этого не заметите, государь.
— Как ты можешь шутить над подобными вещами? — сказал король, весь дрожа. — Нет, мне снилось, что меня везут в Сен-Дени, что я жив, хотя закутан в саван и лежу в обитом бархатом гробу.
— Вам было неудобно в этом гробу?
— Да, немного.
— Ипохондрия, черная меланхолия, тяжелое пищеварение.
— О, вчера я не ужинал.
— Значит, пустой кишечник.
— Ты так считаешь?
— Я размышляю. В котором часу вчера покинули вы госпожу графиню?
— Я ее уже два дня не видел.
— Вы на нее дуетесь? Черная меланхолия, вы сами видите.
— Да нет! Это она на меня дуется. Я пообещал ей кое-что и не дал.
— Так дайте ей скорее это кое-что и воспряньте духом от радости.
— Нет, я полон печали.
— О! У меня идея.
— Какая?
— Позавтракайте с господином де Шовеленом.
— Завтракать! — воскликнул король. — Это было хорошо в ту пору, когда у меня был аппетит.
— Послушайте! — воскликнул хирург, скрестив руки. — Вам не нужны больше ваши друзья, вам не нужна больше ваша любовница, вам не нужен больше ваш завтрак, и вы думаете, что я это потерплю? Так вот, государь, я вам заявляю, что, если вы измените своим привычкам, вы погибнете.
— Ламартиньер! Мой друг… заставляет меня зевать; моя любовница… меня усыпляет; мой завтрак… меня душит.
— Хорошо! Тогда, решительно, вы больны.
— Ах, Ламартиньер! — воскликнул король, — я так долго был счастлив!
— И вы на это жалуетесь? Вот таковы люди!
— Нет, я жалуюсь не на прошлое, конечно, а на настоящее: когда карета долго катится, она ломается.
И король вздохнул.
— Это правда, она ломается, — наставительно повторил хирург.
— Ломается так, что рессоры отказывают, — вздохнул король, — и я стремлюсь отдохнуть.
— Ну что ж, так спите! — воскликнул Ламартиньер, снова укладываясь в постель.
— Позвольте мне продолжить мою метафору, милый доктор.
— Неужели я ошибался и вы становитесь поэтом, государь? Еще одна скверная болезнь!
— Нет, напротив, ты знаешь, что я ненавижу поэтов. Чтобы доставить удовольствие госпоже де Помпадур, я сделал этого бродягу Вольтера дворянином; но с того дня, когда он позволил себе обратиться ко мне на «ты», называя меня Титом или Траяном — не помню, кем из них, — все это кончилось. Так вот, я хотел безо всякой поэзии сказать, что, по-моему, мне пора остановиться.
— Хотите знать мое мнение, государь?
— Да, друг мой.
— Так вот, вам пора не останавливаться, государь, а отпрягать лошадей.
— Это тяжело, — прошептал Людовик XV.
— Но это так, государь. Когда я говорю с королем, я называю его «ваше величество»; когда я осматриваю моего больного, я не говорю ему даже «сударь». Так что, государь, отпрягайте лошадей, и поскорее. А теперь, когда мы обо всем условились, у нас остается еще полтора часа на сон, государь. Так поспим.
И хирург снова нырнул под одеяло, где пять минут спустя захрапел так по-мужицки, что своды голубого покоя скрежетали от негодования.
V. УТРЕННИЙ ВЫХОД КОРОЛЯ
Король, предоставленный сам себе, даже не пытался прервать упрямого доктора, чей сон, правильный, как часы, длился столько, сколько тот и сказал.
Пробило половину седьмого, когда вошел камердинер. Ламартиньер поднялся и, пока уносили его кровать, прошел в соседний кабинет.
Там он написал распоряжения младшим врачам и исчез.
Король приказал впустить сначала своих слуг, затем знатных вельмож, имеющих право присутствовать при его утреннем выходе.
Он ответил на их приветствия молчаливым поклоном, затем предоставил свои ноги камердинерам; они натянули на них чулки, прикрепили подвязки и облачили короля в утренний халат.
Затем он преклонил колени на молитвенную скамеечку, несколько раз вздохнув среди всеобщего молчания.
Все преклонили колени вслед за королем и молились, как и он, весьма рассеянно.
Король время от времени оборачивался к балюстраде, где обычно толпились самые близкие и самые любимые из его придворных.
— Кого ищет король? — тихонько спрашивали друг друга герцог де Ришелье и герцог д'Айен.
— Не нас, ибо нас он бы нашел, — сказал герцог д'Айен. — Но тише, король встает!
Действительно, Людовик XV закончил свою молитву, а может быть, был так рассеян, что и не произнес ее.
— Я не вижу господина хранителя нашего гардероба, — сказал Людовик XV, оглядываясь вокруг.
— Господина де Шовелена? — спросил герцог де Ришелье.
— Да.
— Но, государь, он здесь.
— Где же?
— Вот, — сказал герцог, оборачиваясь. И вдруг удивленно воскликнул:
— Ну и ну!
— В чем дело?
— Господин де Шовелен еще молится!
В самом деле, маркиз де Шовелен — этот милый язычник, этот веселый участник маленьких королевских кощунств, этот остроумный враг богов вообще и Бога в частности, — оставался коленопреклоненным не только вопреки своей привычке, но и вопреки этикету, даже после того, как король окончил свою молитву.
— Что это, маркиз, — спросил король, улыбаясь, — вы уснули?
Маркиз медленно поднялся, осенил себя крестным знамением и поклонился Людовику XV с глубокой почтительностью.
Все привыкли смеяться, когда хотелось смеяться г-ну де Шовелену; решив, что он шутит, все по привычке рассмеялись, и король вместе со всеми.
Но почти тотчас же Людовик XV принял серьезный вид и сказал:
— Полно! Полно, маркиз; вы знаете, что я не люблю, когда шутят над святыми вещами. Однако, поскольку вы, как я понимаю, хотели немного развеселить меня, я вас прощаю из уважения к намерению; только предупреждаю, что вы напрасно это делаете, ибо я печален, как сама смерть.
— Вы печальны, государь? — спросил герцог д'Айен. — Что же могло опечалить ваше величество?
— Мое здоровье, герцог! Мое здоровье, которое уходит! Я приказал Ламартиньеру спать в моей комнате, чтобы он ободрял меня; но этот сумасшедший, наоборот, старается меня испугать. К счастью, здесь, кажется, расположены смеяться. Не правда ли, Шовелен?
Но вызовы короля оставались безрезультатными. Сам маркиз де Шовелен, чья тонкая насмешливая физиономия так охотно отражала веселый нрав его; маркиз, столь совершенный придворный, никогда не отстававший ни от одного желания короля, — маркиз на этот раз, вместо того чтобы ответить на высказанную Людовиком XV потребность в каком-нибудь хотя бы легком развлечении, оставался мрачным, строгим, полностью погруженным в необъяснимую серьезность.
Кое-кто — настолько подобная грусть не соответствовала привычкам г-на де Шовелена — кое-кто, говорим мы, подумал, что маркиз продолжает свою шутку и что эта серьезность завершится сверкающим фейерверком веселья; но у короля в это утро не было терпения ждать, и он стал пробивать брешь в грусти своего фаворита.
— Да что за черт вселился в вас, Шовелен? — спросил Людовик XV. — Вы решили стать продолжением моего сегодняшнего сна? Вы тоже хотите, чтобы вас хоронили?
— О!.. Неужели ваше величество думали об этих ужасных вещах? — спросил Ришелье.
— Да, у меня был кошмар, герцог. Но, по правде говоря, то, что я перенес во сне, я предпочел бы не встретить наяву. Да послушайте же, Шовелен, что с вами?
Маркиз молча поклонился.
— Говорите, да говорите же, я этого желаю! — воскликнул король.
— Государь, — ответил маркиз, — я размышляю.
— О чем? — спросил удивленный Людовик XV.
— О Боге, государь!
— О Боге?
— Да, государь. Бог — начало мудрости.
Это вступление, столь холодное и столь монашеское, заставило короля вздрогнуть; устремив на маркиза более внимательный взгляд, он увидел в его усталых, постаревших чертах вероятную причину этой необычной грусти.
— Начало мудрости, — сказал он. — Ах, в самом деле, я уже не удивлюсь, если это начало никогда не будет иметь продолжения; это слишком скучно. Но вы размышляете не об одном только Боге. О чем еще вы размышляете?
— О моей жене и моих детях: я давно не видел их, государь.
— Ах да, правда, Шовелен, вы женаты, у вас есть дети, я об этом забыл; да и вы, мне кажется, тоже, ибо за те пятнадцать лет, что мы ежедневно видимся, вы впервые мне об этом говорите. Что ж, если вас обуяла страсть к семейному очагу, вызовите их сюда, я не возражаю; ваше помещение во дворце, по-моему, достаточно велико.
— Государь, — ответил маркиз, — госпожа де Шовелен живет весьма уединенно, она очень набожна, и…
— И она, не правда ли, была бы смущена образом жизни Версаля? Я понимаю, она вроде моей дочери Луизы, которую я никак не могу вытащить из аббатства Сен — Дени. Так что я не вижу средства помочь, мой дорогой маркиз.
— Я прошу прощения у вашего величества; одно средство есть.
— Какое же?
— Сегодня вечером истекают очередные три месяца моей службы; если бы ваше величество разрешили мне поехать в Гробуа, чтобы провести несколько дней с семьей…
— Вы шутите, маркиз: покинуть меня!
— Я вернусь, государь; но я не хотел бы умереть, не сделав некоторых завещательных распоряжений.
— Умереть! Черт бы вас побрал! Умереть! Как легко вы это говорите! Сколько же вам лет, маркиз?
— Государь, я на десять лет моложе вашего величества, хотя и кажусь на десять лет старше вас.
Людовик повернулся спиной к своенравному придворному и обратился к герцогу де Куаньи, стоявшему рядом с королевским возвышением:
— А, вот и вы, господин герцог; вы очень кстати; на днях о вас шел разговор за ужином. Правда ли, что вы приютили в моем замке Шуази этого беднягу Жанти-Бернара? Если так, то это доброе дело и я вас хвалю. Однако если все смотрители моих замков будут поступать так же, подбирая сошедших с ума поэтов, мне останется только переселиться в Бисетр. Как чувствует себя этот несчастный?
— По-прежнему довольно скверно, государь.
— Как же это с ним случилось?
— Из-за того, государь, что когда-то он немного злоупотреблял развлечениями, и прежде всего из-за того, что еще совсем недавно он хотел разыгрывать из себя молодого человека.
— Да, да, я понимаю. Конечно! Ведь он очень стар.
— Всеподданнейше прошу прощения, государь; но он лишь на год старше вашего величества.
— Это в самом деле невыносимо, — сказал король, поворачиваясь спиной к герцогу де Куаньи, — они сегодня не только печальны, как катафалки, но еще и глупы, как гуси.
Герцог д'Айен, один из остроумнейших людей этого столь остроумного времени, уловил растущее дурное настроение короля; опасаясь быть задетым осколками при взрыве, он решил как можно скорее положить этому настроению конец и сделал два шага вперед, чтобы оказаться на виду. Его камзол, подвязки, все края одежды были украшены широким и блестящим золотым шитьем, которое не могло не приковать взоров. В самом деле, монарх его увидел.
— Честное слово, герцог д'Айен, — воскликнул он, — вы сияете, как солнце! Вы что, ограбили почтовую карету? Я думал, что все вышивальщики Парижа разорились после свадьбы графа Прованского, когда никто из придворных не заплатил им, а господа принцы сочли за благо не явиться на свадьбу несомненно из-за отсутствия денег или кредита.
— Следовательно, они разорены, государь.
— Кто — принцы, вышивальщики или придворные?
— Я думаю, все понемногу; однако вышивальщики более ловки, они из этого выпутаются.
— Каким образом?
— С помощью нового изобретения; вот оно. И герцог показал на свое шитье.
— Я не понимаю.
— Да, государь; платье с таким шитьем называется «под канцлершу».
— Я понимаю еще меньше.
— Можно было бы сделать эту загадку понятной для вашего величества, процитировав стихи, сочиненные парижскими зеваками, но я не осмеливаюсь.
— Вы не осмеливаетесь! Вы, герцог?! — сказал, улыбаясь, король.
— Честное слово, не осмеливаюсь, государь; я жду королевского приказания.
— Я вам его даю.
— Но пусть ваше величество не забудет, что я всего лишь повинуюсь. Итак, вот эти стихи:
Ткут нынче галуны особенного рода — Для важных дней, и их «под канцлершу» зовут. Названье странно вам? Но нет загадки тут: Фальшивы, как она, и не краснеют сроду.
Придворные переглянулись, удивленные подобной дерзостью, и все одновременно повернулись к Людовику XV, чтобы воспроизвести на своих физиономиях выражение его лица. Канцлер Мопу, находившийся тогда в величайшей милости, поддерживаемый фавориткой, был слишком высокой особой, чтобы кто-то мог позволить себе выслушивать эпиграммы, беспрестанно сыпавшиеся на него. Монарх улыбнулся — тотчас на всех устах появились улыбки. Он ничего не сказал в ответ — никто не произнес ни слова.
У Людовика XV была странная склонность. Он ужасно боялся смерти, не любил, чтобы ему говорили о его собственной кончине, но при любом удобном случае находил какую-то радость в том, чтобы насмехаться над присущей почти всем людям слабостью скрывать свой возраст, свою старость или свои немощи. Он охотно говорил какому-нибудь придворному:
— Вы стары, вы плохо выглядите, вы скоро умрете. Он сделал из этого нечто вроде философии, и даже в этот день, получив два жестоких поражения, он рискнул потерпеть третье.
Решив возобновить прерванный разговор с герцогом д'Айеном, он спросил его довольно резко:
— Как поживает шевалье де Ноай? Правда, что он болен?
— Государь, вчера мы, к несчастью, лишились его.
— А! Я ему это предсказывал.
Затем, оглядев круг придворных, увеличившийся за счет лиц, допущенных к малому утреннему выходу, он заметил аббата де Брольо, человека злобного и грубого, и обратился к нему с такими словами:
— Теперь ваша очередь, аббат. Вы ровно на два дня моложе его.
— Государь, — ответил г-н де Брольо, бледный от бешенства, — вчера ваше величество были на охоте. Разразилась гроза. Король промок вместе с остальными.
И, расталкивая стоявших рядом, он в ярости вышел. Король проводил его довольно грустным взглядом и добавил:
— Вот какой он, этот аббат де Брольо: вечно сердится! Потом, заметив у двери своего врача Боннара и рядом с ним Борде, которому покровительствовала г-жа Дюбарри и который мечтал заменить Боннара, он подозвал обоих.
— Подойдите, господа; сегодня утром здесь говорят только о смерти, это по вашей части. Кто из вас отыщет нам источник молодости? Это было бы настоящим чудом, и я обещаю нашедшему, что его будущее будет обеспечено. Не вы ли, Борде? Хотя я понимаю, что вы, Эскулап при дворе Венеры, еще не думали о подобном омоложении.
— Я прошу прощения у вашего величества; напротив, у меня есть система: она должна нас вернуть к той прекрасной поре истории…
— К поре мифологии, — перебил Боннар с недовольной миной.
— Вы так думаете, — продолжал король, — вы так думаете, мой милый Боннар? Дело в том, что под вашим руководством моя молодость уже стала мифом, и весьма горестным, и тот, кто сегодня омолодил бы меня, сразу стал бы историографом Франции, ибо он начертал бы прекраснейшие страницы моего царствования. Предпримите же это лечение, Борде, достойное того, чтобы завершиться большой славой. А пока что пощупайте пульс у господина де Шовелена, который так бледен и печален. И сообщите мне ваше мнение о его здоровье, весьма драгоценном для наших удовольствий. И для моего сердца, — поспешно добавил он.
Шовелен горько улыбнулся, протягивая руку.
— Которому из вас двоих, господа? — спросил он.
— Обоим, — сказал Людовик XV, смеясь, — только не Ламартиньеру; этот человек способен предсказать вам апоплексический удар, как мне. — Ну, пусть вам, господин Боннар: сначала вы — прошлое; потом господин Борде — будущее. Каково ваше мнение?
— Господин маркиз сильно болен: переполнение и закупорка сосудов мозга; он хорошо сделал бы, согласившись на кровопускание, и как можно скорее.
— А вы, господин Борде?
— Я приношу извинения моему ученому собрату; но я не могу присоединиться к его мнению. У господина маркиза нервический пульс. Если бы я говорил с красивой женщиной, я сказал бы, что у нее ипохондрия. Нужно веселье, отдых, никаких терзаний, никаких дел, полная удовлетворенность — словом, все, что он находит вблизи августейшего монарха, другом которого имеет честь быть. Я предписываю продолжение прежнего режима.
— Вот две восхитительные консультации, и как должен быть просвещен после этого господин де Шовелен! Мой милый маркиз, если вы в конце концов умрете, Борде обесчещен.
— Никоим образом, государь: ипохондрия убивает, когда ее не лечат.
— Государь, если я умру, — ответил г-н де Шовелен, — то прошу Бога, чтобы произошло это у ваших ног.
— Ни в коем случае, ты меня страшно перепугаешь. Но не пора ли идти к мессе? Кажется, я вижу господина епископа Сенезского и господина кюре церкви святого Людовика. Ну, хоть теперь я получу немного удовольствия… Здравствуйте, господин кюре; как поживает ваша паства? Много ли больных, бедных?
— Увы, государь! Их много.
— А подаяния не щедры? Хлеб вздорожал? Число несчастных возросло?
— Ах да, государь!
— Почему это происходит? Откуда они берутся?
— Государь, дело в том, что даже выездные лакеи вашего дома просят меня о милостыне.
— Охотно верю, ведь им не платят. Слышите, господин де Ришелье? Разве нельзя навести в этом порядок? Какого черта! Ведь вы который год первый дворянин королевских покоев!
— Государь, выездные лакеи находятся не в моем ведении; это касается службы генерального интендантства.
— А интендантство отошлет их к кому-нибудь другому. Бедняги! — взволновался на мгновение король. — Но в конце концов не могу же я делать все! Вы пойдете с нами к мессе, господин епископ? — добавил он, повернувшись к аббату де Бове, епископу Сенезскому, проповедовавшему при дворе во время Великого поста.
— Я в распоряжении вашего величества, — ответил, кланяясь, епископ, — но я слышал здесь очень важные слова. Говорят о смерти, и никто не думает о ней; никто не думает, что она придет в свой час, когда человек ее не ждет, что она застигает нас посреди удовольствий, что она поражает великих и малых своею неумолимой косой. Никто не думает о том, что настает возраст, когда раскаяние становится столь же необходимостью, сколь долгом, когда огни вожделения должны угаснуть перед великой мыслью о спасении.
— Ришелье, — улыбаясь, перебил король, — мне кажется, что господин епископ бросает камешки в ваш огород.
— Да, государь, и бросает их с такой силой, что они долетают до версальского парка.
— О, хороший ответ, господин герцог! Вы по-прежнему умеете быстро ответить, как и в ваши двадцать лет… Господин епископ, эта речь хорошо начата, мы продолжим ее в воскресенье в часовне; я обещаю послушать вас… Шовелен, чтобы вас развеселить, мы избавляем вас от необходимости следовать за нами. Ступайте и ждите меня у графини, — тихо добавил он. — Она получила свое знаменитое золотое зеркало, шедевр Ротье. Это стоит увидеть.
— Государь, я предпочитаю отправиться в Гробуа.
— Опять! Вы говорите вздор, мой милый, ступайте к графине, она вас расколдует. Господа, к мессе! К мессе! Этот день начинается очень плохо. Вот что значит старость!
VI. ЗЕРКАЛО ГОСПОЖИ ДЮБАРРИ
Маркиз, повинуясь королю, как ни отвратительна была ему эта покорность, отправился к фаворитке.
Графиня пребывала в состоянии чрезвычайной радости; она танцевала, как дитя; когда доложили о г-не маркизе де Шовелене, она побежала к нему навстречу и, не дав ему выговорить ни слова, воскликнула:
— О дорогой маркиз, дорогой маркиз! Как вы кстати! Я сегодня счастливее всех на свете! У меня было самое очаровательное пробуждение, какое только может быть! Во-первых, Ретье прислал мне мое зеркало; вы, конечно, пришли посмотреть на него, но надо подождать короля. Потом — ибо большие радости приходят всегда вместе — прибыла знаменитая карета, вы знаете, та, что подарил мне господин д'Эгильон.
— Ах да, — сказал маркиз, — карета-визави, о которой повсюду говорят. Этим она обязана вам, сударыня.
— О, я хорошо знаю, что об этом говорят, Боже мой! Я знаю даже, что именно говорят.
— Поистине, вы знаете все!
— Да, почти; но я, вы понимаете, над этим смеюсь! Взгляните, вот стихи — я нашла их сегодня утром в обивке визави. Я могла велеть арестовать бедного шорника, но полно, такие вещи хороши были для госпожи де Помпадур, а я сегодня слишком довольна, чтобы мстить. Впрочем, стихи, мне кажется, неплохи, и если бы меня всегда так называли, честное слово, я бы не жаловалась.
Она протянула листок г-ну де Шовелену. Он взял его и прочел:
«Что за карета! Как блестит! Она, наверно, для богини Или для юной герцогини?» — Дивясь, зевака говорит. В ответ насмешки слышит он, Ему кричат: «Да что ты, право? Для прачки новую забаву Купил бесчестный д'Эгильон!»
Беззаботная куртизанка громко расхохоталась; потом она вновь заговорила:
— «Бесчестный д'Эгильон», вы слышите, «прачка»! Ах, по правде говоря, автор прав, и это не слишком сильно сказано; действительно, без меня бедный герцог, несмотря на муку, которой он выпачкался в битве при… — я никогда не знаю названий битв, — без меня бедный герцог остался бы страшно очерненным. Ну что ж, мне все равно; как говорил со своим итальянским акцентом мой предшественник господин де Мазарини, «они смеются — значит, будут платить»; а одна филенка моей визави стоит больше, чем все эпиграммы, сочиненные по моему адресу за четыре года. Сейчас я вам покажу карету. Идите за мной, маркиз. И графиня, забыв о том, что она уже не Жанна Вобернье, забыв о возрасте маркиза, сбежала, напевая, по ступенькам потайной лестницы, ведущей на маленький двор, где находились ее каретные сараи.
— Посмотрите, — сказала она совсем запыхавшемуся маркизу, — достаточно это прилично для экипажа прачки?
Маркиз остановился: он был поражен. Ему не приходилось видеть ничего более великолепного и одновременно более изящного. На четырех главных филенках красовался герб рода Дюбарри со знаменитым боевым кличем: «Стойкие, вперед!» На каждой из боковых филенок повторялось изображение корзины, украшенной ложем из роз, на котором нежно целовались два голубка; все было покрыто лаком Мартена, чей секрет теперь уже утрачен.
Карета стоила пятьдесят шесть тысяч ливров.
— Король видел этот великолепный подарок, госпожа графиня? — спросил маркиз де Шовелен.
— Еще нет, но в одном я уверена.
— В чем же вы уверены? Скажите.
— В том, что он будет очарован.
— Э-э!..
— Что за «э-э!»?
— Я в этом сомневаюсь.
— Вы сомневаетесь?
— И даже держу пари, что король не позволит вам его принять.
— Почему же?
— Потому что вы не сможете им пользоваться.
— Вот как? В самом деле? — спросила она с иронией, — Вас пугает такой пустяк?
— Да.
— Вы еще не то увидите! И золотое зеркало тоже! А вот этого, — добавила она, вынимая из кармана какую-то бумагу, — вот этого вы не увидите.
— Как вам будет угодно, сударыня, — ответил маркиз, кланяясь.
— Однако вы после этой старой обезьяны Ришелье самый старый друг короля; вы хорошо его знаете; он вас слушает; вы могли бы мне помочь, если бы захотели, и тогда… Вернемся в мой кабинет, маркиз.
— К вашим услугам, сударыня.
— Вы сегодня очень угрюмы. Что с вами?
— Я печален, сударыня.
— А! Тем хуже… Это глупо!
И г-жа Дюбарри, указывая маркизу дорогу, стала подниматься более степенным шагом по той потайной лестнице, с которой только что легко спорхнула, распевая, как птичка.
Она вернулась в свой кабинет, г-н де Шовелен шел за нею; затем она закрыла дверь и, быстро обернувшись к маркизу, сказала:
— Послушайте, вы любите меня, Шовелен?
— Вы не можете сомневаться в моем уважении и в моей преданности, сударыня.
— Вы стали бы служить мне против всех?
— Исключая короля.
— И в любом случае, если вы не одобрите то, что узнаете, вы останетесь нейтральным?
— Обещаю, если вы этого требуете.
— Ваше слово?
— Слово Шовелена!
— Тогда читайте.
И графиня протянула ему бумагу, самую необычную, самую смелую, самую забавную из всех, что когда-либо поражали взгляд дворянина. Маркиз сначала даже не мог понять ее смысла.
Это была адресованная папе просьба о расторжении брака графини с графом Дюбарри под тем предлогом, что она была любовницей его брата, а поскольку каноны религии запрещают какой бы то ни было союз в подобных случаях, то брак этот крайне необходимо признать недействительным; графиня добавляла: когда ее тотчас после брачного благословения предупредили, что она собирается совершить святотатство, о чем она до тех пор не догадывалась, ее охватил страх, и брак фактически не имел места.
Маркиз дважды перечитал это прошение и, возвращая его фаворитке, спросил, что она собирается с ним делать.
— По всей видимости, отослать, — ответила та со своим обычным бесстыдством.
— Куда?
— По адресу.
— Папе?
— Папе.
— И затем?
— Вы не догадываетесь?
— Нет.
— Боже мой, до чего вы сегодня непонятливы!
— Возможно; но так или иначе я не догадываюсь.
— Значит, вы подумали, что я покровительствовала госпоже де Монтессон, не имея своей цели? Значит, вы забыли о великом дофине и мадемуазель Шуэн, о Людовике Четырнадцатом и госпоже де Ментенон? Целыми днями призывают короля подражать своему прославленному предку. Так что им нечего будет сказать. Я, кажется, вполне стою вдовы Скаррона; и, кроме того, мне не шестьдесят лет.
— О сударыня, сударыня, что я слышу? — сказал г-н де Шовелен, бледнея и делая шаг назад.
В эту минуту дверь отворилась и Замор возвестил:
— Король.
— Король! — воскликнула г-жа Дюбарри, схватив г-на де Шовелена за руку, — это король, ни слова. Мы вернемся к этой теме как-нибудь в другой раз.
Вошел король.
Взгляд его устремился прежде всего на г-жу Дюбарри, однако первые слова обращены были к маркизу.
— Ах, Шовелен, Шовелен! — воскликнул король, пораженный тем, как изменились черты маркиза, — да неужели вы вправду хотите умереть? У вас действительно вид призрака, друг мой.
— Умереть! Господину де Шовелену умереть! — вскричала, смеясь, безрассудная молодая женщина. — Да, как бы не так! Я ему это запрещаю. Вы же помните, государь, предсказание, которое ему сделали пять лет назад на Сен-Жерменской ярмарке?
— Какое предсказание? — спросил король.
— Повторить его?
— Конечно.
— Надеюсь, вы не верите предсказаниям, государь.
— Нет; но даже если бы и верил, все равно говорите.
— Так вот, господину де Шовелену нагадали, что он умрет за два месяца до кончины вашего величества.
— И какой глупец предсказал ему это? — с некоторым беспокойством спросил король.
— Весьма искусный колдун, тот самый, что предсказал мне…
— Все это глупости! — перебил король с жестом явного нетерпения. — Пойдемте смотреть зеркало.
— Тогда, государь, надо пройти в соседнюю комнату.
— Идемте.
— Укажите нам дорогу, государь, вы ее знаете, ведь это дорога в спальню вашей покорной слуги.
Король в самом деле знал дорогу; он пошел первым.
Зеркало стояло на туалетном столике, оно было закрыто плотным покрывалом, которое по приказу короля упало, давая возможность любоваться подлинным шедевром, достойным Бенвенуто Челлини. Это зеркало в раме из массивного золота было увенчано двумя рельефными амурами, поддерживающими королевскую корону, и под ней, естественно, оказывалась голова того, кто смотрелся в зеркало.
— Ах, вот это великолепно! — воскликнул король. — Поистине Ротье превзошел самого себя. Я поздравляю его. Графиня, я, разумеется, дарю вам это.
— Вы дарите мне все?
— Разумеется, я дарю вам все.
— И зеркало и раму?
— И зеркало и раму.
— Даже это? — добавила графиня с улыбкой сирены, улыбкой, заставившей маркиза содрогнуться, особенно после того, что он несколько минут назад прочитал.
Графиня показывала на королевскую корону.
— Эту игрушку? — ответил король. Графиня слегка кивнула.
— О, вы можете сколько угодно забавляться ею, графиня; только предупреждаю вас, она тяжела. Но послушайте, Шовелен, неужели вы так и не развеселитесь даже в присутствии графини и в присутствии ее зеркала? А ведь она оказывает вам этим двойную милость, ибо вы видите ее дважды!
Королевский мадригал был вознагражден поцелуем графини.
Маркиз оставался безучастным.
— Что вы думаете об этом зеркале, маркиз? Ну-ка, скажите нам ваше мнение.
— Зачем, государь? — спросил маркиз.
— Затем, что вы человек с хорошим вкусом, черт побери!
— Я предпочел бы его не видеть.
— Вот как! Почему же?
— Потому что тогда, по крайней мере, я мог бы отрицать его существование.
— Что это значит?
— Государь, королевская корона в руках амуров помещена неудачно, — ответил маркиз с глубоким поклоном.
Госпожа Дюбарри побагровела от гнева. Смущенный король сделал вид, что не понял.
— Как так! Наоборот, эти амуры восхитительны, — сказал Людовик XV, — они держат корону с несравненной грацией. Посмотрите на их маленькие ручки, как они округлены; разве не кажется, что они несут гирлянду цветов?
— Это и есть их настоящее занятие, государь: амуры только на это и пригодны.
— Амуры пригодны на все, господин де Шовелен, — сказала графиня, — когда-то вы в этом не сомневались, но в вашем возрасте уже не вспоминают о таких вещах.
— Без сомнения; вспоминать об этом подобает молодым людям вроде меня, — со смехом сказал король. — Ладно, словом, зеркало вам не нравится.
— Не зеркало, государь.
— Но что же тогда? Уж не очаровательное ли лицо, которое в нем отражается? Черт возьми! Вы разборчивы, маркиз!
— Напротив, никто не относится с более истинным почитанием к красоте госпожи графини.
— Но, — нетерпеливо спросила г-жа Дюбарри, — если это не зеркало и не лицо, которое оно отражает, то что же вам не нравится? Скажите!
— Место, где оно находится.
— Наоборот, разве оно не чудесно выглядит на этом туалетном столике, тоже подаренном его величеством?
— Оно лучше выглядело бы в другом месте.
— Да где же? Вы меня просто из терпения выводите, мы никогда вас таким не видели.
— Оно лучше выглядело бы у госпожи дофины, сударыня.
— Как?
— Да, корона с лилиями может венчать лишь голову той, кто была, есть или будет королевой Франции.
Глаза г-жи Дюбарри метали молнии. Король скорчил страшную гримасу. Затем, поднявшись, он сказал:
— Вы правы, маркиз де Шовелен, вы больны, ваш рассудок расстроен. Отправляйтесь отдыхать в Гробуа, раз вам плохо с нами; ступайте, маркиз, ступайте.
Господин де Шовелен вместо ответа поклонился, вышел из кабинета пятясь, как выходил бы из парадных апартаментов Версаля, и, строго соблюдая этикет, запрещающий кланяться кому бы то ни было в присутствии короля, скрылся, даже не взглянув на графиню.
Графиня кусала ногти от ярости; король попытался ее успокоить.
— Бедный Шовелен, — сказал он, — ему, наверно, приснился такой же сон, как и мне. И в самом деле, все эти вольнодумцы гибнут от первого же удара, когда черный ангел коснется их своим крылом. Шовелен на десять лет моложе меня, но считаю, что я стою больше, чем он.
— О да, государь, вы стоите больше их всех! Вы умнее, чем ваши министры, и моложе, чем ваши дети.
Король расцвел от этого последнего комплимента, который он и постарался заслужить, вопреки совету Ламартиньера.
VII. МОНАХ, НАСТАВНИК, УПРАВЛЯЮЩИЙ
На Другой день после того, как король позволил г-ну де Шовелену удалиться в свои владения, маркиза, его жена, прогуливалась в парке Гробуа со своими детьми и их наставником.
Святая и благородная женщина, забытая в тени этих больших дубов развращенностью, уже полвека пожиравшей Францию, г-жа де Шовелен сохранила для себя Бога, который ее благословлял, своих детей, которые ее любили, своих вассалов, которые ее боготворили.
Взамен она могла лишь отдать Богу свои молитвы, детям — свою любовь, ближнему — милосердие.
Всегда занятая тем, что занимало ее мужа, она мыслью следовала за ним по шумной сцене двора, подобно тому как жена моряка следует сердцем за бедным мореплавателем, затерянным в туманах и бурях.
Маркиз нежно любил свою жену. Став придворным и любимцем короля, он никогда не рисковал в этой игре, что вечно ведут государи против своих фаворитов, последней ставкой — счастьем домашней жизни, чистой и высокой любовью, которой он улыбался издали. Как мореплаватель, только что упомянутый нами, он искал взглядом эту семейную любовь, как потерпевший крушение отыскивает маяк. Он надеялся после шторма согреться у всегда жаркого, всегда радостного очага своего дома.
К чести г-на де Шовелена, он никогда не принуждал маркизу переехать в Версаль.
Благочестивая женщина подчинилась бы: она пожертвовала бы собой.
Но маркиз заговорил об этом один-единственный раз.
При первом же проблеске досады, мелькнувшем в глазах жены, он отказался от своего намерения. И не потому, что, как говорили злые языки, г-н де Шовелен боялся нравоучений своей жены: любой распутник, любой придворный, пресмыкающийся перед наложницей или перед монархом, находит в себе достаточно храбрости, чтобы властвовать над своей женой и поучать своих детей.
Нет, г-н де Шовелен оставил маркизу наедине с ее святыми мыслями.
— Я, — говорил он, — заслужил достаточно арпанов земли в аду; пусть добрая маркиза добудет мне несколько дюймов лазури на небе.
Отныне он появлялся в Гробуа раз в год, в день святого Андрея; жена в этот день устраивала ему праздник.
Ритуал был неизменным: г-н де Шовелен обнимал своих детей в два часа дня, обедал вместе со всеми, в шесть часов садился в карету и успевал появиться при отходе короля ко сну.
Вот уже четыре года он поступал именно так. За четыре года губы его четырежды касались руки маркизы. В первый год сыновья приезжали к нему в Версаль со своим наставником.
Господин де Шовелен доверил жене заботу о воспитании детей. Аббат В***, человек молодой и ученый (он не получил сана, но его, однако, из учтивости называли аббатом), ревностно помогал маркизе в ее усилиях, отдавая все свое время и все свое сердце этим детям, которых покинул отец.
Жизнь в Гробуа была тихой. Маркиза делила свое время между делами имения, порученного старому управляющему по имени Бонбонн, соблюдением строгого благочестия (здесь ее рвение направлялось умелым наставником отцом Деларом, монахом-камальдульцем) и воспитанием двоих детей, которые обещали достойно носить имя, прославленное большими заслугами перед государством.
Иногда письмо, вырвавшееся у маркиза в часы пресыщения, приходило, чтобы утешить семью и оживить нежность в сердце маркизы, часто упрекавшей себя за то, что не отдала все это чувство Богу.
Госпожа де Шовелен все еще любила мужа, и во время ежедневных молитв ее духовный наставник отец Делар обращал ее внимание на то, что она говорит с Богом только о своем любимом супруге.
Маркиза уже не ждала, уже не надеялась обрести своего мужа на этой земле. Добрая и благочестивая женщина льстила себя надеждой, что заслужит у Бога милость встретить г-на де Шовелена в обители вечных радостей.
Камальдулец сердился на г-на Бонбонна, г-н Бонбонн — на аббата В***, в то время как дети, грустившие или подвергнутые наказанию, казалось, скучали по отцу, хотя мало его знали.
— Надо признать, — говорил монах маркизе во время ее исповеди, — что образ жизни господина де Шовелена обречет его на вечные муки.
— Надо признать, — говорил старый управляющий, — что этот образ жизни разорит семью.
— Признаем, — говорил учитель, — что эти дети никогда не прославятся: им не с кем состязаться.
И маркиза с ее ангельским характером улыбалась всем троим, отвечая монаху, что г-н де Шовелен вовремя искупит свои грехи; управляющему — что сбережения, сделанные в Гробуа, покроют убыток кассы, столь истощенной в Париже; учителю — что в детях течет хорошая кровь, а от доброго корня, как известно, идет добрая поросль.
И все это время в Гробуа росли вековые дубы и хрупкие питомцы; те и другие черпали свою силу и жизнь в плодородном Божьем лоне.
Настал несчастливый день; в этот день цветы парка, плоды сада, воды бассейна и камни дома поблекли, стали горестными и мрачными. То был день смятения в семье. Управляющий Бонбонн представил маркизе устрашающие подсчеты и предсказал разорение ее детям, если г-н де Шовелен не поспешит навести порядок в своих делах.
— Сударыня, — сказал он, — после завтрака позвольте мне сказать вам несколько слов.
— Хорошо, дорогой Бонбонн, — отвечала маркиза.
— Припомните, сударыня, — вмешался отец Делар, — что я жду вас в часовне.
— А я имею честь напомнить госпоже маркизе, — сказал аббат В***, — что мы назначили сегодня экзамен по математике и грамматике; иначе эти два господина не захотят больше трудиться.
Упомянутые два господина де Шовелена начали восстание против латыни и учености под тем предлогом, что их отцу решительно все равно, будут они учеными или нет.
Маркиза взяла за руку монаха Делара.
— Святой отец, — сказала она, — я начну с вас; благодарение Богу, исповедь моя будет краткой. Вот она: вчера я была рассеянна во время церковной службы.
— По какой причине, дочь моя?
— Потому что я жду письма от господина де Шовелена, а оно не пришло.
— Я отпускаю вам грех, если это все, дочь моя.
— Это все, — ответила маркиза с улыбкой серафима. Монах удалился.
— Теперь вы, господин аббат. Экзамен был бы долгим, он был бы огорчительным. Раз дети выражают недовольство, значит, они не знают своих уроков. Если они их не знают и вы мне это покажете, я должна буду их побранить или наказать. Пощадите их, пощадите нас, и перенесем экзамен на другое время, когда он удовлетворит всех.
Господин аббат согласился, что г-жа маркиза права. Он скрылся вслед за монахом, который уже исчезал в туманной глубине зеленеющих аркад.
— Теперь остаетесь вы, Бонбонн, — сказала маркиза. — Приду ли я к такому же доброму соглашению с вашим нахмуренным видом и вашими глубокими вздохами?
— Я в этом сомневаюсь.
— А! Посмотрим.
— Это легко: мои подсчеты и в самом деле устрашающи.
— Можете пугать меня; но вам никогда не удавалось испугать мою личную шкатулку.
— В этом месяце ваша шкатулка испугается, сударыня, и больше чем испугается: она умрет от страха.
— Полно! Вы, значит, вместе со мной считали ее содержимое? — сказала маркиза, пытаясь шутить.
— Считал ли я его вместе с вами? Подумаешь, какая трудность!
— Я никогда никому о нем не говорила, Бонбонн.
— А лучше было бы сказать. Но мне не нужно этого, чтобы знать…
— Знать что?
— Сумму ваших сбережений.
— Я вам не верю! — воскликнула маркиза, краснея.
— Если так, то я скажу прямо: у вас примерно двадцать пять тысяч пятьсот экю.
— О Бонбонн! — прервала его маркиза с досадой, словно управляющий нескромно проник в какую-то печальную тайну.
— Я надеюсь, госпожа маркиза не подозревает меня в том, что я рылся в ее шкатулке?
— Но как же тогда…
— Сколько вы получаете в год на ведение дома? Разве не десять тысяч экю?
— Да.
— А сколько тратите? Разве не восемь тысяч экю?
— Да.
— И разве не десять лет вы копите, потому что вот уже десять лет, как господин де Шовелен живет при дворе?
— Да.
— Так вот, сударыня, вместе с накопившимися процентами вы имеете двадцать пять тысяч экю или должны их иметь.
— Бонбонн!
— Я угадал!.. А если вы их имеете, вы их отдадите господину де Шовелену по первой его просьбе. А когда вы их ему отдадите, вашим детям не останется ничего, если с господином де Шовеленом внезапно что-то случится.
— Бонбонн!
— Будем говорить откровенно! Ваше имение заложено; на имении господина де Шовелена долг в семьсот тысяч ливров.
— У него есть миллион шестьсот тысяч.
— Пусть так. Но того, что останется после уплаты семисот тысяч, все равно не хватит, чтобы удовлетворить кредиторов.
— Вы меня пугаете!
— Пытаюсь испугать.
— Что же делать?
— Просить господина де Шовелена, который слишком много тратит, о немедленном отчуждении в пользу ваших детей остающихся девятисот тысяч; попросить его назначить их вам как вдовью часть либо распорядиться выплатить их вам по завещанию.
— Завещание! Боже милостивый!
— Опять вы со своими сомнениями! Разве человек умирает потому, что составит завещание?
— Говорить о завещании с господином де Шовеленом!
— Вот так! Вы боитесь нарушить радость господина маркиза, его пищеварение, его фавор этим грубым словом «будущее» — словом, что для счастливых дней всегда звучит подобно слову «смерть». Что ж, если вы боитесь этого, хорошо! Вы разорите своих детей, но пощадите уши господина маркиза.
— Бонбонн!
— Я всего лишь говорящая цифра; прочтите мои отчеты.
— Это ужасно!
— Еще ужаснее было бы ждать того, о чем я вам сказал. Выполните обязанность мудрого советчика; садитесь в карету и поезжайте к господину маркизу.
— В Париж?
— Нет, в Версаль.
— Мне появиться в том обществе, где бывает мой муж? Никогда!
— Так напишите.
— Но прочтет ли он мое письмо? Увы, даже когда я посылаю ему поздравления или пожелания, он не читает того, что я пишу; что же произойдет, когда я возьмусь за перо делового человека?
— Тогда пусть похлопочет какой-нибудь друг, я например.
— Вы?
— О! Вы хотите сказать, что он не станет меня слушать? Ну нет, сударыня, он меня выслушает.
— Он заболеет из-за вас, Бонбонн!
— У него есть врач, и тот его вылечит.
— Вы заставите его разгневаться, и гнев убьет его.
— Ничуть; мне очень важно, чтобы он был жив. Если бы я его и убил, то после того как заставил бы написать завещание.
И честный человек разразился хохотом, причинившим боль маркизе.
— Бонбонн, это меня вы убьете, говоря такие вещи, — прошептала она. Бонбонн почтительно взял ее руку.
— Простите, — сказал он, — я забылся, госпожа маркиза; прикажите заложить карету, я еду в Версаль.
— Ну и слава Богу! Вы возьмете с собой книгу, где я записываю расходы, и… Подождите!
— Что такое?
— Неужели мои желания уже исполнились?
— Как так?
— Вы говорили о карете?
— Да.
— Вот она подъезжает по почтовому тракту.
— Ах!
— Там видны ливреи нашего дома.
— И серые лошади господина маркиза.
— Сударыня! Сударыня! — звал аббат В***.
— Сударыня! Сударыня! — звал отец Делар.
— Сударыня! Сударыня! — слышались двадцать голосив в цветниках, в службах, в парке.
— Маменька! Маменька! — кричали дети.
— Маркиз? О, да правда ли это? — пробормотала маркиза. — Он здесь, в Гробуа, сегодня?
— Здравствуйте, сударыня, — еще издали заговорил маркиз, с радостной поспешностью вылезая из только что остановившейся кареты.
— Да, это он, здоровый телом и веселый духом. Благодарю тебя, Боже мой!
— Благодарю тебя, Боже мой! — вторили двадцать голосов, возвестивших прибытие хозяина и отца.
VIII. КЛЯТВА ИГРОКА
Да, это был маркиз собственной персоной; он нежно обнял обоих детей, встретивших его радостными криками, и запечатлел на руке изумленной маркизы поцелуй, шедший из глубины сердца.
— Вы, сударь! Вы! — говорила она, держа его за руку.
— Я!.. Но дети играли или трудились; я не хочу прерывать их учение и еще менее их игру.
— Ах, сударь, они так мало вас видят, позвольте им вполне испытать радость от вашего присутствия, столь дорогого им.
— Благодарение Богу, сударыня, они будут видеть меня долго.
— Долго? Неужели до завтрашнего вечера? Вы уедете только завтра вечером?
— Больше того, сударыня.
— Вы проведете две ночи в Гробуа?
— Две ночи, четыре ночи, все ночи.
— Ах, сударь, что же случилось? — с живостью воскликнула маркиза, не замечая, что для г-на де Шовелена подобное изумление могло звучать упреком его прошлому поведению.
Маркиз на мгновение нахмурился; потом вдруг спросил, улыбаясь:
— Разве вы хоть изредка не молили Господа вернуть меня в семью?
— О сударь, всегда!
— Что ж, сударыня, ваша мольба была услышана; мне казалось, что некий голос зовет меня; я повиновался этому голосу.
— И вы покидаете двор?
— Я приехал, чтобы обосноваться в Гробуа, — прервал ее маркиз, подавляя вздох.
— Какое счастье для этих милых детей, для меня, для всех вассалов! Ах, сударь, позвольте мне в это поверить, дайте мне это блаженство!
— Сударыня, ваша радость — это бальзам, исцеляющий все мои раны… Но, скажите, не угодно ли вам поговорить немного о хозяйстве?
— Конечно, конечно, — сказала маркиза, сжимая его руки.
— Я, кажется, видел весьма плохих лошадей у столба на въездном дворе; это ваши?
— Мои, сударь.
— Лошади, отслужившие свой срок!
— Сударь, это те лошади, что вы мне подарили по случаю рождения вашего сына.
— Им было тогда четыре с половиной года, прошло девять лет: теперь этим одрам четырнадцать; фи!.. У вас, маркиза, и вдруг подобная запряжка!
— Ах, сударь, когда я отправляюсь к мессе, они еще умудряются понести.
— Я, по-моему, видел трех?
— Я подарила четвертую, самую резвую, моему сыну для занятий верховой ездой.
— Обучать моего сына верховой езде на упряжной лошади! Маркиза, маркиза, какого же всадника вы из него сделаете?
Маркиза опустила глаза.
— И потом, у вас ведь не четыре лошади; я полагаю, их У вас восемь и еще две верховых?
— Да, сударь; но, поскольку со времени вашего отсутствия не стало ни охоты, ни парадных прогулок, я подумала, что, отказавшись от четырех лошадей, двух конюхов и седельной мастерской, смогу сберечь, по крайней мере, шесть тысяч ливров в год.
— Маркиза, шесть тысяч ливров! — недовольно пробормотал г-н де Шовелен.
— Это пища и содержание для двенадцати семей, — возразила она.
Он взял ее руку:
— Вы по-прежнему добры, по-прежнему совершенны! То, что вы делаете на земле, Бог всегда внушает вам с высоты небесной. Но маркиза де Шовелен не должна экономить.
Она подняла голову.
— Вы хотите сказать, что я много трачу, — продолжал он, — да, я трачу много денег, а вы, вы терпите в них нужду.
— Я этого не говорю, сударь.
— Маркиза, это должно быть правдой. Вы благородны и великодушны, вы не стали бы увольнять моих слуг без необходимости. Уволенный конюх — это еще один бедняк. Вы нуждались в деньгах, я поговорю об этом с Бонбонном; но отныне вы в них не будете нуждаться; то, что я тратил при дворе, я буду тратить в Гробуа; вместо того чтобы кормить двенадцать семей, вы прокормите двести.
— Сударь…
— И, благодарение Богу, я надеюсь, что хватит зерна для дюжины хороших лошадей — они у меня есть и с завтрашнего дня будут стоять в ваших конюшнях. Не говорили ли вы в прошлом году о ремонте замка?
— Нужно было бы заново меблировать приемные апартаменты.
— Вся моя парижская мебель прибудет на этой неделе. Я буду давать обеды дважды в неделю… будем охотиться.
— Вы знаете, сударь, что я немного боюсь людей, — сказала маркиза, испуганная тем, что вновь появятся эти шумные версальские друзья, общение с которыми она считала главным прегрешением своего мужа.
— Вы сами будете рассылать приглашения, маркиза. А пока Бонбонн даст вам книги; вашей обязанностью будет свести воедино парижские траты и траты Гробуа.
Маркиза, обезумевшая от радости, пыталась ответить и не могла. Она брала руки г-на де Шовелена, целовала их, вглядываясь умиленным взором в глубину его души; а он отдался оцепенению этой теплой атмосферы чистой любви, что пронизывает все, к чему прикасается, донося жизнь и блаженное чувство до самых холодных пределов.
— Подумаем о детях, — сказал он, — как их воспитывают?
— Очень хорошо; аббат — умный человек, умеющий глубоко мыслить. Вы хотите, чтобы я вам его представила?
— Да, маркиза; представьте мне всех в доме.
Маркиза сделала знак, и из темной аллеи, где он прогуливался с детьми, показался молодой наставник; он шел, обняв за плечи своих учеников.
В этой походке, напоминавшей тихое покачивание молодого дуба меж двух тростинок, было что-то нежно-отцовское, очень понравившееся маркизу.
— Господин аббат, — сказала маркиза, — сообщаю вам добрую весть. Это господин маркиз, наш сеньор; он желает поселиться с нами.
— Слава Господу! — ответил аббат. — Но, сударь, не умер ли, увы, король?
— Благодарение Небу, нет; но я распрощался со двором и с миром. Я остаюсь здесь с моими детьми. Мне наскучило жить только умом и тщеславием; я хочу попробовать пожить сердцем, и вот я с вами. Для начала вопрос, господин аббат: довольны ли вы вашими учениками?
— Как нельзя более, господин маркиз.
— Тем лучше! Сделайте из них таких же христиан, как их мать, таких же порядочных людей, как их предок, и…
— … людей с умом, заслугами и талантом, как их отец, — сказал аббат, — я надеюсь всего этого достичь.
— Тогда вы драгоценный человек, аббат. А ты, мой старый Бонбонн, все такой же брюзга? Еще когда я был в их возрасте, ты хотел приобщить меня к делам. Я должен был тебе поверить: тогда я не нуждался бы так сегодня в твоих познаниях.
Дети снова принялись прыгать на траве со всей беззаботной веселостью своего возраста; отец следил за ними умиленным взглядом и после минутного молчания прошептал:
— Дорогие дети, больше я вас не покину.
— Да сбудутся ваши слова, господин маркиз, — произнес у него за спиной низкий и звучный голос.
Господин де Шовелен, обернувшись, увидел перед собой монаха в белой рясе, со строгим и спокойным лицом, который по-монашески поклонился ему.
— Кто этот святой отец? — спросил он у маркизы.
— Отец Делар, мой духовник.
— Ах, ваш духовник! — повторил маркиз, слегка побледнев, и уже тише добавил: — Мне в самом деле необходим духовник, и вы здесь желанный гость.
Монах, человек ловкий и привычный к манерам сильных мира сего, был далек от того, чтобы поднимать эту тему, но он отметил ее в памяти. Предупрежденный управляющим несколько дней назад, он решил взять переговоры на себя и не упустить столь благоприятного случая устроить дела Божьи, дела маркизы, а может быть, и свои собственные.
— Осмелюсь узнать, господин маркиз, как здоровье короля? — спросил монах.
— Почему вы спрашиваете, святой отец?
— Распространился слух, что Людовик Пятнадцатый скоро отдаст Богу отчет в своем царствовании. Такие слухи бывают обычно не чем иным, как предвестниками Провидения; его величество долго не проживет, поверьте мне.
— Вы так думаете, святой отец? — спросил г-н де Шовелен, становясь все печальнее.
— Следовало бы пожелать, чтобы он загладил свои постыдные поступки, чтобы он покаялся…
— Сударь, — с живостью возразил г-н де Шовелен, — духовники должны в молчании ждать, когда их призовут.
— Смерть не ждет, сударь, и я давно дожидаюсь от вас слова, которое так и не приходит.
— От меня! О, моя исповедь будет долгой, но она еще не созрела.
— Вся исповедь заключается в покаянии, в сожалении человека о том, что он грешил; а самый великий из всех грехов, как я только что вам говорил, — грех соблазна.
— О, соблазну потакают все! Нет ни одного из нас, кто не давал бы пищи злословию. Небо не думает наказывать нас за злобу других.
— Небо наказывает за неповиновение своим законам, Небо наказывает за нераскаянность; оно посылает нам предостережения, и если мы ими пренебрегаем, то уже ничто не может нас спасти.
Господин де Шовелен не ответил и погрузился в размышления. Маркиза, видя, что разговор завязался, тихо скрылась, всей душою моля Бога, чтобы беседа оказалась плодотворной. После продолжительного молчания, во время которого монах наблюдал за г-ном де Шовеленом, тот внезапно повернулся к собеседнику.
— Послушайте, святой отец, — сказал он, — вы правы; я раскаиваюсь в том, что слишком долго был молод, и хочу исповедаться вам, ибо чувствую — да, чувствую, — что смерть близка.
— Смерть? Вы так думаете? И ничего не делаете, чтобы распорядиться своей душой и своим состоянием! Вы боитесь умереть — и вовсе не думаете о завещании, а оно необходимо при том положении, какое вы создали для ваших наследников… Простите, господин маркиз; мое рвение и моя преданность вашему прославленному дому, быть может, завлекли меня слишком далеко.
— Нет, вы опять правы, святой отец. Однако успокойтесь: завещание составлено, мне осталось только его подписать.
— Вы боитесь умереть, но вы не готовы предстать перед Господом.
— Да будет он ко мне милосерден! Я рожден в христианской вере и хочу умереть по-христиански. Приходите завтра, прошу вас; мы продолжим эту беседу — она даст покой моей душе.
— Завтра! Почему завтра? Смерть не знает отсрочек и остановок.
— Мне необходимо собраться с мыслями. Я не могу так скоро забыть жизнь, которую вел; я, быть может, сожалею о ней. Благодарю за ваши советы, святой отец, они принесут свои плоды.
— Дай-то Бог! Но вы знаете правило мудреца: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».
— Я и без того вам признателен; я был повержен, вы подняли меня. Нельзя сделать все сразу, святой отец.
— О господин маркиз, — ответил монах, кланяясь, — ведь нужна всего одна минута, чтобы превратить виновного в кающегося, проклятого в избранного; если бы вы захотели…
— Хорошо, хорошо, святой отец, завтра. А вот и колокол к обеду.
Он жестом отпустил монаха и углубился в аллею. Учитель подошел к отцу Делару.
— Что такое с господином маркизом? Я больше не узнаю его; он беспокоен, мрачен, угрюм — он, всегда такой веселый.
— У него предчувствие близкого конца, и он думает о покаянии; это прекрасное превращение — принесет большую честь моему монастырю. О, если бы король…
— Э! У вас, кажется, аппетит приходит во время еды, святой отец! Боюсь, однако, что в этом случае ваше пожелание останется бесполезным. Его величество трудно поддается словам, к тому же у него есть собственные радетели о спасении его души; поговаривают о монсеньере епископе Сенезском как об очень сильном противнике.
— О, король не столь недоверчив, как вы утверждаете; вспомните болезнь в Меце и отставку госпожи де Шатору.
— Да, но тогда Людовик Пятнадцатый был молод и речь не шла об изгнании Жанны Вобернье; эти два соображения чрезвычайно меняют дело. В конце концов, у нас есть время над этим подумать, дорогой господин Делар; а пока, поскольку обеденный колокол прозвонил, речь идет о том, чтобы господина маркиза не заставлять ждать. Он не так часто с нами обедает, возблагодарим же Господа за эту возможность.
В самом деле, за обеденным столом, к которому успели вовремя отец Делар и аббат В***, собрались отец, мать и дети. Никогда еще маркиза не казалась такой веселой; никогда еще не проявляла она столько заботы о том, чтобы ее столу было отдано должное.
Повар превзошел себя. Прекрасная рыба, выращенная в садках, нежная домашняя птица, выкормленная в клетках, самые вкусные плоды оранжереи и виноградных шпалер напомнили маркизу о том, каким добрым бывал этот дом, когда речь шла о том, чтобы принять дорогого хозяина.
Слуги, полные гордости от почетной службы, вновь предстоявшей им, выглядели очень важными в своих самых новых ливреях; они ловили в глазах хозяина малейшее желание, чтобы исполнить его, и малейшее недовольство, чтобы его предупредить.
Но маркиз быстро утратил тот прекрасный аппетит, каким он хвастался по приезде: стол казался ему пустынным; молчание, полное почтения и радости, казалось ему мрачным. Мало-помалу печаль овладела его сердцем и его лицом; он безвольно уронил руку рядом с еще полной тарелкой и забыл о стаканах, в которых сверкало алмазами аи и рубинами — старое тридцатилетнее бургундское.
Печаль маркиза сменилась подавленностью; все со страхом следили за тем, как настроение его становится все мрачнее.
Вдруг из глаз его скатилась слеза, вызвавшая вздох у маркизы; он этого не заметил.
— Вот о чем я подумал, — внезапно сказал он жене, — хочу быть похороненным не в Буаси-Сен-Леже, как мои отец и мать, а в Париже, в церкви кармелитов на площади Мобер вместе с моими предками.
— Откуда такие мысли, сударь? У нас есть время об этом подумать, — сказала маркиза, задыхаясь от печали.
— Кто знает? Пусть позовут Бонбонна и скажут, чтобы он ждал меня в большом кабинете. Я хочу с ним час поработать. На необходимость этого указал мне отец Делар. У вас превосходный духовник, сударыня.
— Я счастлива, что он вам понравился, сударь; вы можете с полным доверием обращаться к нему.
— Я так и сделаю, причем завтра же. С вашего позволения, сударыня, я иду к себе.
Маркиза подняла глаза, мысленно воссылая к Небу благодарственную молитву; она проводила взглядом мужа, вышедшего вместе с Бонбонном, и, обернувшись к сыновьям, сказала им:
— Сегодня вечером, дети мои, попросите Господа внушить вашему отцу желание навсегда остаться среди нас; пусть Господь поддержит его в нынешних намерениях и окажет ему милость, позволив осуществить их.
Войдя в кабинет, маркиз сказал:
— Ну, мой старый Бонбонн, за работу, за работу!
И он с лихорадочным рвением набросился на бумаги, стараясь поскорее разложить их по порядку и ознакомиться с ними.
— Ну-ну, — сказал старик, — раз уж мы так хорошо начали, дорогой хозяин, не будем слишком спешить; вы ведь знаете: кто торопится — теряет время.
— Время не ждет, Бонбонн, говорю тебе, время не ждет!
— Да полно!
— Говорю тебе: тот, кому Господь посылает эту радость — подготовиться к последнему пути, — никогда не сможет трудиться над этим достаточно быстро. Скорее, Бонбонн, за работу!
— За этим занятием, да еще с таким пылом, сударь, вы схватите плеврит, или кровоизлияние, или изрядную лихорадку и таким манером добьетесь того, что ваше завещание окажется как раз кстати.
— Не будем медлить. Где ведомость того, что мы имеем?
— Вот она.
— А ведомость того, что мы должны?
— Вот.
— Миллион шестьсот тысяч ливров дефицита! Дьявол!
— Два года экономии заполнят этот ров.
— У меня нет двух лет для экономии.
— О, вы меня с ума сведете! С таким-то здоровьем!
— Ты мне говорил, что нотариус очень искусно составил проект завещания, закрепляющий за моими сыновьями все состояние по их совершеннолетии?
— Да, сударь, если вы на шесть лет откажетесь от четверти дохода с земель.
— Посмотрим этот проект.
— Вот он.
— У меня не очень хорошее зрение. Не прочтешь ли ты сам?
Бонбонн начал читать пункт за пунктом; маркиз время от времени выражал явное удовлетворение.
— Проект хорош, — сказал он наконец, — тем более что он оставляет госпоже де Шовелен триста тысяч ливров в год — гораздо больше, чем она имеет сейчас.
— Значит, вы одобряете?
— Вполне.
— Так я могу переписать этот акт?
— Переписывай.
— А затем надо будет, чтобы вы собственноручно подтвердили подлинность завещания и подписали его.
— Так делай это быстрее, Бонбонн, делай быстрее!
— А вот теперь вы просто теряете рассудительность. Я потратил полчаса, чтобы прочитать вам этот акт; нужен, по крайней мере, час, чтобы переписать его.
— Ах, если бы ты знал, как я спешу! Знаешь что, диктуй мне, я все напишу своей рукой.
— Никоим образом, сударь, никоим образом, у вас глаза уже совсем покраснели; стоит вам еще несколько минут поработать — вы схватите лихорадку, не говоря о мигрени, которая вот-вот у вас начнется.
— А чем мне занять этот час, необходимый тебе?
— Прогуляться, подышать свежим воздухом на лужайке вместе с госпожой маркизой; а я пока очиню свои перья — и берегись бумага! Ручаюсь вам, что я один успею сделать больше, чем три прокурорских писца.
Маркиз подчинился не без сопротивления: на душе у него все еще было тяжело, волнение не проходило.
— Успокойтесь, — сказал ему Бонбонн, — вы боитесь, что у вас не будет времени подписать? Час, говорю я вам; черт возьми! Господин маркиз, да проживете же вы еще шестьдесят одну минуту!
— Ты прав, — ответил маркиз.
Он спустился вниз; маркиза ждала его. Видя, что он более спокоен и лицо его повеселело, она спросила:
— Что же, хорошо ли вы поработали, сударь?
— О да, маркиза, да; этой работой, надеюсь, вы и ваши сыновья будете довольны.
— Тем лучше! Дайте мне вашу руку; прогуляемся; оранжереи открыты; не хотите ли посетить их?
— Все что вам угодно, маркиза, все.
— И вы будете хорошо спать после этой прогулки. Если бы вы знали, как рады ваши камердинеры тому, что застелили вашу парадную кровать!
— Маркиза, я буду спать, как мне уже десять лет не случалось; одна только мысль об этом заставляет меня вздрагивать от удовольствия.
— Вы действительно думаете, что не будете слишком скучать с нами?
— Нет, маркиза, не думаю.
— И что вы привыкнете к нашим деревенским жителям?
— Да, без труда. И если король — возможно, я был с ним немного груб, в чем раскаиваюсь, — если король забудет меня, то хорошо сделает.
— Король? Ах, сударь, — нежно сказала маркиза, — вы только что вздохнули, говоря о его величестве.
— Я люблю короля, маркиза, но поверьте…
Он не договорил. Слова его были прерваны щелканьем бича и звоном бубенцов.
— Что это? — сказал он.
— Курьер, которому отворяют ворота, — отвечала маркиза, — он от вас?
— Нет.
— Курьер, которому все кланяются, которого впускают в цветник, может прибыть только от… от короля! — прошептала, бледнея, маркиза.
— По повелению короля! — громко крикнул курьер.
— Короля!!
И г-н де Шовелен поспешил навстречу курьеру, а тот уже передал дворецкому привезенное письмо.
— Увы, письмо от короля! — тихо сказала маркиза отцу Делару: его, как и других, привлекло шумное появление этого послания.
Маркиз угостил курьера вином из серебряного кубка — честь, оправданная почтением, что питает любой дворянин к королевскому сану, даже в том случае, когда честь эту оказывают слуге. Он распечатал письмо; оно содержало следующие строки, написанные собственной рукою монарха:
«Мой друг, прошли едва сутки, как Вы уехали, а мне кажется, что я не видел Вас уже месяцы. Старые люди, любящие друг друга, не должны разлучаться. Будет ли у них время снова встретиться ? Я в смертельной печали. Я нуждаюсь в Вас; приезжайте! Не лишайте меня друга под тем предлогом, что Вы хотели защитить мою корону. Наоборот, это самый верный способ напасть на нее, и, пока вы будете защищать ее своим присутствием, я буду чувствовать ее более прочной чем когда-либо. Жду Вас завтра к утреннему выходу; это будет знаком счастливого дня.
Благосклонный к Вам Людовик».
— Король вызывает меня, — сказал г-н де Шовелен в сильном волнении. — Мне надо ехать немедленно, он не может без меня обойтись. Заложить карету!
— О! Так скоро? — сказала маркиза. — После стольких прекрасных обещаний!
— Вы вскоре получите от меня известия, сударыня.
— Господин маркиз, копия готова! — на бегу кричал издали Бонбонн.
— Хорошо, хорошо!
— Осталось только прочесть и подписать.
— Мне некогда, потом.
— Потом? Но вспомните, что вы только что говорили.
— Знаю, знаю.
— Вы говорили: «Никаких отсрочек».
— Король не может ждать.
— Но вы забываете о ваших детях, о судьбе вашей семьи.
— Я ни о чем не забываю, Бонбонн, но я должен уехать, и я уезжаю. Мои дети, будущее моей семьи — ах, Бонбонн, считайте, что оно полностью обеспечено.
— Подпись, всего только подпись!
— Видишь ли, мой старый друг, — сказал сияющий радостью маркиз, — я настолько полон решимости довести до конца это дело, что если умру, не успев подписать, то клянусь тебе вернуться сюда с того света — а это далеко, — специально чтобы поставить свою подпись. Теперь ты спокоен; прощай.
И, поспешно обняв детей и жену, забыв обо всем, кроме короля и двора, он устремился, помолодевший на двадцать лет, в свою карету, увозившую его в Париж.
Маркиза и все эти люди, еще недавно такие счастливые, остались у ворот, мрачные, покинутые, онемевшие от отчаяния.
IX. ВЕНЕРА И ПСИХЕЯ
На следующий день после отправления письма в Гробуа первые слова Людовика XV были о маркизе де Шовелене; его же искал и первый взгляд короля.
Маркиз приехал ночью и присутствовал при малом утреннем выходе короля.
— Отлично, — сказал Людовик XV, — вот и вы, маркиз; Боже мой, каким долгим было ваше отсутствие!
— Государь, оно было первым и будет последним; если я теперь вас покину, то навсегда. Но ваше величество слишком добры, находя мое отсутствие долгим. Я находился вдали от вас всего сутки.
— Вы так думаете, дорогой друг? Значит, виновато это чертово предсказание — оно звучит у меня в ушах, как голос рога; поэтому, не видя вас на вашем обычном месте, я вообразил, что вы умерли, а раз вы умерли, то, понимаете?..
— Прекрасно понимаю, государь.
— Но довольно об этом. Вы здесь, и это главное. Правда, графиня на нас немного злится: на вас — поскольку вы сказали ей то, что сказали, а на меня — поскольку я снова позвал вас после такого оскорбления. Но пусть вас ничуть не заботит ее дурное настроение; время все улаживает, а король ему поможет.
— Благодарю, государь.
— Ну, и что вы сделали за время вашей ссылки?
— Вообразите, государь, я чуть не раскаялся в грехах.
— Я понимаю, вы начинаете раскаиваться в том, что пели «Семь смертных грехов».
— О, если бы я только пел их!
— Мой кузен де Конти не далее как вчера с восхищением говорил мне об этом.
— Государь, я был тогда молод, и экспромты казались мне легкими. Я был там, в Л'Иль-Адане, наедине с семью очаровательными женщинами. Господин принц де Конти охотился; я оставался в замке и услаждал их… стихами. Ах, это было прекрасное время, государь!
— Маркиз, вы принимаете меня за вашего духовника, и это ваше покаяние?
— Мой духовник… ах да! Ваше величество правы: я именно на сегодняшнее утро назначил свидание монаху-камальдулыгу из Гробуа.
— О! Бедняга, какой случай просветиться он упустил! Вы бы все ему сказали, Шовелен?
— Решительно все, государь.
— Тогда исповедь была бы долгой.
— Ах, Боже мой! Государь, помимо моих собственных грехов на моей совести столько грехов других людей, и особенно…
— Моих, не так ли? Ну, от необходимости сознаваться в них, Шовелен, я вас освобождаю; человек исповедуется только сам.
— Однако, государь, грех превратился в странную эпидемию при дворе. Я только что приехал, а мне уже говорили про одно странное приключение.
— Приключение, Шовелен! И на чей же счет относят это приключение?
— А на чей счет относят все удачные приключения, государь?
— Черт возьми! Должно быть, на мой.
— Или насчет…
— Или на счет графини Дюбарри, не так ли?
— Вы угадали, государь.
— Как! Графиня Дюбарри согрешила?.. Черт побери! Расскажите-ка мне об этом, Шовелен.
— Я не говорю буквально, что это приключение само по себе было грехом; я говорю, что оно пришло мне на ум в связи с другими грехами.
— Ну, маркиз, что же это за приключение? Расскажите мне об этом сейчас же.
— Сейчас же?
— Да. Вы знаете, что короли не любят ждать.
— Черт возьми, государь! Это серьезно.
— Ба! Уж не вышел ли у нее еще какой-нибудь спор с женой моего внука?
— Государь, я не говорю, что нет.
— Ах, графиня в конце концов рассорится с дофиной, и тогда, честное слово…
— Государь, я думаю, что графиня в данное время полностью рассорилась.
— С дофиной?
— Нет, но с женой другого вашего внука.
— С графиней Прованской?
— Именно.
— Нечего сказать, попал я в переплет! Послушайте, Шовелен…
— Государь…
— Кто из них жалуется: графиня Прованская?
— Говорят, что она.
— Тогда граф Прованский сочинит отвратительные стихи о бедной графине Дюбарри. Ей ничего не остается, кроме как стойко держаться: ее отхлещут как следует.
— Государь, это будет просто-напросто справедливым возмездием.
— Что такое?
— Представьте себе, что госпожа маркиза де Розен…
— Эта прелестная маленькая брюнетка, подруга графини Прованской?
— Да, та, на которую ваше величество часто поглядывали в течение целого месяца.
— О! Меня за это достаточно бранили в одном месте, маркиз! Ну, и что же?..
— Кто бранил вас, государь?
— Черт возьми! Графиня.
— Что ж, государь, вас она бранила, вас — это хорошо; но с другою стороной она сделала нечто лучшее.
— Объяснитесь, маркиз, вы меня пугаете.
— Еще бы! Пугайтесь, государь, я вам не препятствую.
— Как! Значит, это серьезно?
— Очень серьезно.
— Говорите.
— Кажется, что…
— Ну! Что же?..
— Видите ли, государь, это трудно было сделать, но еще труднее об этом сказать.
— Вы в самом деле пугаете меня, маркиз. До сих пор я думал, что вы шутите. Но если речь действительно о серьезном деле, так будем говорить серьезно.
В эту минуту вошел герцог де Ришелье.
— Есть новость, государь, — сказал он с улыбкой, одновременно обаятельной и тревожной: обаятельной — потому что надо было понравиться монарху, тревожной — потому что надо было оспаривать королевскую благосклонность у этого фаворита, вновь призванного в Версаль после однодневного изгнания.
— Новость! И откуда исходит эта новость, мой дорогой герцог? — спросил король.
Он поглядел кругом и увидел, что маркиз де Шовелен тайком смеется.
— Ты смеешься, бесчувственный!
— Государь, сейчас разразится гроза: я вижу это по печальному облику господина де Ришелье.
— Вы ошибаетесь, маркиз; я объявил о новости, это правда, но не берусь излагать ее.
— Но как же, в конце концов, я узнаю эту новость?
— Паж ее высочества графини Прованской находится в вашей передней с письмом от своей хозяйки; угодно вашему величеству приказать?
— О! — воскликнул король, который был не прочь свалить все на нелюбимых им графа или графиню Прованских, — с каких это пор сыновья Франции или их жены пишут королю, вместо того чтобы присутствовать при утреннем выходе?
— Государь, вероятно, письмо объяснит вашему величеству причину такого пренебрежения к этикету.
— Возьмите это письмо, герцог, и дайте его мне. Герцог поклонился, вышел и через секунду вернулся с письмом в руке.
Передавая его королю, он сказал:
— Государь, не забудьте, что я друг госпожи Дюбарри и заранее объявляю себя ее адвокатом.
Король, взглянув на Ришелье, распечатал письмо; видно было, как он хмурится, читая содержавшиеся в нем подробности.
— О! — пробормотал он, — это уже слишком! И вы берете на себя неблаговидное дело, герцог. Поистине, госпожа Дюбарри сошла с ума.
Затем, обернувшись к своим офицерам, он сказал:
— Пусть немедленно отправятся от моего имени к госпоже де Розен; пусть узнают, как она себя чувствует, и пусть скажут ей, что я приму ее немедленно после утреннего выхода, до того как пойду к мессе. Бедная маркиза, очаровательная маленькая женщина!
Все переглянулись: не всходит ли новое светило на горизонте королевской благосклонности?
В конце концов, это было вполне возможно. Произведенная год назад в компаньонки графини Прованской, она подружилась с фавориткой, всегда присутствовала в ее интимном кругу, где часто бывал король. Но, получив замечание от принцессы — ее оскорбляла эта близость, — она сразу прекратила отношения с г-жой Дюбарри, чем вызвала ее явную и сильную досаду.
Вот что было известно при дворе.
Это письмо, содержания которого никто не знал, произвело на короля сильное впечатление; в оставшееся время утреннего выхода он казался озабоченным, еле разговаривал с несколькими приближенными, торопил соблюдение церемониала и отпустил присутствующих раньше обычного, приказав г-ну де Шовелену остаться.
Церемония утреннего выхода была окончена, все вышли; его величество предупредили, что г-жа де Розен ожидает в передней; король приказал впустить ее.
Госпожа де Розен, вся в слезах, упала перед королем на колени. Эта сцена была из числа самых патетических.
Король поднял ее.
— Простите, государь, — сказала она, — что я прибегла к августейшему посредничеству, чтобы получить доступ к вашему величеству, но я, действительно, была в таком отчаянии…
— О, я вас от всего сердца прощаю, сударыня, и я признателен моему внуку, что он отворил перед вами дверь: отныне она всегда будет для вас открыта. Но перейдем к факту… к главному делу.
Маркиза опустила глаза.
— Я спешу, — продолжал король, — меня ждут к мессе. То, что вы мне пишете, действительно правда? Графиня в самом деле позволила себе вас…
— О! Вы видите, государь, что я краснею от стыда. Я пришла просить справедливости у короля. Никогда со знатной дамой не обращались таким образом.
— Как, это правда? — спросил король, невольно улыбаясь. — С вами поступили как с непослушным ребенком, безо всяких скидок?
— Да, государь, четверо горничных, в ее присутствии, в ее будуаре, — ответила, опустив глаза, молодая женщина.
— Черт возьми! — сказал король, у которого эти подробности вызвали множество мыслей. — Графиня не хвасталась этим замыслом.
И со взглядом сатира добавил:
— Но как это произошло, скажите, маркиза?
— Государь, — отвечала бедная женщина, все более краснея, — она пригласила меня к завтраку. Я отговорилась тем, что несвободна, что служба предписывает мне находиться с восьми часов утра при ее королевском высочестве; было велено ответить мне, чтобы я пришла в семь, она меня долго не задержит; и действительно, государь, я вышла оттуда через полчаса.
— Вы можете быть спокойны, сударыня, я объяснюсь с графиней, и справедливость восторжествует; но в ваших собственных интересах я прошу вас не слишком предавать огласке это приключение — главное, чтобы ваш муж ничего не знал. Мужья в этом отношении чертовские ханжи.
— О, что касается меня, ваше величество, можете быть уверены, что я сумею молчать; но графиня, моя противница, я убеждена, уже похвасталась своим самым близким друзьям только что совершенным поступком, и завтра весь двор узнает… О Боже мой! Боже мой! Как я несчастна!
И маркиза закрыла лицо руками, рискуя разбавить слезами свой румянец.
— Успокойтесь, маркиза, — сказал король, — двор не смог бы выбрать более очаровательного объекта для насмешек, чем вы. И если об этом будут говорить, то лишь из зависти, как некогда на Олимпе говорили о подобном случае, приключившемся с Психеей. Я знаю, что некоторые из наших чопорных дам не утешились бы так быстро, как сможете утешиться вы, ведь вам, маркиза, в этом случае нечего было терять.
Маркиза сделала реверанс и покраснела еще больше, если это было возможно.
Король смотрел на ее румянец и любовался ее слезами.
— Послушайте, — сказал он, — возвращайтесь к себе, утрите эти прелестные глаза; сегодня вечером за карточной игрой мы все это уладим, я вам обещаю.
С галантностью и изяществом манер, присущими его роду, он проводил молодую женщину до двери, за которой ей предстояло пройти сквозь толпу придворных, в высшей степени удивленных и заинтригованных.
Герцог д'Айен, дежурный капитан гвардии, подошел к королю и молча склонился перед ним, ожидая приказаний.
— Теперь к мессе, герцог д'Айен, к мессе, после того как я покончил с ремеслом исповедника, — сказал король.
— Такая очаровательная кающаяся могла совершить только очаровательные грехи, государь.
— Увы! Бедное дитя, она искупает не свои грехи, — продолжал король, проходя по большой галерее и направляясь в часовню.
Герцог д'Айен следовал на шаг сзади, достаточно близко, чтобы слышать короля и отвечать ему, но не оказаться рядом с ним: так требовал этикет.
— Наверное, каждый был бы счастлив оказаться ее сообщником даже в преступлении, разумеется, любовном, государь.
— Ее грех — это грех графини.
— О, что касается этих грехов, то ваше величество знаете их все.
— Несомненно, на милую графиню клевещут. Она сумасбродна, даже безумна, как в случае, о котором идет речь и за который ей от меня достанется; но у нее добрейшее сердце. Что бы дурное мне о ней ни говорили, я этому не поверю. Черт побери! Я хорошо знаю, что я у нее не первый любовник и что в обретении ее милостей я наследую Радиксу де Сент-Фуа.
— Да, государь, — мгновенно ответил герцог со своей обычной злой насмешливостью, облеченной в самую изысканную форму, — подобно тому как ваше величество наследуете королю Фарамонду.
Король при всем своем уме не в силах был ничего противопоставить этому сильному противнику, кроме досады. Он почувствовал смешную сторону этих слов, но притворился, что не понял. Он поспешил заговорить с неким кавалером ордена Святого Людовика, встретившимся ему на пути. Людовик XV был добродушен и покладист; он прощал многие вольности тем своим близким друзьям, кому положено было его забавлять; остальное ему было безразлично. Правом говорить все, что вздумается, особенно пользовался герцог д'Айен. Всемогущая г-жа Дюбарри никогда и не помышляла бороться с ним: его имя, его положение, прежде всего его ум казались ей неуязвимыми.
Во время мессы король был рассеян: он думал о том, какую бурю вызовет новая выходка г-жи Дюбарри, когда весть о ней дойдет до ушей дофина. Этот принц только накануне отчитал графиню за то, что она без его ведома предоставила место конюшего при его дворе виконту Дюбарри, своему деверю.
— Пусть он и близко не подходит ко мне, — сказал дофин, — или я велю моим людям его выгнать.
Конечно, подобное настроение не предвещало снисходительности к грубой шутке, которую позволила себе графиня. И Людовик XV вышел из часовни, сознавая, что оказался в достаточно затруднительном положении. Прежде чем отправиться в совет, он прошел к дофине. Она была чудесно одета, а прическу ее венчала восхитительная бриллиантовая диадема.
— У вас великолепное украшение, сударыня, — сказал король.
— Вы находите, государь? Но разве ваше величество не узнает его?
— Я?
— Конечно, ибо ваше величество приказали, чтобы мне его принесли.
— Я не знаю, о чем вы говорите.
— Однако все это очень легко объяснить. Вчера в Версальский дворец прибыл один ювелир с этой драгоценностью, заказанной вашим величеством и украшенной лилиями и королевской короной. Поскольку Господь взял от нас королеву, ювелир решил, что одна я имею право носить это украшение. Поэтому он и предложил его мне; без сомнения, он сделал это по вашему приказу и сообразно вашему намерению.
Король покраснел и ничего не ответил.
«Вот еще одно дурное предзнаменование, — подумал он. — Графиня непременно должна была создать мне новое затруднение своей дурацкой историей с маркизой».
— Будете вы сегодня вечером на игре, сударыня? — спросил он вслух. г
— Если ваше величестве мне прикажет.
— Приказывать вам, дочь моя! Я вас прошу об этом, вы мне доставите удовольствие.
Дофина холодно поклонилась. Король видел, что не сможет ее развеселить; отговорившись заседанием совета, он вышел.
— Мои дети не любят меня, — сказал он не покидавшему его герцогу д'Айену.
— Ваше величество, вы заблуждаетесь. Я могу уверить вас, что вы, по меньшей мере, столь же любимы своими августейшими детьми, сколь любите их сами.
Людовик XV понял насмешку, но не подал вида. Он сделал это умышленно. Герцога д'Айена пришлось бы изгонять десять раз в день, а скука, вызванная отсутствием г-на де Шовелена, заставила короля лучше чем когда-либо понять, насколько необходимо ему присутствие его придворных любимцев.
— Ба! — говорил он, — как бы они меня ни щекотали, кожу с меня они не сдерут. Это продлится до тех пор, пока я жив, а мой преемник пусть выпутывается как сможет.
Странная беззаботность, наказание за которую столь роковым образом должен был нести несчастный Людовик XVI!
X. ИГРА У КОРОЛЯ
Войдя к графине, король собирался сделать ей выговор, но он прочел на ее лице дурное настроение, за которым чувствовалось клокотание глухого гнева, вот-вот готового прорваться.
Людовик XV был слаб. Он боялся сцен, от кого бы они ни исходили — от дочерей, от внуков, от невесток или от любовницы, — и тем не менее, как все люди, оказавшиеся между любовницей и семьей, он беспрестанно вынужден был терпеть эти сцены.
На сей раз он решил предотвратить готовящееся сражение, призвав себе на помощь союзника.
И вот, бросив на графиню взгляд — этого ему было достаточно, чтобы свериться с барометром ее настроения, — он осмотрелся кругом.
— Где Шовелен?
— Господин де Шовелен, государь? — спросила графиня.
— Да, господин де Шовелен.
— Но мне кажется — и вы это знаете лучше чем кто-либо, — что вовсе не у меня надо спрашивать о господине де Шовелене, государь.
— Почему это?
— Да потому, что он не принадлежит к числу моих друзей, а раз он не принадлежит к числу моих друзей, то, само собой разумеется, вам следует искать его в другом месте, а не у меня.
— Я сказал ему, чтобы он подождал меня у вас.
— Что ж, он, видимо, счел возможным не подчиниться приказу короля и, честное слово… хорошо сделал, если решил вас ослушаться, вместо того чтобы, как в прошлый раз, явиться оскорблять меня.
— Хорошо, хорошо; я хочу, чтобы состоялось примирение.
— С господином де Шовеленом? — спросила графиня.
— Со всеми, черт возьми!
И, переведя взгляд на золовку графини, притворявшуюся, будто она выравнивает фарфоровые статуэтки на консоли, король сказал:
— Шон!
— Государь?
— Подите сюда, дочь моя. Шон подошла к королю.
— Сделайте мне удовольствие, сестричка, прикажите, чтобы тотчас пошли за Шовеленом.
Шон поклонилась и отправилась исполнять приказание короля.
Госпожа Дюбарри, раздраженно дернув головой, отвернулась от его величества.
— Ну вот! Чем вызвано ваше неудовольствие, графиня? — спросил король.
— О! Я понимаю, — ответила та, — что господин де Шовелен пользуется полной вашей благосклонностью и что вы не можете без него обойтись, ведь он так жаждет вам понравиться и так уважает тех, кого вы любите.
Людовик почувствовал, что гроза приближается. Он решил прервать смерч пушечным выстрелом.
— Шовелен, — сказал он, — не единственный, кто относится без должного уважения ко мне и к моим родственникам.
— О, я знаю, что вы дальше скажете! — воскликнула г-жа Дюбарри. — Ваши парижане, ваш парламент, даже ваши придворные, не считая тех, кого я не хочу называть, выказывают неуважение к королю и делают это наперегонки, наперебой, забавы ради.
Король смотрел на дерзкую молодую женщину с чувством, не лишенным жалости.
— Знаете ли вы, графиня, — сказал он, — что я не бессмертен и что игра, которую вы ведете, закончится для вас Бастилией или изгнанием из королевства, как только я закрою глаза?
— Ну и что ж! — сказала графиня.
— О, не смейтесь, это именно так.
— В самом деле, государь? Почему же?
— Сейчас я в двух словах приступлю к рассмотрению? вопроса.
— Жду приступа, государь.
— Что это за история с маркизой де Розен и что за вольность, причем весьма дурного вкуса, позволили вы себе в отношении бедной женщины? Вы забываете, что она имеет честь принадлежать ко двору ее высочества графини Прованской?
— Я, государь? Конечно, нет!
— Что ж, тогда отвечайте мне. Как вы позволили себе наказать маркизу де Розен словно маленькую девочку?
— Я, государь?
— Ну да, вы, — раздраженно сказал король.
— Ах! Этого еще недоставало! — воскликнула графиня, — я не ожидала выговора за то, что исполнила приказание вашего величества.
— Мое приказание?!
— Конечно. Не соблаговолит ли ваше величество вспомнить, что вы мне ответили, когда я жаловалась вам на невежливость маркизы?
— Честное слово, нет. Я уже не помню.
— Так вот, ваше величество мне сказали: «Что вы хотите, графиня? Маркиза — ребенок, которого надо было бы высечь».
— Ну, черт побери, слова еще не основание, чтобы делать это! — воскликнул король, невольно краснея, ибо вспомнил, что он произнес слово в слово фразу, только что процитированную графиней.
— А поскольку, — сказала г-жа Дюбарри, — малейшее желание вашего величества для вашей покорнейшей слуги равносильно приказанию, я постаралась выполнить это желание так же, как и остальные.
Король не мог удержаться от смеха при виде невозмутимой серьезности графини.
— Так, значит, это я виноват? — спросил он.
— Несомненно, государь.
— Значит, я и должен загладить ошибку.
— Очевидно.
— Идет; в таком случае, графиня, вы от моего имени пригласите маркизу на ужин и положите под ее салфетку патент на чин полковника — чин, которого ее муж домогается уже полгода и который я, конечно, не дал бы ему так скоро, если бы не этот случай; таким образом, оскорбление будет заглажено.
— Очень хорошо! Это касается оскорбления, нанесенного маркизе, а как быть с тем, что нанесено мне?
— Как? Вам?
— Да; кто его загладит?
— Какое оскорбление вам нанесли? Скажите, прошу вас.
— О! Это очаровательно, и вы еще притворяетесь удивленным!
— Я не притворяюсь, милый друг, я вполне искренне и вполне серьезно удивлен.
— Вы идете от ее высочества дофины, не так ли?
— Да.
— Тогда вы хорошо знаете, какую штуку она со мной сыграла.
— Нет, даю слово; скажите.
— Так вот: вчера мой ювелир одновременно принес нам драгоценности — ей ожерелье, а мне бриллиантовую диадему.
— И что же?
— Что?
— Да.
— А то, что, взяв свое ожерелье, она попросила показать ей мою диадему.
— А!
— И поскольку моя диадема была украшена гербовыми лилиями, она сказала: «Вы ошибаетесь, милый господин Бёмер, эта диадема предназначена вовсе не графине, а мне; доказательство — эти три французские лилии, которые после смерти королевы только я имею право носить».
— И таким образом…
— Таким образом, оробевший ювелир не посмел противиться приказанию ее высочества дофины; он оставил ей бриллиантовую диадему, прибежал ко мне и сказал, что моя драгоценность перехвачена по дороге.
— Ну, и что же вы хотите от меня, графиня?
— Вот так так! Разумеется, я хочу, чтобы вы приказали вернуть мне мою диадему.
— Вернуть вам вашу диадему?
— Конечно.
— Приказать дофине? Вы с ума сошли, дорогая.
— Как это? Я сошла с ума?
— Да; лучше я вам подарю другую.
— Ах, прекрасно; мне остается только на это и рассчитывать.
— Я вам ее обещаю, слово дворянина.
— Прекрасно! И я получу ее через год, самое раннее через полгода, как это забавно!
— Сударыня, эта отсрочка будет для вас предостережением.
— Предостережением мне? Насчет чего же?
— Насчет того, чтобы впредь вы не были столь честолюбивы.
— Честолюбива? Я?
— Несомненно! Вы помните, что сказал на днях господин де Шовелен?
— А, ваш Шовелен говорит одни глупости.
— Но, в конце концов, кто разрешил вам носить герб Франции?
— То есть как это кто мне разрешил? Вы.
— Я?
— Да, вы! У болонки, которую вы мне на днях подарили, он был на ошейнике; так почему бы мне не носить его на голове? Впрочем, я знаю, откуда все это исходит, мне об этом сказали.
— Ну-ка, о чем это еще вам сказали?
— О ваших проектах, черт возьми!
— Что ж, графиня, расскажите мне о моих проектах; честное слово, мне доставит удовольствие о них узнать.
— И вы будете отрицать, что идет речь о вашем браке с принцессой де Ламбаль, что господин де Шовелен и вся клика дофина и его супруги подталкивают вас к этому браку?
— Сударыня, — строго сказал король, — я вовсе не намерен отрицать, что в ваших словах есть доля правды, и добавлю даже, что мог бы сделать кое-что похуже. Вы это знаете лучше, чем кто-либо; ведь именно вы, графиня, заставляли меня подумывать о втором браке.
Эти слова заставили графиню умолкнуть; продолжая выказывать дурное настроение, она уселась в другом конце кабинета и разбила две фарфоровые статуэтки.
— Ах, Шовелен был прав, — пробормотал король, — корона плохо выглядит в руках амуров.
Наступило недовольное молчание; в это время вернулась мадемуазель Дюбарри.
— Государь, — сказала она, — господина де Шовелена нигде не могут найти; полагают, что он заперся у себя; но как я ни стучала в его дверь, как ни звала его, он отказывается отвечать.
— О Боже мой! — воскликнул король, — не случилось ли с ним чего-нибудь? Не заболел ли он? Скорее, скорее! Пусть взломают дверь!
— О нет, государь, он вовсе не болен, — подходя к нему, насмешливо сказала графиня, — потому что, расставаясь с принцем де Субизом и моим деверем Жаном в гостиной Бычий глаз, он заявил, что будет работать весь день над неотложными делами, но не преминет быть вечером на игре у вашего величества.
Король воспользовался этим возвращением графини: оно открывало какую-то возможность перемирия.
— Должно быть, — сказал он, — пишет исповедь в назидание своему камальдульцу.
И, обернувшись к г-же Дюбарри, продолжал:
— Кстати, графиня, вы знаете, что лекарство Борде действует чудесно? Знаете, что другого я уже не хочу? К черту Боннара и Ламартиньера со всеми их диетами! Честное слово, это лекарство омолодит меня!
— Полно, государь! — сказала Шон. — Что за надобность вашему величеству вечно говорить о старости? Э, Боже мой! Разве ваше величество не в том же возрасте, что и все?
— Вот еще! — воскликнул король. — Вы вроде этого отъявленного дурака д'Омона: я жалуюсь ему на днях, что У меня не осталось зубов, а он мне отвечает, показывая вставные челюсти, которыми можно взламывать замки: «Эх, государь, у кого теперь есть зубы?»
— У меня, — сказала графиня, — и я даже предупреждаю, что искусаю вас, и до крови, если вы будете и дальше жертвовать мною ради всех.
И она вновь уселась рядом с королем, показывая ему блестящий ряд жемчужных зубов — в них невозможно было увидеть какую-нибудь угрозу.
И король, пренебрегая опасностью быть укушенным, приблизил свои губы к прекрасным розовым губам графини; она сделала знак Шон, и та подобрала осколки статуэток.
— Славно! — сказала она, — все, что падает в ров, достается солдату. И, бросив последний взгляд на короля и графиню, Шон тихонько добавила:
— Решительно, я верю, что Борде — великий человек. И она вышла, оставив свою невестку на пути к примирению.
Вечером, в шесть часов, началась игра у короля. Господин де Шовелен сдержал свое обещание и появился одним из первых. Графиня, со своей стороны, прибыла в парадном туалете, так как известно было, что на игре должна присутствовать дофина.
Маркиз и графиня при встрече раскланялись с самым любезным видом.
— Боже мой, господин де Шовелен, — сказала графиня с одной из тех обоюдоострых улыбок, лезвия которых так умеют оттачивать придворные, — до чего вы красны! Можно подумать, что у вас вот-вот будет апоплексический удар. Маркиз, маркиз, покажитесь Борде: без Борде нет спасения.
И, обернувшись к королю с улыбкой, способной погубить самого папу, она добавила:
— Спросите хоть у короля.
Господин де Шовелен поклонился:
— Я, разумеется, не премину это сделать, сударыня.
— И выполните тем самым долг верноподданного: вам надо заботиться о своем здоровье, дорогой маркиз, ведь вам предстоит всего на два месяца опередить…
— Я, наоборот, хотел бы опередить вас, — сказал король, — ибо тогда вы, Шовелен, были бы уверены, что проживете сто лет; поэтому могу лишь повторить вам совет графини: полечитесь у Борде, мой друг, полечитесь у Борде.
— Государь, каков бы ни был назначенный час моей смерти — а один лишь Господь знает час смерти человека, — я обещал моему королю, что умру у его ног.
— Тьфу, Шовелен! Есть обещания, которые даются, но не выполняются; спросите хоть у этих дам; но если вы будете таким печальным, как сейчас, милый друг, то это мы умрем от огорчения при одном взгляде на вас. Послушайте, Шовелен, будем мы сегодня играть?
— Как пожелает ваше величество.
— Хотите выиграть у меня партию в ломбер?
— Я к услугам вашего величества.
Господин де Шовелен и король сели друг против друга за отдельный столик.
— Ну, Шовелен, будьте внимательны, — сказал король, — и готовьтесь к отпору; если вы больны, то я никогда так хорошо себя не чувствовал. Мне хочется безумного веселья; а главное — берегите хорошенько ваши деньги: мне надо расплатиться с Ротье за зеркало и с Бёмером за бриллиантовую диадему.
Госпожа Дюбарри поджала губы.
Но маркиз не ответил и с трудом привстал со стула.
— Государь, здесь очень натоплено! — пробормотал он.
— Это правда, — ответил король (вместо того чтобы рассердиться, подобно Людовику XIV, на такое нарушение законов этикета, он вышел из затруднения, призвав на помощь эгоизм), — да, слава Богу, здесь жарко, ведь в марте прохладные вечера.
Вымученно улыбнувшись, маркиз с трудом взял карты. Король продолжал:
— Ну, вам начинать, Шовелен.
— Да, государь, — пробормотал маркиз и склонил голову.
— У вас хорошая игра? Посмотрим-ка. Тьфу, черт возьми, как говорил мой предок Генрих Четвертый, до чего же вы скучны сегодня!
Потом, посмотрев в свои карты, король прибавил:
— А! Думаю, что на этот раз, милый друг, вы будете разорены.
Маркиз сделал страшное усилие, пытаясь заговорить; лицо его так покраснело, что король в страхе запнулся.
— Да что с вами, Шовелен? — спросил он. — Послушайте, ответьте же! Господин де Шовелен вытянул руки, уронил карты и со вздохом упал лицом на ковер.
— Боже мой! — вскричал король.
— Апоплексический удар! — пробормотали несколько засуетившихся придворных.
Маркиза подняли, но он больше не шевелился.
— Уберите, уберите это, — сказал король в ужасе, — уберите!
И, с нервной дрожью отойдя от стола, он вцепился в руку графини Дюбарри, и она увела его к себе; ни разу не повернул он головы, чтобы взглянуть на друга, без кого еще накануне не мог обойтись.
Когда ушел король, никто больше не думал о несчастном маркизе.
Его тело продолжало оставаться опрокинутым на кресло: маркиза подняли, чтобы убедиться в его смерти, а потом уронили навзничь.
Странное впечатление производил этот труп — один в покинутой гостиной, среди струящихся огнями люстр и благоухающих цветов.
Через мгновение на пороге опустевшей гостиной появился человек. Он оглядел комнату, увидел маркиза, опрокинутого на кресло, подошел к нему, приложил руку к его сердцу и в ту самую минуту, когда на больших стенных часах пробило семь, сказал сухим и отчетливым голосом:
— Он скончался. Прекрасная смерть, клянусь телом Христовым! Прекрасная смерть!
Это был доктор Ламартиньер.
XI. ВИДЕНИЕ
Утром того же дня отец Делар прибыл в Гробуа пораньше с намерением отслужить мессу в часовне, чтобы не дать остыть в глазах ангелов добрым намерениям, какие маркиз выказал накануне. И тут г-жа де Шовелен со слезами на глазах рассказала ему обо всех своих страхах по поводу столь сомнительного теперь спасения неофита, ускользнувшего от них при первом же слове дружбы, присланном ему королем.
Она оставила своего духовника обедать, чтобы подольше поговорить с ним и почерпнуть в его мудрых советах мужество, а она так нуждалась в этом после своего нового разочарования.
Выйдя из-за стола, г-жа де Шовелен и отец Делар довольно долго прогуливались в парке; они велели принести себе стулья на берег красивого пруда, чтобы подышать там первым весенним ветерком после достаточно жаркого дня.
— Преподобный отец, — говорила маркиза, — несмотря на все утешительное, что я нахожу в ваших словах, этот отъезд господина де Шовелена меня сильно беспокоит. Я знаю, насколько он привязан к жизни двора; я знаю, что король имеет полную власть не только над его умом, но и над его сердцем, а поведение его величества столь далеко от образцового… Я думаю, святой отец, что вовсе не будет грехом сказать так. Увы, скандал становится слишком гласным!
— Уверяю вас, сударыня, что господин маркиз испытал благотворное впечатление; это лишь начало; время и Провидение сделают остальное. Я говорил об этом сегодня утром с нашим преподобным настоятелем он распорядился возносить молитвы в монастыре; молитесь и вы, дочь моя, вы, более всех участвующая в этом великом деле, пусть молятся ваши дети, будем молиться все. Я отслужил с этой целью мессу в часовне замка и буду делать это ежедневно.
— За двадцать лет моего союза с господином де Шовеленом, — отвечала маркиза, — не было ни одного часа, когда я не просила бы Бога тронуть его сердце. До сих пор Господь не внял моим мольбам. Я жила одна, чаще всего в печали и слезах; вы это знаете, святой отец. Я страдала в одиночестве от страхов, не в силах их преодолеть; Бог, по-видимому, не считал меня достаточно безгрешной, чтобы даровать мне победу. Мне надо было страдать еще, чтобы купить эту милость. Я буду страдать. Да сбудется воля Вседержителя!
Тем временем позади маркизы и отца Делара с детьми прогуливался наставник и, почти столь же юный, как они; аббату было всего восемнадцати лет, и он делил с ними их забавы.
— Брат мой, — сказал старший, — вы знаете, какая игра сейчас в моде при дворе?
— Да, конечно, отец сказал мне вчера за ужином: это ломбер.
— Что ж, сыграем в ломбер!
— Это невозможно; прежде всего нужны карты, а кроме того, мы не знаем, как в него играют.
— Один начинает.
— А другой?
— Ну… а другой, наверное, боится и поэтому проигрывает.
— Брат мой, — сказал старший, — не будем говорить о картах; вы знаете, что наша мать не любит этого, она утверждает, что карты приносят несчастье.
В это время г-жа де Шовелен поднялась.
— Маменька уходит в парк, — ответил младший, провожая ее глазами, — и поэтому нас не увидит. К тому же с нами господин аббат, он предупредил бы нас, если бы это было дурно.
— Всегда дурно, — сказал наставник, — доставлять огорчение своей матери.
— О! Но мой отец играет в карты, — возразил ребенок с той неуступчивой логикой, которая, как всякая слабость, цепляется за любую мало-мальски надежную опору. — Значит, мы можем играть, раз мой отец играет.
Аббат не нашелся, что ответить, и ребенок продолжал:
— А-а, вот маменька прощается с отцом Деларом; она провожает его к воротам… он собирается уходить. Подождем: маменька, как только отец Делар уйдет, вернется в свою молельню, и мы возвратимся в замок вслед за ней, велим подать карты и сыграем.
Дети провожали глазами мать: удаляясь, она исчезала в сгущавшихся сумерках.
Стоял один из тех прелестных вечеров, которые предшествуют весенней жаре; деревья были еще обнажены, но в их набухших и пушистых почках таилось предчувствие будущей листвы. На некоторых, самых торопливых, например на каштанах и липах, почки начинали лопаться, бросая навстречу дневному свету спрятанное в них весеннее сокровище.
Воздух был тих; в нем начали появляться поденки, рождающиеся вместе с весной и исчезающие вместе с осенью. Видно было, как они тысячами резвятся в последних лучах заходящего солнца, превращавшего реку в широкую пурпурно-золотую ленту, в то время как на востоке, то есть в той стороне парка, куда углубилась г-жа де Шовелен, все предметы начали смешиваться, приобретая тот прекрасный синеватый колорит, что составляет привилегию лишь некоторых времен года.
Во всей природе был разлит безмерный покой, царило бесконечное великолепие.
Среди этой тишины пробило семь часов на башне замка; звуки долго дрожали в вечернем ветре.
Внезапно маркиза, прощавшаяся с камальдульцем, громко вскрикнула.
— Что случилось? — спросил преподобный отец, возвращаясь, — что с вами, госпожа маркиза?
— Со мной? Ничего, ничего! О Боже мой! Маркиза заметно побледнела.
— Но вы кричали!.. Но вы испытали какое-то страдание!.. Да вы и сейчас еще бледны. Что с вами? Во имя Неба, что с вами?
— Невозможно. Мои глаза меня обманывают.
— Что вы видите? Скажите, скажите, сударыня.
— Нет, ничего. Камальдулец настаивал.
— Ничего, ничего, говорю я вам, — отвечала г-жа де Шовелен, — ничего! Голос замер на ее устах, взгляд был неподвижен, в то время как рука, белая, точно из слоновой кости, медленно поднималась, чтобы указать на что-то, чего не видел монах.
— Сделайте милость, сударыня, — настаивал отец Делар, — скажите мне, что вы видите.
— О, я не вижу ничего, нет, нет, это безумие! — воскликнула г-жа де Шовелен, — и тем не менее… о! Но посмотрите же, посмотрите же!
— Куда?
— Там, там, видите?
— Я ничего не вижу.
— Вы ничего не видите вон там, там?..
— Решительно ничего; но вы, сударыня, скажите, что видите вы?
— О, я вижу… я вижу… Но нет, это невозможно.
— Скажите.
— Я вижу господина де Шовелена в придворном платье, но бледного и идущего медленными шагами; он прошел вон там, там.
— Боже милостивый!
— Он прошел, не видя меня! Вы понимаете? А если и видел, то не заговорил со мной! Это еще более странно.
— А в эту минуту вы по-прежнему его видите?
— По-прежнему.
И палец, и глаза маркизы указывали направление, в каком шел маркиз, оставаясь невидимым для взгляда отца Делара.
— Но куда он идет, сударыня?
— В сторону замка; он проходит там, возле большого дуба, там… Смотрите, смотрите, вот он приближается к детям; за купой деревьев он поворачивает. Он исчезает. О, если дети все еще там, где они были, не может быть, чтобы они его не видели.
В то же мгновение раздался крик, заставивший г-жу де Шовелен вздрогнуть.
Это был крик обоих детей.
Он прозвучал так печально и так мрачно в темнеющем пространстве, что маркиза едва не упала навзничь.
Отец Делар подхватил ее.
— Вы слышите? — прошептала она. — Вы слышите?
— Да, — ответил отец Делар, — в самом деле был чей-то крик.
Почти тотчас маркиза увидела или, вернее, почувствовала, что к ней подбегают дети. Слышен был их стремительный бег по песку аллей.
— Маменька! Маменька! Вы видели? — кричал старший.
— Маменька! Маменька! Вы видели? — кричал младший.
— О сударыня, не слушайте их! — говорил аббат (он бежал сзади и запыхался, стараясь их догнать: настолько быстрым был их бег).
— Ну, дети, что случилось? — спросила г-жа де Шовелен. Но они не отвечали и лишь прижались к ней.
— Да ну же, — сказала она, лаская их, — что произошло? Говорите!
Дети переглянулись.
— Говори ты, — сказал старший младшему.
— Нет, говори ты.
— Ну хорошо, маменька, — сказал старший, — ведь вы видели его, как и мы?
— Вы слышите? — воскликнула маркиза, воздев руки к небу. — Вы слышите, святой отец?
И она сжала холодными как лед руками дрожащую руку камальдульца.
— Видели? Кого видели? — с трепетом спросил тот.
— Нашего отца, — сказал младший, — разве вы его не видели, маменька? Однако он шел с вашей стороны, он должен был пройти совсем близко от вас.
— О! Какое счастье! — воскликнул старший, хлопая в ладоши. — Вот папа и вернулся!
Госпожа де Шовелен повернулась к аббату.
— Сударыня, — сказал он, поняв ее вопросительный взгляд, — могу заверить вас, что эти господа ошибаются, утверждая, будто видели господина маркиза. Я был рядом с ними, и я заявляю, что никто…
— А я, сударь, — перебил старший, — говорю вам, что только что видел отца, как вижу вас.
— Фи, господин аббат, фи! Как некрасиво лгать! — сказал младший.
— Это странно! — произнес отец Делар. Маркиза покачала головой.
— Они ничего не видели, сударыня, — повторил наставник, — ничего, решительно ничего.
— Подождите, — сказала маркиза.
И, обратившись к сыновьям с той материнской нежностью в голосе, которая заставляет улыбаться самого Бога, сказала:
— Дети мои, вы говорите, что видели своего отца?
— Да, маменька, — ответили оба вместе.
— Как он был одет?
— На нем был красный придворный кафтан, голубая лента, белый вышитый золотом камзол, кюлоты из такого же бархата, что и кафтан, шелковые чулки, башмаки с пряжками, а на боку была шпага.
По мере того как старший перечислял детали костюма отца, младший кивал в знак подтверждения.
И при каждом кивке младшего г-жа де Шовелен холодеющей рукою сжимала руку камальдульца. Именно таким она видела своего мужа.
— Скажите, не было ли во внешности вашего отца чего-нибудь особенного?
— Он был очень бледен, — сказал старший.
— О да, очень бледен, — подтвердил младший, — его можно было принять за мертвеца.
Все вздрогнули: мать, аббат, духовник — настолько сильным было выражение ужаса, слышавшееся в словах ребенка.
— Куда он направлялся? — спросила наконец маркиза, тщетно пытаясь придать твердость голосу.
— В сторону замка, — сказал старший.
— А я, — добавил младший, — на бегу обернулся и видел, как он всходил на крыльцо.
— Слышите? Слышите? — шептала мать на ухо монаху.
— Да, сударыня, слышу, но, признаюсь, не понимаю. Как прошел господин де Шовелен пешком в ворота и не остановился перед вами? Как прошел он мимо своих сыновей, опять-таки не остановившись? Как, наконец, вошел он в замок, причем никто из прислуги его не заметил и сам он никого не позвал?
— Вы правы, — сказал аббат, — все это поистине удивительно.
— Впрочем, — продолжал отец Делар, — проверить это можно очень просто.
— Мы пойдем посмотрим! — закричали дети, готовясь бежать к замку.
— И я тоже, — сказал аббат.
— И я тоже, — прошептала маркиза.
— Сударыня, — сказал камальдулец, — вы так возбуждены, так бледны от страха: ведь если это господин де Шовелен — я допускаю, что это он, — то есть ли из-за чего пугаться?
— Святой отец, — сказала маркиза, взглянув на монаха, — если он появился вот так, таинственно, один, разве не находите вы это происшествие весьма странным?
— Вот поэтому-то все мы ошибаемся, сударыня; вот поэтому-то, несомненно, следует полагать, что сюда проник кто-то посторонний, может быть, злоумышленник.
— Но злоумышленник, какой бы злой умысел он ни питал, — сказал аббат, — обладает телом, и это тело вы бы увидели, да и я тоже, святой отец; между тем как — и вот это действительно странно — госпожа маркиза и эти господа его видели, а мы с вами — только мы! — нет.
— Это не имеет значения, — ответил монах, — но в любом случае, может быть, лучше, чтобы госпожа маркиза и дети удалились в оранжерею, а что касается нас, мы пойдем в замок; позовем слуг и убедимся, кто же такой этот пришелец. Идемте, сударыня, идемте.
У маркизы не было сил; бессознательно подчинившись, она вместе с сыновьями, ни на миг не теряя из виду окон замка, ушла в оранжерею.
Там, встав на колени, она сказала:
— Помолимся пока, сыновья мои, ибо есть душа, которая в этот миг просит моей молитвы.
XII. ЧЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
Тем временем монах и аббат продолжали путь к замку; однако, подойдя к главному входу, они остановились и стали совещаться, не следует ли сначала отправиться к службам и позвать слуг, собравшихся в этот час за ужином, чтобы они обыскали здания.
Такое предложение внесено было благоразумным камальдульцем, и аббат готов был уже с ним согласиться, как вдруг они увидели, что отворилась маленькая дверь и появился Бонбонн; старый управляющий бежал к ним так быстро, как только позволял его преклонный возраст. Он был бледен, дрожал, размахивал руками и разговаривал с самим собой.
— В чем дело? — спросил аббат, делая несколько шагов ему навстречу.
— Ах, Боже мой! Боже мой! — восклицал Бонбонн.
— Да что с вами случилось? — в свою очередь спросил камальдулец.
— Случилось то, что у меня было ужасное видение. Монах и аббат переглянулись.
— Видение? — повторил монах.
— Полноте! Это невозможно, — сказал аббат.
— Но это так, говорю вам, — настаивал Бонбонн.
— И что за видение? Скажите.
— Да, что вы видели?
— Я видел… по правде говоря, еще и сам не знаю что, но, как бы то ни было, — видел.
— В таком случае объяснитесь.
— Ну так вот. Я был в комнате, где обычно работаю: она находится под большим кабинетом господина маркиза и, как вы знаете, соединена с этим кабинетом потайной лестницей. Я еще раз перелистывал документы, чтобы убедиться, что мы ничего не забыли, составляя завещание, столь необходимое для будущего всей семьи. Только что пробило семь часов; внезапно я слышу, что кто-то ходит в комнате, которую я вчера запер за господином маркизом и ключ от которой у меня в кармане. Я прислушиваюсь: да, это точно шаги. Снова прислушиваюсь: шаги раздаются у меня над головой. Наверху кто-то есть! И это еще не все; я слышу, как открывают ящики бюро господина де Шовелена. Я слышу, как двигают кресло, стоящее перед бюро, и притом без каких-либо предосторожностей. Это кажется мне все более и более удивительным. Моя первая мысль: в замок проникли воры. Но эти воры очень уж неосторожны или очень уверены в себе. Итак, что делать? Позвать слуг? Они в своих помещениях на другом конце дома. Пока я буду ходить за ними, у воров хватит времени скрыться. Я беру свое двуствольное ружье и поднимаюсь по маленькой лестнице, ведущей из моей комнаты в кабинет господина маркиза; пробираюсь на цыпочках и, приближаясь к последним ступенькам, все больше напрягаю слух. Я слышу, как кто-то не только все время двигается, но еще и стонет, хрипит, наконец, произносит бессвязные слова, проникающие в самую глубину моей души, ибо, надо вам признаться, чем ближе я подходил, тем больше мне казалось, что я слышу и узнаю голос господина маркиза.
— Странно! — воскликнул аббат.
— Да, да, странно! — повторил монах. — Продолжайте, Бонбонн, продолжайте.
— Наконец, — вновь заговорил управляющий, подойдя ближе к своим собеседникам как бы в поисках защиты, — наконец я посмотрел в замочную скважину и увидел в комнате яркий свет, хотя снаружи было совсем темно, да и ставни были закрыты, я сам их закрывал.
— Что было дальше?
— Звуки продолжались. Это были жалобы, похожие на предсмертный хрип. От моей смелости и следа не осталось. Однако я хотел досмотреть до конца. Сделав над собой усилие, я снова приник глазом к своему наблюдательному пункту и ясно увидел восковые свечи, зажженные вокруг фоба.
— О! Да вы с ума сошли, дорогой господин Бонбонн, — сказал монах, невольно вздрогнув.
— Я видел, видел, святой отец.
— Но, может быть, вы плохо видели, — сказал аббат.
— Говорю вам, господин аббат, что я видел это, как вижу вас; говорю вам, что я не потерял ни присутствия духа, ни здравого смысла.
— И тем не менее вы в ужасе убежали!
— Вовсе нет; наоборот, я остался, моля Бога и моего небесного заступника дать мне силы. Но внезапно послышался сильный грохот, свечи погасли, и все вновь погрузилось в темноту. Только тогда я спустился, вышел наружу и увидел вас. Теперь мы вместе. Вот ключ от кабинета. Вы духовное лицо и, следовательно, свободны от суеверных страхов. Хотите пойти со мной? Мы сами убедимся в том, что происходит.
— Идемте, — сказал камальдулец.
— Идемте, — повторил аббат.
И все трое вошли в замок — не через маленькую дверь, выпустившую Бонбонна, а через главный вход, впустивший маркиза.
В вестибюле, проходя мимо больших стенных фамильных часов, увенчанных гербом Шовеленов, управляющий поднял вверх только что зажженную им свечу.
— Ах! Этого еще недоставало! — сказал он, — очень странно. Наверное, кто-то трогал эти часы и испортил их.
— Почему это?
— Потому что я с детства вижу их в замке и с детства знаю, что они всегда ходят.
— И что же?
— Что же? Разве вы не видите, что они остановились?
— В семь часов, — сказал монах.
— В семь часов, — повторил аббат. И оба еще раз переглянулись.
— Итак!.. — прошептал аббат.
Монах произнес несколько слов, похожих на молитву.
Затем они поднялись по парадной лестнице и прошли по апартаментам маркиза, закрытым и пустынным. Эти огромные комнаты, освещаемые дрожащим огнем единственного светильника, который нес управляющий, выглядели торжественно и пугающе.
С сильно бьющимся сердцем подошли они к двери кабинета, остановились и внимательно прислушались.
— Вы слышите? — спросил управляющий.
— Прекрасно слышу, — сказал аббат.
— Что? — спросил монах.
— Как! Вы не слышите этого хрипа, подобного тому, какой издает человек в агонии?
— Да, правда, — сказали в один голос оба спутника управляющего.
— Значит, я не ошибался? — снова спросил тот.
— Дайте мне ключ, — сказал отец Делар, осеняя себя крестным знамением, — мы мужчины, честные люди, христиане и не должны ничего бояться; войдем!
Он отпер дверь; при этом, как ни веровал в Господа служитель Божий, рука его дрожала, когда он вставлял ключ в замок. Дверь открылась, и все трое остановились на пороге.
Комната была пуста.
Медленно вошли они в огромный кабинет, уставленный книгами и увешанный картинами. Все вещи были на своих местах, кроме портрета маркиза; этот портрет, переломив державший его гвоздь, сорвался со стены и лежал на полу; холст на месте головы был разорван.
Аббат показал управляющему на портрет и перевел дух.
— Вот причина вашего страха, — сказал он.
— Да, что касается шума, — ответил управляющий, — но эти жалобы, которые мы слышали? Разве их издавал портрет?
— Действительно, — сказал монах, — мы слышали стоны.
— А что на этом столе? — внезапно воскликнул Бонбонн.
— Что? Что такое на этом столе? — спросил аббат.
— Только что погашенная свеча, — сказал Бонбонн, — это свеча — она еще дымится! И пощупайте эту палочку сургуча — она даже не остыла.
— Правда, — сказали оба свидетеля происшествия, похожего на чудо.
— И вот печатка, — продолжал управляющий, — господин маркиз носил ее на часовой цепочке, а вот запечатанный конверт, адресованный нотариусу.
Аббат, ни жив ни мертв, упал на стул: у него не было сил бежать.
Монах остался стоять, не обнаруживая страха, с видом человека, равнодушного к делам этого мира; он пытался проникнуть в загадку, причины которой не знал и действие которой видел, не понимая, однако, ее цели.
Тем временем управляющий — ему придала храбрости его преданность — переворачивал одну за другой страницы завещания, которое он изучал накануне со своим хозяином.
Когда он дошел до последней страницы, лоб его покрылся холодным потом.
— Завещание подписано, — прошептал он.
Аббат подскочил на стуле, монах склонился над столом; управляющий смотрел то на того, то на другого.
Трое мужчин на мгновение замолчали, и безмолвие это было страшным; даже самый смелый из них чувствовал, что у него волосы встают дыбом.
Наконец взгляды всех троих вновь обратились к завещанию.
К нему была добавлена приписка; чернила, которыми она была сделана, еще не успели высохнуть.
Она гласила:
«Моя воля, чтобы тело мое было погребено в церкви кармелитов на площади Мобер, подле моих предков.
Совершено в замке Гробуа, 27 марта 1774 года, в семь часов вечера.
Подписано: Шовелен».
Обе подписи и приписка были сделаны менее твердою рукой, чем текст завещания, но вполне разборчиво.
— Прочтем «De profundis» 4, господа, — сказал управляющий, — ибо несомненно, что господин маркиз умер.
Все трое благоговейно опустились на колени и вместе прочли заупокойную молитву; затем, после нескольких минут торжественной сосредоточенности, поднялись.
— Мой бедный хозяин! — сказал Бонбонн. — Он обещал мне вернуться сюда, чтобы подписать это завещание, и сдержал свое слово. Да смилуется Господь над его душою!
Управляющий вложил завещание в конверт и, снова взяв свой светильник, знаком показал спутникам, что можно уходить.
Вслух он добавил:
— Здесь нам больше нечего делать; вернемся к вдове и сиротам.
— Но вы не отдадите этот конверт маркизе? — сказал аббат. — О Боже мой, не вздумайте сделать что-нибудь подобное, заклинаю вас Небом!
— Будьте спокойны, — сказал управляющий, — этот конверт из моих рук перейдет только в руки нотариуса; мой хозяин избрал меня душеприказчиком, поскольку он позволил мне увидеть то, что я видел, и услышать то, что я слышал. И я не успокоюсь, пока не будет исполнена его последняя воля, а затем присоединюсь к нему. Глаза, ставшие свидетелями подобного, должны поскорее закрыться.
И с этими словами Бонбонн, выйдя последним из кабинета, запер за собою дверь; все трое спустились по лестнице, с робостью взглянули на остановившиеся часы и, сойдя с крыльца, направились к оранжерее, где их ждали маркиза и ее дети.
Все они еще молились: мать на коленях, сыновья — стоя рядом с ней.
— Ну что? — воскликнула она, поспешно поднявшись при появлении троих мужчин, — ну что?
— Что это было? — спрашивали дети.
— Продолжайте вашу молитву, сударыня, — сказал отец Делар, — вы не ошиблись; по особой своей милости, дарованной, без сомнения, вашему благочестию, Господь позволил, чтобы душа господина де Шовелена явилась попрощаться с вами.
— О святой отец! — воскликнула маркиза, воздевая руки к небу. — Вы же видите, что я не ошиблась!
И, вновь упав на колени, она возобновила прерванную молитву, сделав детям знак последовать ее примеру.
Два часа спустя во дворе раздался звон бубенцов; он заставил г-жу де Шовелен, сидевшую между постелями уснувших детей, поднять голову.
На лестнице послышался возглас:
— Курьер короля!
В то же мгновение вошел лакей и подал маркизе продолговатый конверт с черной печатью.
Это было официальное сообщение о том, что маркиз умер в семь часов вечера от апоплексического удара во время карточной игры с королем.
XIII. СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XV
Со времени смерти г-на де Шовелена короля редко видели улыбающимся. Можно было подумать, что призрак маркиза идет с ним рядом при каждом его шаге. Немного отвлекала короля лишь езда в карете. Путешествия участились. Король ездил из Рамбуйе в Компьень, из Компьеня в Фонтенбло, из Фонтенбло в Версаль, но никогда не направлялся в Париж. Король ненавидел Париж после его бунта по поводу кровавых бань.
Но все эти прекрасные резиденции, вместо того чтобы развлечь короля, возвращали его к прошлому, прошлое — к воспоминаниям, воспоминания — к размышлениям. Вывести его из этих размышлений, печальных, горьких, глубоких, могла одна только г-жа Дюбарри, и поистине жаль было видеть, с каким старанием пытается это молодое и прекрасное существо согреть если не тело, то сердце старика.
Общество в это время разлагалось, как и монархия; за грунтовыми водами философии Вольтера, д'Аламбера и Дидро последовали скандальные ливни Бомарше. Бомарше опубликовал свой знаменитый «Мемуар» против советника Гезмана, и этот сановник, член суда Мопу, не смел больше появиться на своем месте.
Бомарше заставил начать репетиции «Севильского цирюльника», и уже шли разговоры о дерзостях, которые будет распространять со сцены философ Фигаро.
Приключение г-на де Фронзака вызвало скандал. Два приключения г-на маркиза де Сада вызвали ужас.
Общество идет уже не в пропасть, а в сточную канаву.
Все эти истории весьма постыдны, весьма грязны, но короля забавляют лишь они. Господин де Сартин делает из них некий дневник — это еще одна идея изобретательной г-жи Дюбарри, — и король читает его по утрам в постели. Этот дневник составляется во всех непотребных домах Парижа и особенно у знаменитой Гурдан.
Однажды король узнает из этого дневника, что г-н де Лорри, епископ Тарбский, накануне имел бесстыдство вернуться в Париж, привезя спрятанными в своей карете г-жу Гурдан и двух ее воспитанниц. На сей раз это уже было слишком; король велит предупредить великого раздавателя милостыни, и тот вызывает епископа к себе.
По счастью, все объясняется случайностью, к вящей славе целомудрия и милосердия прелата: возвращаясь в Версаль, епископ Тарбский увидел трех женщин, стоявших на дороге возле сломанной кареты; проникшись жалостью к их трудному положению, он предложил им место в своем экипаже. Гурдан нашла предложение забавным и приняла его.
И никто не хочет поверить в наивность прелата, каждый говорит ему:
— Как! Вы не знакомы с Гурдан! Да это поистине невероятно!
Среди всего этого объявлена «музыкальная война» между глюкистами и пиччинистами; двор разделяется на две партии.
Дофина, юная, поэтичная, музыкальная, ученица Глюка, считала наши оперы лишь собранием более или менее приятных песенок. Когда она увидела представления трагедий Расина, ей пришла мысль послать своему учителю «Ифигению в Авлиде», предложив ему пролить потоки музыки на благозвучные стихи Расина. Через шесть месяцев музыка была готова и Глюк сам привез партитуру в Париж.
Едва приехав, Глюк стал фаворитом дофины и получил право в любое время появляться в малых апартаментах.
Требуется привыкнуть ко всему, и особенно к грандиозному. Музыка Глюка не произвела при своем появлении того впечатления, которого можно было ожидать. Пустым сердцам, уставшим сердцам не нужна мысль, им достаточно звука: музыка утомительна, а звук развлекает.
Старое общество предпочло итальянскую музыку, предпочло звонкую погремушку благозвучному органу.
Госпожа Дюбарри — и из чувства противоречия, и потому, что немецкую музыку на первый план выдвигала ее высочество дофина, — вступилась за музыку итальянскую и послала Пиччини несколько либретто. Пиччини в ответ прислал партитуры; таким образом, молодое и старое общество раскололись на два лагеря.
Дело в том, что в среде этого старомодного французского общества пробивались совершенно новые идеи, подобно неведомым цветам, что растут в щелях между мрачными торцами мостовой, между растрескавшимися камнями старого замка.
Это были английские новшества: сады с тысячью убегающих аллей, с чащами, лужайками, цветочными клумбами, большими пространствами газонов; коттеджи; утренние прогулки дам без пудры и румян, в простых соломенных шляпах с широкими полями, украшенных васильком или маргариткой; мужчины на прогулке, правящие горячими лошадьми и сопровождаемые жокеями в черных шапочках, в камзолах с закругленными полами и кожаных штанах; четырехколесные фаэтоны, что произвели фурор; принцессы, одетые как пастушки; актрисы, одетые как королевы; это были Дюте, Гимар, Софи Арну, Прери, Клеофиль, обильно украшавшие себя бриллиантами, в то время как дофина, принцесса де Ламбаль, г-жи де Полиньяк, де Ланжак и д'Адемар желали лишь обильно украшать себя цветами.
И при виде всего этого нового общества, идущего в неведомое, Людовик XV все ниже клонил голову. Напрасно сумасбродная графиня вертелась вокруг него — жужжащая, как пчела, легкая, как бабочка, сияющая, как колибри: король лишь время от времени с трудом поднимал отяжелевшую голову, и казалось, что на лицо его с каждым мгновением все явственнее ложится печать смерти.
Дело в том, что время истекало; дело в том, что пошел второй месяц со дня смерти маркиза де Шовелена; дело в том, что двадцать седьмого мая исполнялось ровно два месяца с того дня, как маркиз умер.
К тому же все как будто сговорилось присоединиться к его зловещему предчувствию: так, аббат де Бове, произнося при дворе проповедь, в своем поучении о необходимости готовить себя к смерти, об опасности умереть нераскаянным, воскликнул: «Еще сорок дней, государь, и Ниневия будет разрушена!»
Таким образом, думая о г-не де Шовелене, король не забывал об аббате де Бове; таким образом, говоря герцогу д'Айену: «Двадцать седьмого мая будет два месяца, как умер Шовелен», он оборачивался к герцогу де Ришелье и произносил шепотом:
— Это сорок дней, не правда ли, о которых говорил чертов аббат де Бове?
При этом Людовик XV добавлял:
— Я хотел бы, чтобы эти сорок дней уже прошли!
И это было еще не все: в Льежском альманахе говорилось по поводу апреля: «В апреле одна из самых известных фавориток сыграет свою последнюю роль».
Таким образом, г-жа Дюбарри вторила сетованиям короля и говорила об апреле то же, что он говорил о сорока днях:
— Я бы очень хотела, чтобы этот проклятый месяц апрель уже прошел!
В этом проклятом апреле, так страшившем г-жу Дюбарри, и в течение этих сорока дней — мысли о них стали манией короля — предзнаменования множились. Генуэзский посол (король с ним часто виделся) был сражен внезапной смертью. Аббат де ла Виль, прибыв к утреннему выходу короля, чтобы поблагодарить за только что пожалованное место управляющего иностранными делами, рухнул к его ногам от апоплексического удара. И в заключение, когда король был на охоте, рядом с ним ударила молния.
Все это лишь усиливало его мрачность.
Все связывали надежды с приходом весны. Природа, сбрасывающая в мае свой саван; земля, вновь покрывающаяся зеленью; деревья, вновь надевающие свои весенние наряды; воздух, заполненный живыми пылинками; дуновения живительного огня, прилетающие с ветром и кажущиеся душами, что ищут тело, — все это могло вернуть какое-то существование бездейственной материи, какое-то движение изношенному механизму.
Примерно в середине апреля Лебель увидел у своего отца дочь мельника, и необычайная красота ее поразила его; он счел девушку лакомством, которое сможет пробудить аппетит у короля, и с воодушевлением рассказал ему об этом. Людовик XV рассеянно выслушал это и согласился на новую попытку развлечь его.
Обычно, прежде чем явиться к королю, девицы, которых Людовик XV должен был почтить или обесчестить своими королевскими милостями, подвергались осмотру врачей, затем проходили через руки Лебедя и наконец представали перед королем.
На этот раз девушка была столь свежа и столь красива, что всеми этими предосторожностями пренебрегли; но если бы они и были приняты, то самому искусному медику, конечно, трудно было бы распознать, что девушка уже несколько часов была больна оспой.
Король в юности уже перенес эту болезнь; но через два дня после свидания с девушкой она проявилась вторично.
Ко всему добавилась злокачественная лихорадка, осложнившая положение больного.
Двадцать девятого апреля обозначилась первая атака болезни, и архиепископ Парижский Кристоф де Бомон поспешил в Версаль.
Ситуация на этот раз была необычной. Соборование, если чувствовалась в нем необходимость, могло иметь место только после изгнания сожительницы, а эта сожительница, принадлежавшая к иезуитской партии, главой которой был Кристоф де Бомон; эта сожительница, по словам самого архиепископа, свержением министра Шуазёля и свержением парламента оказала столь большие услуги религии, что невозможно было подвергнуть ее каноническому бесчестью.
Во главе этой партии, вместе с г-ном де Бомоном и г-жой Дюбарри, находились герцог д'Эгильон, герцог де Ришелье, герцог де Фронзак, Мопу и Террэ.
Все они были бы опрокинуты тем же ударом, который свалил бы г-жу Дюбарри. Поэтому у них не было никакой причины высказываться против нее.
Партия г-на де Шуазёля, проникавшая всюду, даже в проход за кроватью короля, наоборот, требовала изгнания фаворитки и скорейшей исповеди. Это было весьма любопытно видеть: именно партия философов, янсенистов и атеистов побуждала короля исповедаться, тогда как архиепископ Парижский, монахи и поклонники благочестия желали, чтобы король отказался от исповеди.
Таково было необычное состояние умов, когда первого мая, в половине двенадцатого утра, архиепископ явился навестить больного короля.
Узнав о прибытии архиепископа, бедная г-жа Дюбарри на всякий случай скрылась.
На встречу с прелатом, намерения которого не были еще известны, отправился герцог де Ришелье.
— Монсеньер, — сказал герцог, — заклинаю вас не пугать короля этим богословским предложением, убившим стольких больных. Но если вам любопытно услышать о забавных грешках, то располагайтесь: я стану исповедоваться вместо короля и расскажу вам о таких, подобных которым вы не слыхивали за то время, что состоите архиепископом Парижским. Ну, а если мое предложение вам не нравится, если вы непременно хотите исповедовать короля и воспроизвести в Версале те сцены, что происходили с господином епископом Суасонским в Меце, если вы хотите шумной отставки госпожи Дюбарри, то подумайте о последствиях и о ваших собственных интересах; вы обеспечиваете триумф герцога де Шуазёля, вашего злейшего врага, от кого вы избавились при столь большом содействии госпожи Дюбарри; ради пользы вашего врага вы преследуете вашего друга; да, монсеньер, вашего друга, и какого друга! Ведь еще вчера она говорила мне: «Пусть господин архиепископ оставит нас в покое, и он получит свою кардинальскую шапку; я за это берусь, и я вам за это отвечаю».
Архиепископ Парижский предоставил г-ну де Ришелье говорить: хотя в глубине души он был уже согласен, надо было делать вид, что его убеждают. По счастью, к маршалу присоединились герцог д'Омон, принцесса Аделаида и епископ Санлисский, давшие прелату оружие против самого себя. Он сделал вид, что уступает, обещал ничего не говорить, отправился к королю и действительно не сказал ему ни слова об исповеди; это доставило августейшему больному такое удовольствие, что он тотчас велел позвать г-жу Дюбарри и целовал ее прекрасные руки, плача от радости.
На другой день, второго мая, король чувствовал себя немного лучше; вместо Ламартиньера, его постоянного медика, г-жа Дюбарри прислала ему двух своих врачей — Лорри и Борде. Обоим докторам было прежде всего рекомендовано скрыть от короля природу его болезни, умолчать о его положении, и самое главное — избавить от мысли о том, что ему необходим священник.
Это улучшение в состоянии короля позволило графине на мгновение свободно вздохнуть, вернуться к обычному злословию и привычным шуткам. Но в ту минуту, когда ей своим воодушевлением и остроумием удалось заставить больного улыбнуться, Ламартиньер, которому не запрещен был доступ к королю, появился на пороге; оскорбленный предпочтением, что было оказано Лорри и Борде, он подошел прямо к королю, пощупал его пульс и покачал головой.
Король не мешал ему, глядя на него со страхом. Страх этот еще больше увеличился, когда он увидел обескураживающий знак, сделанный Ламартиньером.
— Ну что, Ламартиньер? — спросил король.
— Что ж, государь, если мои собратья не сказали вам, что случай тяжелый, то они либо ослы, либо лжецы.
— Что у меня, по-твоему, Ламартиньер? — спросил король.
— Черт побери, государь! Это нетрудно увидеть: у вашего величества оспа.
— И ты говоришь, что у тебя нет надежды, друг мой?
— Я не говорю этого, государь: врач никогда не теряет надежды. Я говорю лишь, что если ваше величество — христианнейший король не только по имени, то вам следует подумать.
— Хорошо, — отозвался король.
И, подозвав г-жу Дюбарри, он сказал:
— Вы слышали, друг мой? У меня оспа, а это болезнь из самых опасных, во-первых, из-за моего возраста, а во-вторых, из-за других моих недугов. Ламартиньер только что напомнил мне, что я христианнейший король и старший сын Церкви, друг мой. Может быть, нам придется расстаться. Я хочу предупредить сцену, подобную той, что была в Меце. Сообщите герцогу д'Эгильону то, что я вам сказал, и пусть он условится с вами, как нам расстаться без огласки, если моя болезнь усилится.
В то время как король говорил это, вся партия герцога де Шуазёля начала громко роптать, обвиняя архиепископа в угодничестве и говоря, что он, дабы не обеспокоить г-жу Дюбарри, готов дать королю умереть без причастия.
Эти обвинения дошли до слуха г-на де Бомона, и тот, чтобы заставить их смолкнуть, решил обосноваться в Версале, в доме конгрегации лазаристов; это позволило бы ему обмануть общественное мнение, использовать благоприятный момент для совершения религиозных церемоний и пожертвовать г-жой Дюбарри лишь в том случае, если состояние короля станет совсем безнадежным.
Третьего мая архиепископ возвратился в Версаль; приехав туда, он стал ждать.
Тем временем вокруг короля происходили постыдные сцены. Кардинал де ла Рош-Эмон держался того же мнения, что архиепископ Парижский, и хотел, чтобы все совершилось без шума; но иначе обстояло дело с епископом Каркасонским: тот усердно старался воспроизвести сцены, происходившие в Меце, громко требуя, чтобы король причастился, чтобы наложница была изгнана, чтобы каноны Церкви были соблюдены и чтобы король подал пример раскаяния Европе и христианской Франции, которые он вводил в греховный соблазн.
— Да по какому праву вы мне даете советы? — воскликнул выведенный из терпения г-н де ла Рош-Эмон.
Епископ снял с шеи пастырский крест и поднес его чуть не к носу прелата:
— По праву, что дает мне этот крест, — сказал он, — Научитесь, монсеньер, уважать это право и не дайте своему королю умереть, не получив причастия Церкви, считающей его своим старшим сыном.
Все это происходило на глазах герцога д'Эгильона. Он понял, какой скандал вызовет подобная дискуссия, если она разразится публично.
Он пошел к королю.
— Ну, герцог, — сказал ему король, — исполнили вы мои повеления?
— Относительно госпожи Дюбарри, государь?
— Да.
— Я хотел подождать, пока ваше величество повторит их. Я никогда не стану проявлять поспешность, разлучая короля с теми, кто его любит.
— Благодарю, герцог; но это нужно. Зайдите за бедной графиней и отвезите ее в ваш загородный дом в Рюэе; я буду признателен госпоже д'Эгильон за заботы о ней.
Несмотря на этот вполне определенный приказ, г-н д'Эгильон вовсе не хотел пока что ускорять отъезд фаворитки и спрятал ее во дворце, объявив, что она уедет на следующий день. Это сообщение немного утихомирило требовательность сторонников церковного обряда.
Впрочем, герцогу д'Эгильону повезло, что он оставил г-жу Дюбарри в Версале, ибо четвертого мая король вновь потребовал ее к себе, и чрезвычайно настойчиво; герцогу пришлось сознаться, что она еще здесь.
— Так позовите ее, позовите! — вскричал король. И г-жа Дюбарри вернулась — в последний раз… Уезжала графиня вся в слезах; бедная женщина, добрая, капризная, приветливая, покладистая, любила Людовика XV как любят отца.
Госпожа д'Эгильон усадила г-жу Дюбарри в карету вместе с мадемуазель Дюбарри-старшей и увезла в Рюэй, чтобы там ожидать предстоящего события.
Едва карета выехала из последнего двора, как король снова потребовал к себе графиню.
— Она отбыла, — ответили ему.
— Отбыла? — повторил король. — Значит, настал и мой черед отбыть. Прикажите молиться мощам святой Женевьевы.
Господин де ла Врийер тотчас написал парламенту, имеющему право в подобных случаях приказать отпереть или запереть древнюю реликвию.
Дни пятого и шестого мая прошли без разговоров об исповеди, о соборовании, о последнем миропомазании. Версальский кюре явился было с целью подготовить короля к этой благочестивой церемонии, но встретил герцога де фронзака, и тот дал ему честное слово дворянина, что выбросит его в окно, если он скажет об этом хоть слово.
— Если я не разобьюсь насмерть при падении, — ответил кюре, — то вернусь через дверь, ибо это мое право.
Но седьмого, в три часа утра, сам король настоятельно потребовал позвать аббата Манду, бедного священника, не замешанного в интригах, добродушного служителя Церкви, которого дали ему в исповедники и который к тому же был слеп.
Исповедь короля продолжалась семнадцать минут.
Когда она окончилась, герцоги де ла Врийер и д'Эгильон хотели отложить соборование; но Ламартиньер, испытывавший особую вражду к г-же Дюбарри, которая подослала королю Лорри и Борде, сказал, подойдя к нему:
— Государь, я видел ваше величество в весьма трудных обстоятельствах, но никогда не восхищался вами так, как сегодня; если вы мне верите, вы немедля закончите то, что так хорошо начали.
Тогда король приказал снова позвать аббата, и тот дал ему отпущение грехов.
Что же касается шумного возмездия, которое должно было торжественно уничтожить г-жу Дюбарри, то о нем речи не шло. Великий раздаватель милостыни и архиепископ совместно составили формулу, оглашенную во время соборования:
«Хотя король должен давать отчет в своем поведении одному только Господу, он заявляет, что раскаивается в соблазне, коему подверг своих подданных, и желает отныне жить лишь ради поддержания веры и ради счастья своих народов».
Королевская фамилия — к ней прибавилась принцесса Луиза, вышедшая из своего монастыря, чтобы ухаживать за отцом, — встретила святые дары внизу лестницы.
В то время как король принимал причастие, дофин, которого, так как он еще не переболел оспой, держали вдали от короля, писал аббату Террэ:
«Господин генеральный контролер!
Прошу Вас распорядиться о раздаче беднякам парижских приходов двухсот тысяч ливров, дабы те молились за короля. Если Вы находите эту сумму чрезмерной, то вычтите ее из содержания госпожи дофины и моего.
Подписано: Людовик Август».
В течение седьмого и восьмого мая болезнь усилилась. Король чувствовал, что его тело умирает по частям. У него, покинутого придворными, не решавшимися уже оставаться подле этого живого трупа, не было теперь другой стражи, кроме трех его дочерей, не покидавших отца ни на минуту.
Король был объят ужасом. В этом ужасном разложении, охватившем все его тело, он видел прямую кару Неба. Для него та невидимая рука, что метила его черными пятнами, была десницей Божьей. В бреду, тем более страшном, что вызван он был не лихорадкой, а мыслью, король видел пламя, видел огненную пропасть и звал своего исповедника, бедного слепого священника, последнего своего заступника, чтобы тот протянул руку с распятием между ним и огненным озером. Тогда он сам брал святую воду, сам откидывал одеяла и покрывала, сам со стонами ужаса обливал святой водой все свое тело; потом просил распятие, брал его обеими руками и пылко целовал, восклицая:
— Господи! Господи! Предстательствуй за меня, за меня, самого великого грешника, какой когда-либо существовал!
В этих ужасных и безнадежных тревогах прошел день девятого мая. В течение этого дня — он был не чем иным, как долгой исповедью, — ни священник, ни дочери его не покидали. Его тело было добычей самой отвратительной гангрены, и, еще живой, король-труп издавал такой запах, что двое слуг упали, задохнувшись, и один из них умер.
Утром десятого сквозь растрескавшуюся плоть стали видны кости его бедер; еще трое слуг упали в обморок. Все обратились в бегство.
Больше во дворце не было ни одной живой души, кроме трех благородных дочерей и достойного священника.
Весь день десятого был непрерывной агонией: король, уже мертвый, будто не решался умереть; казалось, он хочет броситься вон из кровати, этой преждевременной могилы. Наконец, без пяти минут три, он приподнялся, протянул руки, устремил взгляд в какую-то точку комнаты и воскликнул:
— Шовелен! Шовелен! Но ведь еще нет двух месяцев… И, снова упав на постель, он умер.
Какую бы добродетель ни вложил Господь в сердца трех принцесс и священника, но, когда король умер, все они сочли свои обязанности выполненными; к тому же все три дочери уже заболели той болезнью, которая только что убила короля.
Забота о похоронах была возложена на главного церемониймейстера; тот отдал все распоряжения, не входя во дворец.
Не удалось найти никого, кроме версальских чистильщиков отхожих мест, чтобы положить короля в приготовленный для него свинцовый гроб; он лежал в этом последнем жилище без бальзама, без благовоний, завернутый в те же простыни, на которых умер; затем этот свинцовый гроб был помещен в деревянный футляр, и все вместе было доставлено в часовню.
Двенадцатого то, что было Людовиком XV, перевезли в Сен-Дени; гроб был поставлен в большую охотничью карету. Во второй карете ехали герцог д'Айен и герцог д'Омон; в третьей — великий раздаватель милостыни и версальский кюре. Два десятка пажей и с полсотни стремянных, на лошадях, с факелами, замыкали кортеж.
Погребальное шествие, отправившись из Версаля в восемь часов вечера, достигло Сен — Дени в одиннадцать. Тело было опущено в королевский склеп, откуда ему предстояло выйти лишь в день осквернения Сен — Дени; вход в подземелье тотчас же был не только заперт, но и замурован, чтобы ни одно испарение этого человеческого гноища не просочилось из жилища мертвых туда, где пребывали живые.
Нам приходилось рассказывать о радости парижан по поводу смерти Людовика XIV. Не меньшей была их радость, когда они увидели, что избавились от того, кого тридцатью годами ранее прозвали Возлюбленным.
Над кюре церкви святой Женевьевы посмеивались, говоря, что мощи не подействовали.
— На что же вы жалуетесь, — отвечал кюре, — разве он не умер?
На следующий день г-жа Дюбарри в Рюэе получила приказ об изгнании.
Софи Арну в одно и то же время узнала о смерти короля и об изгнании г-жи Дюбарри.
— Увы! — сказала она. — Вот мы и осиротели, не стало у нас ни отца, ни матери.
Это было единственное надгробное слово, произнесенное на могиле правнука Людовика XIV.
КОММЕНТАРИИ
Улица Вожирар — находится на левом берегу Сены между предместьями Сен-Жермен и Сен-Жак; старинная дорога селения Вожирар; получила статус улицы и название Вожирар в 20-х гг. XVI в.; в XVI — XVII вв. неоднократно меняла название; в 1659 г. ей вновь было возвращено прежнее название; в ХЕХ в. подверглась реконструкции и удлинению.
Улица Шерш-Миди — находится на левом берегу Сены в предместье Сен-Мишель; проходит на месте старинной дороги из Парижа в селение Вожирар.
Улица Нотр — Дам-де-Шан — расположена на левом берегу Сены около Люксембургского сада; отходит от улицы Вожирар в юго-восточном направлении; существует с XIV в.; в средние века представляла собой заросшую травой дорогу в убежище прокаженных у церкви Нотр — Дам-де-Шан (Богородицы-на-Полях); начала застраиваться с 1700 г.
Улица Регар — начинается от улицы Шерш-Миди; известна с 1529 г.; свое последнее название (она их неоднократно меняла) получила в 1667 г. по имени фонтана, установленного на месте ее пересечения с улицей Вожирар.
…по приезде моем из провинции… — Дюма приехал в Париж в апреле 1823 г.
… в связи с бедным Джеймсом Руссо я говорил вам о своих литературных мечтаниях. — Джеймс Руссо — псевдоним французского драматурга и поэта-песенника Пьера Жозефа Руссо (1797 — 1849). Дюма рассказывает о Руссо в главе XIV повести «Женитьбы папаши Олифуса»(1849 г.).
«Охота и любовь» — одноактный водевиль на сюжет из эпохи Генриха IV, впервые поставленный 22 сентября 1825 г. в Амбипо-Ко-мик.
Лёвен, Адольф де (1802 — 1874) — имя, под которым был известен сын шведского политического деятеля графа Риббинга; французский драматург-комедиограф.
«Свадьба и погребение» — водевиль в трех картинах по мотивам приключений Синдбада-морехода, героя «Тысячи и одной ночи», написанный Дюма, Лассанем и Вюльпианом; впервые представлен 7 ноября 1826 г. в Порт-Сен-Мартен.
Лассань, Эсперанс Ипполит (ум. ок. 1854) — французский водевилист; сотрудничал с Дюма.
Вюльпиан, Альфонс (1795 — 1829) — французский драматический актер и водевилист; сотрудник Дюма; более известен под псевдонимом Гюстав.
«Христина» — см. примеч. к с. 40.
Геспериды — в древнегреческой мифологии дочери бога вечерней зари Геспера; хранительницы яблони, которая росла в их саду на Крайнем Западе земли и приносила золотые плоды; охранял ее дракон Ладон. Согласно одному из мифов, Геркулес убил дракона и похитил золотые яблоки. По другому мифу, Геркулес спас Геспе-рид от пиратов и получил от них яблоки в подарок. Еще по одному из мифов, Геркулес получил яблоки от титана Атласа за то, что поддерживал вместо него небесный свод, пока тот ходил за плодами.
Геркулес (Геракл) — величайший из героев древнегреческой мифологии; прославился своей атлетической мощью и богатырскими подвигами.
Атлас (Атлант) — в древнегреческой мифологии титан (бог старшего поколения), обреченный в наказание за участие в борьбе против богов-олимпийцев вечно держать на себе небесный свод. По представлениям древних, местоположение Атласа было на Крайнем Западе земли. От его имени получили свое название Атласские горы в Северо-Западной Африке и Атлантический океан.
… Миром, который она взвалила мне на плечи, была моя канцелярия. — То есть канцелярия герцога Орлеанского, будущего короля Луи Филиппа (см. примеч. к с. 8), где работал Дюма: с 10 апреля 1823 г. — сверхштатным писцом (с окладом 1200 франков в год, с февраля 1824 г. — 1600 франков в год), а с 10 апреля 1824 г. — делопроизводителем. Канцелярия находилась на четвертом этаже Пале-Рояля.
В феврале 1827 г. Дюма был переведен в канцелярию вспомоществований, с января 1828 г. работал в архиве; с 20 июня 1829 г. (и до событий Июльской революции) служил помощником библиотекаря у герцога Орлеанского.
Дюмурье, Шарль Франсуа (1739 — 1823) — французский полководец; в молодости вел жизнь, полную авантюр, участвовал во многих войнах; в начале Революции перешел на ее сторону, примкнул к жирондистам; в 1792 г. — министр иностранных дел; в 1792 — 1793 гг. во время войны с первой антифранцузской коалицией феодальных европейских держав (1792 — 1797) командовал армией, и под его руководством французские войска отразили осенью 1792 г. иностранное вторжение; в 1793 г. вступил в сношения с неприятелем и бежал за границу; окончил жизнь в эмиграции. Дюмурье — персонаж романов Дюма «Таинственный доктор» и «Волонтёр девяносто второго года».
… при Жемапе и Вальми… — Речь идет о двух сражениях начавшейся в 1792 г. войны Франции против первой коалиции. В сражении при Жемапе в Бельгии 6 ноября 1792 г. французские войска одержали значительную победу над австрийской армией. В сражении при Вальми в Восточной Франции 20 сентября 1792 г. французские войска остановили наступление на Париж прусской армии. Обе эти битвы описаны Дюма в романе «Таинственный доктор».
… изгнанник 1792 года… — Неточность Дюма: Луи Филипп эмигрировал вместе с Дюмурье в марте 1793 г.
… преподаватель коллежа в Рейхенау… — В 1793 — 1794 гг. Луи Филипп преподавал математику, историю и французский язык в коллеже города Рейхенау на востоке Швейцарии. Коллеж — среднее учебное заведение в некоторых европейских странах, часто закрытого типа.
… путешественник на мыс Горн… — В 1796 г. герцог Орлеанский совершил по приглашению своей матери путешествие в Америку. Мыс Горн — южная оконечность американского континента, мыс на одноименном острове в архипелаге Огненная Земля.
Фуа, Максимилиан Себастьен (1775 — 1825) — французский генерал и политический деятель, убежденный республиканец; участник революционных и наполеоновских войн; с 1819 г. член Палаты депутатов, где был одним из лидеров оппозиции монархии Бурбонов.
Манюэлъ, Жак Антуан (1775-1827) — французский политический деятель, с 1818 г. член Палаты депутатов, один из лидеров либеральной оппозиции во время Реставрации.
Лаффит, Жак (1767-1844) — крупный французский банкир и политический деятель; сторонник Орлеанской династии; в 1830 — 1831 гг. глава правительства.
Лафайет, Мари Жозеф Поль, маркиз де (1757-1834) — французский военачальник и политический деятель; сражался на стороне американских колоний Англии в Войне за независимость (1775 — 1783); участник Французской революции; командующий национальной гвардией; сторонник конституционной монархии; после свержения Людовика XVI пытался поднять войска в защиту короля, но потерпел неудачу и эмигрировал; в период правления Наполеона возвратился, но политической роли не играл; во время Реставрации Бурбонов был в рядах буржуазно-либеральной оппозиции; во время Июльской революции 1830 г. способствовал сохранению монархии и возведению на престол Луи Филиппа.
… изгнанник 1848года… — 24 февраля 1848 г. Луи Филипп был вынужден отречься от престола и бежать из Парижа; в начале марта покинул пределы Франции и через два года умер в Англии.
Дрё — город в Центральной Франции на реке Блез; там находилась родовая усыпальница Орлеанского дома.
… на могиле сына, который должен был носить корону. — См. примеч. к с. 187.
Нёйи (Нёйи-сюр-Сен — Нёйи-на-Сене) — в начале XIX в. городок у западных окраин Парижа; там находился замок герцога Орлеанского; ныне один из городских районов.
… на моего товарища Эрнеста… — Эрнест Бассе служил рассыльным в канцелярии герцога Орлеанского.
Корделье — Делану, Этьенн Казимир Ипполит, по прозвищу Огюст (1806-1854) — французский драматург, сотрудник Дюма.
… сына старого генерала Республики… — Корделье — Делану, Этьенн Жан Франсуа (1767 — 1845) — дивизионный генерал Республики в 1793 г.
Атеней — литературное общество, основанное в Париже в 1792 г. под названием «Лицей искусств» и в 1803 г. принявшее имя «Атеней искусств» (по названию учебных заведений Древней Греции, от гр. Atirivaiov — храм Афины, богини мудрости, знаний, искусств и ремесел); объединяло крупнейших деятелей науки того времени; ставило себе просветительские цели; было настроено оппозиционно по отношению к Французской революции.
Вильнав, МатьёГийом Терез де (1762-1846) — французский литератор, журналист, адвокат; сотрудник ряда энциклопедических изданий и член нескольких общественных организаций.
… ему принадлежит высоко оцененный перевод Овидия… — Речь идет о переводе поэмы древнеримского поэта Публия Овидия Назона (43 до н.э. — 17 н.э.) «Метаморфозы», содержащей изложение около 250 мифологических и фольклорных сказаний древности. Перевод Вильнава был издан в Париже в 1807 — 1822 гг. четырьмя томами с иллюстрациями.
Мальзерб, Кретьен Гийом деЛамуаньон (1721 — 1794) — французский государственный и судебный деятель; автор нескольких сочинений по политике, астрономии и ботанике; министр внутренних дел (1774 — 1776); хранитель печатей (1777 — 1778); сторонник монархии, один из защитников Людовика XVI на его процессе в Конвенте; в 1794 г. был обвинен в контрреволюционном заговоре и казнен.
… учителем детей г-на маркиза де Шовелена. — В действительности Вильнав был учителем в других аристократических семьях.
Шовелен, Франсуа Клод, маркиз де (1716 — 1774) — французский дипломат и приближенный Людовика XV, хранитель королевского гардероба; скончался на глазах короля во время карточной игры. Даты жизни и приведенные здесь имена этого лица соответствуют французским справочникам начала XIX в., вышедшим при жизни Вильнава и сына Шовелена — Франсуа Бернара (1766 — 1832), но расходятся с позднейшими изданиями.
«Генрих III» — см. примеч. к с. 40.
Ода — выдержанное в торжественном тоне стихотворение в честь важного исторического события или героя.
Улица Валуа — проходит вдоль восточного фасада дворца Пале-Ро-яль; сформировалась в 1784 г.; названа в честь герцога Валуа, сына герцога Луи Филиппа Орлеанского — владельца дворца.
Арналь, Этьенн (1794/1799 — после 1863) — французский комический актер, поэт; оставил театр в 1863 г.
Гроссо, Поль Луи Огюст (1800 — 1860) — французский актер-комик театра Пале-Рояль в Париже.
Равель, Пьер Альфред (1814-1881) — французский драматический артист, комик.
… плоеную рубашку… — то есть накрахмаленную, со складками, которые сделаны при помощи специальных щипцов.
Жабо — здесь: кружевные или кисейные оборки вокруг ворота или на груди верхней мужской рубашки; были в моде в XVIII в.
«Отчет о путешествии ста тридцати двух жителей Нанта, посланных в Париж революционным комитетом города» («Relation du voyage de cent trente-deux Nantois, envoyes a Paris par le comite revolution-naire de Nantes») — книга, написанная Вильнавом в тюрьме, когда по приказу Каррье он был арестован 9 сентября 1793 г.; была опубликована в Париже в 1794 г. и выдержала за полтора месяца восемь изданий; вызвала большой общественный резонанс, что способствовало освобождению Вильнава.
Нант — город в Западной Франции на реке Луара в провинции Бретань. Каррье, Жан Батист (1756-1794) — депутат Конвента, примыкал к крайне левому течению эбертистов; в качестве комиссара Конвента был отправлен в Нант для организации борьбы с вандейцами (см. примеч. к с. 55); получил прозвище «потопителя» за жестокие расправы с арестованными противниками Республики; участвовал в перевороте 9 термидора, однако после переворота был казнен.
Проконсул — в Древнем Риме наместник завоеванной провинции, обладавший там всей полнотой военной и гражданской власти; назначался обычно из числа бывших высших должностных лиц республики; проконсулы снискали себе печальную славу грабительством и вымогательством. В новое время так называли должностных лиц, направляемых на места со специальными поручениями высшей государственной власти.
… и заменил гильотину судами с затычками в трюме… — Имеются в виду массовые казни вандейцев, устроенные Каррье в Нанте: затопление в реке Луаре судов с приговоренными к смерти.
Бель-Иль — остров у Атлантического побережья Франции, неподалеку от Нанта.
Аисени — город в 35 км к северо-востоку от Нанта.
Конвент (точнее: Национальный конвент) — высший представительный и правящий орган Франции во время Французской революции, избранный на основе всеобщего избирательного права; собрался 20 сентября 1792 г., был распущен 26 октября 1795 г.
Генц, Шарль Никола (ок. 1750 — 1824) — член Конвента; голосовал за казнь Людовика XVI; в 1795 г. был арестован, но затем амнистирован; в 1816 г. после восстановления монархии Бурбонов был отправлен в ссылку как «цареубийца», бежал в США и умер в Филадельфии.
Анже — город на северо-западе Франции на реке Мен близ ее впадения в Луару; древняя столица исторической провинции Анжу.
…но броня его революционного сердца, которая не была, по-видимому, тройной, расплавилась… — Образ, восходящий к Горацию («Оды», 1,3,9).
… наступило 9 термидора… — 9 — 10 термидора II года Республики по революционному календарю (27-28 июля 1794 г.) в результате заговора было свергнуто якобинское правительство и установлена диктатура крупной буржуазии. Этот переворот фактически положил конец Великой французской революции.
… для судей настал черед быть судимыми… — Намек на евангельское изречение: «Не судите, да не судимы будете» (Матфей, 7: 1).
… предъявил обвинение великому потопителю. — Декрет, обвиняющий Каррье, был принят Конвентом 23 сентября 1794 г.; приговор приведен в исполнение 16 декабря.
Вальдор, Мелани (1796 — 1871) — дочь Вильнава; французская поэтесса, автор драматургических и прозаических произведений; хозяйка литературного салона в Париже; в 1827 — 1831 гг. возлюбленная Дюма.
Вильнав, Теодор де (род. в 1798 г.) — французский драматург.
Мост Искусств — пешеходный мост через Сену, сконструирован в 1802 — 1804 гг.; название получил от Дворца искусств, как именовался в то время бывший королевский дворец Лувр, ставший в годы Революции музеем, около которого находится этот мост.
Сен-Жерменское предместье — см. примеч. к с. 36.
Латур, Морис Кантен де (1704-1788) — знаменитый французский художник-портретист; работал пастельными карандашами.
Шпалера — здесь: специальная решетка для подвязывания к ней кустов или деревьев с целью придания им определенной формы.
Фут — мера длины, имевшая в различных странах разную величину; старинный парижский фут составлял около 32,5 см.
Консоль — подставка для чего-нибудь, прикрепленная к стене; род полки. Бояр (Баярд), Пьер де Террайль (ок. 1475 — 1524) — французский военачальник; прославлен современниками как образец мужества и благородства и прозван «рыцарем без страха и упрека».
… целующего крест на своем мече. — Умирая на поле сражения, Баяр перед смертью поцеловал рукоять своего меча, сделанную в форме креста.
Болейн, Анна (ок. 1507 — 1536) — вторая жена английского короля Генриха VIII (1491-1547); была казнена по обвинению в супружеской неверности, а в действительности ради того, чтобы король мог вступить в новый брак.
Гольбейн (Хольбейн), Ханс Младший (1497/1498 — 1543) — немецкий художник и график; представитель Возрождения; с 1536 г. придворный художник Генриха VIII.
Лоррен, Клод (настоящая фамилия — Желле; 1600 — 1682) — французский художник-пейзажист, один из создателей пейзажной живописи.
Монтеспан, Франсуаза Атенаис де Рошешуар, маркиза де (1641 — 1707) — фаворитка Людовика XIV с 1667 г.; постепенно оттесняемая госпожой де Ментенон, оставалась при дворе до 1691 г.; персонаж романа «Виконт де Бражелон».
Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де (1626 — 1696) — французская писательница; получила известность своими письмами к дочери, ставшими ценным историческим источником.
Гриньян, Франсуаза де Севинье, графиня де (1648 — 1705) — французская писательница, дочь госпожи де Севинье; с 1669 г. жена графа де Гриньян.
Утрехтский бархат — то есть бархат из нидерландского города Утрехта, известного производством ткани этого рода.
Нодье — см. примеч. к с. 7.
Sanctum sanctorum — Святая святых, нечто сокровенное, заветное, недоступное для посвященных. В Библии Святая святых — отделенная от прочих часть храма, который Бог повелел построить пророку Моисею; там хранился ковчег с божественными откровениями (Исход, 26: 30 — 37). Туда мог входить только первосвященник раз в год.
Скиния — шатер, который предводитель и законодатель древних евреев пророк Моисей по повелению Божию устроил в пустыне для богослужений.
… подобно тому как Клодий, переодевшись в женское платье, смог из атриума храма Исиды подсмотреть некоторые тайны Доброй богини. — Клодий (Публий Клодий Пульхр; ум. в 52 г. до н.э.) — древнеримский политический деятель, сторонник Цезаря, народный трибун в 58 г. до н.э.; в демагогических целях провел несколько мер в интересах городских низов; известен беспорядочным образом жизни; был убит в стычке с политическими противниками. Здесь имеется в виду скандальное происшествие, имевшее место в Древнем Риме в 62 г. до н.э. Клодий, переодетый в женское платье, проник, как предполагали, на любовное свидание в дом Юлия Цезаря во время праздника Доброй богини (на празднествах в ее честь могли присутствовать только женщины; главное торжество проходило в одну из ночей начала декабря в доме какого-либо из высших должностных лиц).
Однако судебное дело о святотатстве, возбужденное против Кло-дия, кончилось его оправданием, а реальным последствием разбирательства был только развод Цезаря с женой. Атриум (атрий) — в древнеримском жилом доме главное помещение, освещаемое сверху. Исида — см. примеч. к с. 35. К I в. до н.э., то есть ко времени скандальных похождений Клодия, культ Исиды уже проник в Рим.
Добрая богиня (Bona Dea) — древнеримское божество плодородия и растительности, отождествлявшееся римлянами с несколькими богинями того же характера; культ Доброй богини был близок к культу древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры (и, по-видимому, был заимствован из Греции), а также в какой-то мере к культу Исиды как богини плодородия.
Вольтер (настоящее имя Франсуа Мари Аруэ; 1694-1778) — французский писатель и философ-просветитель; сыграл огромную роль в идейной подготовке Великой французской революции.
Руссо, Жан Жак (1712 — 1772) — французский философ, писатель и композитор; родом из Женевы; сыграл большую роль в идейной подготовке Великой французской революции; герой романа Дюма «Джузеппе Бальзамо».
Рафаэль — см. примеч. к с. 121.
Романе, Джулио (1492/1499 — 1546) — итальянский архитектор и художник.
Леонардо да Винчи (1452 — 1519) — итальянский деятель культуры Высокого Возрождения: художник, скульптор, архитектор, разносторонний ученый, инженер и изобретатель.
Андреа дель Сарто (1486-1530) — итальянский художник, представитель флорентийской школы Высокого Возрождения.
Лебрен (Ле Брен), Шарль (1619-1690) — французский художник; создатель официального придворного стиля Людовика XIV; автор картин на сюжеты из древней и Священной истории.
Лесюэр, Эсташ (1617-1655) — французский художник, рисовальщик и декоратор.
Давид, Жак Луи (1748 — 1825) — знаменитый французский художник; в годы Революции депутат Конвента, близкий к Робеспьеру; создал ряд картин большого общественного значения; инициатор создания Музея Лувра; в годы Империи — придворный живописец Наполеона.
Тенирс, Давид Младший (1610 — 1690) — фламандский художник, автор пейзажей, отличающихся мягким колоритом, и жанровых сцен, идеализирующих крестьянский и городской быт.
Aparte (ит. «в сторону») — ремарка в тексте пьесы, указывающая на то, что произносимые слова условно не должны быть услышаны другими действующими лицами данной сцены.
Контрэскарп — ближайший к противнику откос внешнего рва крепости.
… тома, которые были 14 июля, полу сожженные, выхвачены из огня, пожиравшего их во дворе Бастилии. — Речь идет об архиве крепости и государственной тюрьмы Бастилия, взятой восставшим народом 14 июля 1789 г. — в день, считающийся началом Великой французской революции. Этот крайне интересный архив во время взятия и последующего разрушения Бастилии подвергся разграблению и уничтожению. Часть документов была просто выброшена. Уцелевшие материалы хранятся в нескольких мировых библиотеках, в том числе и в России.
Фонтен, Жюль — автор ряда книг об автографах.
«Руководство по автографам» (точнее: «Руководство для любителя автографов» — «Manuel de l'amateur d'autographes») — вышло в Париже в 1836 г.
Ин-октаво (лат. in octavo) — формат издания в одну восьмую печатного листа.
Ин-кварто (лат. in quarto) — формат издания в одну четвертую печатного листа.
Ин-фолио (лат. in folio) — формат издания в одну вторую печатного листа; в переносном смысле — книга большого размера.
… был тем преддверием рая, куда заключены души, которые Господь не отсылает ни в рай, ни в ад… — То есть чистилище: согласно средневековому догмату католицизма, место, где души умерших очищаются от неискупленных грехов.
… мой отец с 1791 по 1800 год занимал высокие должности в армии и трижды был главнокомандующим… — Отец Дюма (см. примеч. к с. 8) стал бригадным генералом 30 июня 1793 г.; дивизионным генералом — 3 сентября 1793 г.; 8 сентября 1793 г. был назначен главнокомандующим Западно-Пиренейской армии; 22 декабря 1793 г. — Альпийской армией; 16 августа 1794 г. — Западной армией.
Буонапарте (Buonaparte) — итальянское произношение фамилии Наполеона; произносить ее на французский лад — «Бонапарт» — он стал только с 1796 г.
… Через три месяца после 13 вандемьера… — 13 вандемьера IV года (5 октября 1795 г.) в Париже произошел мятеж роялистов, жестоко подавленный Конвентом. На деле правительственными войсками и разгромом мятежников руководил генерал Наполеон; эти события описаны Дюма в романе «Белые и синие».
Внутренняя армия — войска, располагавшиеся во время Первой французской республики внутри страны (главным образом вокруг Парижа) для подавления контрреволюции и для борьбы с беспорядками.
Сен-Жорж (1745 — 1801) — капитан гвардии герцога Орлеанского; по другим сведениям — королевский мушкетер; мулат с острова Гваделупа, сын местного откупщика и рабыни-негритянки; спортсмен и музыкант, участник войн Французской революции.
Ришелье, Луи Франсуа Арман, герцог де (1696-1788) — французский военачальник, маршал Франции; придворный Людовика XV и Людовика XVI; внучатый племянник кардинала Ришелье; автор интересных мемуаров; герой романов «Шевалье д'Арманталь», «Джу-зеппе Бальзамо» и «Ожерелье королевы».
Робеспьер, Максимилиан де (1758-1794) — виднейший деятель Французской революции; депутат Учредительного собрания и Конвента, вождь якобинцев; глава революционного правительства (1793 — 1794); объявленный вне закона после переворота 9 термидора, был казнен без суда.
Сюзерен — в средневековой Западной Европе крупный феодал, сеньор (барон, граф, герцог, князь), имеющий зависимых от него вассалов; верховным сюзереном обычно считался король.
… бить полночь на церкви кармелитов… — Вероятно, имеется в виду церковь кармелитского монастыря на улице Гренель в Сен-Жер-менском предместье или церковь монастыря на холме святой Женевьевы — ближайшие к жилищу Вильнава.
Кармелиты — католический монашеский орден с очень строгим уставом; получил свое название от горы Кармель (в Палестине), на которой, по преданию, в XII в. была основана первая его община.
Версаль — см. примеч. к с. 33.
Ламартиньер, Жермен Пишо де (1698 — 1783) — первый лейб-хирург
Людовика XV.
Шатору, Помпадур, Дюбарри — см. примеч. к с. 80.
… был любим… своей женой… — Женой Людовика XV была с 1725 г. Мария Екатерина София Фелицита Лещинская (1703-1768), дочь польского короля Станислава Лещинского.
… на знаменитых ужинах в Шуази… — Шуази-ле-Руа, небольшой городок недалеко от Парижа; известен замком, построенным по проекту Франсуа Мансара (1598 — 1666) и служившим Людовику XV для увеселений в тесном кругу приближенных.
Паж малых конюшен — одна из низших должностей при французском дворе; ее занимали подростки из знатных фамилий; на обязанности их лежала служба во время королевских охот и путешествий: ношение оружия и штандартов, прислуживание за столом и т.д.
Айен, Луи, герцог де Ноай и д' (1713-1791) — приближенный Людовика XV; выполнял его секретные и малопочетные поручения.
… проявлять эпикурейскую веселость… — То есть веселиться в духе учения древнегреческого философа-материалиста Эпикура (341 — 270 до н.э.), утверждавшего, что целью философии является обеспечение безмятежности духа, свободы от страха перед смертью и явлениями природы. Понятие «эпикурейство» часто употребляется и в переносном смысле — как стремление к личным удовольствиям и чувственным наслаждениям.
… из уст Жанны Вобернье… — Мадемуазель де Вобернье — одно из имен, которые носила графиня Дюбарри до выхода замуж и сближения с корешем.
… Ахата королевских эскапад. — Ахат (Ахатес) — персонаж «Энеиды» (см. примеч. к с. 187), верный друг и спутник Энея. Имя Ахата стало нарицательным как пример мужской дружбы. Однако Ахатом стали также называть лицо, предназначенное для выполнения различных деликатных поручений. Эскапада — экстравагантная выходка; выпад.
Сарданапал — легендарный ассирийский царь; греческие авторы считали его последним царем Ассирии, государства на территории современного Ирака в XIV — VII вв. до н.э.; изнеженность Сардана-пала и его любовь к роскоши и наслаждениям вошли в пословицу.
… из мякоти винограда Архипелага… — Архипелаг — совокупность большого числа отдельных островов или их групп. Здесь имеется в виду Греческий архипелаг — несколько групп островов в Эгейском море, на которых с древности возделываются субтропические культуры.
… сжег себя на костре, ваш Сарданапал? — Согласно преданию, когда враги осадили Ниневию — столицу Сарданапала, он приказал соорудить огромный костер и предал самого себя сожжению вместе со своими сокровищами, женами и наложницами.
… вы сами были под огнем во время канонады при Фонтенуа. — В сражении при Фонтенуа в Бельгии 11 мая 1745 г. французская армия во время войны за Австрийское наследство (1740 — 1748) нанесла поражение англо-голландско-ганноверским войскам.
… Разве не господин маршал Саксонский? — Граф Мориц Саксонский (1696-1750) — незаконный сын Августа Сильного, курфюрста Саксонии и короля Польши; французский полководец и военный теоретик, маршал Франции. В 1745 — 1747 гг. во время войны за Австрийское наследство, командуя французскими войсками в Бельгии, одержал несколько побед, в том числе при Фонтенуа. Победы Морица Саксонского подняли пошатнувшийся тогда военный престиж Франции и способствовали заключению в 1748 г. мира.
… Разве не господин герцог де Ришелье? — Перед сражением при Фонтенуа Ришелье в чине генерал-лейтенанта служил адъютантом короля. Посланный на разведку поля сражения, он предложил выдвинуть артиллерию против наступающей колонны противника, а потом своей властью от имени короля двинул в атаку гвардию и находящиеся поблизости другие части.
… Разве — и прежде всего — не Пекиньи с его четырьмя орудиями? — Герцог Пекиньи (более известен как Мишель Фердинан д'Альбер д'Айи герцог де Шольн; 1714 — 1769) — французский генерал; сыграл большую роль в битве при Фонтенуа: по совету Ришелье, поддержанному корешем, остановил своей артиллерийской батареей наступление колонны противника.
… не умещающиеся под триумфальными арками моего прадеда. — То есть Людовика XIV. Вероятно, имеются в виду триумфальные арки — ворота Сен-Мартен и Сен — Дени, построеннные в конце XVII в. на Больших бульварах Парижа, на месте снесенных старых ворот городских стен.
Траян, Марк Ульпий (53 — 117) — римский император с 98 г. (из династии Антонинов); проводил активную внешнюю политику; в честь его завоеваний была воздвигнута колонна в Риме и арка в городе Беневенте.
Сен — Дени — см. примеч. к с. 34.
Ипохондрия — угнетенное состояние, болезненная мнительность; психическое заболевание, выражающееся в навязчивой идее болезни; сопровождается крайне неприятными ощущениями в различных областях тела.
Меланхолия — см. примеч. к с. 68.
… я сделал этого бродягу Вольтера дворянином… — Речь идет о кратковременном сближении Вольтера с Людовиком XV, когда король назначил его придворным историографом (27 марта 1745 г.), что автоматически давало Вольтеру дворянское достоинство; позже Вольтер был пожалован в камергеры.
Тит Флавий Веспасиан (39 — 81) — римский император с 79 г. (из династии Флавиев); в истории обычно называется просто Титом.
Луиза Мария Французская (1737 — 1787) — дочь Людовика XV, отличавшаяся образованностью; покинув двор, удалилась в монастырь Сен — Дени, где и умерла.
Гробуа — замок-дворец с парком; находится в 10 км юго-восточнее Парижа; построен в XVII в.
…я на десять лет моложе вашего величества… — Маркиз де Шове-лен, согласно справочникам второй половины XIX — начала XX в., родился в 1716 г.; Людовик XV родился в 1710 г. Однако возможна и опечатка в тексте: «dix» («десять») вместо «six» («шесть»).
Куаньи, Мари Франсуа Анри де Франкето, маркиз, затем герцог де (1731-1821) — французский военачальник, маршал Франции, главный конюший Людовика XVI.
Жанти-Бернар — псевдоним Пьера Жозефа Бернара (1710-1775), французского поэта, автора немногочисленных, но весьма популярных в XVIII в. произведений, в том числе эротических стихов и поэмы «Искусство любви»; сын скульптора; учился в иезуитском коллеже в Лионе; умер в должности королевского библиотекаря.
Бисетр — известный дом умалишенных и приют для бродяг, под который был отведен старинный рыцарский замок в одноименном селении близ южной окраины Парижа; во время Революции — тюрьма.
… после свадьбы графа Прованского… — Граф Прованский, Луи Ста-нислас Ксавье — внук Людовика XV, будущий король Франции под именем Людовика XVIII (см. примеч. к с. 89). В 1771 г. граф Прованский женился на Марии Жозефине Луизе Савойской (1753 — 1810), дочери короля Сардинии с 1773 г. Виктора Амедея III (1726-1796).
Мопу, Рене Никола Шарль Огюстен де (1714-1792) — французский политический и судебный деятель; канцлер (глава судебного ведомства) и хранитель печатей (1768 — 1774); проводил политику укрепления власти короля и ограничения прав парламентов.
Аббат Брольо — выходец из старинной пьемонтской семьи, обосновавшейся во Франции.
Борде, Теофиль (1722 — 1776) — известный французский врач; автор ряда работ, переведенных на многие языки; пользовался покровительством графини Дюбарри; персонаж романа «Джузеппе Баль-замо».
Эскулап (древнегреческий Асклепий) — бог врачевания в античной мифологии; его имя стало нарицательным для обозначения врача.
Венера (древнегреческая Афродита) — богиня любви и красоты в античной мифологии.
… маркиз сильно болен: переполнение и закупорка сосудов мозга… — В современной медицинской терминологии — предынсультное состояние.
… я вижу господина епископа Сенезского… — Жана Батиста Шарля Мари де Бове (1731 — 1790), выдающегося проповедника, в 1773 — 1783 гг. епископа селения Сенез (провинция Прованс, Юго-Восточная Франция), где издавна была своя епископская кафедра.
… господина кюре церкви святого Людовика. — Кюре — католический приходский священник.
Людовику IX (1215 — 1270), королю Франции с 1226 г., причисленному к лику святых, была посвящена церковь в Версале.
… вы который год первый дворянин королевских покоев! — В королевской Франции одно из высших придворных званий; его носителями обычно были четверо из приближенных короля.
Генеральное интендантство — в феодальной Франции главное управление финансового ведомства.
Интендантами во Франции до Революции назывались чиновники высокого ранга, которым поручалась какая-либо отрасль управления.
Аббат (аббатиса) — в средние века почетный титул настоятеля (настоятельницы) католического монастыря; во Франции с XVI в. аббатами называли молодых людей духовного звания.
Эгильон, Эмманюель Арман де Виньеро дю Плесси-Ришелье, герцог д' (1720 — 1782) — французский политический деятель; сторонник графини Дюбарри; министр иностранных дел в 1771 — 1774 гг.; персонаж романа «Джузеппе Бальзамо».
Карета-визави (от фр. vis-a-vis — «напротив») — закрытый четырехколесный экипаж, в котором пассажиры сидят напротив друг друга.
… герцог, несмотря на муку, которой он выпачкался в битве при… — Д'Эгильон, бывший в 50-х — 60-х гг. XVIII в. губернатором провинции Бретань в Западной Франции, был обвинен в трусости во время высадки английского десанта в 1758 г. Современники говорили, что во время боя с англичанами у селения Сен-Каст он якобы прятался на одной из местных мельниц; на это и намекает графиня.
Мазарини, Джулио (1602 — 1661) — первый министр Франции с 1643 г., по происхождению итальянец; кардинал; подавил Фронду, добился гегемонии Франции в Европе; герой романов «Двадцать лет спустя»; «Виконт де Бражелон» и «Женская война».
… красовался герб рода Дюбарри… — Графы Дюбарри (самовольно присвоившие, этот титул, что часто случалось во Франции в XVIII в.), претендовали на родство со знатным шотландским родом Берримуров.
Граф Дюбарри — см. примеч. к с. 80.
… она была любовницей его брата… — Жана Жака Дюбарри (ок.1723 — ок. 1794), которого в обществе называли «графом Жаном»; Жан Жак Дюбарри — персонаж романа «Джузеппе Бальзамо».
Монтессон — см. примеч. к с. 8. Великий дофин — см. примеч. к с. 80. Шуэн, Мари Эмили Жюли (ум. в 1744 г.) — фаворитка великого дофина. Ментенон — см. примеч. к с. 33.
Замор — реальное лицо; мальчик-индиец, состоявший в услужении у графини Дюбарри; сумел нажить на этой службе значительное состояние и впоследствии вернулся на родину; персонаж романа «Джузеппе Бальзамо».
… на Сен-Жерменской ярмарке… — Эта ярмарка устраивалась в Париже на левом берегу Сены на землях аббатства Сен-Жермен-де-
Пре в конце XII — конце XIII в.; с конца XV в. получила название Сен-Жерменской.
Челлини, Бенвенуто (1500-1571) — итальянский ювелир, скульптор и писатель, некоторое время работал во Франции; герой романа Дюма «Асканио».
Амур (древнегреческий Эрот) — одно из божеств любви в античной мифологии; часто изображался в виде шаловливого ребенка; в более позднюю эпоху у древних сложилось представление о существовании множества амуров.
Сирены — см. примеч. к с. 156.
Мадригал — небольшое стихотворение, содержащее преувеличенно лестную похвалу; обычно обращено к женщине.
Дофина — титул жены дофина, наследника французского престола; дофиной в 1774 г. была Мария Антуанетта.
Арпан — см. примеч. к с. 13.
Дюйм — единица длины в системе мер некоторых стран; равняется 2,54 см.
Камалъдулъцы — монахи католического ордена, основанного в начале XI в. в итальянском городе Камальдоли в Тоскане святым Ро-муальдом; во Франции конгрегация ордена появилась в 1626 г.
Клятва игрока — то есть клятва лживая, которую не собираются исполнять. … вспомните болезнь в Меце и отставку госпожи де Шатору. — В августе 1744 г., находясь в Меце, городе на северо-востоке Франции, Людовик XV тяжело заболел и некоторое время считался безнадежным. Его болезнь вызвала во Франции большое беспокойство и подъем монархических чувств. Данное тогда королю прозвище «Возлюбленный» затем утвердилось за ним. Во время болезни Людовик, терзаемый страхом смерти, под влиянием духовника удалил свою фаворитку герцогиню Шатору (см. примеч. к с. 80), но, выздоровев, снова сблизился с ней.
Аи — общее название группы высококлассных шампанских вин, производимых из винограда, который произрастает в окрестностях города Аи в Северной Франции.
Бургундское — см. примеч. к с. 40.
Буаси-Сен-Леже — город во Франции, в департаменте Сена-и-Уаза, в окрестности Парижа; близ этого города находится замок Гробуа.
Площадь Мобер — находится на левом берегу Сены на месте разрушенных крепостных стен; известна с 1162 г.; носит имя одного из аббатов монастыря святой Женевьевы, покровительницы Парижа.
Психея — в древнегреческой мифологии олицетворение человеческой души; обычно изображалась в виде бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки. Согласно позднейшим сказаниям, возникшим накануне новой эры, Психея была возлюбленной бога Амура (Эрота), но нарушила запрет встречаться с ним только в темноте, и любовник ее покинул. Чтобы вновь обрести его, Психее пришлось пройти через множество испытаний, в том числе преследования матери своего возлюбленного Венеры-Афродиты. Дюма здесь намекает, по-видимому, на сцену из «Метаморфоз» (VI, 69) древнеримского писателя Апулея (125-170): служанки Венеры истязают Психею плетьми.
… пели «Семь смертных грехов». — Грех в христианском богословии — тяжкое отступление от Божьих заповедей и законов; католическая теология насчитывает семь смертных грехов: чревоугодие, леность, любострастие, зависть, гордость, скупость и гнев.
Копти, Луи Франсуа, принц де (1717 — 1776) — член французского королевского дома, политический деятель и военачальник.
Л'Илъ-Адан — город неподалеку от Парижа в северном направлении, в департаменте Валь-д'Уаз; известен развалинами старинного феодального замка.
… спор с женой моего внука? — То есть с дофиной Марией Антуанеттой.
Маркиза де Розен — придворная дама, принадлежавшая к старинному немецкому роду из Прибалтики; три его представителя перешли в начале XVII в. на французскую службу, и их потомство укоренилось во Франции.
Сатиры — в древнегреческой мифологии низшие лесные божества; демоны плодородия, составляющие свиту бога вина Диониса и отличающиеся сладострастием.
Фарамонд — легендарный король франков; по преданию, жил в V в.
Орден Святого Людовика — учрежден Людовиком XIV в 1693 г. в качестве награды за военные заслуги и назван в честь Людовика IX Святого.
… дойдет доушей дофина. — То есть будущего короля Людовика XVI (см. примеч. к с. 9).
Конюший — должность при французском дворе: управляющий конюхами и конюшнями (см. также примеч. к с. 88).
… Господь взял от нас королеву… — См. примеч. к с. 252.
Шон — родственница и наперсница графини Дюбарри; персонаж романа «Джузеппе Бальзамо».
Парламенты — так назывались высшие суды в королевской Франции, из которых каждый имел свой округ. Наибольшее значение имел Парижский парламент, обладавший некоторыми политическими правами, в частности правом возражения против королевских указов и внесения их в свои книги (регистрации), без чего указы не могли иметь законной силы, а также правом их отмены. В парламенте, кроме профессиональных юристов, по мере надобности заседали также принцы королевского дома и лица, принадлежавшие к высшей светской и духовной знати. На практике парламенты часто являлись центрами оппозиции правительству, особенно со стороны буржуазии. Поэтому по инициативе канцлера Мопу в 1771 г. парламенты во Франции были уничтожены и заменены королевскими верховными судами. В царствование Людовика XVI в 1774 г. старая судебная система была восстановлена, но окончательно ликвидирована в годы Революции.
… игра, которую вы ведете, закончится для вас Бастилией или изгнанием из королевства, как только я закрою глаза… — После смерти Людовика XV графиня Дюбарри была заключена в монастырь, но скоро возвратилась в один из своих замков, где жила с большой пышностью.
Бастилия — крепость, охранявшая подступы к Парижу с востока; затем вошла в черту города; известна с XIV в.; с XV в. — тюрьма для
государственных преступников; 14 июля 1789 г., в день начала Великой французской революции, была взята штурмом и затем разрушена.
Бёмер, Шарль Огюст — вместе с Полем Боссанжем владелец известной во второй половине XVIII в. французской ювелирной фирмы; именно Бёмер и Боссанж изготовили знаменитое колье, афера с которым стала сюжетом романа Дюма «Ожерелье королевы».
… три французские лилии… — Лилия была геральдическим знаком французских королей.
Ламбаль, Мария Терезия Луиза де Савой-Каринъян, принцесса де (1749-1792) — подруга и приближенная Марии Антуанетты; супер-интендантка (управляющая) ее двора; потеряла свое место в результате придворных интриг, но осталась верной королеве; убита во время Революции.
Субиз, Шарль де Роган, принц де (1715-1787) — французский военачальник, маршал Франции; сторонник госпожи Дюбарри.
Бычий глаз (фр. CEil-de-bceuf) — так называлась передняя перед королевской спальней в Версале, освещенная овальным окном в форме коровьего глаза, давшего комнате это название. Там придворные ожидали начала церемонии вставания и утреннего выхода короля.
… отъявленного дурака д'Омона… — Вероятно, имеется в виду герцог Жак д'Омон (1723 — 1799) — хромой вельможа, отличавшийся глупостью.
Возможно также, что речь идет о герцоге Луи Мари Огюстене д'Омоне (1709-1782), первом камергере Людовика XV, владельце замечательной коллекции художественных изделий.
… все, что попадает в ров, достается солдату. — Французская пословица, означающая, что вещь принадлежит тому, кто ее нашел.
Ломбер — карточная игра; обычно ведется между тремя игроками: двое играют против третьего. Возникла в XIV в. в Испании и быстро приобрела популярность по всей Европе. От этой игры получил название ломберный, то есть карточный, стол.
Генрих IV — см. примеч. к с. 34. Неофит — см. примеч. к с. 157. Поденки — бабочки-однодневки.
Голубая лента — нашейная лента высшей награды королевской Франции — ордена Святого Духа.
Кюлоты — см. примеч. к с. 36.
«De profundis» — «Из глубин»; название христианской заупокойной молитвы на текст псалма 129; его начальные слова в православной Библии: «Из глубины взываю к Тебе, Господи».
Рамбуйе — замок-дворец (бывший феодальный замок-крепость) к юго-западу от Парижа; известен с XIV в.; место королевских охот; ныне резиденция президента Французской республики.
Компьень — замок-дворец в 85 км к северо-востоку от Парижа; одна из древнейших резиденций французских королей.
Фонтенбло — замок-дворец неподалеку от Парижа в юго-восточном направлении; летняя резиденция французских монархов.
Д'Аламбер, ЖанЛерон (1717 — 1783) — французский математик и философ-просветитель; известен изданием (вместе с Дидро) «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», выразившей общественное мнение Франции XVIII в. в области философии, религии, государственного права.
Дидро, Дени (1713 — 1784) — французский писатель и философ-материалист, один из основателей и редакторов «Энциклопедии»; автор многих философских трудов, критических очерков о французском искусстве; ему принадлежат многочисленные художественные произведения (романы, повести, новеллы, драмы).
… опубликовал свой знаменитый «Мемуар» против советника Гезмана… — Имеется в виду первый из четырех памфлетов, выпущенных Бомарше (см. примеч. к с. 32) в 1773 — 1774 гг. и разоблачающих нравы французского судопроизводства. Поводом к их написанию была проигранная автором тяжба относительно его справедливых имущественных претензий к наследнику компаньона по коммерческим операциям, а также угрожавшее ему судебное преследование по лживому обвинению в клевете на разбиравших его дело судей. Несмотря на происки королевских сановников, осудивших памфлеты и его самого, Бомарше в конце концов выиграл эти процессы и стал признанным писателем-трибуном.
Советник Гезман — французский судебный деятель, автор многих трудов по юриспруденции Луи Валентен Гезман (1739-1794), разбиравший дело Бомарше.
Фигаро — герой трилогии Бомарше «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Преступная мать, или Новый Тартюф» — умный и плутоватый слуга, помогающий своему господину, но в то же время дурачащий его.
… Приключение г-на де Фронзака вызвало скандал. — Фронзак, Луи Антуан Софи де Виньеро дю Плесси Ришелье (1736-1791) — сын маршала Ришелье; бригадный генерал; находился со своим отцом в неприязненных отношениях.
… Два приключения г-на маркиза де Сада вызвали ужас. — Сад, До-насьен Альфонс Франсуа, маркиз де (1740 — 1814) — французский писатель; его творчество отличается соединением болезненной чувственности и жестокости. Многократно судимый, по обвинению в содомии и отравлении он был приговорен к смерти, но помилован; от его фамилии происходит слово «садизм», обозначающее описанное Садом в своих романах половое извращение — причинение страданий партнеру в любви. К концу царствования Людовика XV особенно нашумели два похождения маркиза де Сада: аркейское дело 3 апреля 1768 г. и марсельское 27 июня 1772 г.
Сартин, Габриель де, граф д'Альби (1729 — 1801) — французский государственный деятель, родом испанец; начальник полиции в 1759 — 1774 гг., морской министр в 1774-1780 гг.; персонаж романа «Джузеппе Бальзамо».
Епископ Тарбский — Мишель Франсуа Куе де Вивьен де Лорри, в 1769-1782 гг. епископ города Тарб на юге Франции.
Великий раздаватель милостыни — титул первого придворного священника; здесь, по-видимому, имеется в виду Роган-Гемене, Луи Рене Эдуар, принц де (1734-1803) — французский дипломат, епископ Страсбурский, с 1778 г. — кардинал; потомок королей и герцогов Бретани; принадлежал к одной из знатнейших аристократических фамилий Франции.
… «музыкальная война» между глюкистами и пиччинистами… — Глюк, Христоф Валлибалвд (1714 — 1787) — композитор, крупнейший реформатор оперы XVIII в.; по национальности чех; в 1773 — 1779 гг. жил в Париже.
Пиччини (Пиччинни), Никколо (1728 — 1800) — итальянский оперный композитор; в 1776 г. был приглашен в Париж, где сторонники итальянской оперы противопоставляли его Глюку, что вызвало так называемую «войну глюкистов и пиччинистов».
Расин, Жан (1639 — 1699) — французский поэт и драматург, автор трагедий на библейские и античные сюжеты.
«Ифигения в Авлиде» — драма Расина (впервые поставлена в 1674 г.) на сюжет древнегреческого мифа о дочери Агамемнона, предводителя греческого войска в Троянской войне, принесенной отцом в жертву ради достижения общей цели, то есть сюжет о конфликте между любовью, нравственным долгом и государственным интересом. Ифигения была во время жертвоприношения спасена богиней-охотницей Артемидой и перенесена в Тавриду (Крым), где стала ее жрицей.
Авлида — город и порт в Древней Греции, где собиралось войско перед отплытием к Трое.
Малые апартаменты — внутренние покои королевы в одном из крыльев Большого Версальского дворца, предназначенные для приема наиболее близких к ней лиц.
… английские новшества: сады с тысячью убегающих аллей, с чащами, лужайками… — Имеется в виду свободно распланированный пейзажный («английский») парк, в основе композиции которого лежит принцип использования природных мотивов и устройство романтических мавзолеев, руин и т.д.; это направление садово-паркового искусства появилось в середине XVIII в.
Фаэтон — легкий четырехколесный экипаж с откидным верхом.
Дюте, Розали (1752 — 1820) — танцовщица и куртизанка; любовница графа д'Артуа; подруга графини Дюбарри.
Гимар, Мари Мадлен (1743-1816) — известная танцовщица парижской оперы. Арну, Софи (1744 — 1803) — известная певица парижской оперы; пользовалась большим успехом в высшем свете благодаря своей красоте и необыкновенному голосу.
Полиньяк, Иоланда Мартина Габриель де Поластрон, госпожа де (1749 — 1793) — принцесса, воспитательница детей Марии Антуанетты и ее близкая подруга; имела на королеву большое влияние и даже обвинялась в противоестественных отношениях с ней; в начале Революции эмигрировала и умерла за границей.
Ниневия — город в Северной Месопотамии (на территории современного Ирака); основан в V тысячелетии до н.э.; в VIII-VII вв. до н.э. — столица Ассирии; в 612 г. до н.э. разрушена царем мидян.
… в Льежском альманахе говорилось… — Альманахами (от ар. almana — «время») в средние века назывались астрономические и календарные таблицы (сначала рукописные, потом печатные), издание которых с XVI в. стало ежегодным; с XVII в. к ним стали прибавлять астрологические заметки, предсказания и разные известия. Льежский альманах (Бельгия) был одним из важнейших изданий такого рода, рассчитанных на самые широкие слои населения; издание его было начато в 1636 г.
Виль, Жан Игнац де (1690-1774) — аббат, управляющий министерства иностранных дел, член Французской академии; умер 15 апреля 1774 г.
Лебель, Доменик Типом — главный камердинер Людовика XV; пользовался его исключительным доверием; устроил знакомство короля с госпожой Дюбарри.
Бомон, Кристоф де (1703 — 1781) — архиепископ Парижский в 1746 — 1781 гг.
Соборование (елеоосвящение) — христианское таинство: чтение молитв у постели больного и помазание его тела елеем; согласно православному вероучению, исцеляет недуг; католицизм рассматривает елеоосвящение как благословение умирающему.
… только после изгнания сожительницы… — То есть графини Дюбарри.
Иезуиты — члены Общества Иисуса, важнейшего католического монашеского ордена, основанного в XVI в. Орден ставил своей целью борьбу любыми способами за укрепление церкви против еретиков и протестантов. Имя иезуитов стало символом лицемерия и неразборчивости в средствах для достижения цели. В 1764 г. иезуиты королевским указом были изгнаны из Франции.
Шуазёль, Этьенн Франсуа, герцог д'Амбуаз, граф де Стенвиль де (1719 — 1785) — французский государственный деятель и дипломат; первый министр (1758-1770), министр иностранных дел (1758 — 1761 и 1766-1770), военный министр (1761-1766).
… подвергнуть ее каноническому бесчестию. — То есть преследованию или наказанию как грешницы на основании церковных правил.
Террэ, Жозеф Мари (1715-1778) — аббат, французский политический деятель; генеральный контролер (министр) финансов в 1769 — 1774 гг.
Янсениапы — последователи голландского католического богослова Янсения (Янсениуса, настоящее имя — Корнелий Янсен; 1585-1638), воспринявшего некоторые идеи протестантизма. В своих сочинениях Янсений утверждал порочность человеческой природы, отрицал свободу воли, выступал против иезуитов. Во Франции учение Янсения преследовалось властями и церковью.
… что происходило с епископом Суасонским в Меце… — Во время болезни Людовика XV в Меце (см. примеч. к с. 285) епископ Суа-сонский в 1764 — 1790 гг. Анри Жозеф Клод де Бурдей потребовал от короля удаления фаворитки герцогини Шатору.
Принцесса Аделаида (1732 — 1800) — дочь Людовика XV; была им весьма любима и имела на него большое влияние.
Епископ Санлисский — Жан Арман де Рокулэр (1721-1818), занимавший кафедру в Санлисе в 1754 — 1790 гг.
Прелат — в католической и англиканской церквах звание высшего духовного лица.
Христианнейший король (или христианнейшее величество) — старинный почетный титул французских королей.
Старший сын церкви — старинный титул французских королей.
… в доме конгрегации лазаристов… — Конгрегация — в католической церкви руководимые монашескими орденами религиозные организации, куда входят наряду со священнослужителями и миряне.
Лазаристы — члены духовного объединения, созданного в 1625 г.; ставили своей целью миссионерскую деятельность — проповедь христианства и воспитание юношества.
Рош-Эмон, Шарль Антуан де ла (1692-1777) — кардинал, епископ Тарбский (1729-1740), архиепископ Реймсский (1762-1776).
Епископ Каркасонский — в 1730 — 1778 гг. им был Арман Базен де Бесон. Рюэй — замок-дворец в окрестности Парижа, окруженный великолепным парком; прообраз дворцово-паркового ансамбля Версаля; построен в первой половине XVII в. кардиналом Ришелье; в настоящее время не существует.
Женевьева (ок. 422 — ок. 502) — святая католической церкви, небесная покровительница Парижа.
Ла Врийер, Луи Фелипо, граф де Сен-Флорантен, герцог де (1705 — 1777) — французский государственный деятель; приближенный Людовика XV, пользовался его полным доверием; занимал ряд министерских постов.
… трех его дочерей… — Аделаиды (см. примеч. к с. 324); Виктории Луизы Марии Терезы (1773 — 1799), эмигрантки во время Революции; Софи Филиппины Элизабет Жюстины (1734 — 1782).
Стремянный — конюх-слуга, ухаживающий за верховой лошадью своего хозяина, а также сопровождающий господина на охоту.
… в день осквернения Сен — Дени… — См. примеч. к с. 78.
… Нам приходилось рассказывать о радости парижан по поводу смерти Людовика XIV. — Вероятно, имеется в виду оценка в романе «Шевалье д'Арманталь» (глава III) общественного настроения после смерти Людовика XIV.
Примечания
1
У себя дома (англ.)
(обратно)2
Святая святых (лат.)
(обратно)3
В сторону (ит.)
(обратно)4
«Из глубин» (лат.)
(обратно)



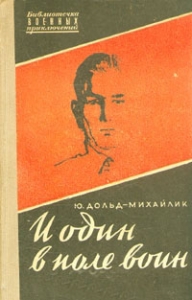

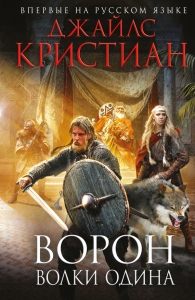
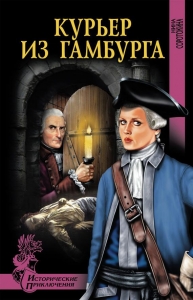
Комментарии к книге «Завещание господина де Шовелена», Александр Дюма
Всего 0 комментариев