Александр Дюма Замок Эпштейнов
ПРЕДИСЛОВИЕ
Однажды во Флоренции долгим и чудесным зимним вечером 1841 года мы сидели у княгини Голицыной. Как было заранее условлено, каждый из нас должен был рассказать какую-нибудь историю, причем непременно фантастическую, и мы уже выслушали всех гостей, кроме графа Элима.
Граф Элим был красивый молодой человек, высокий, бледнолицый, светловолосый и худощавый, склонный к меланхолии, которую еще больше подчеркивали внезапно овладевавшие им припадки безумного веселья, похожие на приступы горячки. Уже не раз в его присутствии речь заходила о призраках и привидениях, и мы неизменно спрашивали его, что он об этом думает. Он отвечал нам убежденным, не допускающим сомнений тоном:
— Я верю в это.
Почему он так верил в привидения? Никто и никогда его не спрашивал. Впрочем, в таких случаях, веришь ты или нет, всегда крайне затруднительно дать объяснение.
То, что Гофман верил в реальное существование своих героев, вполне понятно: он сам видел Повелителя блох и лично знал Коппелиуса.
Поэтому-то, когда прослушав странные и невероятные истории о призраках, видениях и выходцах с того света, граф Элим говорил: «Я верю в это» — никто не сомневался, что это действительно так.
Когда пришла очередь графа познакомить нас со своим рассказом, все обернулись к нему с нескрываемым любопытством. Мы были уверены, что непременно услышим от графа историю, похожую на действительность, а ведь именно это и составляет главное очарование такого рода сюжетов. Мы уже были готовы проявить настойчивость, но он не заставил себя упрашивать: едва княгиня напомнила ему, что пришло его время, он поклонился в знак согласия и попросил извинения за то, что речь пойдет о приключении, случившимся с ним лично.
Нетрудно догадаться, что это предуведомление лишь усилило интерес слушателей. Все смолкли, и граф немедленно приступил к повествованию.
— Три года назад я путешествовал по Германии. Я вез с собой рекомендательные письма к одному богатому франкфуртскому негоцианту, у которого были в окрестностях города прекрасные угодья для охоты. Зная, что я страстный любитель ее, он пригласил меня поохотиться с его старшим сыном (должен вам сказать, что сам он откровенно презирал это занятие, но сын был на этот счет совсем другого мнения).
В назначенный день мы встретились у городских ворот: там нас уже ждали лошади и экипажи. Мои спутники расселись в шарабаны, некоторые вскочили на лошадей, и мы весело тронулись в путь.
Не прошло и полутора часов, как мы прибыли на ферму нашего хозяина, где нас ожидал роскошный ужин. Тут я не мог не признать, что если наш хозяин сам и не любитель охоты, то, по крайней мере, поощрять склонности других он умеет прекрасно.
Нас было восемь человек: сын хозяина, его учитель, пятеро его друзей и я. За столом я оказался рядом с учителем, и мы разговорились. Речь зашла о путешествиях: он побывал в Египте, а я как раз возвратился оттуда. Это обстоятельство и стало причиной возникшей между нами близости. Отношения такого рода кажутся долговечными в момент их зарождения, но в один прекрасный день пути людей расходятся и тогда близость исчезает, как будто ее никогда и не было.
Уже вставая из-за стола, мы с учителем уговорились держаться на охоте рядом. Он дал мне совет: засесть в центре так, чтобы мне были хорошо видны горы Таунус; когда мои товарищи будут гнать дичь, зайцы и куропатки устремятся в леса, покрывающие эти горы, и я смогу из укрытия стрелять в дичь, поднятую не только мною, но и другими.
Мы начали охоту за полдень, а в октябре дни уже коротки, так что я поспешил последовать полученному совету. Вскоре по обилию дичи мы убедились, что быстро наверстаем упущенное время.
Я не замедлил оценить указания моего доброго учителя: зайцы и куропатки так и мелькали передо мной; к тому же целые стаи дичи, которую гнали мои товарищи, устремлялись к лесу, и вся эта живность становилась для меня удобной мишенью. Удача воодушевила меня, и после двух часов охоты я, в сопровождении отличной легавой, направился прямо в горы, твердо пообещав себе держаться на возвышенности, чтобы не терять из виду моих спутников.
«Человек предполагает, а Бог располагает» — эта пословица придумана как раз для охотников. Некоторое время я действительно не терял из виду равнину. Но внезапно в долине скрылась стая красных куропаток — таких я в тот день еще не видел.
Двух из них я убил сразу же, а затем пустился в погоню за остальными: подобно охотнику Лафонтена, я был одержим алчностью…
Прошу меня простить за столь подробное описание псовой охоты, — обратился граф Элим к дамам, прерывая рассказ, — но это поможет вам понять, каким образом я очутился в полном одиночестве и почему за этим последовали столь странные события.
Мы дружно заверили графа, что слушаем его с живейшим интересом, и он продолжал:
— Итак, забыв обо всем на свете, я гнался за куропатками. Стая перелетала из кустов в кусты, с косогора на косогор, из одной долины в другую и увлекала меня все дальше в горы. Я преследовал куропаток с таким пылом, что и не заметил, как небо заволокли тучи: надвигалась гроза. Первый раскат грома заставил меня опомниться. Оглядевшись, я увидел, что нахожусь в глубине какой-то долины, на маленькой полянке, вокруг которой поднимаются покрытые лесом горы. На одной из этих гор я заметил развалины старого замка. Никаких следов дороги вокруг не было. Меня завел сюда охотничий азарт, и я пробирался сквозь заросли кустарника. Теперь нужно было искать проторенную дорогу. Но где она? Я не знал.
Между тем тучи сгущались и все сильнее затягивали небо. Стали чаще раздаваться раскаты грома, и несколько крупных капель дождя с шумом упали на ворох пожелтевших листьев, которые с каждым порывом ветра взлетали в воздух, подобно птицам, сорвавшимся с дерева.
У меня было мало времени; я сориентировался как мог и, сочтя, что маршрут намечен, двинулся вперед, решив не уклоняться от прямой линии. Я рассчитывал, что через четверть льё, самое большее через пол-льё наткнусь на дорогу или тропинку, и они обязательно куда-нибудь меня выведут. Кроме того, в этих горах ни людей, ни животных бояться не стоит: разве что встретятся какой-нибудь бедный крестьянин да пугливая дичь. Стало быть, самое худшее, что меня ожидало, — ночь под деревом, что само по себе и не так страшно, если бы только небо с каждой минутой не становилось все более угрожающим. Нужно было во что бы то ни стало найти кров. Я собрался с силами и зашагал вдвое быстрее.
К несчастью, мне пришлось идти по склону, покрытому лесной порослью, что создавало множество препятствий и заставляло меня часто останавливаться: то на моем пути оказывался кустарник, такой густой, что перед ним пятилась моя собака; то расщелина, какие часто встречаются в горной местности, заставляла меня делать большой крюк. В довершение всех моих бед внезапно совсем стемнело и дождь начал лить с такой силой, которая удручает странника, не имеющего надежды найти где-нибудь приют. Кроме того, обед у нашего гостеприимного хозяина все более отдалялся, а физические упражнения, которым я предавался в течение последних шести часов, весьма способствовали возбуждению хорошего аппетита.
По мере того как я продвигался вперед, лесная поросль постепенно сменилась лесом. Идти стало легче, но, по моим расчетам, из-за тех крюков, что мне приходилось делать, я несколько уклонился от намеченного маршрута. Это, однако, не особенно меня беспокоило. С каждым шагом лес становился все более густым и наконец превратился в настоящую чащу. Я пробирался все дальше и, пройдя около четверти льё, как и предвидел, нашел тропинку.
Теперь предстояло выбрать, в какую сторону идти: направо или налево. Я был в полнейшей нерешительности и в конце концов отдался на волю случая, двинувшись направо, а точнее говоря, последовав за своей собакой, выбравшей это направление.
Будь я в укрытии, под каким-нибудь навесом, в каком-нибудь гроте, в каких-нибудь развалинах, картина, представшая моему взору, привела бы меня в восхищение. Молнии вспыхивали одна за другой, причудливые отблески мерцали в листве деревьев. Глухие стоны грозы слышались сначала в одном конце долины, потом катились по ней, отдавались гулким эхом в другом ее конце и наконец смолкали вдали. Могучие буки, гигантские сосны и столетние дубы клонились под порывами ураганного ветра, словно пшеничные колосья от майского ветерка. Деревья противились натиску бури и стенали, изнемогая в неравной борьбе. Ураган гневно обрушивал на лес дождь, молнию, ветер, а лес протяжно отзывался грустной и торжественной жалобой, какую исторгает несчастный, несправедливо преследуемый ударами судьбы.
Но я был слишком слаб перед лицом этого неистовства природы, слишком остро чувствовал натиск стихии, чтобы испытывать в ту минуту поэтические чувства. С неба на меня низвергались потоки воды. Я вымок до нитки, а голод становился все более мучительным. Между тем тропинка, по которой я упорно следовал, как будто становилась шире и отчетливее. Было очевидно, что она приведет меня к какому-нибудь жилью.
И действительно, после получаса моих странствий среди буйства стихий я увидел при свете молнии, что тропинка ведет меня прямо к какому-то домику. Окрыленный надеждой обрести, наконец, кров и гостеприимство, я тут же забыл о своей усталости, ускорил шаг и через минуту уже стоял перед этим вожделенным приютом. Но, к великому разочарованию, я не заметил в окнах огня. Было еще слишком рано для того, чтобы хозяин лег спать, однако двери и ставни домика были плотно закрыты, и весь его внешний вид создавал впечатление, что он необитаем. Между тем, несмотря на разрушительные последствия урагана, все вокруг свидетельствовало о ежедневной заботе: виноградная лоза, листья которой наполовину облетели, вилась вдоль стены; розовые кусты, сохранившие несколько поздних цветков, были отделены от дорожек деревянной изгородью и образовывали маленький сад. В полной уверенности, что меня никто не услышит, я все же постучал.
И в самом деле, мой стук смолк, не вызвав в доме никакого ответного движения. Я крикнул, но никто не отозвался.
Признаюсь вам, если бы у меня была возможность проникнуть в дом, я бы непременно ею воспользовался, невзирая на отсутствие хозяина. Но двери и ставни были не только закрыты, но и наглухо заперты, а я, признаться, не до такой степени верил в немецкое гостеприимство, чтобы отважиться взломать их.
Одна мысль несколько утешала меня: этот домик не мог быть здесь единственным жилищем. Значит, где-нибудь неподалеку должны находиться деревня или замок. Я решил сделать последнюю попытку и постучал сильнее, но, поскольку и это не возымело никаких последствий, отправился на дальнейшие поиски.
Как я и думал, в двухстах или трехстах шагах я обнаружил ограду какого-то парка. Некоторое время я двигался вдоль нее, отыскивая калитку; пролом в стене, на который я вскоре наткнулся, избавил меня от дальнейших поисков. Перешагнув через обломки, я очутился в парке.
Этот парк, должно быть, служил когда-то местом для прекрасных прогулок его сиятельных владельцев. В Германии такие роскошные парки еще и теперь можно кое-где обнаружить, тогда как во Франции их через пятьдесят лет уже совсем не останется. Это было нечто вроде Шамбора, Мортефонтена или Шантийи. Но если хижина и прилегающий к ней сад, которые я только что видел, с первого взгляда обнаруживали тщательный уход за ними, то этот величавый парк казался заброшенным, неухоженным и одиноким.
Когда тучи немного расступались, буря на время стихала и в природе восстанавливалось минутное спокойствие, этот некогда великолепный парк при слабом лунном свете являл взору плачевную картину одичания: везде разросся кустарник, а деревья, вырванные из земли бурей или рухнувшие от старости, лежали поперек аллей так, что поминутно приходилось продираться сквозь ветви или перешагивать через распростертые, оголенные стволы, подобные мертвым телам. Это зрелище сильно удручало меня, и надежда обнаружить в замке, к которому вели мрачные, заросшие аллеи, какое-нибудь живое существо, становилась все слабее.
Дойдя, однако, до какого-то перекрестка, где четыре из пяти когда-то стоявших здесь столбов лежали на земле, я заметил свет, мелькнувший, казалось, в окне и немедленно исчезнувший. Как ни мимолетен был этот проблеск, его оказалось достаточно: я устремился в направлении к нему и минут через десять вышел из парка. На противоположном конце лужайки в окружении деревьев стояла черная громада. Я решил, что это замок.
Подойдя ближе, я увидел, что не ошибся. Однако свет, похожий на блуждающую звезду, совсем исчез, и чем ближе я подходил к этому странному зданию, тем более оно казалось мне необитаемым.
Это был один из тех часто встречающихся в Германии старых замков, архитектура которых, вопреки многочисленным переделкам, произведенным по необходимости или по прихоти хозяев, ясно указывает на то, что они построены в XIV веке. Чувство бесконечной грусти охватило меня при виде этого внушительного сооружения: ни одно из десяти или двенадцати окон, располагавшихся на фасаде, не было освещено. Окна одной из комнат были закрыты внешними ставнями, но, одна из них, нарушая последовательность ряда, была наполовину разбита, и я понял, что эта комната так же темна, как и остальные, иначе свет проникал бы через отверстие в ставне. На других окнах тоже, видимо, когда-то были ставни, но сейчас они либо были вовсе сняты, либо почти полностью отвалились и висели на одной петле, напоминая сломанные крылья птиц.
Я окинул взором весь фасад в поисках входа во внутренний двор, откуда надеялся увидеть разыскиваемый мною свет. И вот между двух башенок в конце стены я обнаружил дверь, которая сначала показалась мне прочно закрытой. Я все же толкнул ее, и она сразу поддалась из-за отсутствия какого-нибудь запора.
Я ступил на порог, затем нырнул под темную арку и наконец оказался во внутреннем дворе, заросшем травой и кустарником. В глубине двора сквозь мутное стекло одного окна пробивался, будто сквозь туманную пелену, благословенный свет, который я уже начал было считать плодом моего воображения. Два старика, вероятно муж и жена, сидели при свете лампы, греясь у очага. Я поискал вход: он оказался прямо у окна. В спешке я нечаянно задел рукой задвижку, и дверь резко распахнулась. Старуха вскрикнула. Я поспешил как можно скорее рассеять страх, в который мое неожиданное появление повергло этих мирных людей.
— Не бойтесь, друзья мои, — заговорил я, — заблудившийся охотник, смертельно уставший, изнемогающий от голода и жажды просит у вас стакан воды, кусок хлеба и постель.
— Простите моей жене ее испуг, — сказал старик, вставая мне навстречу. — Этот замок стоит в столь пустынном месте, что лишь по воле несчастного случая сюда забредает странник. Поэтому неудивительно, что, увидев вооруженного человека, бедная Берта так испугалась. Хотя, хвала Господу, ни нам, ни нашему хозяину не приходится бояться воров.
— Во всяком случае, друзья мои, на этот счет вы можете быть спокойны. Я граф Элим М. Я знаю, мое имя вам ни о чем не говорит, но вы, может быть, знаете господина фон Р. из Франкфурта. У меня были к нему рекомендательные письма, и он пригласил меня на охоту, во время которой я, погнавшись за стаей красных куропаток, заблудился в горах Таунус.
— Ах, сударь мой, — ответил старик, в то время как его жена с любопытством разглядывала меня, — мы ведь никого не знаем в городе. Я думаю, уже лет двадцать ни я, ни моя жена там не были, но нам и не нужно больше никаких объяснений. Вы хотите есть, пить и нуждаетесь в отдыхе. Ужин мы вам сейчас приготовим. Что касается постели (тут старики переглянулись), то с этим будет труднее, ну да там увидим.
— Не беспокойтесь, друзья мои, я прошу только небольшую часть вашего ужина и кресло где-нибудь в уголке замка.
— Предоставьте все нам, сударь, — сказала старуха. — Обсушитесь и обогрейтесь, а уж мы за это время постараемся сделать все что в наших силах.
Совет обсушиться и обогреться был отнюдь не праздным: я вымок до нитки, и зубы мои стучали от холода. Моя собака, впрочем, подавая мне пример, уже улеглась возле очага, стойко перенося исходящий от него жар, такой сильный, что в нем могла бы свариться вся моя дичь, потребовавшая столь утомительного преследования.
Поскольку я решил, что запасы в кладовой стариков невелики и, по всей вероятности, ужин их ограничивается вареным мясом с овощами и содержимым кастрюли, кипящей на очаге, я предоставил свою охотничью сумку в их распоряжение.
— Признаюсь, это кстати, — сказал старик, откладывая несколько куропаток и молодого зайца, — теперь, сударь, мы сможем их присоединить к нашему скудному ужину, а то мы, зная, как вы голодны, беспокоились, что не сумеем вас как следует накормить.
Тут муж и жена о чем-то пошептались, после чего старик вышел из комнаты, а его жена принялась ощипывать куропаток и свежевать зайца.
В течение десяти минут я всячески поворачивался перед очагом и несколько обсох. Тем не менее, когда старик вернулся, от моей одежды все еще шел пар.
— Сударь, — обратился он ко мне, — не желаете ли пройти в столовую? Там большой камин, и вам будет лучше, чем здесь. Ужин вам сейчас подадут.
Я пробормотал, что не стоило ему беспокоиться: я и здесь прекрасно себя чувствую и был бы счастлив отужинать с ними за одним столом. Поклонившись, он отвечал, что не достоин подобной чести со стороны господина графа. И поскольку он все время стоял возле двери с шапкой в руках, мне ничего не оставалось, как встать и дать ему понять, что я готов следовать в приготовленные для меня апартаменты. Старик вышел из комнаты; я последовал за ним. Моя собака, протяжно заскулив, нехотя поднялась и тоже поплелась за нами.
Я так спешил снова оказаться поближе к огню, что не особенно обращал внимание на коридоры и комнаты, по которым мы проходили, и заметил только, что все они находились в совершенном запустении.
Но вот открылась дверь; я увидел пламя гигантского камина и немедленно направился к огню, но Фидо, лапы которого вновь обрели упругость, оказался там раньше меня.
Главной моей заботой было согреться, но, едва расположившись перед камином, я увидел накрытый стол. На скатерти из той восхитительной материи, которую вывозят из Венгрии, была расставлена превосходная посуда.
Это неожиданное великолепие возбудило мое любопытство. Я оглядел приборы и тарелки: они были чрезвычайно дорогие и отличной работы; на каждом предмете был изображен герб владельца, а над ним — графская корона.
Пока я все это разглядывал, дверь снова открылась и вошел слуга в ливрее. В руках он нес серебряную супницу, не уступавшую по роскоши остальной посуде. Подняв глаза, я узнал в слуге своего недавнего знакомца.
— Но, друг мой, — сказал я старику, — повторяю вам: вы слишком со мною церемонитесь. Право же, мысль о том, сколько беспокойства я вам доставляю, не позволяет мне вполне насладиться вашим гостеприимством.
— Мы прекрасно знаем, какие почести должно воздавать господину графу, — ответил старик, ставя супницу на стол и почтительно кланяясь, — мы обязаны принимать вас так хорошо, как только можем. Граф Эберхард был бы недоволен, если бы мы поступили иначе.
Пришлось смириться. Я хотел было сесть на стул, но странный мажордом придвинул мне большое кресло, видимо принадлежавшее хозяину дома. На спинке кресла были изображены тот же герб и та же корона, какие я уже видел на посуде.
Я занял указанное место, а так как был страшно голоден, то просто набросился на еду. Надо сказать, что все блюда, включая доставшуюся мне часть ужина стариков, были чудесно приготовлены, но особенно великолепны были вина: лучшие сорта бордоского, бургундского и рейнского.
Все это время старик рассыпался в извинениях, что не может принять меня как подобает.
Столько же из любопытства, сколько желая отвлечь его от этих опасений, я спросил, кто его хозяин и живет ли он в замке.
— Мой хозяин — граф Эберхард фон Эпштейн, последний из своего рода. Он не только постоянно живет в этом замке, но и не покидал его вот уже двадцать пять лет. Болезнь одного дорогого ему человека заставила его отправиться в Вену. Он уехал туда шесть дней назад, а когда вернется, мы не знаем.
— А что это за маленький домик, такой ухоженный, милый, весь в цветах, который я заметил в четверти льё отсюда? Он так не похож на замок.
— Это и есть настоящее жилище графа Эберхарда, — ответил старик. — Старые жильцы умерли, и после смерти последнего из них, смотрителя охоты Йонатаса, господин граф там поселился. Все дни он проводит в этом домике, а в замок возвращается только на ночь. Ведь замок Эпштейнов, как вы видели, все больше разрушается. Кроме красной комнаты, здесь не осталось ни одного помещения, пригодного для жилья.
— А что это за красная комната?
— Это та комната, в которой жили из поколения в поколение все Эпштейны. В этой комнате все они родились, в ней все они и умерли — все, от графини Леоноры до графа Максимилиана.
Произнося эти слова, старик понизил голос и тревожно огляделся. Я прекрасно это заметил, но ничего не сказал и больше не расспрашивал его. Меня занимали мысли о странном и загадочном человеке: о последнем представителе рода Эпштейнов, одиноко живущем в старом замке, который, быть может, когда-нибудь погребет под своими развалинами могилу его владельца.
После ужина, утолив голод и жажду, я захотел спать, поэтому, встав из-за стола, попросил моего услужливого мажордома проводить меня в спальню.
Тут, как мне показалось, старик выказал некоторое замешательство и стал невнятно бормотать какие-то извинения. Потом, словно приняв какое-то решение, он твердо сказал:
— Хорошо, господин граф, соблаговолите следовать за мной. Я направился за ним следом. Фидо, который так же сытно поужинал, как хозяин, и теперь лежал у камина, с тихим ворчанием встал и пошел за нами.
Старик привел меня в ту самую комнату, куда я попал с самого начала. Кровать была застелена чистым и тонким бельем.
— Позвольте, это же ваша комната! — удивился я.
— Не сердитесь на нас, господин граф, — отвечал старик, ложно истолковав мое удивление. — Во всем замке нет другой комнаты, где вы могли бы переночевать.
— Но где же вы с женой будете спать?
— В столовой: там есть большие кресла.
— Ну нет! Этого я не могу допустить! — воскликнул я. — В кресле буду спать я. А вы ложитесь в свою постель и отведите мне другую комнату.
— Я уже имел честь сообщить господину графу, что в замке нет других жилых комнат, кроме разве что…
— Кроме какой? — спросил я.
— Кроме комнаты графа Эберхарда, красной комнаты.
— Но ведь ты же знаешь, что господин граф не может там спать! — взволнованно воскликнула старуха.
Я пристально посмотрел на них: оба стояли потупившись и были заметно смущены. Мое любопытство, и так уже сильно возбужденное всем, что со мной случилось, возросло до предела.
— Почему же не могу? — спросил я. — Это что, запрет хозяина?
— Нет, господин граф.
— Если бы граф Эберхард узнал, что вы позволили мне расположиться в его комнате, он бы рассердился на вас?
— Не думаю.
— Но почему же тогда нельзя? Вы словно боитесь чего-то, когда речь заходит об этой таинственной красной комнате.
— Дело в том, сударь…
Старик осекся и посмотрел на жену. Та пожала плечами, как бы говоря: «Ну, скажи, если хочешь».
— Так в чем дело? — переспросил я. — Ну же, говорите.
— Дело в том, что в этой комнате живут привидения, господин граф. Поскольку старик обращался ко мне по-немецки, я подумал, что плохо расслышал и не понял.
— Что вы сказали, друг мой?
— Дело в том, — ответила за него жена, — что там появляются призраки. Вот в чем дело.
— Призраки! — воскликнул я. — Ах, черт побери, если дело только в этом, то можете не волноваться, друзья мои. Я всю жизнь мечтал увидеть привидение. Поэтому я не могу согласиться с вашим великодушным решением оградить меня от этой ужасной комнаты и заявляю, что решительно хотел бы в ней переночевать.
— Вам следовало бы хорошенько подумать, прежде чем настаивать на этом, господин граф.
— О, я уже обо всем подумал. К тому же повторяю вам, я только и мечтаю пообщаться с потусторонними силами.
— Для графа Максимилиана это плохо кончилось, — пробормотала старуха.
— У графа Максимилиана, может быть, были свои причины бояться мертвецов. У меня их нет. Я верю в то, что мертвецы приходят к живым, чтобы или наказать или защитить их. Но покойники не станут вставать из гроба, чтобы наказать меня, ибо я не припомню за всю свою жизнь ни одного дурного поступка и ничего такого, в чем я мог бы себя упрекнуть. Если же, напротив, они явятся, чтобы защитить меня, то у меня опять же нет никаких причин пугаться призраков, посетивших меня со столь дружескими намерениями.
— Нет, все равно, это невозможно, — сказала старуха.
— Но если господин граф действительно хочет… — нерешительно возразил ее муж.
— Не то чтобы я этого хотел, — ответил я, — ибо в этом доме у меня нет права хотеть. Если бы я обладал этим правом, то я бы потребовал своего, говорю вам прямо. Но, поскольку такого права у меня все-таки нет, то я вас прошу.
— Ну, так как же? — спросила старуха.
— Что ж, пусть будет так, как того желает господин граф. Ты же знаешь, граф Эберхард всегда говорил нам: «Гость важнее хозяина».
— Хорошо, но при одном условии: стелить постель мы пойдем вместе. Одна я туда не пойду даже за все золото мира.
— Конечно, — ответил старик. — Сударь, подождите здесь или в столовой, пока мы все приготовим.
— Идите, друзья мои, я подожду.
Они взяли свечи и вышли из комнаты. Старик шел первым, жена следовала за ним. Я сел у огня и погрузился в размышления.
В юности я слышал сотни рассказов о заблудившихся путешественниках и о том, что с ними происходило в старых замках; все эти истории были похожи одна на другую. Я всегда считал подобные рассказы выдумкой и слушал их с недоверчивой улыбкой. И вот теперь я с изумлением понял, что сам становлюсь действующим лицом одной из таких историй.
Ощупав себя, чтобы убедиться, что все это происходит со мною наяву, я огляделся вокруг: действительно, обстановка была самая таинственная. Я вышел наружу, желая убедиться, что нахожусь в том самом замке, который показался мне издалека нагромождением черных, мертвых руин. Небо снова прояснилось, и луна посеребрила верхушки крыш. Стояла тишина; все кругом казалось мертвым. Только из листвы дерева, темный силуэт которого можно было различить в углу двора, раздавался пронзительный крик совы.
Я и в самом деле оказался в одном из тех замков, которые знамениты своими древними традициями и чудесными легендами. И если обещанный призрак еще не предстал передо мной, то на то была его злая воля, ибо замок, где мне предстояло провести ночь, был не менее фантастичен, чем тот, куда Вильгельм привез свою Ленору.
Твердо уверенный, что действую не во сне, а наяву, я вернулся в комнату стариков. Старуха была уже там: так она спешила окончить свое дело. Ее муж остался наверху, чтобы развести огонь.
Вдруг зазвенел колокольчик. Я невольно вздрогнул.
— Что это? — спросил я.
— О, ничего страшного, — ответила старуха, — это муж звонит, он предупреждает, что все готово. Я провожу господина графа до начала лестницы, а он будет ждать наверху.
— Пойдемте же скорее, — взволнованно сказал я. — Признаюсь вам, что мне не терпится увидеть эту знаменитую красную комнату.
Старушка взяла свечу и пошла впереди. Я двинулся следом. Фидо, для которого все эти странствия были полной загадкой, в третий раз встал со своего места у очага и присоединился к нам. На всякий случай я прихватил с собой ружье.
Мы пошли по тому же коридору, который вел в столовую, только, вместо того чтобы повернуть налево, мы свернули вправо и оказались у основания огромной лестницы с каменной балюстрадой; такие лестницы теперь во Франции можно увидеть разве что в королевских дворцах и общественных зданиях. Наверху меня уже ждал старик.
Я поднялся по огромным ступеням, казалось предназначенным для гигантов. Теперь моим проводником стал старик. Вслед за ним я вошел в загадочную красную комнату.
В очаге пылал яркий огонь; два зажженных трехсвечных канделябра стояли на камине. Но и при таком освещении мой взгляд не смог сразу охватить огромное пространство комнаты.
Старик спросил, не нужно ли мне чего-нибудь, и, выслушав мой отрицательный ответ, ушел. Дверь за ним закрылась. Шаги его постепенно удалялись и наконец смолкли. Я оказался в полной тишине и в одиночестве.
Оторвав взгляд от двери, я принялся рассматривать комнату. Как уже упоминалось, с первого взгляда от моего внимания многое ускользнуло, поэтому пришлось исследовать все по отдельности. Я взял канделябр и отправился разведывать.
Комната была обязана своим названием висящим по ее стенам большим гобеленам XVI века, в которых преобладал красный цвет. Эти гобелены изображали в манере живописцев Возрождения сцены из войн Александра Македонского; они были обрамлены широкими деревянными рамами, должно быть заново позолоченными в XVIII веке. Пламя свечей отражалось в сияющих остатках позолоты.
В углу слева от двери стояла большая кровать под балдахином, украшенным изображением герба Эпштейнов и широкими занавесями красной камки. Было видно, что и занавеси, и позолоту на балдахине обновили около четверти века назад.
Между окнами стояли позолоченные консоли эпохи Людовика XIV, над ними — зеркала в лепных рамах, изображающих цветы и птиц. С потолка спускалась огромная люстра из меди и хрусталя, однако было видно, что ею очень давно не пользовались.
Я медленно прошелся по комнате. Фидо сопровождал меня, всякий раз останавливаясь вместе со мной и явно не понимая, чем я так увлечен. Между изголовьем кровати и окном, то есть возле той стены, которая находилась напротив камина, Фидо неожиданно остановился. Он обнюхал обшивку стены, выпрямился, потом снова лег, все время принюхиваясь, возбужденно дыша и выказывая явные признаки беспокойства. Я попытался понять причину его волнения, но внешне все было в порядке: обшивка стены казалась целой. Я несколько раз нажал пальцем в разных местах в поисках невидимой пружины — ничего не произошло. Проведя минут десять в этих бесплодных попытках, я продолжил свое путешествие по красной комнате. Фидо послушно последовал за мной, но все время оглядывался на подозрительное место, желая привлечь к нему мое внимание.
Я снова сел у камина. Опять воцарилась тишина, потревоженная было шумом моих шагов. И еще один звук раздавался среди этого безмолвия — заунывный и монотонный крик совы. Я посмотрел на часы: было десять. Несмотря на то, что я буквально падал с ног от усталости, спать мне уже не хотелось. Эта огромная комната, исходящее от нее дыхание иного века, ее таинственные посетители, о которых рассказывали мне старики, события, вершившиеся здесь на протяжении двух столетий, — все это вселяло в меня такое ощущение, которое невозможно было определить словами. Это был не страх. Нет, это было скорее беспокойство, какая-то неприятная тревога, смешанная с любопытством. Я не знал еще, что именно должно случиться со мной в этой комнате, но уже предчувствовал: что-то произойдет.
Еще с полчаса я просидел в кресле, грея ноги у огня, затем, так ничего не увидев и не услышав, решил лечь спать. Один из канделябров я оставил на камине зажженным и, расположившись на огромной фамильной кровати графов Эпштейнов, подозвал Фидо; пес улегся рядом.
Всем знакомо состояние человека, пытающегося заснуть в тревожном ожидании: глаза сначала медленно закрываются, однако резко открываются вновь при малейшем шуме и взгляд лихорадочно скользит по темной спальне. Комната пуста и безмолвна, и ты опускаешь веки и тревожно поднимаешь их опять.
Так же было и со мной. Два или три раза, уже засыпая, я неожиданно вскакивал на кровати. Но постепенно предметы стали расплываться в мерцающем свете свечей. Фигуры на гобеленах, казалось, начинали плавно двигаться. Огонь отбрасывал фантастические, невообразимые отблески. Мысли мои перепутались, как нити в клубке, и я заснул.
Не знаю, сколько времени я провел в забытьи, только вскоре я проснулся от чувства неизъяснимого ужаса и открыл глаза: свечи оплыли, огонь в очаге потух, на мраморной доске камина еще дымился упавший из канделябра огарок. Я осмотрелся, но ничего не увидел.
Комнату освещал только лунный свет, пробивавшийся через отверстие в сломанной ставне. Как уже было сказано, ощущения у меня были очень странны и неопределенны. Я слегка приподнялся на локте. В этот момент Фидо, лежавший рядом на коврике, жалобно завыл.
От этого протяжного, заунывного воя меня бросило в дрожь.
— Фидо! — позвал я. — Фидо, собачка моя, что случилось?
В ответ на мои слова несчастная собака, дрожа, забилась под кровать и снова заскулила.
В ту же секунду послышались какие-то звуки — будто скрипели петли открывающейся двери.
Затем кусок обшивки отделился от стены и повернулся вокруг своей оси. Это было то самое место, которое так долго обнюхивал Фидо.
И тут я увидел, как на фоне образовавшегося в стене темного квадратного отверстия вырисовывается светлый, воздушный, прозрачный силуэт: совершенно бесшумно, не касаясь пола, ко мне приближался призрак.
Волосы у меня на голове встали дыбом, а на лбу выступили капли холодного пота.
Я отпрянул назад и чуть не свалился с кровати. Тень приблизилась, поднялась на возвышение, где стояла кровать, и секунду разглядывала меня, качая головой и как бы говоря: «Это не он».
Потом я услышал вздох. Тень спустилась с возвышения, прошла через лунный луч, просветивший ее насквозь, еще раз обернулась ко мне, снова вздохнула и исчезла в потайной дверце; та со скрипом закрылась за ней.
Признаюсь вам, я остался лежать, утратив дар речи и не в силах пошевельнуться. Только лихорадочное биение моего сердца убеждало меня в том, что я еще жив. Некоторое время спустя, услышав, как Фидо выбирается из-под кровати, я позвал его. Собака встала на задние лапы, положив передние на кровать. Бедный пес все еще дрожал с головы до ног.
То, что я увидел, отнюдь не было игрой моего воображения или бредом воспаленного сознания. Меня действительно посетило видение, призрак, тень. Я находился во власти сверхъестественных сил. Эта комната была, вероятно, ареной ужасных и таинственных событий. Что могло здесь произойти? Этот неразрешимый вопрос занимал мои мысли до рассвета, поскольку, как вы понимаете, я не смог уже заснуть.
С первыми лучами солнца я вскочил с постели и стал одеваться.
Когда я заканчивал свой туалет, в коридоре послышались шаги. На сей раз это был уж точно живой человек. Шаги смолкли перед моей дверью.
— Войдите, — сказал я. На пороге появился старик.
— Сударь, я беспокоился, как вы провели ночь, и пришел справиться о вашем самочувствии.
— Вы сами можете убедиться, — ответил я, — оно в полном порядке.
— Хорошо ли вы спали, сударь?
— Превосходно! Старик немного помедлил.
— И вас ничего не тревожило?
— Ничего.
— Тем лучше. Не желаете ли сделать распоряжения по поводу вашего отъезда?
— Я уезжаю сразу после завтрака.
— Тогда вам его сейчас же подадут. Если вы изволите подождать четверть часа, то, когда вы спуститесь, все уже будет готово.
— Хорошо, через четверть часа. Поклонившись, старик ушел.
Итак, четверть часа были в моем распоряжении. Именно столько времени мне и нужно было, чтобы кое-что выяснить.
Как только шаги старика затихли, я подошел к двери, запер ее изнутри на засов и направился к тому месту, где ночью открывалась дверца в стене.
В своих поисках я рассчитывал на помощь Фидо. Но на этот раз он отказался даже приблизиться к стене: ни угрозы, ни даже плетка не смогли заставить его сдвинуться с места.
Я попытался найти в деревянной резьбе стены те места, где обшивка расходилась бы, но с виду все было цело. Я нажимал на все выступающие из стены места, но они не поддавались под моими пальцами.
Мне так и не удалось привести в действие ту тайную пружину, в существовании которой я был уверен.
Потратив двадцать минут на эти бесплодные поиски, я был вынужден отказаться от задуманного. К тому же в коридоре послышались шаги старика, а мне не хотелось, чтобы он обнаружил дверь закрытой. Я быстро подошел к ней и отодвинул засов в тот момент, когда старик собирался постучать.
— Завтрак для господина графа готов, — объявил он.
Я взял свое ружье, еще раз бросил взгляд на загадочное место в стене и пошел за слугой.
Войдя в столовую, я увидел, что завтрак накрыт с тем же великолепием, что и вчерашний ужин.
Несмотря на то что меня чрезвычайно занимали ночные происшествия, я не сказал о них ни слова, сообразив, что бесполезно спрашивать у старых слуг, родившихся и состарившихся в этом доме, глубоко привязанных к нему, о тайнах их хозяев. Я побыстрее закончил завтрак, еще раз поблагодарил стариков за оказанное гостеприимство и попросил указать мне дорогу в город.
Старик вызвался проводить меня до тропинки, по которой я мог выйти из гор. Поскольку в мои планы не входило заблудиться во второй раз, я охотно согласился.
Примерно через четверть льё мы вышли на достаточно проторенную дорогу, с которой было уже трудно сбиться. Пройдя еще с полчаса, я был за пределами гор Таунус, а три часа спустя вошел во Франкфурт.
Я спешил увидеться с моим учителем, поэтому, быстро переодевшись, сразу направился к нему. Учитель был сильно обеспокоен моим отсутствием: он уже послал двух сторожей и трех или четырех слуг на поиски.
— Где же вы провели ночь? — сразу спросил он меня.
— В замке Эпштейнов, — отвечал я.
— В замке Эпштейнов?! — воскликнул учитель. — А в какой части замка?
— В комнате графа Эберхарда: он уехал в Вену.
— В красной комнате?!
— Да, в красной комнате.
— И вы ничего там не видели? — в голосе учителя послышались неуверенность и любопытство.
— Конечно, видел. Я видел привидение.
— Да, — пробормотал он. — Это был призрак графини Альбины.
— А кто такая графиня Альбина?
— О, это целая история, и история невероятная, немыслимая, жуткая. Такое случается иногда в наших старых замках, стоящих на берегах Рейна и в горах Таунус. Эта легенда, в которую вы никогда бы не поверили… если бы не провели ночь в красной комнате.
— Клянусь вам, теперь я смогу поверить хотя бы в то, что действительно провел там ночь. Рассказывайте, мой милый учитель; уверяю, у вас никогда еще не было столь внимательного слушателя.
— Хорошо, — согласился мой товарищ по охоте, — но это потребует довольно много времени. Окажите любезность, приходите ко мне отужинать, а рассказ будет на десерт. Мы удобно устроимся перед камином, закурим хорошие сигары, и я поведаю вам эту жуткую легенду, которую наш Гофман наверняка положил бы в основу самого страшного своего рассказа. Конечно, если бы знал ее.
Как вы понимаете, я не преминул воспользоваться этим приглашением. Итак, в условленный час я сидел у моего учителя. И после ужина, как и было обещано, он рассказал мне историю о красной комнате…
— О чем же она? — спросили мы в один голос у графа Элима.
— Рассказ учителя я записал. Получилось длинно и скучно, но если вы хотите, завтра я принесу рукопись и постараюсь побыстрее прочитать ее вам.
— Почему же не сегодня? — нетерпеливо спросил я.
— Потому что уже три часа утра, — ответил граф Элим, — и я полагаю, что пришло время расходиться.
Все согласились с ним и условились собраться завтра в десять часов вечера. Уже без четверти десять все слушатели были на месте. Ровно в десять с рукописью под мышкой вошел граф. Ему едва дали спокойно сесть, настолько всем не терпелось услышать обещанную историю. Мы расположились вокруг графа Элима, и в полной тишине он начал читать повествование, что мы все так ждали.
Часть первая
I
Был сентябрь 1789 года. Европа еще содрогалась от падения Бастилии. Франкфурт, вольный, город, но одновременно и место, где избирают императоров, и опасался грохочущей Революции, и возлагал на нее надежды. Что касается жителей замка Эпштейнов, то им она внушала только страх, поскольку владелец замка, старый граф Рудольф, был всецело предан императору, а император готовился объявить французам войну.
Но в тот момент, когда начинается наш рассказ, тяжким бременем на плечи графа легли не одни только политические заботы.
Он сидел в огромном зале своего замка, склонив голову на грудь. Рядом с ним сидела жена. По впалым щекам графини текли слезы, у графа же слезами обливалась душа.
В каждом движении этих благородных и величественных стариков сквозило сдержанное достоинство и трогательная доброта, и их убеленные сединами головы были словно увенчаны святыми деяниями, как сказал бы Шиллер.
Грустно и неторопливо они что-то обсуждали.
— Мы должны простить его, — говорила графиня.
— Но возможно ли это? — отвечал граф. — Если бы не существовало мнения света, я раскрыл бы объятия Конраду и его жене. Но, увы, положение обязывает: на нас смотрит столько глаз! Мы должны быть примером твердости и умирать стоя, даже если сердца наши разрываются от горя. Поэтому я прогнал Конрада, Гертруда. И он никогда больше не вернется, никогда больше мы не сможем обнять нашего сына.
— Мне была бы понятна подобная строгость, — робко возразила мать, — если бы Конрад был нашим старшим сыном. Но после вас главой рода Эпштейнов станет Максимилиан.
— Это не имеет значения, — ответил граф. — Все равно Конрад носит наше имя.
— Но он не переживет вашего гнева, — еще раз попыталась вступиться за сына графиня.
— Значит, мы скорее встретимся с ним там, где отцы могут наконец обнять своих детей.
Граф умолк, почувствовав, что если он скажет еще слово, то разрыдается вместе с женой.
На несколько секунд воцарилась тишина. Затем раздался робкий стук в дверь и, услышав разрешение хозяина, вошел старый слуга Даниель.
— Господин Максимилиан просит оказать ему честь принять его, — объявил Даниель.
— Пусть мой сын войдет, — сказал граф Рудольф. — Максимилиан потерял мое уважение, — с горечью продолжал он, когда слуга ушел, — но зато не опорочил себя в глазах света неравным браком. Он развратен по натуре, но ведет себя пристойно. Он забывает о великодушии, но всегда помнит о том, что он граф. Все-таки он бережет честь дворянина, если не в душе, то хотя бы с виду. Максимилиан достоин чести быть моим преемником.
— А Конрад достоин чести зваться вашим сыном, — сказала графиня.
Тут на пороге появился Максимилиан. Прежде чем войти, он сделал над собой немалое усилие, и обычно жестокое выражение его лица несколько смягчилось, хотя и не исчезло вовсе. Он преклонил колено перед графом, поцеловал руку ему и матери и теперь молча стоял, ожидая, когда отец к нему обратится.
Графу Максимилиану было около тридцати лет. Это был человек высокого роста и мужественного вида, с мрачным и надменным лицом. Движения его были уверенными и властными, а лицо выражало скорее отвагу, нежели ум. Каждый, кто оказывался рядом с ним, невольно подпадал под власть его несгибаемой воли, и именно это высокомерие и самоуверенность часто оказывали сильное воздействие на людей, превосходящих его умом. Любое желание этого человека должно было осуществиться незамедлительно. Трудно было выдержать его неподвижный и дерзкий взгляд: вас охватывало смутное чувство, что гнев его не знает преград и он сам, быть может, не сумеет при необходимости справиться с собой.
Графу Максимилиану, как мы уже говорили, было около тридцати лет, но преждевременные морщины, следы терзаний честолюбия, уже бороздили его чело. У него был широкий лоб, какой часто встречается у немцев; из него можно извлекать звук, свойственный полым предметам. Максимилиан и был пустоголовым гордецом. Нос с горбинкой и тонкие губы также придавали его лицу то властное выражение, которое сразу бросалось в глаза при первой встрече. Когда он хмурился, между его бровей залегала глубокая складка. Он редко улыбался, а когда это случалось, то в его заискивающей улыбке придворного сквозила лживость и алчность. Прямая и высокая фигура графа могла при необходимости почтительно склониться перед властелином. В его внешности, как и в его душе, величие уступало место дерзости, спокойствие — равнодушию, а великодушие — презрительности. Его честолюбие не походило на честолюбие Валленштейна, а скорее напоминало амбиции отца Жозефа, и с первого взгляда было ясно, что досаду за необходимость унижаться перед вышестоящими он вымещает на нижестоящих.
— Прежде чем выслушать вас, сын мой, — торжественно произнес Рудольф, — мне хотелось бы в очередной раз высказать вам мое неудовольствие. Когда вы были юношей, мы смотрели на ваши проступки снисходительно, относя их на счет возраста. Но жизнь не стоит на месте, Максимилиан. Бог призвал к себе вашу жену, но оставил вам сына; вы отец, Максимилиан. К тому же, я уже стар и чувствую, что скоро вам предстоит стать хозяином и повелителем всех наших владений, достойным представителем нашего рода. Не пора ли серьезно подумать о будущем и впредь ответственнее относиться к своим поступкам, которые стали причиной стольких скандалов в нашей округе и стольких бед в замке?
— Мне кажется, отец, — отвечал Максимилиан, — что вы слишком внимательно прислушиваетесь к жалобам простолюдинов. Я дворянин и люблю развлечения, а игры льва не нравятся овцам. Но все же, насколько мне известно, достоинства своего я не терял никогда. Трижды я с оружием в руках защищал свое имя и свою честь. Правда, во всем остальном я действительно не отличаюсь особой строгостью взглядов. Но скажите же, Бога ради, какой новый проступок я совершил? Может быть, мои доезжачие снова вытоптали пшеничное поле? Или мои собаки случайно загрызли кабаниху в угодьях соседа? Или по недосмотру моя лошадь опять затоптала крестьянина?
— Максимилиан, вы обесчестили дочь альпёнигского судьи.
— Увы, это так, — со вздохом признался Максимилиан. — Но вы, отец, не должны обращать внимания на подобные мелочи. Вы же знаете: я, не в пример своему брату Конраду, никогда не унижусь до того, чтобы жениться на простолюдинке.
— О, уж на этот счет я не имею ни малейших сомнений, — прервал его старый граф, и в голосе его прозвучала горькая ирония.
— Так чего же боится ваша милость? Скандала, о котором вы только что говорили? Увы! Ваши опасения напрасны. Случилось ужасное несчастье: Гретхен гуляла вчера одна на берегу Майна. Она, должно быть, хотела сорвать цветок — дикую розу, барвинок или незабудку, — но поскользнулась, упала в реку, и ее унесло течением. Короче говоря, ее тело нашли сегодня утром. Эта неожиданная смерть повергла меня в глубокую скорбь. Я очень любил Гретхен и, — надеюсь, вы простите меня, отец, — пролил немало слез. Зато теперь ваша милость может не опасаться последствий моего увлечения.
— Конечно, — ответил граф, пораженный этим беззаботным сожалением, этим эгоистическим легкомыслием: для сына преступление было всего лишь несчастным случаем и винить в нем оказывалось некого.
Графиня воздела руки к небу, словно умоляя Господа и Гретхен простить ее сына, который не ведал, что творил. Помолчав, граф Рудольф спросил:
— Вы хотели мне что-то сказать, сын мой?
— Да, отец, я хотел просить вас о милости. Не для себя, ибо я всегда старался не гневить вас, а для моего брата Конрада, ведь если он и виновен, сударь, то, право же, и очень несчастен.
— Прекрасно, Максимилиан! Вы поступаете как настоящий брат! — с чувством воскликнула графиня: столь неожиданное проявление благородства чрезвычайно обрадовало ее.
— Да, матушка, вы же знаете, как я люблю Конрада. Это нежное, безобидное, слабое существо, но у него чудесное сердце. Он всегда и во всем уступал мне как старшему, никогда не испытывал ко мне зависти и всегда безоговорочно признавал мое превосходство. Он ведь не виноват, если его предназначение — быть учителем философии, а не носить шпагу. Я знаю, что он совершил немалую оплошность: подумать только, тайно женился по любви на какой-то безродной девице и сделал членом нашей семьи законного сына простолюдинки, вместо того чтобы просто-напросто осчастливить ее бастардом. Это большая глупость с его стороны, я согласен. Но ошибка еще не преступление. Малютка Ноэми очень хороша собой, она, верно, околдовала простодушного Конрада, у которого была первой любовью. В конце концов, отец, все не так уж страшно. Это ведь случилось не со мной. Если бы я, старший сын и глава дома Эпштейнов, совершил подобную глупость, было бы гораздо хуже. Конечно, видя, что вы как отец отнеслись к этому мезальянсу снисходительно, император будет вне себя. Но я поеду в Вену и попытаюсь успокоить его. Мы представим ему отца Ноэми, смотрителя охоты Гаспара, как отставного военного, и со временем эта история забудется. Согласитесь, отец, что только мне повредила бы ваша снисходительность, поскольку я должен унаследовать все ваши титулы и ваше влияние при дворе. Пусть так, из дружбы к милому Конраду я готов претерпеть неприятные последствия этой истории. И я приложу все усилия, чтобы возместить ущерб, нанесенный нашему доброму имени, и вновь завоевать расположение императора; за это будьте спокойны. Но я заклинаю вас, ваша милость, не отправляйте Конрада и его жену в изгнание во Францию, как вы решили. Пусть он живет подле вас. Он будет предаваться своим ученым занятиям, и его тихое, размеренное существование будет почти незаметным. Бедный юноша так нежно привязан к вам, так любит мать! Он не сможет жить вдали от родины, которую никогда не покидал! Изгнание для него хуже смерти, отец!
— Пытаясь оправдать брата, вы исполняете свой долг, Максимилиан. Я же исполню свой долг, отказав вам в просьбе. Ведь Конрад упорствует и не желает расторгнуть этот брак, не так ли?
— Должен признать, ваша милость, что это правда: он непоколебим. Я думаю, бесполезно даже говорить с ним об этом.
— Так вот, если я уступлю ему, разве немецкая знать, считающая себя ответственной за поступки каждого из своих представителей, простит мне это?
— Очевидно, не простит. Но позвольте Конраду хотя бы увидеться с вами и самому все объяснить, отец, — сказал Максимилиан.
— Это невозможно, — быстро ответил старый граф, испугавшись охватившей его нежности. — Это совершенно невозможно.
— В таком случае, да простит меня ваша милость, — сказал Максимилиан, — я позволил себе пригласить брата в замок. Пусть перед отъездом он хотя бы в последний раз увидит ваше лицо. Он, наверное, уже здесь. Да вот он идет сюда. Будьте милосердны, отец, позвольте ему войти.
— Ваша милость, — прошептала мужу графиня, — если я всегда была вам верной и преданной супругой, окажите мне, может быть, — кто знает? — последнее благодеяние: позвольте еще раз увидеть мое дитя.
— Пусть будет по-вашему, Гертруда, но без проявлений слабости, слышите?
Граф Рудольф сделал знак рукой. Быстрыми шагами Максимилиан подошел к двери и открыл ее перед входящим братом. Конрад молча опустился на колени на некотором расстоянии от отца.
Братья во всем были полной противоположностью. Один почти ужасал, другой сразу же располагал к себе. Максимилиан выглядел мужественным и решительным, Конрад же был с виду тщедушен и кроток. Рядом с бледным, обрамленным белокурыми волосами лицом Конрада, которое оживляли только сияющие карие глаза, резче проступали угловатые черты грубого лица Максимилиана, темнее казалась его бронзовая кожа. В его ладони без труда уместились бы обе по-женски хрупкие руки Конрада.
Картина встречи членов семьи Эпштейнов была внушительна и торжественна. Старший брат стоял неподвижно, спокойно и равнодушно созерцая сцену, подготовленную его притворным великодушием. Младший склонил одно колено, весь дрожа от волнения, но вдохновленный некоей тайной мыслью, которая лучилась в его глазах, полных слез. Отец, величавый седовласый и седобородый старик, сидел в резном кресле. Вид его воплощал царственное спокойствие, но душа была в смятении: за внешней суровостью он старался скрыть растроганность. Мать так сжалась на своей скамеечке, что казалась коленопреклоненной. Украдкой утирая слезы, она переводила взгляд, то испуганный, то полный любви, с отца на младшего сына. Фоном для этой семейной сцены служили древние темные стены, покрытые деревянной резьбой; с них, как живые свидетели и судьи смотрели портреты предков.
— Говорите, Конрад, — произнес граф Рудольф.
— Ваша милость, — начал младший сын, — три года назад мне было двадцать лет, моя мечтательная душа жаждала любви. В то время как моего брата Максимилиана, увлекаемого своими порывами, носило по землям Германии и Франции, я уютно чувствовал себя подле вас, подле моей дорогой матушки, я был настолько нелюдимым, что отказывался не только ехать ко двору, но даже посещать соседние замки. Меня не влекли бескрайние просторы. Но если ноги мои ленились, то мысль, повторяю, была пытлива, а сердце порывисто. Единственная женщина, которую я видел тогда, была моя матушка. И когда я встретил на своем пути девушку, прекрасную, какой она и должна была быть, и добрую, какой она и была, мне было безразлично, из какой семьи она происходит, какую фамилию носит (любовь признает только имена), и я полюбил Ноэми, потому что она была прекрасна и невинна.
«Жаль, что меня не было поблизости, — прошептал про себя Максимилиан. — Представляю, с каким удовольствием я бы лишил твою Ноэми этого последнего качества, которым ты столь прельстился, бедный мой братец!»
— Однако же, ваша милость, — продолжал Конрад, — если быть откровенным до конца, признаюсь вам, моя страсть не была слепа и я не тотчас повиновался ей. Нет, я много думал о той пропасти, которая лежит между мной и Ноэми, думал о том, что могу причинить вам боль. Поэтому я решил подавить в себе это чувство. Но моя любовь лишь вспыхнула с новой силой. Меня непреодолимо влекло к дому Гаспара. И вот в один прекрасный день Ноэми призналась, что тоже любит меня.
«Экая честолюбивая девчонка!» — прошептал Максимилиан.
— Что же мне было делать, матушка? Бежать от нее? Я был не в силах. Обмануть ее, Максимилиан? Я не был столь низок. Прийти к вам, отец, и во всем признаться? Но я не осмелился. Я тайно обвенчался с Ноэми. Так я избежал вашего гнева, батюшка, и отсрочил свои мучения. Мне казалось, что наш брак не может оскорбить ни людей, ни Бога. Я ошибся вдвойне. У меня родился сын, и мне пришлось выбирать между вашим гневом, батюшка, и бесчестьем моей жены. Я выбрал ваш гнев, ибо страдал от него я один. Люди хотели разлучить тех, кого соединил Бог, но мое решение остается в силе сегодня, и завтра я не изменю ему. Видите, ваша милость, я признаю, что ваш гнев справедлив. Увы! Я его предвидел заранее. И я сейчас у ваших ног не для того, чтобы отвратить от себя этот гнев, а чтобы знать, удаляясь в изгнание, что вы не презираете меня.
— Конрад, — медленно, глухим голосом начал граф, — мы с вами принадлежим к древнему роду, и нам непозволительно оступаться. Волею судьбы мы вознесены над людьми, чтобы они видели нас и брали с нас пример. Может быть, это наш рок, но мы должны покориться ему, и вам это хорошо известно. Нарушив чистоту дворянской крови, вы совершили преступление, Конрад. Между тем ветер Революции, дующий из Франции, должен был бы внушить вам твердость. Ведь теперь, когда дворянские привилегии стали источником опасности, мы должны дорожить ими больше чем когда-либо. Как дворянин и отец семейства, я в ответе за поступки всех его членов, поэтому моя непреклонность должна стать ответом на вашу слабость; пусть же старик будет прям и тверд там, где дрогнул юноша. Отправляйтесь во Францию и верно служите королю Людовику Шестнадцатому. Дальнейшие указания вы получите позднее. Вы спросили меня, презираю ли я вас. Вот мой ответ и мое оправдание. Когда ваша кормилица принесла мне вас, Конрад, я взял вас на руки и, подняв над головой, доверил вашу судьбу сначала Богу, потом императору, потом немецкой аристократии, а затем моим знатным предкам. И, пока я жив, я отвечаю за вас перед пращурами моими, перед знатью, перед императором. Поэтому я отрекаюсь от вас. Но, может быть, завтра, на небесах, перед Всевышним, я буду гордиться вами.
— Отец! — вскричал Конрад. — Я обожаю вас, я благоговею перед вами! Вы великий человек, в вас уживаются суровость и великодушие. Вы повергаете меня в отчаяние, но и переполняете мое сердце гордостью за то, что я ваш сын. Я буду достоин вас, ваша милость. Я должен искупить свою вину перед семьей, и я искуплю ее так, как подобает одному из Эпштейнов. Прощайте же.
Не приближаясь к отцу, Конрад низко поклонился. Старик махнул ему на прощание рукой, но ничего не сказал, ибо им овладело волнение и он боялся, что не выдержит и раскроет сыну объятия. Что до графини, то она не решалась и взглянуть на Конрада. Она молилась, опустив голову и сложив руки, и слезы текли по ее увядшему лицу. Конрад и с ней попрощался издали, но, вопреки негласному правилу этикета, подтвержденному на этой прощальной встрече, не удержался и послал воздушный поцелуй той, что носила его в своем чреве. Больше, однако, гордый молодой человек, беря пример с графа, не позволил себе ни одного проявления слабости, так что старик остался доволен сыном.
— Проводите вашего брата до порога, — сказал старый граф Максимилиану, который на протяжении этой необычной и впечатляющей сцены стоял, молча покусывая губы.
— Если ваша милость не возражает, — сказал старший сын, — я вернусь и мы продолжим разговор.
— Я жду вас, — проговорил старик. Оба брата ушли. Один из них — навсегда.
Никто не знает, что произошло между отцом и матерью, когда они остались одни со своим горем, ибо только Бог видел их слезы и слышал стоны, идущие из глубины их истерзанных сердец. Когда через четверть часа Максимилиан вернулся, они уже обрели видимость душевного спокойствия и родительской власти.
— Теперь, ваша милость, — сказал Максимилиан, — когда ваш приговор не подлежит обжалованию, а Конрад с женой и сыном уже уехали, я должен признать, что вы поступили так, как следовало.
— Не правда ли, Максимилиан, — проговорил граф с горькой усмешкой, — ты ведь и в самом деле так думаешь?
— Да, отец. Император не простил бы вам снисходительность по отношению к Конраду и, без сомнения, надолго лишил бы наше семейство своей благосклонности.
— Я поступил так во имя чести, а не во имя почестей, — изрек старик.
— В наше время граница между этими понятиями стирается, отец.
— Так о чем же вы хотели со мной поговорить, сын мой? — строго прервал его граф.
— Вот в чем дело, отец. Вы сейчас приняли суровое, но мудрое решение. Однако ваша репутация в обществе все-таки пострадала, и я хочу поправить положение. Всего год назад я потерял жену Берту, но она оставила мне наследника, моего сына Альберта, и я мог быть спокоен за будущее рода, поэтому мне и в голову не приходила мысль о новом браке. Однако теперь представляется возможность заключить блестящую партию и тем самым заслужить одобрение императора. Речь идет о дочери одного из ваших старых друзей, отец, герцога фон Щвальбаха, который сейчас пользуется в Вене огромным влиянием.
— Вы говорите об Альбине фон Швальбах, Максимилиан? — спросила графиня.
— Да, матушка. Она единственная наследница и принесет нашему дому большое состояние.
— Моя сестра-аббатиса, — сказала графиня, — в монастыре которой воспитывалась Альбина и у которой я справлялась о дочери нашего друга, говорила мне, что Альбина — девушка замечательной красоты.
— К тому же, — заметил Максимилиан, — ей принадлежит превосходное поместье Винкель вблизи Вены.
— Моя сестра сказала также, что очарование Альбины сочетается в ней с редкой добротой.
— Не считая того, — добавил Максимилиан, — что герцог фон Швальбах охотно завещает своему зятю титул герцога и все свои богатства, не так ли, отец?
— Какое счастье, — воскликнула графиня, — что я смогу назвать это дитя своей дочерью и заменить ей покойную мать!
— Да, породниться со Швальбахами — большая честь для нас, — заметил Максимилиан.
— Действительно, — сказал граф, — Швальбахи — один из самых знатных и древних родов Германии.
— Так соблаговолите, батюшка, написать вашему старому боевому товарищу и попросить для меня руки его дочери.
За словами Максимилиана последовала довольно продолжительная пауза. Старый граф опустил голову на грудь и, казалось, глубоко задумался.
— Что же вы не отвечаете мне, отец? Как! Вы еще сомневаетесь, ваша милость?! Но вы не можете и не должны отказываться от союза, который придаст еще больше блеска нашей семье.
— Ах, Максимилиан, Максимилиан, — сурово произнес граф Рудольф, — должен вам заметить, пользуясь вашим же разграничением, с которым, впрочем, не могу согласиться, что если в роли дворянина вы безупречны, то в роли мужчины, увы! вы часто вели себя недостойно. Сможете ли вы сделать это дитя счастливым, Максимилиан?
— Я сделаю ее графиней фон Эпштейн, отец.
Снова воцарилось молчание. Отец и сын не могли понять друг друга. Они были совершенно разными и, по сути, чужими людьми, хоть их и связывали кровные узы. Сыну были смешны предрассудки отца, а отец презирал сына за распущенность.
— Позвольте и мне заметить вам, ваша милость, — сказал Максимилиан, — что сейчас предоставляется случай приумножить славу нашего имени, а вы, призванный хранить эту славу, отвергаете подобную возможность, хотя именно вам надлежит заботиться о том, чтобы величие Эпштейнов возрастало, а ошибки их предавались забвению.
— Вашему отцу лучше знать, как следует поступить, сударь мой, — отрезал старый граф, задетый за живое. — Поезжайте в Вену, там вас будет ждать рекомендательное письмо к герцогу фон Швальбаху.
— Тогда я, с вашего позволения, отправлюсь немедленно, — сказал Максимилиан. — Такая знатная и богатая невеста, должно быть, окружена завидными поклонниками — дай Бог, чтобы меня не опередили.
— Поступайте как вам будет угодно, сын мой, — ответил старик.
— Соблаговолите, ваша милость, и вы, матушка, благословить меня в дорогу.
— Благословляю вас, сын мой, — произнес граф.
— Да хранит вас Бог, Максимилиан, — сказала графиня.
Максимилиан поцеловал руку матери, почтительно поклонился графу и вышел из зала.
— А ведь тот, который ушел раньше, — сказал старик жене, когда они остались одни, — даже не осмелился просить нашего благословения. Но мы благословили его, правда, Гертруда? Не имеет значения, что произносят наши уста: Господь склоняет слух к голосу нашего сердца.
II
Оставим теперь берега Майна и мрачный замок Эпштейнов и перенесемся в восхитительные окрестности Вены, на очаровательную виллу в поместье Винкель. Там, среди цветов, резвится прелестное дитя шестнадцати лет — Альбина фон Швальбах. Лицо ее разгорелось, волосы растрепались. В противоположном конце аллеи на каменной скамье сидит отец Альбины — герцог фон Швальбах, настоящий немецкий вельможа, но менее степенный и сдержанный, нежели его старый друг граф фон Эпштейн. Он смотрит на дочь, которая порхает перед ним взад и вперед с кокетливыми ужимками.
— Что с вами сегодня, батюшка? — спрашивает Альбина, внезапно останавливаясь перед отцом. Пробегая мимо него в двадцатый раз, она заметила на устах герцога улыбку, озадачившую ее. — Мне кажется, что вы смотрите на меня каким-то особенным, загадочным взглядом. О чем вы думаете?
— О том большом пакете, запечатанном черным сургучом, от которого, как ты сказала, веет средневековьем. Он прибыл к нам издалека. Вот над ним-то я и размышлял.
— Вот как! Ну, тогда я больше не буду расспрашивать о ваших секретах, батюшка. Я уверена, что это внушительное послание не имеет ко мне никакого отношения, — успокоилась девушка и собралась бежать дальше.
— Напротив, самое прямое отношение, — ответил герцог, — в этом внушительном послании говорится только о моей попрыгунье.
Альбина в недоумении остановилась, широко раскрыв глаза.
— Обо мне? — переспросила она, подходя ближе к отцу. — Так там написано обо мне? Ах, батюшка, покажите мне скорее это письмо! О чем оно? Говорите, да говорите же!
— Тебе делают предложение.
— Ну, не велика важность! — с гримаской пренебрежения на очаровательном личике рассмеялась Альбина.
— Как это не велика важность? — улыбнулся старик. — Черт побери! Что же вам кажется серьезным, сударыня, если даже к замужеству вы относитесь так легкомысленно?
— Но батюшка, вы же прекрасно знаете, что я откажусь. Все эти венские вертопрахи, надворные и тайные советники, дипломаты, пустоголовые и завитые, как бараны, меньше всего на свете меня интересуют и не заинтересуют никогда; вам это хорошо известно, не правда ли? Я вам об этом прямо заявила, и мы, кажется, договорились, милый батюшка, что никогда не будем к этому возвращаться.
— Но ты забываешь, дитя мое, что письмо издалека.
— Ах да! Значит, я должна буду покинуть вас — это еще хуже. Я не хочу с вами расставаться! Не хочу, не хочу! — воскликнула Альбина и побежала догонять бабочку, которая поднялась в воздух и исчезла, как лепесток, влекомый порывом ветра.
Герцог подождал, пока дочь снова приблизится настолько, чтобы услышать его.
— Маленькая притворщица, вы скрываете от меня истинную причину своего отказа.
— Истинную причину моего отказа? — удивилась Альбина. — И какую же?
— Истинная причина — ваша тайная и непобедимая страсть.
— Ах, батюшка, да вы смеетесь надо мной, — сказала Альбина обезоруживающим тоном и снова подошла к отцу.
— Это страсть (безнадежная, к сожалению) к Гёцу фон Берлихингену, всаднику с железной рукой, увы! погибшему при императоре Максимилиане.
— Погибшему, но воскрешенному поэтом, отец: Гёте дал ему вторую жизнь в своей драме. Да, тысячу раз да: несмотря на все ваши насмешки, я люблю его, я его обожаю. О! Какое это благородное и самоотверженное сердце, какой это герой! Как он прост и величав! О! Он умеет и крепко любить, и отважно сражаться! Какое несчастье, что он погиб! Пусть он старый — вы мне все время повторяете, что он старик, как будто для таких людей возраст имеет какое-нибудь значение, — так вот, пусть он старый, но рядом с ним все эти придворные господинчики кажутся мне ничтожными. Да, Гёц фон Берлихинген, Гёц с железной рукой — вот настоящий мужчина. А вы, батюшка, признайтесь, до сих пор предлагали мне каких-то манекенов.
— Дитя, дитя! Тебе нет еще и шестнадцати, а ты хочешь замуж за шестидесятилетнего старика.
— Да, шестидесятилетнего, семидесятилетнего, восьмидесятилетнего! Лишь бы он был такой, как мужественные, храбрые и самоотверженные рыцари Рейна — как Гёц с железной рукой, как Франц фон Зикинген, как Ганс фон Зельбиц.
— Ну что ж, дорогая моя Альбина, — сказал герцог уже серьезно, — тогда тебе повезло, ибо твоей руки просит человек, созданный по образу и подобию твоих героев.
— Ах, батюшка, да вы смеетесь надо мной!
— Ничуть. Посмотри, кем подписано письмо, и убедишься сама. — Герцог вынул из кармана лист бумаги, развернул его и показал дочери.
— Рудольф фон Эпштейн, — прочла Альбина.
— Надеюсь, моя прелестная амазонка, этот человек вам подойдет, — сказал герцог. — Он сражался в Семилетней войне, и, как мне говорили, столь отважно, как будто бы он родился в обожаемом вами шестнадцатом веке, оставившем по себе жестокую память. Конечно, он не так молод… Но ведь тебе безразлично: шестьдесят, семьдесят, восемьдесят лет, лишь бы он был похож на твоих героев, ведь так ты сказала? Рудольфу фон Эпштейн семьдесят два года — это тебе как раз подходит, а уж что касается его знатности, мужества и верности императору, то, надеюсь, ты отрицать их не станешь.
— Уж поверьте, батюшка, — рассмеялась Альбина, — я не так плохо знаю свою родную Германию, и мне известно, что граф фон Эпштейн уже тридцать лет женат на сестре моей милой тетушки, аббатисы монастыря Священной Липы.
— Ну, раз уж мне не удалось вас обмануть, всезнайка, скажу вам правду. Мой старый товарищ просит вашей руки для одного из своих сыновей. С вашей точки зрения, сын этот несчастлив вдвойне: ему едва исполнилось тридцать и у него нет почти ни одного седого волоса. Сам он еще не герой, но принадлежит к героическому роду, и, можешь быть спокойна, со временем он и постареет и поседеет. К тому же, подумай только, сумасбродка, ты будешь жить в старом замке, в горах Таунус, всего лишь в нескольких милях от твоего любимого старого Рейна, в замке, таящем одну из самых фантастических легенд: предание о призраке его хозяйки, которая умерла в рождественскую ночь и потому была наделена способностью вставать из могилы. Впрочем, эта история не кажется мне особенно убедительной. Но, как тебе известно, Поэзия и Рассудительность — эти небесные дочери — подобны снам, из которых одни выходят к людям через роговую дверь, а другие через дверь из слоновой кости; они расходятся в разные стороны, но живут в одном дворце.
— А что это за легенда, батюшка? Вы знаете ее? — спросила Альбина, и глаза ее заблестели от любопытства.
— Недостаточно хорошо, чтобы рассказать тебе. Я слышал ее очень давно от моего старого друга фон Эпштейна, когда мы коротали долгие вечера на бивуаке. Впрочем, твой жених тебе все это расскажет сам: я предупрежу его, что за тобой нужно ухаживать именно таким способом.
— Вы говорите «мой жених», батюшка? Так, значит, вы одобряете этот союз?
— Увы, да, бедное мое дитя. Я безжалостно лишаю вашу любовь главного ее очарования — препятствий. Ведь как это было бы романтично: запретная страсть, тайный брак, мое посмертное благословение, не правда ли? Но что поделаешь: к несчастью, все в твоем женихе — возраст, происхождение, состояние — способствует тому, чтобы я желал этого союза, а главное — вот уже почти пятьдесят лет меня и графа фон Эпштейна связывает нежная дружба. Единственный недостаток молодого Эпштейна — то, что он вдовец и у него есть сын. Но моя Альбина, у которой впереди будущее, может не оглядываться на прошлое. В конце концов, милое мое дитя, письмо отца всего на несколько дней опередило сына, и скоро ты сама сможешь оценить своего жениха.
— И как же зовут сего гордого претендента на мою руку, намеревающегося стать воплощением Гёца и тем самым вытеснить его из моего сердца? — спросила Альбина.
— Максимилиан.
— Максимилиан? Это имя обещает… но для его врагов, не для меня, потому что если он действительно такой, как я мечтаю, то в бою он должен быть несгибаем, а со мною нежен и покорен. Женщинам, в награду за их страдания, обещано и дано волшебное искусство приручать этих львов и одним взглядом повергать в смущение тех, кто сеет страх на поле боя. И потом, знаете, батюшка, — добавила Альбина с комической важностью, — если вдуматься, я все-таки предпочитаю молодого. Когда я стану его женой, он будет на заре своего блистательного жизненного пути, он одержит свои первые победы с моим именем на устах, а я, как Елизавета, буду свидетельницей его подвигов и наградой за них.
— И ты веришь, милое мое дитя, что героические времена рыцарских поединков могут вернуться? — спросил герцог, качая головой.
— А почему бы им и не вернуться?
— Потому, что изобретение пушечного пороха нанесло некоторый ущерб рыцарству. Нет больше ни Роланда, ни Рено, ни Оливье. Как бы отважны они ни были, все они равны перед пушечным ядром: вспомни маршала де Бер-вика и великого Тюренна.
— Но если перевелись великие воины, батюшка, то остались великие полководцы. Силу сменил гений, и, хотя ничто не сможет заменить Дюрандаль Роланда, Бализарду Рено и волшебное копье Астольфа, все же Густав Адольф, Валленштейн и Фридрих Великий имеют свои достоинства. Не могу объяснить почему, но я возлагаю большие надежды на грядущий век.
— Прекрасно, — рассмеялся герцог, — мы поместим это предсказание в Готский альманах. Ну что ж, — продолжал он, вынимая часы, — пора ужинать, моя прекрасная сивилла. Боюсь снова разочаровать вас насчет будущего, но в моем возрасте солнце и ароматы, поэзия и предсказания уже не утоляют голода.
Альбина покачала головой в знак того, что в ней-то возраст ничего не изменит, взяла отца под руку, и они вернулись в дом.
На следующий день после этого разговора в Вену прибыл Максимилиан фон Эпштейн. Мы уже попытались показать читателю, как в беседе с отцом проявилось необычное и живое воображение Альбины, ее романтические и наивные мечты. Так что появление молодого графа ожидалось с той благосклонностью, на какую была способна ее юная и восторженная душа. Выше мы нарисовали портрет Максимилиана, и легко догадаться, что дочери он понравился гораздо больше, чем отцу. Герцог, искушенный в дипломатии и привыкший распознавать под маской истинное лицо, сразу увидел, что в молодом графе больше честолюбия, чем настоящего достоинства, больше гордыни, чем ума, и больше расчета, чем любви. Но для Альбины внушительная фигура Максимилиана, его бледное и суровое лицо выгодно выделяли его на фоне бесцветных венских поклонников. Она увидела его сквозь призму своего поэтического воображения: его грубость показалась ей прямотой, суровость — простодушием, а холодность — благородством.
«У него простая и гордая душа, — убеждала себя Альбина. — Единственный его недостаток заключается в том, что он на триста лет моложе, чем мои прекрасные рыцари».
Девушка простодушно поверила Максимилиану свои тайные мечты, а уж он позаботился о том, чтобы его поведение не разочаровало невесту. Граф выражал глубокое презрение к протоколам и трактатам, бряцал шпагой, звенел шпорами и строил из себя героя.
Наконец в один прекрасный день Альбина решила узнать, обладает ли молодой граф таким же романтическим воображением, как она сама, и попросила его рассказать легенду замка Эпштейнов. Максимилиан не сильно преуспел в той области риторики, которая называется устной речью, но все же обладал даром живого, убедительного и яркого слова. Кроме того, он очень хотел понравиться. Поэтому он рассказал предание о замке Эпштейнов с такой верой в него, с таким чувством и воодушевлением, что окончательно покорил мечтательную душу девушки. Вот какова была эта история.
Замок был построен в славные для Германии времена, а именно в эпоху Карла Великого, одним из графов фон Эпштейнов, предком нынешних владельцев. Об этих варварских временах потомкам ничего не известно, кроме предсказания волшебника Мерлина; оно гласило, что та графиня фон Эпштейн, которая умрет в своем замке в рождественскую ночь, умрет лишь наполовину. Как и все предсказания, это пророчество было достаточно туманным. Поэтому его очень долго не могли понять до тех пор, пока не умерла жена одного германского императора. Имени этого императора никто уже не помнит, а императрицу звали Эрмангарда.
Вместе с Эрмангардой воспитывалась дочь некоего г-на фон Виндека, которая впоследствии вышла замуж за графа фон Эпштейна. Когда одна из подруг стала графиней, а другая — императрицей, они, несмотря на разницу своего положения, не забыли о детской дружбе. А поскольку императрица жила во Франкфурте, а графиня — в замке Эпштейнов, расположенном всего в трех-четырех льё от города, то давние подруги часто виделись. Кроме того, граф Сигизмунд фон Эпштейн пользовался большим влиянием при дворе и император лично назначил его в свиту императрицы.
Неожиданно ночью 24 декабря 1342 года императрица скончалась. Ее внезапная смерть повергла весь двор в глубокую скорбь. Император, обожавший свою супругу, горевал чрезвычайно. По обычаю, тело императрицы поместили на парадном ложе, и все рыцари и благородные дамы двора были допущены к одру поцеловать руку покойной госпожи. Согласно этикету, эта церемония происходила следующим образом: императрица, в парадных одеждах, с короной на голове и со скипетром в руках, лежала в ярко освещенной часовне. У дверей стоял один из придворных, каждые два часа уступавший место другому. Этот придворный препровождал в часовню того, кто хотел отдать последние почести покойной. Тот преклонял колено, целовал руку своей госпожи, затем возвращался к двери и стучал, после чего его выпускали, чтобы вошел следующий. Входили в часовню по одному.
В первый день Рождества пост у двери Эрмангарды занял граф Сигизмунд фон Эпштейн. Со времени смерти императрицы прошли сутки. Граф Сигизмунд начал дежурство в полдень. Было четверть второго; граф уже впустил к покойной восемь или десять посетителей, когда, к своему великому удивлению, увидел в дверях часовни Леонору фон Эпштейн, свою жену. Его удивление было вызвано тем, что он не послал ей сообщения о смерти императрицы, поскольку собирался по окончании дежурства сделать это сам. Зная о чувстве нежнейшей привязанности, которая графиня питала к Эрмангарде, граф надеялся как-нибудь смягчить удар.
Сигизмунд не ошибся: его жена, должно быть, испытала страшное потрясение, ибо лицо ее покрывала смертельная бледность, сразу бросавшаяся в глаза по контрасту с длинными траурными одеждами графини.
Граф бросился навстречу супруге, но, понимая, что она пришла исполнить свой священный долг, не стал спрашивать о том, как ей стала известна ужасная новость. Он повел ее, безмолвную и безутешную, к дверям часовни, и сам затворил их за ней.
Обычно посещения продолжались недолго. Придворные преклоняли колено, целовали руку императрицы и немедленно удалялись. Но граф Сигизмунд знал, что с его женой будет иначе. Ведь графиня пришла сюда по велению сердца, а не для того, чтобы исполнить обязанность, предписанную этикетом. Поэтому он не удивился, что она не вышла сразу. По истечении четверти часа, так и не услышав условного стука в дверь, граф начал беспокоиться: он опасался, что Леонора не вынесет потрясения. Не решаясь открыть дверь без предупреждения — что было бы нарушением установленной церемонии, — он нагнулся и посмотрел в замочную скважину, со страхом ожидая увидеть графиню без чувств возле тела своей госпожи.
Однако, к великому своему удивлению, ничего подобного граф не увидел. Несколько секунд он смотрел в замочную скважину, а когда выпрямился, пот струился по его мертвенно-белому лицу. Изменения в лице графа были столь разительны, что несколько придворных, стоявших рядом в ожидании своей очереди, спросили, что с ним.
— Ничего, — ответил Сигизмунд, проводя рукой по лбу, — ничего, совершенно ничего.
Придворные снова заговорили о своих делах, а граф, решив, что ему все померещилось, вновь приник к замочной скважине. На этот раз он окончательно уверился в том, что не ошибся. Вот что предстало его взору.
Сигизмунд увидел, что покойная императрица, по-прежнему с короной на голове и со скипетром в руках, сидит на кровати и беседует с его женой, графиней Леонорой.
Эта картина была настолько немыслимой, что Сигизмунд не поверил собственным глазам: это было похоже на сон. Граф, бледнее прежнего, снова выпрямился.
Почти в ту же секунду графиня Леонора постучала, давая понять, что визит к императрице окончен. Граф распахнул дверь и бросил быстрый взгляд в глубь часовни: императрица неподвижно покоилась на смертном ложе.
Леонора оперлась о руку мужа, и они пошли прочь. Сигизмунд обращался к ней с какими-то вопросами, но она ничего не отвечала. Графу предстояло стоять у дверей императрицы еще десять минут, поэтому он расстался с женой в передней, объясняя ее молчание сильным потрясением, а точнее, ничего не понимая вовсе, настолько велико было его смятение.
Придворные продолжали один за другим входить в часовню. Каждый раз граф фон Эпштейн заглядывал в замочную скважину, но императрица все время оставалась неподвижной. Пробило два часа, и вошел обер-шталмейстер, который должен был сменить графа на посту. Сигизмунд едва поклонился ему, уже на ходу сообщив необходимые указания и выбежал вон, устремляясь в императорские покои. Императора он застал в состоянии глубокого отчаяния.
— Ваше величество, — вскричал Сигизмунд, — не плачьте! Отправьте как можно скорее доктора к императрице, — она не умерла!
— О чем вы говорите, Сигизмунд?! — воскликнул император.
— Уверяю вас, государь: только что своими собственными глазами я видел, как ее величество императрица Эрмангарда сидела на смертном ложе и беседовала с графиней фон Эпштейн.
— С какой графиней фон Эпштейн? — изумился император.
— С графиней Леонорой фон Эпштейн, моей женой.
— Мой бедный друг, — сказал император, качая головой, — ваш разум помрачился от горя.
— Что вы имеете в виду, ваше величество?
— Графиня фон Эпштейн… Да поможет вам Бог перенести это несчастье!
— С графиней фон Эпштейн что-нибудь случилось? — встревожился Сигизмунд.
— Графиня фон Эпштейн умерла сегодня ночью. Сигизмунд вскрикнул и бросился прочь. Он вскочил на лошадь, как безумный промчался по улицам Франкфурта и через полчаса был уже в замке Эпштейнов.
— Графиня Леонора! — звал он. — Графиня Леонора! Те, к кому граф обращался с вопросами, в слезах отворачивались от него.
Он бросился к лестнице, крича:
— Графиня Леонора! Графиня Леонора!
По дороге он встречал слуг, но не мог ничего от них добиться. Сигизмунд ворвался в спальню жены: графиня лежала на кровати, одетая в черное и такая же бледная, как три четверти часа тому назад, когда он видел ее в часовне. Стоявший возле ее ложа капеллан пел псалмы. Графиня была мертва.
Все дело было в том, что гонец, посланный с трагическим известием, не застал графа Сигизмунда и сообщил о случившемся императору. Граф спросил, не заметил ли кто-нибудь, чтобы с момента смерти, то есть с полуночи, графиня делала какие-либо движения.
— Никаких, — ответили ему.
Он спросил у священника, читавшего молитвы у одра покойной, выходил ли тот из комнаты.
— Ни на секунду, — ответил капеллан.
Тогда граф вспомнил, что было как раз Рождество и что, согласно древнему пророчеству Мерлина, та графиня фон Эпштейн, которая умрет в рождественскую ночь, умрет только наполовину. Леонора была первой графиней фон Эпштейн, умершей в ночь на Рождество. Так, значит, все было наоборот: не Эрмангарда ожила, а Леонора умерла. Усопшая графиня пришла поцеловать руку своей покойной госпожи, и в течение десяти минут он наблюдал беседу двух призраков.
Сигизмунд решил, что рассудок его помутился. Рассказывают, что графиня, наделенная способностью вступать в контакт с живыми людьми, несколько раз посещала супруга во время его болезни, последовавшей за всеми этими ужасными событиями. По прошествии года граф Сигизмунд удалился в монастырь, завещав своему старшему сыну положение, титул и состояние, от которых сам отказался, чтобы посвятить себя Богу.
Говорят, что графиня всегда появлялась в той из комнат замка, которая называлась красной и где была дверь, что вела на потайную лестницу к семейному склепу Эпштейнов. Известно также, что графиня являлась к старшим сыновьям трех поколений Эпштейнов и что появления ее совпадали с какими-нибудь важными семейными событиями. Однако в четвертом поколении эти посещения прекратились. С тех пор графиню Леонору больше не видели, но в замке Эпштейнов сохранилась традиция, согласно которой старший сын в семье спал в красной комнате. Еще известно, что после Леоноры ни одна графиня фон Эпштейн не умирала в рождественскую ночь.
Легко вообразить, какое впечатление произвел на Альбину этот рассказ. Ее жаждущая поэзии душа жадно впитывала в себя каждое слово этой фантастической легенды. Когда Альбина представляла себе, что станет графиней фон Эпштейн и будет жить в древнем замке времен Карла Великого, то ей казалось, что она и в самом деле почти уже очутилась в средневековье — в своей излюбленной эпохе.
Однако Максимилиан не смог бы долго играть свою роль: за ним наблюдал хоть и благосклонный, но весьма проницательный взгляд Альбины. На его счастье, спустя две недели он вынужден был по важному делу вернуться к отцу. Уезжая, он заручился согласием девушки и одобрением герцога, который, впрочем, отсрочил свадьбу на год.
На протяжении этого времени Максимилиан часто наведывался в Вену, но всегда вовремя уезжал. Сначала умерла его мать, вскоре за ней последовал и старый граф. Пока старики были живы, невеста их сына получала от них чудесные письма, в каждой строке которых изливалось их душевное благородство. Эти письма не только поддерживали иллюзии бедной девушки, но и усугубляли их. А вынужденные отлучки жениха благоприятствовали тому, что милый призрак, созданный дивной душой Альбины, по-прежнему заменял ей истинного Максимилиана. Она преклонялась перед ним и мечтала о том, как утешит его во всех его бедах, рассеет тоску его одиночества и одухотворит, как некая королева или фея, своим присутствием старый замок Эпштейнов.
Она часто думала о судьбе графини Леоноры и ловила себя на том, что просит Бога послать ей смерть в ночь на Рождество, чтобы и она могла вставать из могилы и посещать своего супруга, подобно тем женщинам из рода Эпштейнов, которым смерть в рождественскую ночь дарила бессмертие.
Долгожданная свадьба была отпразднована в Вене в конце 1791 года. Сам император подписал брачный контракт, после чего супруги отбыли в замок Эпштейнов.
Приехав в дом мужа, Альбина прежде всего попросила показать ей красную комнату, где после смерти отца жил Максимилиан.
Читателю эта комната уже знакома: мы описывали ее раньше. В те времена она была такой же, как и сегодня.
Спустя две недели после отъезда Альбины внезапно умер от апоплексического удара герцог фон Швальбах, словно его защита и поддержка стали не нужны дочери. В ее жизни, которой предстояло стать сплошной цепью страданий, это событие стало первым большим испытанием.
О Конраде и Ноэми не было никаких вестей, а новый граф фон Эпштейн не упоминал о них вовсе.
III
Прошел год. И в мире, и в замке Эпштейнов многое изменилось: Европа трепетала перед Францией, Альбина — перед Максимилианом.
Революция еще не достигла своего апогея. Король не был казнен, но уже находился в заточении. По раскатам грома можно было судить о грядущей буре. Подобно морским волнам, шумно бьющимся о берега во время прилива, события во Франции захлестнули рейнские провинции, угрожая затопить весь континент. Кюстин уже захватил Майнц и угрожал Франкфурту.
В замке Эпштейнов царил Максимилиан, дав, наконец, волю своему буйному и неистовому нраву. И хотя его поведение не могло сравниться с бесчинствами прошлых лет, надежды Альбины таяли одна за другой. Благородный и возвышенный рыцарь, являвшийся к ней в мечтах, вскоре предстал перед ней таким, каким был на самом деле: низким, тщеславным развратником, для кого брак был обыкновенной сделкой, а жена нужна была, чтобы получать наслаждение. Сначала Альбина сильно страдала, потом смирилась и безропотно терпела грубое и бесцеремонное насилие над своей тонкой и чувствительной душой. У нее, впрочем, почти не было времени предаваться тоске или сожалениям: в Германии стремительно развивались политические события.
Был взят Майнц, захвачены берега Майна, и старая имперская армия отступала под натиском юных войск свободы. Франкфурт должен был пасть со дня на день. Графу фон Эпштейну, замок которого располагался в непосредственной близости от театра военных действий, угрожал плен: Максимилиан считался важной персоной, к тому же он сильно преувеличивал собственную значимость. Кроме того, его вызывали в Вену, поэтому он должен был покинуть родной край и переждать бурю за его пределами. Замок не мог выдержать осады, и бравада в столь безнадежной ситуации была бы безумием.
Но Максимилиан упустил время: французские разведчики отрезали дорогу к Вене. Бегство становилось рискованным и полным всяческих опасностей. В этой ситуации Альбина была бы ему лишней обузой, поэтому Максимилиан решил оставить жену в замке.
Альбина сделала все возможное, чтобы уговорить графа взять ее с собой. Накануне его отъезда она во имя всего святого заклинала мужа не оставлять ее одну. К несчастью, решения, принятые Максимилианом, не подвергались пересмотру. Напрасно Альбина умоляла его: ни просьбы, ни слезы не тронули его сердца.
— Вам нечего опасаться, — сказал ей граф. — Что еще за детские страхи вы себе выдумали? Будучи вместе, мы оба погибнем, а в одиночку — оба спасемся. Я уже поставил вас в известность о том, что этой ночью я переоденусь крестьянином и вместе с Даниелем оставлю замок. Если днем нас задержат, рассеять подозрения будет трудно. Подумайте, чему вы подвергаете себя, отправляясь с нами! Если же я скроюсь и буду вне опасности, то что вам может угрожать? Разве женщин берут в плен? Нет. Французы даже в известном смысле великодушны: заставьте их уважать себя, и они будут с вами почтительны. Впрочем, спорить бесполезно, ибо у нас нет выбора. Если бы моя жизнь принадлежала только мне, будьте уверены, я бы дорого ее продал. Но, думаю, она еще пригодится моей стране. Ну же, Альбина, будьте мужественны! И подумайте о том, что я доверил вам самое дорогое, что у меня есть: моего сына и мою честь. Завтра, Альбина, вы останетесь здесь одна, но забудем о завтрашнем дне, ведь нам еще остается сегодняшний, — добавил Максимилиан почти нежно и обнял заплаканную жену.
Как всегда, Альбина безропотно покорилась его воле. На следующий день граф уехал, а еще через три дня Альбина получила письмо, извещающее ее, что муж находится в полной безопасности. Но за эти три дня в замке Эпштейнов произошло событие, которому суждено было сыграть роковую роль в судьбе несчастной женщины.
Перед наступлением на Франкфурт Кюстин, во избежание неожиданностей, решил разведать окружающую местность. Двум ротам было поручено прочесать ущелья гор Таунус. Предосторожность оказалась не напрасной: недалеко от замка Эпштейнов французы обнаружили засаду, скрывавшуюся в горных лесах. В последовавшей вооруженной стычке французы были вынуждены отступить перед превосходящими силами противника, но хитрость врага была разгадана. Поэтому французы могли, не опасаясь оказаться между двух огней, продолжать наступление на Франкфурт, который и был ими занят на следующий день. В яростной перестрелке обе роты потеряли большое количество солдат и многих наиболее храбрых офицеров.
В их числе был один молодой капитан; было известно только его имя: его звали Жак. Примечательно, что во время переправы через Рейн, то есть как только войска вступили на немецкую землю, он выбросил свою шпагу в реку и с тех пор носил на боку пустые ножны. Лишенный оружия, которое, впрочем, было для пехотного офицера скорее знаком различия, нежели реальной защитой, молодой капитан, тем не менее, благодаря своему хладнокровию, смелости и хорошему знанию местности, был чрезвычайно полезен французам. Он шел на врага в первых рядах, однако поплатился за свою дерзость. Первые же выстрелы, которыми императорские солдаты приветствовали республиканцев, настигли его. Он был ранен в голову и остался лежать на поле битвы, поскольку как свои, так и враги посчитали его погибшим.
Только к вечеру кто-то из новой прислуги замка Эпштейнов (а после смерти отца Максимилиан сменил всю прислугу в доме, сделав исключение лишь для старого управляющего Даниеля и смотрителя охоты Йонатаса), возвращаясь из Фалькенштейна, услышал чьи-то стоны и обнаружил еще живого капитана Жака. Слуга позвал на помощь двух крестьян, и они отнесли капитана в замок. Там, по приказанию Альбины, раненый был окружен самой неусыпной заботой. Капеллан, искушенный в хирургии, осмотрел рану и оказал капитану первую помощь, и на следующий день жизнь Жака была уже вне опасности.
Альбина искренне заботилась о раненом прежде всего потому, что у нее, как у женщины, всякое страдание вызывало сочувствие. А кроме того, капитан был для нее защитой от мародеров французской армии, а следует заметить, что победители отнюдь не собирались проявлять то благородство, в котором Максимилиан так эгоистически и беззаботно уверял жену. Когда грабители вошли в замок, Жак еще не оправился от болезни, но, невзирая на уговоры капеллана и Альбины, он все же поднялся с постели и, как следует прикрикнув на захватчиков, смог оградить замок и его хозяйку от опасности.
Отныне сочувствие и благодарность молодой графини выражались в удвоенной заботе и предупредительности по отношению к тому, кто спас ей жизнь, а может быть, и больше чем жизнь.
Впрочем, личные достоинства капитана Жака — его благородство, смелость и любезность — не могли не очаровать нежную и восторженную душу Альбины. Единственными его недостатками можно было бы назвать почти никогда не покидавшую его грусть и что-то неуловимо женственное в его облике — свойство, странное для военного человека. Но выражение грусти шло к его бледному лицу, а мужество капитана было всем известно. Под пулями и ядрами он оставался невозмутимым и беззаботным. Этот человек, хрупкий с виду и сильный духом, вызывал восхищение, почти поклонение своих солдат. С другой стороны, его любили и офицеры, ценя в нем разностороннюю образованность и неизменную обходительность. Товарищи прощали ему и немного странные философские идеи, и безумные порывы воображения, недоступные их пониманию. Солдаты дали ему прозвище Жак-храбрец, а офицеры называли капитана Жаком-мечтателем. Все догадывались, что он сражается за некую идею. Личные разногласия самодержцев не заслоняли для него главного — судьбу их народов.
Нетрудно понять, что личность капитана произвела на Альбину сильнейшее впечатление. Жак, действительно, был мужчиной ее мечты: отважным, самоотверженным и пылким, подобно Гёцу фон Берлихингену, красивым и романтическим, подобно Максу Пикколомини.
Поэтому, к великому удивлению капеллана, которому была хорошо известна сдержанность Альбины, между ней и молодым офицером вскоре возникла всем заметная близость. Не прошло и нескольких дней, а они уже звали друг друга по имени: Альбина и Жак.
Жак почти никогда не покидал своих покоев, где проводил все дни в обществе графини. Казалось, он не хотел попадаться на глаза обитателям замка. Слуги, то и дело входившие в гостиную, где сидели молодые люди, всегда заставали их за веселой беседой. Очевидная непогрешимость и чистота их помыслов были лучшей защитой против всяких толков. Казалось, что две эти непорочные и родственные души уже встречались когда-то в лучшем мире и теперь обрели друг друга на земле. Так они проводили долгие часы в полных очарования беседах, не замечая бегущего времени.
Когда Жак узнал, что через два дня должен покинуть замок и вместе со своей частью отправиться во Францию, он словно очнулся от долгого сна. Два месяца его выздоровления пролетели как один час.
Альбина проводила молодого офицера до крыльца. На прощание он поцеловал ей руку и назвал ее своей сестрой. Альбина пожелала ему всяческих благ и назвала его братом. Потом она стояла на пороге и махала ему вслед платком, пока он не скрылся из виду.
Спустя две недели после отъезда Жака графиня получила письмо от мужа. Он сообщал, что прибудет со дня на день, поскольку отступление французов позволяло ему теперь вернуться в замок.
Так как в коляске добраться до замка было невозможно, то Альбина отправила во Франкфурт нового слугу Тобиаса, который после бегства Даниеля временно исполнял его обязанности. Там он с двумя лошадьми должен был ждать Максимилиана. Со стороны Альбины это было обычным проявлением заботы и предупредительности, которыми она всегда отличалась. Но Максимилиан не обратил на эту любезность никакого внимания: все услуги, что ему оказывали, он считал само собой разумеющимися. Граф вскочил на одну из лошадей, Тобиас — на другую, остальные же слуги из свиты графа должны были добираться до замка кто как сможет.
Едва Максимилиан и Тобиас тронулись в путь, разговор, естественно, сразу же зашел о пребывании французов в окрестностях замка. Граф приказал слуге, почтительно державшемуся позади хозяина, поравняться с ним и ехать рядом, что тот немедленно и сделал.
— Так, значит, французы не тронули замок, насколько я мог судить по письмам графини? — спросил Максимилиан.
— Точно так, господин граф, — отвечал Тобиас, — но только благодаря защите капитана Жака. Потому как, я думаю, если бы не он, нам бы худо пришлось.
— Что еще за капитан Жак? — удивился Максимилиан. — Графиня ничего о нем не писала. Это что, раненый?
— Да, ваша милость. Ганс его нашел в пятистах шагах от замка и перенес к нам. Всю ночь он был между жизнью и смертью. Но господин аббат так умело его лечил, а госпожа графиня уж так о нем заботилась, что через месяц он совсем окреп.
— Но после этого он уехал? — спросил Максимилиан, нахмурившись при упоминании о том, что графиня заботилась о раненом.
— Нет, он тут жил еще месяц.
— Целый месяц! Что же он тут делал?
— Ничего, ваша милость. Он почти все время проводил в покоях госпожи графини. Ну, иногда он выходил вечером прогуляться в парке. Он вроде бы боялся, что его увидят.
Губы Максимилиана побелели, но он спросил недрогнувшим голосом:
— Когда же он уехал?
— Только восемь или десять дней назад.
— А что это был за человек? Молодой или старый, красивый или уродливый, грустный или веселый?
— Ему, ваша милость, с виду было лет двадцать шесть — двадцать восемь. Он был тщедушный, бледный, со светлыми волосами и будто бы все время печалился.
— Ему, должно быть, было довольно скучно в замке? — спросил граф, покусывая губы и продолжая разговор как бы против собственной воли и с той настойчивостью, с которой мы почему-то стремимся узнать роковые для нас вести.
— Никак нет, ваша милость. Вид у него был грустный, но не похоже, чтобы он скучал.
— Ну, разумеется, — сказал Максимилиан, — ведь его навещали товарищи — это развлекало его.
— Ах, господин граф, да он вовсе и не хотел развлекаться. Его фурьер всего два раза и приезжал в замок, пока капитан был здесь, и вовсе не потому, что господин Жак сам его вызвал, а чтобы передать приказания от командира полка.
— Но он, конечно, выезжал на охоту?
— Никогда не видел, чтобы господин капитан взял в руки ружье или сел на лошадь. И Йонатас мне тоже вчера сказал, что ни разу за два месяца его не приметил.
— Да чем же он тогда тут занимался? — воскликнул граф, с трудом сдерживаясь и чувствуя, что ему начинает изменять голос.
— Что делал господин капитан? О, это рассказать нетрудно. По утрам, значит, он играл с господином Альбрехтом. Мальчик очень его полюбил: господин капитан только проснется, а тот уже у него в комнате. Или же, как старик, беседовал с господином аббатом, а господин аббат только и удивлялся его учености. После обеда он занимался музыкой, аккомпанируя госпоже графине на клавесине и сам пел. Для нас, слуг, это было сущее наслаждение. Мы тогда все стояли под дверью и слушали, как они поют — ну, истинно, ангелы. После концерта они читали вслух. А вечером, как я уже доложил господину графу, он иногда прогуливался по парку, но редко.
— Странный офицер, — сказал граф с досадой, — играет с детьми, философствует со стариками, поет с женщинами, читает вслух, гуляет в одиночестве.
— В одиночестве? Да нет, госпожа графиня всегда гуляла вместе с ним.
— Всегда? — переспросил граф.
— Ну да, всегда или почти всегда.
— И это все, что ты знаешь об этом офицере? А какого он происхождения, из какой семьи? Знатный он или безродный, богатый или бедный? Отвечай!
— Что до этого, то тут я ничего не знаю, ваша милость. Это вам все расскажет госпожа графиня — уж она, верно, знает.
— Почему вам так кажется, метр Тобиас? — сказал Максимилиан, искоса глядя на болтливого слугу и пытаясь понять, нет ли какого-нибудь намека в его словах.
— Это я потому говорю, — отвечал Тобиас с той наигранной простодушной добротой, за которой слуги обычно скрывают ненависть к своим хозяевам, — что, по-моему, госпожа графиня уже давно знакома с этим молодым офицером.
— И что же именно заставило вас, господин физиономист, сделать вывод, что молодой офицер и графиня уже встречались до события, какое их сблизило? — спросил Максимилиан с издевкой, которую Тобиас не мог понять.
— А то, что госпожа графиня звала этого офицера Жаком, а он госпожу графиню — Альбиной.
Не до конца осознавая, что он делает, Максимилиан уже занес было руку с хлыстом, намереваясь ударить по лицу слишком осведомленного наблюдателя, но быстро опомнился.
— Хорошо, — сказал он, ударив вместо Тобиаса свою лошадь, — хорошо. Это все, что мне пока нужно знать. А остальное мне расскажет сама графиня — ты прав, Тобиас.
Лошадь Максимилиана рванулась вперед, и слуга снова остался позади. Всю остальную часть пути Тобиас почтительно держался на расстоянии, поскольку хозяин не делал ему никаких знаков и больше не обращался к нему.
Лицо Максимилиана было неподвижно, но ужасные подозрения терзали его сердце, столь скупое на любовь и столь скорое на гнев и обвинения. Однако полной убежденности в неверности жены у него еще не было, и он тихо пробормотал, подстегивая лошадь:
— Только одно доказательство, только одно доказательства ее бесчестья, и я убью ее!
Он почти желал этого доказательства.
Въехав в аллею, ведущую к замку, он увидел Альбину: с радостным нетерпением она ждала его на крыльце. Судорожным движением граф вонзил шпоры в бока своей лошади.
Бедная Альбина подумала, что Максимилиан пустил лошадь галопом от желания поскорее увидеть ее.
Как только граф спустился на землю, жена бросилась ему на шею.
— Простите, милый друг, — сказала она ему, — что я не приехала сама вас встречать. Я несколько нездорова. Но что с вами, Максимилиан? У вас такой мрачный и озабоченный вид! Политические заботы, должно быть? О, сейчас я разглажу морщины на вашем челе, и оно снова озарится счастьем! Пойдемте же, Максимилиан, пойдемте скорее, я расскажу вам один секрет. Это милая моему сердцу тайна, которую я все время повторяла про себя, пока вас не было со мной, чудесная тайна, о которой я умолчала в письме, ибо не хотела лишать себя радости сказать вам об этом лично. Эта тайна, которой я не могла поделиться с вами при расставании, поскольку и сама еще не знала о ней. Слушайте же, Максимилиан, и перестаньте хмуриться. Помните нашу прощальную ночь, столь сладостную и столь бурную?.. Поцелуйте же вашу супругу, Максимилиан, а через шесть месяцев вы сможете поцеловать свое дитя!
IV
Теперь позволим себе оставить на время древние башни замка Эпштейнов и обратим свой взор на скромное жилище сторожа Йонатаса. Как мы уже могли убедиться и как станет ясно в дальнейшем, замок и хижина тесно связаны между собой. И позднее наш рассказ о событиях в хижине будет соседствовать с повествованием о событиях в замке, а часто и объяснять их.
Домик смотрителя охотничьих угодий Эпштейнов располагался в ста шагах от парковой ограды, возле самого леса. Позади него находился поросший лесом холм, который защищал дом от северного ветра. Домик был старым и бедным, однако вид имел свежий и нарядный. Время — великий художник — создало чудесную цветовую гармонию из красноватых кирпичей, темно-зеленых ставней и причудливо вьющегося по стенам винограда. Четыре раскидистые липы образовывали зеленую переднюю. Все здесь привлекало и радовало глаз: гостеприимная скамья у порога, ручей, ухоженный дворик, маленький веселый сад, бурно разросшийся, полный фруктов, цветов и птиц. Внутри — тот же ненарочитый порядок, та же праздничная чистота. Внизу располагалась общая комната и отцовская спальня, на втором этаже спальня детей — светлая, чистая, наполненная голосами певчих птиц и благоуханием стоящих по окнам цветов. А если вы видите на окне дома цветочный горшок с розой или клетку с зябликом, можете не сомневаться, что тут живут мудрые и добрые люди.
С 1750 года Гаспар Мюден был смотрителем охоты у графа Рудольфа фон Эпштейна. В 1768 году, когда ему исполнилось сорок лет, он женился. Супруги прожили безмятежно и счастливо пять лет, а потом хозяйка домика скончалась, оставив безутешному Гаспару двух дочерей, Вильгельмину и Ноэми.
Гаспар был именно таким человеком, каким его задумал Господь: самоотверженным и непоколебимым. После смерти жены он открыл свою Библию, перечитал историю Руфи и решил посвятить свою жизнь сиротам. Так он и прожил свой век — просто и достойно, — подавая и своим детям пример благородства. К детям он относился с отеческой лаской, и они росли честными и добродетельными.
Девочки были премилые, красивые и работящие. Вильгельмина была веселее, а Ноэми чуть задумчивее. Когда старшей, Вильгельмине, исполнилось шестнадцать лет, настало время выбирать ей жениха. Из всех претендентов на ее руку Гаспару особенно полюбился Йонатас — за отвагу и удачливость в охоте. Охоту старый Гаспар любил страстно и хотел видеть в будущем зяте своего преемника. Поэтому еще до свадьбы он сделал Йонатаса своим помощником.
Вильгельмина приняла выбор отца с покорностью и была им вполне довольна. Йонатас был прекрасным человеком, хотя, быть может, несколько простоватым и немного беспечным во всем, что не касалось его ланей и кабанов. Но зато он был верным супругом и смотрел на все глазами жены. После свадьбы Йонатас поселился у тестя,
Вильгельмина и ее муж любили и баловали Ноэми. Младшая сестра оказалась куда менее покладистой и решительно отвергала всех женихов. А дело было просто в том, что ее сердце покорил нежный взгляд Конрада фон Эпштейна. Сама того не желая, она все время думала о бледном и печальном юноше, который встречался ей иногда в лесу и всякий раз, завидев ее, в смущении опускал глаза.
Однажды нелюдимый любитель прогулок, застигнутый бурей, забрел в дом смотрителя охоты. Сердечный прием Гаспара ободрил его, а красота младшей дочери околдовала, и он стал наведываться в хижину сначала каждую неделю, а потом и каждый день.
Гаспар заметил, что при появлении молодого человека Ноэми охватывает волнение, сменяющееся после его ухода внезапной задумчивостью. Трезвым крестьянским умом старик сразу сообразил, в чем тут дело. Будь на месте Конрада такой известный волокита, как Максимилиан, Гаспар без колебаний прогнал бы его. Но молодой человек, получивший прозвище «ученый», держался серьезно, сдержанно, с достоинством, и это внушало смотрителю охоты доверие, близкое к уважению. Пока Конрада не было, Гаспар, повергая дочь в ужас своими словами, говорил о нем с гневом и клялся, что больше не пустит его на порог, потому что молодому и знатному графу фон Эпштейну место в своем замке, а не здесь. Но как только Конрад появлялся, Гаспар неловко брал у гостя из рук шляпу и, ворча, удалялся прочь.
Что было дальше, читатель уже знает. Узнав о тайном браке дочери и молодого графа, Гаспар, как честный человек, не смог ни в чем упрекнуть Конрада. Но, как верный слуга, он трепетал при мысли о гневе старого графа (тот, впрочем, отнесся к Гаспару с благородной справедливостью и не винил его ни в чем). Но сердце отца разрывалось: ведь Ноэми, изгоняемая за то, что полюбила, должна была покинуть его. Девушка была так похожа на свою мать, что, расставаясь с дочерью, Гаспар словно во второй раз терял супругу. Однако и это жестокое испытание Гаспар встретил как истинный христианин: он покорился власти Провидения. Не проронив ни единой слезы, он поцеловал Ноэми и попрощался с ней навеки. Потом, открыв свою Библию, он перечитал историю Агари.
Ноэми уехала. Шли дни, месяцы, годы, а от нее не было никаких вестей. Она жила где-то во Франции; больше никто ничего не знал.
Думая о сестре, Вильгельмина часто плакала. Но, по правде говоря, других причин для слез у нее не было: она обожала своего мужа и была с ним совершенно счастлива.
Как уже известно читателю, после смерти графа Рудольфа и его супруги Максимилиан сменил всю прислугу в доме, оставив лишь Гаспара и Йонатаса. Ведь, перейдя к другому хозяину, Гаспар мог бы рассказать о своем зяте, а Йонатас — о свояке. А пока оба оставались у Максимилиана, он мог заставить их молчать.
Когда Альбина поселилась в замке Эпштейнов, добрая и ласковая Вильгельмина сразу пришлась ей по душе. Из-за ревности Максимилиана Альбине было запрещено посещать соседние замки, но хижины не были ей заказаны. В уютном домике смотрителя охоты Альбине было веселее, чем в темной и мрачной крепости. Здесь она посадила цветы, которые сама поливала, завела себе птиц, которые отзывались на ее голос. У Вильгельмины она обрела то, чего ей так мучительно не хватало: немного простора, солнца и свободы. Здесь она могла порой вспоминать счастливые дни своего детства в поместье Винкель.
Но когда наступление французов вынудило графа бежать в Вену, он строго-настрого приказал жене не покидать замка. Хозяйственные заботы не позволяли и Вильгельмине отлучаться из дому. Поэтому в тот момент, когда появился капитан Жак, Альбина была несчастна и одинока как никогда.
Тому, кто сам много страдал, лучше понятны страдания другого. Поэтому Альбина прониклась к раненому живым сочувствием, а он со своей стороны отвечал ей глубокой симпатией. И вот однажды вечером капитан Жак рассказал Альбине историю своей жизни. Несомненно, в этом не дошедшем до нас рассказе было нечто такое, что сильно заинтересовало Альбину, ибо с этого вечера между молодыми людьми установились самые сердечные дружеские отношения.
Отныне жизнь Альбины обрела смысл, а ее мысль получила пищу. Она уже не так сильно тосковала по лесной хижине, не так настойчиво звала Вильгельмину в гости. А та все же наведывалась иногда в замок, но даже не заметила, что там живет раненый, она лишь мельком видела какого-то человека в военной форме, да и то в тот день, когда капитан Жак отбывал к себе в полк в Майнц.
Лишившись капитана Жака, Альбина вновь сблизилась с Вильгельминой и умоляя ее приходить как можно чаще. Эти две женщины, столь разные по происхождению и воспитанию, понимали друг друга душой как сестры.
Хозяйка замка в последнее время заметно оживилась, и причина ее радости была известна только Вильгельмине, с ней одной она поделилась той радостной надеждой, что наполнила теперь ее существование. Жена Йонатаса тоже ждала ребенка; он должен был родиться примерно на месяц раньше, чем ребенок графини. Каким мечтам они предавались вдвоем, какие безумные планы строили!
— Я хочу, — говорила Альбина, — чтобы наши дети росли вместе и чтобы они получили одинаковое воспитание; я так хочу, понимаешь, Вильгельмина?
— Конечно, сударыня, — отвечала Вильгельмина, — только вот о чем я подумала: вы слишком хрупкая, и вам не под силу самой выкормить ребенка, поэтому я буду кормить вместе со своим и ваше дитя. Я ведь деревенская женщина, сильная и здоровая, и не беспокойтесь, я буду хорошо заботиться о них обоих, только, боюсь, мне потом и не разобраться, который из них мой.
Между тем, пока женщины предавались этим мечтам и надеждам, в замок вернулся Максимилиан.
На следующий день после его приезда Вильгельмина, как обычно, пришла в замок, но ей сказали, что госпожа никого не принимает: так распорядился господин граф. Вильгельмина проявила было настойчивость, но ее почти вытолкали вон. Она вернулась домой в слезах и в сильнейшем беспокойстве.
Теперь граф Максимилиан, который до этого охотился достаточно редко, стал выезжать на охоту каждый день. Его сопровождал Йонатас, поскольку старый Гаспар с готовностью возложил все свои обязанности на зятя и почти вовсе не выходил из дому. На охоте граф фон Эпштейн проявлял такую нечеловеческую жестокость, какой за ним раньше никогда не замечали, и жестокость эта росла день ото дня: казалось, он испытывал какую-то потребность причинять всему живому страдание. Загнав оленя или лань, он не убивал их сразу выстрелом из ружья или ударом охотничьего ножа, а обрекал на смерть в долгой и мучительной агонии, спуская на них свору собак и даже не жалея при этом лучших своих борзых. С мрачным смехом граф наблюдал эти кровавые сцены. Кроме того, за все эти дни он не проронил ни единого слова. Однажды Йонатас, уступив настойчивым просьбам жены, спросил его о самочувствии графини. Максимилиан сильно побледнел, грозно посмотрел на смотрителя охоты и резко оборвал его:
— Замолчи! Какое тебе дело до графини? Тебя это не касается.
Больше бедный смотритель не решался задавать вопросы, вызвавшие такой гнев у хозяина.
Недели шли за неделями; наступил конец декабря. Вильгельмина должна была вскоре родить. Утром на Рождество Йонатас ждал графа, чтобы, как всегда, сопровождать его на охоту. Он прождал два часа, но Максимилиан так и не появился.
Вместо него Йонатас увидел приближающегося посыльного, который сообщил, что у Вильгельмины начались схватки и она зовет мужа. Йонатас бросился домой. В тот самый момент, когда он переступил порог, Вильгельмина разрешилась от бремени. Она родила девочку.
Когда Вильгельмина пришла в себя, сначала она подумала о муже, а потом — об Альбине.
— Сообщите скорее госпоже графине, — воскликнула она, улыбаясь сквозь слезы.
Но ей ничего не ответили. Лица людей были заплаканы: в то же самое утро ужасные события потрясли замок.
V
Когда Альбина сообщила мужу об открытии, наполнившем радостью ее сердце, она ожидала, что Максимилиан разделит ее восторг, заключит ее в объятия, что души их сольются в предвкушении будущего счастья, и наступит новая пора их любви.
«Я плохо думала о графе, — уверяла себя Альбина в порыве великодушия. — Он добр и благороден, он предан мне. Просто я сравнивала его со своими глупыми фантазиями, своими детскими мечтами. Я все ждала, что образы моего прихотливого ума оживут, как будто сегодняшний государственный деятель может быть похож на героя романа, а люди восемнадцатого века могут стать такими, какими они были в шестнадцатом. Я была ужасная сумасбродка! Но скоро я стану матерью, и мне нужно быть сильной и трезво смотреть на жизнь. У меня больше нет требований, у меня есть обязанности. И надо быть снисходительнее; раз теперь я в ответе за другого человека, нужно все простить отцу моего ребенка, ведь именно ему я обязана самым чистым счастьем на свете — счастьем материнства».
Так рассуждала Альбина, с нетерпением ожидая возвращения мужа. В радостном волнении, вся сияя от счастья, она шепнула ему на ухо свою заветную тайну. С очаровательным детским лукавством она заглядывала Максимилиану в глаза, чтобы увидеть то впечатление, которое на него произведет эта новость. Она так ждала, что муж пылко обнимет ее, назовет ее тысячью ласковых имен, засыплет нежными и тревожными вопросами. Но, вместо этого, Максимилиан побледнел как полотно и яростно сжал протянутую навстречу ему руку Альбины. Увидев, однако, что неподалеку находится его свита и Тобиас, граф справился с собой и быстрым шагом, молча, равнодушно прошел мимо растерявшейся жены и скрылся.
Вся похолодев, Альбина застыла на том месте, где граф покинул ее, подобная статуе Скорби. Словно пытаясь очнуться от кошмарного сна, она провела рукой по глазам. Охваченная тоской и ужасом, она вернулась в свои покои.
Что она сделала? Какая вина, какое преступление навлекли гнев ее повелителя? Ведь для того чтобы этот гнев возобладал над счастьем, о котором она сообщила, должна быть серьезная причина.
Напрасно Альбина со всей строгостью испытывала себя: она не могла припомнить ни одного своего поступка, заслуживающего столь сурового обращения с ней. Может быть, не следовало так долго скрывать от графа новость? Но ведь она только хотела лично сообщить ему о своей радости — а эта ничтожная вина не могла повлечь такого жестокого наказания. Бедная графиня терялась в ужасных догадках. Не зная, что и думать, она сидела одна в своей комнате, вздрагивая от малейшего шума. Через час открылась дверь, вошел слуга и передал ей письмо от Максимилиана. Вот что она прочла:
«Сударыня, ограничусь тем, что сообщу Вам свою волю. Запомните, это мой строжайший приказ.
Отныне Вы не покинете стен замка и никогда не будете попадаться мне на глаза. Вам позволено гулять во внутреннем дворе и в саду, пока меня не будет дома, а я буду отлучаться ежедневно. Но я запрещаю Вам под страхом смерти выходить за пределы замка. Также я запрещаю Вам писать кому бы то ни было и принимать у себя Виль-гельмину. Вам известно, что я за человек, поэтому покоритесь моей воле и не навлекайте на себя мой гнев, иначе я не беру на себя ответственность за те свои поступки, причиной которых Вы можете явиться.
Максимилиан фон Эпштейн».
Это письмо, из которого графиня не поняла ничего, кроме того, что она погибла, ошеломило ее.
Мы уже говорили о способности Максимилиана заставлять людей, даже вопреки их желанию, безропотно подчиняться его решениям, подобным приговору слепой и неумолимой судьбы. Эта роковая и грубая власть была настолько сильна, что Альбина, твердо уверенная в своей невиновности, все же покорилась воле мужа как смертному приговору и стала ждать, что будет дальше. Однако следует заметить, что ее бездействие выражало не только покорность судьбе, но и чувство собственного достоинства. Сознание своей безвинности укрепляло ее силы. Любви к мужу Альбина более не испытывала, и для нее было важнее сохранить уважение к самой себе, нежели оправдаться перед Максимилианом.
«Если Максимилиан больше не уважает свою жену, — рассуждала Альбина, — то ей важно не уронить себя в своих собственных глазах. Лучший протест против несправедливого обвинения — открытость, спокойствие и твердость. Я даже не знаю, в каком преступлении Максимилиан меня подозревает. Но будущее своим факелом осветит прошлое, и настанет день, когда он поймет свою ошибку. А пока мне надлежит оставаться невозмутимой и гордой».
Хрупкая Альбина переоценивала свои силы, ведь до замужества лучшим оружием ее была слабость. Ко гневу такого человека, как Максимилиан, нельзя было относиться легкомысленно, ибо его гнев, единожды вспыхнув, не утихал сам собой и ничто не могло противостоять ему, о нет! Максимилиан шел до конца, сметая все препятствия на своем пути, пока не достигал своей цели.
Граф знал за собой это свойство и иногда сам себя боялся, сам трепетал перед своим гневом. Когда жена простодушно объявила ему о том, что было счастьем для нее и, как он думал, бесчестьем для него, Максимилиан пришел в ярость. Но он отсрочил месть. Если бы он в ту минуту повиновался своим инстинктам, то убил бы на месте эту женщину — ту, которая сначала обманула его, а потом оскорбила. Но таким образом он бы сам признал свой позор, поэтому граф смирил гнев и на первых порах приговорил жену, как преступницу, к заточению.
Отправив Альбине угрожающее письмо, он тоже стал ждать.
Супруги жили под одной крышей. Каждый день, утром и вечером, Альбина слышала в коридоре шаги Максимилиана. Он ступал медленно и тяжело. Ни разу он не остановился возле ее двери и не обнаружил намерения остановиться. Неделями, месяцами они не виделись, но постоянно думали друг о друге, и даже больше и чаще, чем самые нежные влюбленные.
Напрасно граф старался прогнать преследующие его мрачные мысли, изнуряя себя физически: ему это не удавалось. Ни забыть, ни простить жене то оскорбление, которое она ему нанесла, он не мог: для людей его склада это была кровная обида. Что же касается графини, то она тщетно старалась найти опору в своей чистой совести, сосредоточиться на мыслях о своем будущем ребенке и о Боге; загадочное поведение Максимилиана вселяло в нее непреодолимый страх, приводило ее в отчаяние, вторгалось в ее сны.
Их молчаливое противостояние было лишь обманчивым затишьем перед бурей; оба они это понимали, и оба были охвачены тоскливым и горячечным ожиданием. Существование двух этих людей нельзя было назвать жизнью: их лица были безмятежны, но души мертвы, а сердца сдавлены ужасом. Максимилиан безотчетно трепетал перед той чистотой и непорочностью, которая сияла, словно венец, вокруг чела Альбины. Она же, зная свирепый нрав мужа, была готова ко всему, что может произойти, как только они встретятся.
И все же Альбина не выдержала первая. Сознание своей невиновности придало ей смелости, и она решила пойти навстречу неведомой опасности, в угрожающей атмосфере которой так долго жила. Графиня столь явственно чувствовала эту опасность, что, перед тем как после долгих колебаний решилась наконец потребовать у Максимилиана объяснений, она написала письмо, которое, как увидит читатель, скорее походило на завещание:
«Милая моя Вильгельмина!
Мне запрещено не только видеться с тобой, но и писать тебе. Поэтому ты получишь это письмо только тогда, когда меня уже не будет в живых. Видимо, лишь смерть позволит мне нарушить обет послушания.
Пусть тебя не удивляют эти печальные предчувствия, Вильгельмина, но в моем положении нужно предвидеть все. Яне хочу покидать эту землю, не излив тебе душу, ведь ты всегда была так добра ко мне, а умирающие хотят оставить духовное завещание тем, кого они любили.
Господи! Не знаю, почему из-под моего пера выходят такие безрадостные слова. На самом деле я весела и спокойна, поверь, милая моя хозяюшка. Это правда, я улыбаюсь сейчас, вспоминая о тех мечтах, которым мы предавались с тобой два месяца назад.
Ты помнишь? Как бы то ни было, я тебе все-таки напомню о них, потому что наши общие мечты были почти что клятвами.
Ты обещала, Вильгельмина, что станешь кормилицей моего ребенка, если меня не будет рядом с ним. Не забывай же об этом обещании, слышишь? Я рассчитываю на тебя. Надеюсь, что мне удастся выжить, и тогда я сама напомню тебе о твоем обещании. Тем не менее, мне будет спокойнее, если я скажу об этом сейчас, в тот торжественный момент, когда я приняла одно важное решение.
Это еще не все, Вильгельмина. Если Бог призовет меня к себе, я не сомневаюсь, что граф Максимилиан даст моему ребенку благородное воспитание и хорошее образование. Но только мать, только женщина может развить душу младенца. Ты ведь понимаешь меня, Вильгельмина ? Мужчина научит дитя жить среди людей, но только женщина научит ребенка общаться с Богом… Ты хорошо знаешь меня и сможешь рассказать моему ребенку обо мне лучше, чем его отец, который никогда не понимал своей жены. Расскажи же ему обо мне, Вильгельмина, говори с ним обо мне почаще. Постарайся сделать так, чтобы он знал меня как живую. Не отказывай ему в ласках, добрая моя Вильгельмина, они нужны младенцу не меньше, чем молоко. Бедный сиротка! Пусть он растет, окруженный твоей любовью и нежностью! Будь ему не просто кормилицей, будь ему матерью!
Сказала ли я тебе все, что хотела? Да. Впрочем, если я о чем-то забыла, твое сердце догадается об остальном.
Ты, наверное, считаешь меня эгоисткой: я ни слова не сказала о тебе. Не сердись! Я ведь говорила о том существе, которое сейчас живет во мне.
Но ты сейчас увидишь, что, поручая тебе своего ребенка, я не забыла о твоем. В этом конверте ты найдешь два письма: одно к настоятельнице монастыря Священной Липы, другое к майору Книбису из Вены.
Если у тебя родится девочка, ты отправишь ее, когда ей исполнится пять-шесть лет, с первым письмом к моей доброй тетушке, аббатисе Доротее, которая была для меня второй матерью. По моей просьбе она примет твою дочку в монастырь, где вместе с самыми богатыми наследницами Германии воспитывалась я сама. О, какие это были счастливые времена, когда я пела гимны во славу Господа нашего, а такое событие, как смерть моей голубки, была для меня самым большим горем! Можешь не сомневаться, Вильгельмина, там твоя дочь получит хорошее и благочестивое воспитание.
Если же у тебя родится мальчик, отправь его к майору: он определит твоего сына в гимназию или в военную школу. Милый майор! Он был ближайшим другом моего отца и приезжал к нам в Винкель каждый день. Помню, я любила его дразнить, а он относился к моим невинным шалостям простодушно и снисходительно, а иногда даже подзадоривал меня! Кто бы мог, глядя на меня теперь, милая Вильгельмина, поверить, что я была такой шаловливой и своевольной девчонкой?
Я верю, что майор не позабыл свою маленькую Альбину и что из любви ко мне он примет твоего сына как моего.
Я бы хотела, чтобы у каждой из нас родилось по мальчику или по девочке, тогда они стали бы братьями или сестрами.
Будь добра к моему ребенку, если я умру, а я, если останусь жива, буду добра к твоему.
Прощай, моя Вильгельмина! Что бы ни случилось, я уверена: души людей бессмертны и моя душа всегда пребудет с тобой, не покинувшей мое дитя.
Я вложила в письмо, которое ты получишь, если я уйду из этого мира, прядь своих волос для моего маленького ангелочка.
Прощай же, прощай! Помни, помни о моей просьбе!
Альбина фон Эпштейн, урожденная Швальбах.
24 декабря 1793 года.
P.S. Забыла: у меня есть еще одна прихоть. Если у меня родится мальчик, пусть его назовут Эберхардом в честь моего отца, если же родится девочка, то пусть будет зваться Идой, как моя матушка».
Написав это письмо, Альбина немного успокоилась.
Ничто так умиротворяюще не воздействует на душу, как принятое решение. А Альбина решила заставить Максимилиана нарушить упорное, угрожающее, мрачное молчание, даже если первые его слова, подобно роковой молнии, сразят ее насмерть.
В этот день время для Альбины бежало быстрее, чем обычно, ибо она непрестанно думала о том, что с каждой минутой решительный разговор все ближе и ближе. Последние часы пролетели стремительно, как на крыльях.
Стемнело. Графиня зажгла свечи. Ей казалось, что, чем светлее будет в комнате, тем лучше будет видно спокойствие ее лица, а значит, легче будет распознать непорочность ее души — и тем меньше она будет бояться. Затем она прислушалась. В положенный час в коридоре послышались шаги Максимилиана. Альбина открыла дверь и вышла из комнаты.
Максимилиан стоял на верху лестницы со слугой, который освещал ему дорогу. Увидев Альбину, граф застыл на месте от удивления. Слуга, поклонившись, прошел мимо нее. Максимилиан приблизился к ней.
Он собирался молча проследовать мимо, но Альбина с неожиданной для себя самой решимостью взяла его за руку. От этого прикосновения по телу железного человека прошла дрожь.
— Что вам угодно, сударыня? — спросил он.
— Мне нужно поговорить с вами, граф, — ответила Альбина.
— Когда же?
— Прямо сейчас, если вам будет угодно.
— Как? Немедленно?
— Да, немедленно.
— Но, сударыня! — в голосе Максимилиана прозвучала угроза.
— Прошу вас.
— Вспомните, сударыня, я советовал вам не сердить меня. Если вы разбудите мой гнев, значит, вы сами этого захотели. Что ж, воля ваша. Я к вашим услугам.
В мерцающем свете зажженного канделябра их взгляды встретились. Оба были смертельно бледны. Настал тот решительный момент, которого они так боялись, хотя и понимали, что его не миновать. Они не раз представляли себе эту минуту, но в глубине души, быть может, хотели бы отсрочить ее. Теперь было слишком поздно. Их словно влекла некая сила, которой они не могли противостоять. Некоторое время царило молчание.
— Сударыня, — сказал наконец граф изменившимся голосом, — у вас еще есть время. Одно ваше слово, и я уйду. Вы, видимо, не совсем здоровы, а я, предупреждаю вас честно, не могу отвечать за свои действия. Имейте это в виду. Итак, хотите ли вы, чтобы мы поговорили немедленно или же мы отложим объяснение?
— Нет, не будем откладывать, — отвечала графиня. — Я слишком долго ждала этой минуты, и мне нечего бояться… Будьте любезны следовать за мной.
Граф жестом приказал слуге отнести канделябр к нему в спальню и направился за графиней. Альбина вошла в свою комнату и закрыла за мужем дверь.
Максимилиан, не ожидавший такой решительности, с удивлением посмотрел на жену. Она обернулась, спокойно глядя ему прямо в глаза. Граф сказал:
— Сударыня, сударыня, остерегитесь! Я собираюсь потребовать от вас самого строгого отчета во всех ваших действиях.
— А я от вас, сударь. Сначала выслушайте меня, а уж потом, если вам будет угодно, можете высказывать свои обвинения.
— Что ж, говорите первая, — сказал граф. — Но вам дурно, вы бледны. Присядьте же, пожалуйста, — добавил он с пугающей любезностью, придвигая графине кресло.
Альбина села. Граф остался стоять, сжав губы, скрестив руки на груди и мрачно глядя на жену.
Все это происходило в той большой красной комнате, где графиня жила в отсутствие Максимилиана и которую она продолжала занимать после его возвращения.
В комнате горели четыре свечи, но пространство ее было настолько огромным, что свет едва достигал дальних стен. В глубине можно было различить балдахин большой фамильной кровати. От легкого дуновения холодного зимнего ветра дрожали складки штор на окнах.
Несколько секунд длилось молчание. Потом раздался твердый и уверенный голос графини:
— Сударь, я росла подле моего батюшки в любви, счастье и спокойствии. Я смеялась, играла, резвилась. Душа моя была переполнена счастьем, а сердце — восторгом. Восторженность отнюдь не пошлая добродетель — поверьте, сударь, — но именно она погубила меня. Появились вы, и я, бедная дурочка, приняла вас за мужчину моей мечты. Я увидела в вас настоящего рыцаря — благородного, отважного, пылкого. А вы, сударь, женились на мне из-за моих титулов и богатства…
— Сударыня! — в голосе графа послышалась мрачная насмешка.
— С тех пор как я стала вашей женой, — продолжала Альбина, — вы даже не удосужились притворяться и поддерживать во мне иллюзии: теперь вам этого уже не нужно было… Господи! Мне казалось тогда, что не стоит жить на свете.
— Это уж точно! — саркастически воскликнул Максимилиан.
— Я видела, сударь, я видела, как гибнут одна за другой мои надежды, а без них жизнь для меня была немыслима. Тогда я обратилась за советом к моей доброй тетушке, настоятельнице монастыря Священной Липы. «Дитя мое, — сказала она мне в нашу последнюю встречу, — если счастье изменит тебе, вспомни о долге».
— Вот-вот! — снова перебил ее граф. В его иронии появилось что-то угрожающее.
— Я помнила об этих словах, — продолжала Альбина с поистине ангельской кротостью, — и стала видеть смысл своей жизни в послушании: смирение стало для меня главной добродетелью. Я была готова стерпеть ваше невнимание и равнодушие, но не презрение и ненависть. И я не упрекаю вас, сударь, в том, что вы погубили мою молодость, обманули мои надежды, разрушили всю мою жизнь.
Я не требую от вас любви, на которую вы не способны. Но я, по меньшей мере, имею полное право на ваше уважение, ибо не желаю краснеть перед слугами. Разве я требую слишком многого, граф? Извольте ответить!
— Вы сказали все, не так ли? — произнес Максимилиан. — Раз так, будьте любезны выслушать меня.
— Я вас слушаю, сударь, — отвечала графиня.
— Для начала скажу вам, что мне нет никакого дела до детских фантазий пансионерки, о которых вы мне тут говорили. Я полагаю, что мужчина не может растрачивать свое драгоценное время на все эти выдумки. Но если я и не смог воплотить ваши трепетные грезы, то смогли ли вы, сударыня, удовлетворить мое честолюбие?
— Батюшка, милый батюшка, вы предупреждали меня! — воскликнула Альбина. — Честолюбец, жаждущий наград и титулов, вся цель которого — получить орден степенью повыше или из графа стать герцогом! И это вы называете честолюбием! И вы смеете мне говорить о своем честолюбии!
— Остановитесь, сударыня! — вскричал граф, топнув ногой, и лицо его побагровело от гнева. — Ведь в конечном счете речь идет о другом, и вы прекрасно это знаете.
— Нет, я ничего не знаю. Ведь я для того и хотела поговорить с вами, чтобы хоть что-нибудь узнать.
— Что ж, я вам объясню. Я доверил вам свое имя и свою честь, а что вы сделали с ними, сударыня? Только не лгите, не притворяйтесь. Не надо изображать святую мученицу: это вам не поможет. Я прямо задал вопрос и требую, чтобы вы прямо на него ответили.
— Я никогда даже по пустякам не лгала вам, сударь.
— Хорошо, тогда скажите мне, верная супруга, кто такой этот француз, капитан Жак?
Тут Альбина все поняла, и ей стало жаль графа. Она улыбнулась.
— Капитан Жак — раненый, кому я, быть может, спасла жизнь и кто, поверьте, спас мою честь, сударь.
— Так вот почему он звал вас Альбиной, а вы его Жаком, вот почему вы называли его «друг мой», вот почему он, не смея отвечать вам тем же, называл вас своей сестрой. И поэтому он проводил все время с вами в этой комнате, поэтому вы не расставались с ним ни на минуту, поэтому вы плакали, когда он уезжал.
— Но, сударь!.. — воскликнула графиня, вставая.
— Не изображайте оскорбленную гордость, не притворяйтесь, что вы возмущены, сударыня, — заговорил Максимилиан, возбуждаясь от собственных слов. — И не советую вам улыбаться с таким презрением и столь снисходительно смотреть на меня. Если кто из нас и имеет право презирать другого, то скорее оскорбленный муж, нежели провинившаяся жена.
— Бедный Максимилиан! — прошептала Альбина.
— А-а, теперь вы жалеете меня! Берегитесь, сударыня! Не доводите меня до крайности вашим оскорбительным спокойствием! Берегитесь, сударыня, берегитесь! В моих жилах течет кровь, а не вода. Этот человек был вашим любовником; говорю вам, что это так. Но я отомщу, можете не сомневаться. Я поклялся отомстить и теперь объявляю вам об этом. Поэтому полагаю, сударыня, что вам уместнее было бы трепетать, а не улыбаться.
— И тем не менее, сударь, я вовсе не трепещу, — невозмутимо возразила Альбина, — можете убедиться.
— Что же вы чувствуете?
— Я жалею вас.
— О, довольно! — взорвался граф. — Остановитесь, сударыня! Лучше смиритесь перед моим гневом! Вы, я вижу, надеетесь обмануть меня. Но не рассчитывайте, что ваш независимый вид, ваша гордая осанка — это ваше хладнокровное бесстыдство — введут меня в заблуждение. Повторяю: мне все известно, и вам не провести меня. Вы отдались этому человеку, и ребенок, которого вы носите под сердцем, не мой — это плод вашей постыдной связи. Вы слышите, что я говорю, сударыня, слышите? И вы смеете после этого так прямо и открыто смотреть мне в глаза? У вас хватает на это смелости? О, презренная! И вы не отведете взгляда, не хотите отвести, низкая женщина? О Боже, снова эта улыбка! А-а!!..
Разъяренный Максимилиан рванулся к жене. Он был ослеплен ненавистью, он обезумел от злобы, кровавая пелена застилала ему глаза. Альбина неподвижно ждала приближения бури. Она смотрела спокойно и уверенно, грустная улыбка застыла на ее губах. Она не отступила ни на шаг, не произнесла ни единого слова, не сделала ни одного движения. Весь дрожа от ярости, граф остановился прямо перед ней. На секунду они замерли друг перед другом. Он призывал ад — она обращалась к небесам. Но Максимилиан не смог вынести молчаливого осуждения, которое читалось в ясном взгляде жены; он схватил Альбину за плечи.
— В последний раз! — прогремел он. — Покоритесь, молите о прощении на коленях!
— Несчастный безумец! — сказала Альбина.
Не успела она произнести эти слова, как раздалось ужасное проклятие и на Альбину обрушился мощный удар. Жестокие и святотатственные руки графа сломили, как тростинку, и грубо бросили на пол не побоявшееся его хрупкое создание. Альбина ударилась головой об угол кресла, в котором сидела незадолго до того. Из раны хлынула кровь. Уже теряя сознание, графиня пробормотала:
— Мое дитя! О Господи, мое дитя! Максимилиан замер над безжизненным телом жены.
Неподвижным, ошеломленным взглядом он смотрел на черное дело своих рук. Потом, выйдя из оцепенения, с воплями бросился вон из комнаты.
— На помощь! На помощь! — кричал он.
На шум прибежала прислуга. Графиню, все еще не приходящую в сознание, перенесли на кровать. Затем послали за капелланом, который, как читатель уже знает по истории о капитане Жаке, в свое время изучал медицину.
— Даже не знаю, как это могло случиться, — бормотал Максимилиан. — Должно быть, она поскользнулась и, падая, задела головой угол кресла.
Но произнося эти слова, Максимилиан вдруг вспомнил о несчастной Гретхен, дочери судьи, которая тоже когда-то поскользнулась. Гретхен пала жертвой его любви, Альбина — жертвой его гнева: так этот человек разрушал вокруг себя все, к чему прикасался. При этой мысли граф страшно побледнел и, чтобы не упасть, прислонился к камину. Но на него смотрели слуги, вот-вот должен был появиться капеллан, и нужно было взять себя в руки.
Рана была такой серьезной, что Альбина все еще не приходила в себя. Однако удар, поразивший ее сердце, был страшнее. Капеллан не знал, как привести графиню в чувство: не помогали ни холодная вода, ни нюхательные соли. Но вскоре природа совершила чудо, недоступное человеческому искусству: у графини начались схватки. Она открыла глаза, но взгляд ее блуждал; она заговорила, но речь ее была бессвязна. Альбина бредила; слова, лихорадочно срывавшиеся с ее губ, были непонятны и бессмысленны для окружающих, но для ее мужа, и только для него, эти слова заключали в себе ужасный смысл.
Капеллан объявил, что если не вызвать из Франкфурта более опытного врача, то он не может отвечать не только за жизнь матери, но и за жизнь ребенка. Один из слуг графа тут же направился в город, ведя под уздцы вторую лошадь, чтобы врач мог приехать незамедлительно.
Альбина бредила все сильнее.
— Я умираю, — бормотала она, и речь ее прерывалась жалобными стонами, ибо хоть рассудок ее и помутился, страдания ее были все так же ужасны. — Я чувствую, как моя душа отлетает… О Всевышний! Не призывай к себе мою душу, пусть часть ее останется на земле, с моим ребенком! С моим ребенком! И с вашим, Максимилиан! Вы слышите, он ваш! О, сейчас, на пороге вечности, я могу поклясться в этом! Максимилиан, где вы? Максимилиан, вы ошиблись! О, как жестоко вы ошиблись! Боже мой, как я страдаю! Если бы вы могли все знать, Максимилиан, если бы могли знать! Но это чужая тайна, он заставил меня поклясться, что я не выдам ее. В один прекрасный день вы узнаете все. Он сам вам все скажет… Он скажет, когда вернется. Я умираю, умираю!.. Но смерть — это еще не конец, не правда ли, господин капеллан? Ведь гроб не что иное, как небесная колыбель человека. Святой отец, добрый отец мой, дайте мне руку… Святой отец, у меня есть к вам просьба, к вам одному; постарайтесь, чтобы Максимилиан не услышал то, что я вам сейчас скажу. Святой отец, послушайте: в изголовье моей кровати вы найдете письмо к Вильгельмине. Богом заклинаю вас, передайте ей это письмо! Скажите ей, святой отец, что я умираю, но вернусь к ней и посмотрю, как она исполняет мою просьбу. Вы ведь знаете, святой отец, что если графиня фон Эпштейн умирает в ночь на Рождество, то она умирает лишь наполовину… О, дитя мое, бедное мое дитя! Да услышит меня Господь, да услышит! Я чувствую тебя, чувствую твое тело лучше, чем свое собственное. Я отдаю тебе свою душу, свою жизнь; возьми, возьми все это, и пусть я умру. О, господин капеллан, господин капеллан! Спасите моего ребенка, а обо мне не беспокойтесь: мне уже не жить…
В это мгновение пробило полночь. Граф вздрогнул. Действительно, как в бреду сказала Альбина, наступило Рождество.
Силы постепенно покидали графиню.
— Прощайте же, прощайте! — воскликнула она. — Я прощаю вас, Максимилиан, но любите вашего сына, любите его. Святой отец, я готова!.. Ах, вот и Рождество!.. О, я умираю!
В последние секунды агонии Альбина приподнялась на кровати, потом снова упала на подушки и скончалась.
Максимилиан бросился к кровати и обнял тело жены. Графиня была мертва, но он почувствовал, что в чреве у нее шевелится ребенок, и в ужасе отпрянул. Тут прибыл врач из Франкфурта. Всех, в том числе и Максимилиана, попросили покинуть комнату: ребенка можно было спасти, только прибегнув к ужасной операции.
Через час из бездыханного тела матери было извлечено живое дитя; так, словно по волшебству, смерть породила жизнь. Ответьте, господа философы, скажите, господа врачи, что такое душа этого ребенка, если не последний вздох матери? И не это ли связывает мать и дитя крепче всего на свете?
Войдя в комнату графа, капеллан застал его в холодном поту. Священник принес письмо к Вильгельмине, найденное в изголовье кровати Альбины.
— Ваша милость, — сказал он, — у вас родился сын. Граф развернул незапечатанное письмо, пробежал его глазами и коротко сказал:
— Хорошо, назовите его Эберхардом.
Итак, два младенца появились на свет в один и тот же день: в замке Эпштейнов родился сын Максимилиана, а в хижине старого Гаспара родилась дочь Вильгельмины.
VI
На следующий день графиню облачили в роскошные одежды, возложили тело на кровать и поставили в парадной зале замка. Там она пролежала три дня. Потом гроб с ее телом перенесли в фамильный склеп Эпштейнов.
На следующее утро после похорон Альбины граф уехал в Вену, где остался на месяц.
За это время в замке были уничтожены все следы смерти, так что, когда граф вернулся, можно было подумать, что Альбина вообще никогда не существовала. Единственное, что от нее осталось, — бедный сиротка, о ком материнскую заботу взяла на себя Вильгельмина. Слуги безошибочным чутьем поняли, как угодить хозяину: нужно было делать так, чтобы все напоминавшее о графине не попадалось ему на глаза.
Но, несмотря на все эти предосторожности, Максимилиан не чувствовал себя спокойно, вновь очутившись один в старом замке (его возлюбленный сын Альбрехт находился в это время в одном из венских пансионов).
Тревога и волнение овладевали им всякий раз, когда, входя в фамильную комнату, называвшуюся красной, он оказывался или перед креслом, о которое ударилась головой графиня, или у той кровати, на которой она умерла. Тогда все воспоминания, связанные с Альбиной, вновь воскресали в душе графа и его охватывал невольный трепет.
Даже в те минуты, когда муки совести утихали, он не переставал чувствовать невыразимый, леденящий кровь ужас, словно исходивший от самих мрачных стен красной комнаты.
Однажды, ближе к ночи, граф сидел у себя в комнате. В тот вечер ему было особенно не по себе от буйных завываний ветра за окном. В большом камине ярко пылал огонь, с треском пожирая дубовые дрова. И все же вечный холод царил в этой огромной, пустынной комнате. На столе горел четырехсвечный канделябр, но ведь самое яркое пламя не могло осветить эти темные стены и высокий потолок. Все было так, как в ту ужасную рождественскую ночь, только кресло, где сидела Альбина, теперь пустовало.
Время от времени буря усиливалась; ураганный ветер с печальными стонами разбивался о стены, и казалось, что его нескончаемые жалобы умирают лишь для того, чтобы вновь родиться, затихают лишь для того, чтобы начаться снова.
Граф был смелым человеком. Если бы ему сказали, что порывы ветра могут заставить мужчину трепетать, он рассмеялся бы и назвал бы этого мужчину трусом. И все же сейчас он ничего не мог с собой поделать: ему было страшно.
В задумчивости он мерил шагами комнату, уронив голову на грудь и обхватив рукой подбородок. Так он ходил взад и вперед, стараясь не покидать светового круга, отбрасываемого пламенем свечей.
Но время от времени глаза его тревожно вглядывались в темные углы комнаты и в тяжелые складки колеблемых ветром штор.
«Проклятое воображение, — содрогался граф, — это из-за него в долгих завываниях ветра мне слышатся отчаянные стоны тех, кто ушел из этого мира, непрерывно нарастающий плач душ, что реет порою над безучастной природой. Бессильные рыдания сотрясают леса и разбиваются о горы; это страшные призывы тех, кто лежит в могиле, к тем, кто еще ходит по земле!»
Объятый дрожью ужаса, граф остановился и облокотился на каминную доску. С ним происходило то, что всегда бывает с человеком в подобных обстоятельствах: попав под власть одной мысли, он уже не мог от нее избавиться.
«Среди этих стонущих мертвецов, — продолжал он про себя, — есть, быть может, и души моих родных; это они так тоскливо плачут в коридорах замка. Увы! Их много: неумолимая коса смерти собрала богатую жатву в этих стенах. О, горе мне! Не говоря о предках — тех, которых я не знал, моя матушка тоже лежит здесь! Святая женщина, как много страданий я причинил ей! Чем ласковее и добрее она была, тем непокорнее и своевольнее был я. Сколько ночей она провела на коленях, то увещевая меня, то пытаясь смирить гнев отца. И он, мой отец, тоже лежит в сырой земле, и если он сошел в могилу раньше срока, то, может быть, — о Господи Всевышний! — я был тому виной. Граф Рудольф был человеком благородным, но суровым и непреклонным. Все же напрасно он принимал так близко к сердцу бурные проказы моей молодости. И моего брата, наверное, тоже уже нет в живых, ведь со дня его отъезда от него не было никаких вестей. Бедный Конрад! Ах, что бы ни говорили мои родители, я любил его, мне нравилась его нежная и поэтичная душа. Отец проклял его за то, что он женился на простой девушке, а Конрад, видно, не смог перенести отцовского гнева. Всех ли я перечислил? О нет, скорбный список еще не окончен. Была еще Берта, моя первая жена. Имя — вот все, что осталось от нее. Даже живая, она была подобна тени и прошла незаметно, оставив дому Эпштейнов — благодарение Богу! — старшего сына и наследника. И наконец, есть еще одна…»
Граф Максимилиан прервал себя. Ему не хватало воздуху; хоть он и опирался на камин, ноги его подкашивались. Без сил он рухнул в кресло, но его губы продолжали шевелиться, а мысль — лихорадочно работать.
— Да, есть еще одна, — произнес он, с трудом переводя дыхание, — Альбина. Альбина, которая обманула меня… О! Она, должно быть, стонет громче других, ибо умерла не своей смертью, не так, как Берта. Альбину погубила моя ревность, я убил ее — не шпагой, а моим гневом. Ну так что ж! Пусть я убил ее — а точнее, наказал, — я не раскаиваюсь в этом. Нет! Если бы все можно было вернуть назад, я поступил бы точно так же.
В эту секунду ветер завыл с небывалой тоской. Граф встал, бледный и застывший.
— Как здесь холодно! — громко сказал он.
И ударом ноги подбросил в камин толстое дубовое полено.
— Как здесь темно! — продолжал он.
И зажег второй канделябр, стоявший на камине.
Но тщетно: холод был у него в душе, мрак был в его совести.
Граф попытался отогнать темные мысли, но они теснились в его голове, словно совы, бьющиеся о стену склепа. Тогда он призвал на помощь самое сильное средство — свою гордыню.
«Опомнись, Максимилиан, — сказал он себе, проводя рукой по лбу. — Опомнись, ты же мужчина. К черту все эти фантазии! Надо написать письмо Кауницу; это отвлечет меня».
Граф сел за письменный стол, взял перо и написал дату:
«24 января 1794 года».
Перо выскользнуло у него из рук.
— Сегодня ровно месяц, как она умерла, — прошептал он.
Максимилиан встал, резко оттолкнув кресло.
Неимоверная тоска сжала его сердце. Тогда он стал ходить по комнате, пытаясь выйти из оцепенения и снова собраться с мыслями. Но словно какой-то внутренний голос мрачно твердил ему, что вот-вот должно произойти что-то страшное, необъяснимое, неожиданное, чего нельзя победить в борьбе, от чего нельзя спастись бегством. Вдруг он услышал в зловещей тишине, нарушаемой лишь тоскливыми стонами ветра, бешеные удары собственного сердца. Это ужаснуло его.
Есть минуты, когда даже самых сильных людей охватывает чувство непреодолимого страха. И сейчас было такое же: каждый звук, нарушавший ночную тишину, пронзал этого храброго человека словно электрический удар: скрип часов, готовых пробить двенадцать, последний их удар, возвестивший о наступлении 25 января, шорох искр, упавших из камина на паркет. Далекий вой одной из его собак на псарне наполнил бесстрашную душу графа непреодолимым ужасом. Вскоре он стал бояться звука собственных шагов и замер неподвижно, прижавшись к стене. Но потом и сама эта неподвижность показалась ему зловещей; он нервно потер руки, покачал головой.
Максимилиан ждал появления чего-то грозного и чувствовал, что оно уже близко. Невидимые кошмары наполняли мрачную комнату. В тишине и мраке оживал мир, неподвластный человеческим чувствам, недоступный слуху, зрению и осязанию. В воображении графа воскресли ужасы поэмы Алигьери, живописи Микеланджело, музыки Вебера; все это носилось вокруг головы Максимилиана, наполняло собой атмосферу комнаты. Перед этими жуткими видениями рассудок графа был бессилен.
Постепенно в сознании Максимилиана смутно забрезжило страшное воспоминание. Он вспомнил мрачную легенду о графине Леоноре, умершей в рождественскую ночь; вспомнил, что накануне Рождества наступила смерть Альбины; вспомнил, что, согласно пророчеству, та графиня фон Эпштейн, которая умрет в рождественскую ночь, умрет лишь наполовину.
И тогда из темных глубин его души донесся голос Альбины:
— А если ты был не прав, Максимилиан, если я была невинной жертвой, а ты — не судьей, а убийцей?
Двадцать раз, медленно и торжественно, голос повторил эти слова, и они, словно капли расплавленного свинца, как говорил Данте, тяжко упали в душу Максимилиана.
Граф собрал все свои силы, чтобы противостоять страшному проклятию.
— Что за безумный бред! — произнес он громко, пытаясь заглушить чуть слышно звучащий в глубине его сердца голос.
Но тут внезапно, словно в ответ на слова покойной, тишину прорезал крик ребенка. На этот раз ошибиться было невозможно: крик был настоящий. Несмолкаемый детский плач доносился из верхней комнаты.
«Ну вот, — подумал граф, — сначала мать, потом сын. Это Эберхард, ее сын, но для меня это чужой ребенок, враг, которого я должен терпеть в своем доме до тех пор, пока он не вырастет, которого я вынужден видеть рядом со своим сыном: иначе позор его матери падет на меня». — Да когда же он замолчит?! — злобно воскликнул граф. — Где же Вильгельмина? Неужели она оставила его одного? Вот как она выполняет последнюю просьбу своей подруги! — добавил он с кривой усмешкой.
Голос ребенка внушал Максимилиану гораздо меньше страха, нежели голос матери. Он с раздражением ждал, когда младенец замолчит, но тот продолжал плакать. Граф взял шпагу, поднялся по лестнице, ведущей в библиотеку, и постучал в потолок, чтобы разбудить кормилицу, если она заснула.
Плач не умолкал.
Вскоре гнев Максимилиана утих; но им снова овладела тоска. Сердце у него заныло — эти непрекращающиеся крики сводили его с ума. Казалось, будто кто-то, взывая к Богу, оплакивал смерть матери и несчастную долю младенца.
Граф хотел скрыться от этих криков — но скрыться было некуда.
Он хотел позвать слуг — но язык не повиновался ему.
Он взял было колокольчик, но тут же положил его обратно на стол. Да и кто мог прийти на его зов? В замке все спали, за исключением сироты и убийцы.
Поскольку Максимилиан не подбрасывал дров в камин, огонь вскоре потух и комната погрузилась во тьму. Только дрожащее пламя свечей боролось с наступающим мраком. За окном по-прежнему выл ветер, наверху не смолкал плач ребенка. Графу стало холодно и жутко. Словно в забытьи, он коснулся лба и быстро отдернул руку: ледяные пальцы обожглись об его пылавшее лицо.
Новый приступ страха вывел графа из задумчивости. И тогда раздался смех Максимилиана, но это был невеселый, какой-то дьявольский смех.
— О, проклятье! Я, кажется, схожу с ума. Надо же пойти посмотреть, почему он плачет; нет ничего проще.
Граф решительным шагом подошел к стене и нащупал пальцем спрятанную в обшивке пружину: перед ним открылась маленькая потайная дверца.
Она вела на узкую каменную лестницу — о ее существовании знали только члены семьи Эпштейн, передавая эту тайну из поколения в поколение. Лестница имела два выхода: в верхний этаж, где плакал ребенок, и в склеп замка, где покоились предки Максимилиана. Словно шпионская сеть, от которой никто не может ускользнуть, лестница оплетала замок.
Дверь распахнулась, и в лицо Максимилиану ударил ледяной ветер, идущий словно из-под земли. Все четыре свечи канделябра, что он держал в руках, погасли. Смертельная бледность покрыла лицо графа, волосы встали дыбом, и он окаменел на пороге.
В глубине лестницы, о существовании которой никто кроме него не знал и на которую никто не мог проникнуть, он отчетливо услышал шуршание женского платья. Прямо перед ним в темноте неслышно скользнула какая-то белая тень.
Ребенок кричал… От всего пережитого ужаса у графа подкосились ноги, и, чтобы не упасть, он прислонился к стене.
Максимилиан и сам не мог бы сказать, сколько времени он провел в беспамятстве: есть мгновения, которые кажутся годами. Через минуту, а может быть, через час, он очнулся, обливаясь холодным потом, и прислушался.
Крики смолкли. Ветер тоже утих.
Нечеловеческим усилием воли граф преодолел страх. Он подобрал упавший канделябр, зажег свечи, обнажил свою шпагу и стал подниматься по лестнице вверх, туда, где раньше плакал ребенок.
Когда граф открыл потайную дверь, ведущую в верхний этаж, канделябр, который он держал в левой руке, снова погас, но на этот раз причиной тому был не поток воздуха, не порыв ветра, а нечто необъяснимое. Тем временем из-за облаков показалась луна, и бледный луч проник в комнату через высокое окно, озарив своим мертвенным светом жуткую картину.
Вильгельмины действительно не было в комнате. Но граф увидел мертвую Альбину! Она стояла возле колыбельки своего сына и тихо покачивала ее; слышалось сонное бормотание засыпающего младенца. Это действительно была Альбина — Максимилиан узнал ее!
На ней было то же самое белое платье, в котором ее положили в гроб. Шею графини обвивала цепочка из золотых колец, доставшаяся ей в наследство от матери.
Альбина была столь же красива, как и при жизни, а может быть, еще лучше. Да, смерть сделала ее прекраснее. Роскошные черные волосы падали на ее белые почти прозрачные плечи. Вокруг чела вилась светлая дымка, тихое сияние исходило из ее глаз, лучезарна была ее улыбка.
Когда Максимилиан появился на пороге, графиня обратила на него гордый и спокойный взгляд и, продолжая качать колыбельку, поднесла палец к губам, будто призывая его к молчанию.
Граф невольно хотел перекреститься той рукой, в которой держал шпагу, но рука его застыла в воздухе как парализованная…
Губы мертвой зашевелились!
— Крестным знамением защищаются от дьявола, а не от праведников, — произнесла она грустно, и ее голос прозвучал словно небесная музыка. — Неужели вы думаете, Максимилиан, что Бог позволил бы мне прийти к моему ребенку, не будь я его избранницей?
— Избранницей? — прошептал Максимилиан.
— Да, ибо Бог справедлив и знает, что я всегда была верной и непорочной супругой. Я сказала вам об этом, когда умирала, но вы не поверили мне. Сейчас, когда Господь принял меня в свое лоно, я повторяю: я была верна вам, а мертвые не лгут. Теперь вы верите мне, Максимилиан?
— Да, но этот ребенок?.. — пробормотал граф, указывая острием шпаги на младенца.
— Это ваш ребенок, Максимилиан, — ответила графиня. — Когда я была жива, обстоятельства были против меня, но теперь, когда я умерла, само появление здесь, по-моему, меня оправдывает. Повторяю вам, граф: это наш ребенок и наш законный сын.
— Так это правда? Это правда? — растерянно повторял Максимилиан; казалось, он утратил способность рассуждать, и говорить его заставляет какая-то неодолимая сила.
Помолчав с минуту, он неуверенно спросил:
— А этот человек — капитан Жак? Кто он?
— В один прекрасный день вы узнаете об этом, но, вероятно, будет уже поздно. Как раньше живая, так и теперь мертвая я связана клятвой. Скажу вам лишь одно: этот человек мог быть мне только братом.
— Так значит, я несправедливо подозревал вас? — воскликнул Максимилиан. — Но почему же тогда вы не отомстили мне?
При слове «месть» Альбина улыбнулась.
— Я прощаю вам мою смерть, Максимилиан. Бури человеческих страстей далеки от небесных сфер, где я теперь пребываю. Но смирите ваш буйный нрав, Максимилиан, не обижайте своего сына. И никогда не поднимайте на него руку так, как вы ее однажды подняли на меня. Знайте, что Господь позволил мне навещать моего ребенка даже с того света, и я буду наблюдать и за сыном, и за отцом, чтобы в случае необходимости защитить одного и покарать другого — ведь я умерла в ночь на Рождество.
— Боже Всемогущий! — прошептал Максимилиан.
— Вильгельмина, милая кормилица Эберхарда, — серьезно продолжала графиня, — вынуждена была сегодня остаться у постели раненого мужа. А поскольку мой ребенок плакал, я сама пришла успокоить и убаюкать его… Вильгельмина вернется с минуты на минуту. Мне пора спускаться в склеп, но помните, Максимилиан, как только я услышу крик моего сына, я снова приду. Прощайте же!
— Альбина! Альбина! — воскликнул граф.
— Прощай, Максимилиан, — торжественно произнесла графиня. — Постарайся, чтобы наша встреча не повторилась. Прощай и храни молчание. Не забывай, не забывай о том, что я сказала!
Тень Альбины отделилась от колыбельки, где уже, улыбаясь, спал маленький Эберхард, приблизилась к Максимилиану, посторонившемуся, чтобы дать ей пройти, снова приложила палец к губам и исчезла на потайной лестнице.
Граф был настолько потрясен всем увиденным, что плохо помнил свои дальнейшие действия. Услышав приближающиеся шаги кормилицы, он, словно во сне, вышел на лестницу и закрыл за собой потайную дверцу. Затем, ведомый безотчетным инстинктом, который порой приходит на помощь человеку, утратившему способность трезво рассуждать, граф бесшумно вернулся к себе в комнату. Как бы то ни было, на следующий день он, полностью одетый, проснулся на своей кровати после лихорадочного сна.
«Мне привиделся кошмар», — сказал он себе.
Однако, когда граф расспросил Вильгельмину, та подтвердила, что провела часть прошлой ночи у постели раненого мужа. Она рассказала, что, днем на охоте Йонатас догнал кабана и спустил на него свору собак, но зверь внезапно бросился на охотника и распорол ему ногу. Вернувшись в замок ночью, Вильгельмина обнаружила, что ребенок спокойно спит.
Значит, графу не пригрезилось то, что было ночью: он действительно видел призрака. Но эта мысль казалась ему настолько ужасающей, что он упорно твердил себе: «Я спал, я видел сон».
VII
За последние пять лет, радостных и мрачных (чаще мрачных, чем радостных), события в замке Эпштейнов развивались стремительно, но после появления призрака Альбины жизнь здесь словно замерла. Еще со времени страшной рождественской ночи пребывание в замке стало для Максимилиана невыносимым. Теперь же каждую ночь он в ужасе просыпался и ему все слышались шаги за стеной, на потайной лестнице. Днем его бросало в дрожь всякий раз, когда он случайно наталкивался на Вильгельмину с ребенком. Наконец граф не выдержал: замученный угрызениями совести, он приказал в одно прекрасное утро подать карету и час спустя был уже на пути в Вену, увозя с собой старшего сына.
С этого момента все его надежды и вся его нежность сосредоточились на Альбрехте. Этот ребенок, по крайней мере, был точно его сыном, и Максимилиан любил мечтать о том, что однажды Альбрехт по праву станет главой дома Эпштейнов, унаследует титул отца и сможет воплотить в жизнь его честолюбивые планы. Граф решил дать сыну блестящее образование, какое подобает иметь дворянину, офицеру и дипломату, особенно дипломату. К тому же этот сын, любимый и единственный (младший брат его был не в счет), в отличие от своего отца, ничего не потерял от союза со Швальбахами — союза, безусловно несчастливого с точки зрения семейной жизни, но давшего немалые выгоды: Швальбахи были весьма влиятельны и обладали превосходными родственными связями. В Вене о печальной кончине Альбины было известно только то, что она умерла при родах, и все оплакивали судьбу несчастного графа, который овдовел, не прожив и двух лет с молодой женой.
«Бесчестье еще не беда, если о нем никто не знает», — говорил себе Максимилиан.
Но совесть его была все же неспокойна. И он искал забвения в шумных придворных развлечениях, в честолюбивых мечтах о будущем своем и своего старшего сына.
Об Эберхарде (такое имя капеллан дал сыну Альбины при крещении) — об этом чужом ребенке — граф фон Эпштейн нимало не заботился и вспоминал о нем так же редко, как о своем брате Конраде, о своей первой жене или о Гретхен. В Вене был пущен слух, что у младшего сына слабое здоровье и что мальчику необходим чистый горный воздух. Это был еще один повод пожалеть несчастного отца, вынужденного пребывать в разлуке с одним из сыновей.
К счастью, пока Максимилиан принимал эти соболезнования, делая между тем все возможное, чтобы использовать связи родственников Альбины, Эберхард обрел вторую мать. Каждый день Вильгельмина перечитывала письмо графини и ревностно исполняла священную волю своей благодетельницы. Невзирая на холодное презрение, с которым ее встретил граф, Вильгельмина — великодушным людям свойственно прощать — с удвоенной нежностью и любовью ухаживала за сыном Альбины, уделяя ему едва ли не больше внимания и любви, чем своей собственной дочери. Розамунду она отняла от груди семимесячной, но приемного сына продолжала кормить больше года.
— Ну пойми же, Йонатас, — говорила она мужу, который немного ревновал, видя, что Вильгельмина оказывает предпочтение мальчику, — наша дочь всегда останется нашей, мы ни перед кем за нее не в ответе. Но если мы обидим бедного сироту, у которого нет в мире никого, кроме нас с тобой и Господа Бога — ведь мать его умерла, а отец о нем забыл, — что подумает наша госпожа?.. К тому же малыш такой слабенький, а Розамунда растет сильной и здоровой девочкой.
Итак, Вильгельмина стала для Эберхарда самой нежной и заботливой матерью. За исключением рокового для Максимилиана вечера, когда она должна была оставить малыша, чтобы присмотреть за раненым мужем, Вильгельмина не покидала Эберхарда ни на минуту. Благодаря ее неусыпным заботам, мальчик так быстро окреп, что это было похоже на чудо. Сердце радовалось при виде этих двух созданий, очаровательных, белокурых, резвых.
Шли годы. Эберхард рос непоседливым и немного нелюдимым мальчиком. Вместе со своей молочной сестрой он быстро выучился читать и писать, но, поскольку Розамунду не обучали ни латыни, ни истории, он слышать о них не хотел, несмотря на все усилия капеллана отца Алоизиуса. Гораздо больше ему нравилось резвиться в лесу вместе с Розамундой или бежать рядом с Йонатасом, сопровождая его на охоту. По вечерам Вильгельмина вязала, а он, сидя у ее ног вместе с Розамундой, затаив дыхание слушал сказки про фей и привидения (их рассказывали Йонатас и старый Гаспар) — какое это было счастье!
Умственное развитие Эберхарда шло довольно медленно, но зато сердце у него было поистине золотое. Вильгельмина воспитала мальчика так, как завещала ее госпожа. Да, по правде говоря, Эберхарду достаточно было просто наблюдать за этой святой женщиной, чтобы самому стать добрым и великодушным. Позже, когда малыш начал кое-что понимать, Вильгельмина каждый день, утром и вечером, стала водить его молиться на могилу матери, в семейный склеп Эпштейнов. После молитвы она всякий раз повторяла ему, что его мать была ангелом, который оставил его на земле, но наблюдает за ним с неба.
— Помните, Эберхард, — говорила она ему, — что ваша матушка видит вас каждую минуту, повсюду следует за вами, наблюдает за каждым вашим движением. Она радуется вашим добрым делам и расстраивается, если вы поступаете дурно. Тело ее покоится в могиле, но ее душа — вместе с вами, где бы вы ни были.
Чтобы не огорчать свою матушку, ребенок старался быть добрым и послушным. Когда он допускал какую-нибудь невинную шалость, он краснел и оглядывался, словно чувствуя на себе грустный взгляд невидимого свидетеля. Мысль о матери превратилась для него в своего рода религию. Детское воображение рисовало ему в ночной тишине светлый призрак, который стоял возле его кроватки и с любовью смотрел на него, и это видение вовсе не внушало мальчику страха. А может быть, — кто знает? — это было не только плодом его воображения? Ребенок протягивал к призраку руки, но тот говорил ему:
— Спи, мой мальчик, спи, Эберхард, маленьким детям пора спать.
Тогда малыш сладко засыпал, и в такие ночи ему снились чудесные сны. Наутро он рассказывал об увиденном Вильгельмине. Достойная женщина, не видя в этом ничего тревожного, никогда не разуверяла его. Да и о чем было тревожиться? Если мальчик верил в существование своего ангела-хранителя, что же в этом было плохого? Ведь Вильгельмина и сама верила в него.
«Госпожа обещала, что не оставит ни младенца, ни кормилицу», — думала она.
Нередко Вильгельмина мысленно разговаривала со своей бывшей хозяйкой, прося у нее помощи или совета. Эберхард тоже привык обращаться к матери так, как верующие обращаются к Богу. В сердце Вильгельмины и Эберхарда Альбина продолжала жить.
Но мы еще ничего не сказали о маленькой Розамунде. Между тем она подрастала и превратилась в настоящего доброго и ласкового ангелочка. Это было очаровательное, нежное, милое существо. Эберхард обожал ее и во всем ей уступал. У Вильгельмины слезы наворачивались на глаза, когда она видела детей вдвоем в часовне: они стояли на коленях впереди нее; она молилась за них, а они молились за нее.
Семь лет граф Максимилиан не появлялся в замке — его закружила столичная жизнь. И вот спустя годы наконец он вернулся на две недели, но не для того, чтобы повидать сына. Граф приехал собрать плату с арендаторов и возобновить договоры с ними. О существовании Эберхарда он едва вспоминал; все его мысли были сосредоточены на Альбрехте, который, к слову сказать, во всем походил на отца и за эти дни успел сыграть немало злых шуток с Эберхардом и с другими обитателями замка.
Капеллан счел своим долгом сообщить Максимилиану о том, что его младший сын не слишком прилежен в науках.
— Ах, Боже мой, да оставьте его в покое, — сказал граф, к великому недоумению отца Алоизиуса, — предоставьте его самому себе, пусть делает что хочет. Меня совершенно не интересует, что из него получится. Да и зачем образование человеку, у которого нет будущего?
Пробыв в замке неделю, граф Максимилиан с Альбрехтом отбыл в Вену.
Еще два года прошли спокойно и счастливо. Жилище смотрителя охоты наполнял звонкий и чистый детский смех. Эберхарду и Розамунде исполнилось десять лет. Внезапная смерть отца Алоизиуса возвестила, что беда вновь вернулась в замок Эпштейнов. Почтенный старец тихо угас, перелистывая какой-то ин-фолио; думали, что он заснул над книгой, но он больше не проснулся. Это была первая потеря в жизни Эберхарда. Мальчик горько оплакал смерть любимого и столь снисходительного к нему учителя.
Увы, это была еще небольшая беда по сравнению с теми испытаниями, что ожидали бедного ребенка впереди! Отец Алоизиус прожил долгую и добродетельную жизнь, пережив многих своих ровесников: и граф Рудольф, и графиня Гертруда уже десять лет как покоились в сырой земле; капеллан был последним из этого старшего поколения. Смерть старика ни для кого не была неожиданностью; но Вильгельмина, наша добрая и заботливая хозяйка, была еще совсем молода! Она была душой всей семьи, она была так нужна детям!
Однако Бог призвал ее к себе почти сразу же после старого капеллана, хотя ему было восемьдесят лет, а ей только двадцать девять. В семье Вильгельмины все умирали рано — и ее мать, и, вероятно, сестра Ноэми. Теперь за ними последовала Вильгельмина, воссоединившись в лучшем мире со своей госпожой, которой она осталась верна до самой смерти.
Впрочем, Вильгельмина была нездорова уже давно. Несмотря на ее свежий вид, отец Алоизиус обнаружил у нее признаки той болезни, которой подвержены люди с хрупким телом и печальной душой. С каждым днем лицо Вильгельмины все больше и больше покрывалось болезненной бледностью, а красные пятна, выступавшие на ее щеках при малейшем волнении, становились все ярче. Осенью она заметно слабела. Вильгельмина словно жила и умирала вместе с цветами, и, когда умирали лилии, подарившие ей свою белизну и застенчивость, и розы, подарившие ей бледный румянец и благоухание, — она увядала вместе с ними. Весной наступало кажущееся улучшение; Вильгельмина оживала вместе с природой, но от весеннего кипения жизни ее лихорадило еще сильнее. Дети не понимали, что означает румянец на ее щеках, и, ласкаясь к ней говорили:
— Какая ты красивая, мамочка!
Слушая эти слова, Вильгельмина грустно улыбалась. Она знала о своей болезни и не обманывала себя. Прижав своих дорогих детей к сердцу, она тихо плакала.
— Почему ты плачешь? — удивленно спрашивали дети.
— Это от счастья, — отвечала Вильгельмина.
В начале 1802 года Вильгельмина почувствовала сильную слабость и поняла, что ее конец уже недалек. Тогда она решила беречь силы, и ради этого ей пришлось отказаться от долгих прогулок по лесу, которые так радовали детей. Она почти не выходила из своей комнаты, но никто и никогда не слышал от нее жалоб: она боялась выдать свою болезнь, чтобы не опечалить семейство. Вильгельмина повесила у себя в комнате белые шторы, повсюду расставила цветы и освященные на Пасху веточки вербы, так что ее жилище стало похоже на те алтари, которые возводят в деревнях на праздник Тела Господня, чтобы Бог мог остановиться на минутку в этом временном пристанище, наполненном запахами ладана и цветов.
Из всей семьи только старый Гаспар, сам уже стоявший на краю могилы, чувствовал, что в дом прокралась смерть. Чудесными летними вечерами старик сидел на пороге своего домика, ожидая возвращения Йонатаса и глядя, как дети играют в лучах заходящего солнца: бегают по лужайке, собирают спрятавшиеся в лесной траве маргаритки, гоняются за насекомыми, жужжащими в вечернем воздухе. Иногда на пороге неожиданно появлялась Вильгельмина. Словно бледный призрак, она бесшумно садилась рядом с отцом и склоняла голову на его дрожащие колени. Не отрывая взгляда от неба, старик гладил дочь по волосам, и Вильгельмина чувствовала, что руки его трясутся. Тогда она еле слышно говорила, будто отвечая на свои мысли:
— Что ж, батюшка, должно быть, это к лучшему, раз так угодно Богу.
Но старик ничего не отвечал, потому что никакой отец не поверит, что Бог может желать смерти его ребенка.
А дети между тем ничего не замечали. Они пели, играли и были счастливы. Наконец Йонатас тоже заметил недомогание Вильгельмины — и страшное подозрение закралось в его душу. Он сказал об этом тестю, и старик признался ему в том, что для него давно уже не было тайной. На следующий день Йонатас будто бы уехал осматривать лесные угодья, а в полдень вернулся в сопровождении врача, привезенного им из Франкфурта. Увидев врача, Вильгельмина поняла, что муж обо всем знает, и ей стало грустно.
Будь Вильгельмина богата, врач скрыл бы от нее страшную правду, обнадежил бы ее родных, чтобы иметь возможность еще раз навестить больную. Но бедняки обладают тем преимуществом, что могут сразу узнать такую истину: врач сказал все.
Сначала Йонатас не поверил, ведь он думал, что речь идет о легком недомогании, не более того. Мысль о том, что его дорогая Вильгельмина может умереть такой молодой, не укладывалась у него в голове. Тогда он сам внимательно осмотрел жену и увидел наконец ужасные следы разрушений, которые оставила болезнь. Тогда, как все сильные люди, привыкшие переносить физические лишения, но не умеющие преодолевать душевных потрясений, Йонатас пришел в отчаяние. Весь день и весь вечер он, не говоря ни слова, смотрел на Вильгельмину, а ночь просидел не сомкнув глаз у дверей ее комнаты. С наступлением утра он, как обычно, взял свое ружье и вышел из дома, но не смог пройти и четырех шагов. Он вернулся, снова повесил ружье на стену. Когда Вильгельмина встала (а она с каждым днем вставала все позднее), она увидела, что муж сидит на скамеечке перед камином, обхватив голову руками. Несчастная женщина подошла к нему.
— Что поделать, Йонатас, — сказала она, — надо быть мужественным. Йонатас хотел что-то ответить, но почувствовал, что к его горлу подкатил комок, и бросился из дома. С этого момента жизнь бедного смотрителя охоты полностью переменилась.
По утрам он все еще выходил из дому с ружьем, но не решался отходить далеко, чтобы не терять хижину из вида. Йонатас прятался, но Вильгельмина часто видела, как он проходит по лесной полянке возле дома, и дети порой возвращались грустные и, держась за руки, спрашивали у Вильгельмины:
— Скажи, мамочка, что случилось с Йонатасом? Мы видели, как он лежал под деревом и плакал.
Пришло время, когда Вильгельмина не смогла больше вставать с постели. Вечером, когда садилось солнце, в ее комнате открывали окна, и умирающая провожала грустной улыбкой последние его лучи. Тогда в комнате собиралась вся семья. Дети приносили огромные букеты цветов и клали их на кровать матери. Йонатас приходил с Библией в руках. Он передавал ее старому Гаспару, и тот читал вслух какую-нибудь священную и возвышенную историю. Вильгельмина молилась, Йонатас плакал, дети, прижавшись друг к другу, молча сидели в кресле у постели больной.
Однажды утром Вильгельмина почувствовала себя хуже, чем всегда, и сама попросила Йонатаса остаться дома. Гаспар и Йонатас просидели возле ее кровати весь день. Дети вели себя как обычно: они входили и выходили, уносили увядшие цветы и приносили свежие. Чем явственнее Вильгельмина чувствовала приближение смерти, тем милее ей были цветы: в последние дни запах цветов, казалось, поддерживал в ней жизнь.
Вечером, по обыкновению, Гаспар стал читать Библию. Вдруг Вильгельмина слегка вздохнула и потеряла сознание. Вскрикнув, Йонатас бросился к жене: он подумал, что она умерла.
От его крика Вильгельмина очнулась и открыла глаза.
— Бедный мой Йонатас, — сказала она, протягивая к нему холодную и влажную руку, — бедный друг мой, поверь, у меня тоже разрывается сердце при мысли о том, что я должна покинуть тебя, ведь ты так любил меня, и я еще нужна тебе. Но так угодно Господу. Будь мужчиной, крепись. К счастью, я успела исполнить свой главный долг: дети почти выросли, и выросли крепкими и здоровыми. Я все не решалась расстаться с Розамундой, и напрасно. Друг мой, когда меня не станет, прошу тебя, отвези ее в Вену, в монастырь Священной Липы. Ты передашь письмо моей доброй госпожи настоятельнице, и она воспитает нашу дочку по Божьим заветам. Сделай же, как я прошу, слышишь? Будь внимателен к Эберхарду, теперь тебе придется заботиться о нем вместо меня, а уж его матушка будет, как и прежде, присматривать за ним. Эберхард! Послушайте тоже… Вы уже большой мальчик и можете ходить на могилу вашей матушки без меня. Пока вы живете здесь, молитесь на ее могиле утром и вечером, не пропуская ни одного дня. Уважайте вашего отца, но прежде всего любите матушку. Я поручаю вам также сестру вашу Розамунду. А ты, Розамунда, дочь моя, будь благочестива и милосердна, будь достойна святого дома, в который ты входишь, и во всем бери пример с нашей благородной покровительницы, о добродетелях которой я тебе часто рассказывала.
Дети заплакали, потому что не понимали, что происходит, и еще потому, что плакали взрослые.
А затем Вильгельмина обратилась к Гаспару. Ростом он был на целую голову выше Йонатаса; как старый дуб, стоял он неподвижно за его спиной, мужественно взирая на гибель своей последней дочери.
— Что же я могу сказать вам, батюшка? Разве я в силах уменьшить ваше горе — горе отца, потерявшего всех своих детей?
— Скажи мне до свидания, дочь моя, — торжественно ответил старик, — ибо и я вскоре последую за тобой. Если моим старым рукам суждено сшить твой саван, то все же наша разлука будет недолгой, а твоя христианская кончина будет служить мне утешением. Мы встретимся с тобой, Вильгельмина, в небесной обители Господа нашего. Я ушел бы в нее спокойно, если бы был уверен, что и твоя сестра Ноэми почила по-христиански.
— Можете в этом не сомневаться, батюшка. Что моя смерть по сравнению с теми страданиями, которые приняла Ноэми? Но не говорите мне, что вы умрете, батюшка. Живите, подавайте Йонатасу пример смирения, берегите детей: им вы можете пригодиться в этой жизни, а мы с Ноэми можем ждать целую вечность.
Тут Вильгельмина почувствовала, что силы покидают ее, но решила избавить мужа от мук последнего прощания.
— Мне лучше, — сказала она. — Оставьте меня одну, я немного посплю. Йонатас хотел увести детей, но Вильгельмина остановила его.
— Оставь их, пусть спят в кресле.
Несчастная Вильгельмина! Она не хотела сейчас оставаться одна.
Йонатас ушел, ничего не подозревая, но Гаспар обо всем догадался. Он склонился над кроватью дочери, поцеловал ее в лоб и сказал, сжимая ее руку в своей:
— Прощай! Увидимся на небесах!
Вильгельмина вздрогнула. Потом тихо, чтобы муж не услышал, проговорила:
— Прощайте!
Гаспар вышел вслед за Йонатасом, который тут же заснул, обессилев от всего пережитого. Старик погрузился в молитву.
Через час Гаспар спустился в комнату Вильгельмины и тихо приоткрыл дверь: казалось, что больная спит. Она была похожа на восковую мадонну, покоящуюся на ложе из роз. Ее рука сжимала руки детей — Розамунды и Эберхарда, а они проснулись и смотрели на нее, широко раскрыв глаза.
— Ах, дедушка! — воскликнули они, заметив Гаспара. — Нам страшно! Матушка ничего не отвечает нам, и ее рука такая холодная, что наши руки мерзнут.
Гаспар подошел к постели дочери: Вильгельмина была мертва.
На следующий день, вернувшись с похорон жены, добряк Йонатас, не обладавший такой силой духа, как старый Гаспар, упал на колени возле стула, где обычно сидела Вильгельмина, и зарыдал. Но вдруг он почувствовал, что его обнимают маленькие руки, и нежные губки целуют его мокрые от слез щеки. Он посмотрел на детей, и от сердца у него немного отлегло.
В том же году у графа Максимилиана фон Эпштейна тоже по-своему отлегло от сердца: он получил чин тайного советника.
VIII
Разлука с Розамундой стала новым тяжелым испытанием в жизни Эберхарда. Только что он познал смерть; теперь ему предстояло одиночество.
Невзирая на мольбы и слезы Эберхарда, Йонатас, исполняя последнюю волю жены, отвез девочку в Вену. Как и предполагала несчастная Альбина, ее письмо отворило Розамунде двери монастыря Священной Липы; аббатиса приняла девочку так, как если бы та была родной дочерью графини фон Эпштейн.
Некоторое время Эберхард мечтал о поездке в Вену, но Йонатас дал ему понять, что не может взять его с собой без разрешения графа.
Поэтому Эберхард остался, грустный и одинокий, вдвоем со старым Гаспаром.
Возвращение Йонатаса не внесло много радости в его жизнь. Теперь Эберхард беспрестанно расспрашивал его о том, где находится монастырь и как выглядит комната Розамунды. Домик, некогда шумный и веселый, превратился отныне в тихое и мрачное жилище. Три его обитателя — старик, зрелый мужчина и ребенок — вели угрюмую и замкнутую жизнь.
Гаспар теперь уже не выходил дальше прилегавшего к домику сада. Почти все дни напролет, если погода была хорошая, он сидел на скамейке у порога, а в ненастье — на стуле у камина. Закрыв глаза, он погружался в воспоминания, и воображение рисовало ему улыбающиеся лица дочерей — Ноэми и Вильгельмины.
Йонатас в любую погоду вскидывал на плечо свое ружье, свистом подзывал собак и углублялся в лесную чащу. Чаще всего никакой добычи он не приносил, поскольку целыми днями бесцельно бродил по самым заброшенным лесным уголкам или лежал под деревом, стараясь убить время. Души этих троих замерли, словно сломанные часы, стрелка которых застыла на слове «горе». С тех пор как беда вошла в домик лесника, всякая жизнь в нем прекратилась: трое дышали — вот и все.
Эберхарда спасала молодость, которая отчаянно противилась несчастью и смерти. Но мальчик жил в глуши, вдали от людей, без семьи, без задушевного друга. Он видел только лес да замок Эпштейнов, не знал никаких других людей, кроме Йонатаса и Гаспара, не ведал никаких чувств, кроме сыновней любви к Вильгельмине и братской любви к Розамунде. Поэтому он замкнулся в самом себе, не имея возможности доверить кому-либо свои заветные мечты и чувства. Его ум повиновался инстинкту; характером он был прям и великодушен, но в нем чувствовалась некоторая странность, угловатость и нелюдимость. В одиночестве его детские впечатления постепенно переросли в убеждения взрослого человека. Его пристрастия и верования были неизменны; его наивные и ложные представления отпали бы сами собой, будь у него возможность найти в книгах повод для сравнения, а в жизни — советчика и наставника.
Воображение заменяло ему здравый смысл. Помня рассказы Вильгельмины, наполнявшие его сердце и страхом и любовью, он всегда и повсюду видел свою покойную мать. Она была его другом, его спутником в жизни, его счастьем. Она настолько занимала все его мысли, что само существование мальчика стало призрачным.
Свидетелем, наперсником и соучастником этих постоянных и священных видений был лес Эпштейнов. Мы уже пытались описать его: это был своего рода древний lucus 1 — огромный, мрачный, густой, безлюдный, темный и торжественный лес, невеселая душа которого изливалась в жалобном вое ветра. Подобно живому существу, этот лес соединял в себе бесконечное разнообразие явлений. Тут были овраги, на дно которых никогда не проникали солнечные лучи; тут журчали, словно переговариваясь с птицами, ручьи; тут можно было встретить живописные руины, созданные природой (огромные обломки гранитных скал, днем серые, а ночью белые от лунного света), или разрушенные творения человеческих рук (осевшие стены, пробитые донжоны, оголенные подземелья). Над равниной возвышались башни, подобные воинам на дозоре, высматривающим, не появятся ли снова на дороге племена варваров. Это скопление обломков прошлого, которые сами были тенями ушедших времен, как нельзя лучше подходило для появления призраков.
Эберхард вскоре познал все разнообразие зеленого лесного мира: полянки, чащи, заросли кустарника; для него здесь не осталось ни одного секрета. Он знал лес снизу доверху: забирался на все деревья, спускался в самые глубокие овраги, бегал по краю пропастей, спускался по бурным речным порогам, перепрыгивал с дуба на тополь. Он играл с лесом, как ребенок играет с кормилицей, и лес любил его и почтительно ему улыбался.
Все здесь было знакомо Эберхарду и встречало его дружелюбно, но и он относился к лесу бережно и заботливо: не ломал ветки деревьев, не топтал цветов и не убивал, как Йонатас, ни ланей, ни оленей. Он жалел даже сов и ужей. Ничего не зная о святом Франциске Сальском, он мог бы сказать вместе с ним: «Козлята, братья мои! Ласточки, милые мои сестры!» Поэтому лани, приходившие на водопой к ручью, у которого он сидел, не пугались его и птицы не улетали с дерева, под которым он отдыхал: напротив, они радостно били крыльями и приветствовали его веселой песней. Все хозяева леса радушно встречали его, угадывая в нем такое же невинное и безобидное создание, как они сами.
Но старый лес был для Эберхарда не просто убежищем, кровом, приютом; он значил для него гораздо больше: лес был местом его встреч с матерью. В склепе, где он навещал ее, она была мертва, но в лесу она представала перед ним живой.
Если Эберхард хотел увидеться с матерью, ему достаточно было выйти на тихую тропинку и закрыть глаза, но порой он мог увидеть ее небесную душу и воочию, глазами смертного. Она выручала сына из беды, когда он, зацепившись за корень дерева, повисал над пропастью, когда он шел по краю обрыва, когда его нога скользила по сыпучим камням — всегда мать приходила сыну на помощь. Она часто беседовала с ним, всегда давала ему советы. Она говорила с ним голосом леса, звучавшим то нежно и ласково, то торжественно и серьезно, а порой пугающе грозно.
Однажды чудесным майским утром Эберхард лежал на лесной траве. На горизонте вставало солнце, превращая каждую каплю росы в алмаз, каждое дерево в пернатый оркестр, каждый цветок в благовонную курильницу. Все вокруг пело, источало аромат, сверкало. Легкий ветерок нежно ласкал лицо Эберхарда, словно его касались губы возлюбленной. Залитый светом, опьяненный великолепием природы, он чувствовал себя словно на руках у матери, посылал ей тысячи поцелуев. И вдруг он услышал голос, словно шепчущий ему на ухо: «Мальчик мой, милый мой Эберхард! Как ты прекрасен, как чиста твоя душа! Я люблю тебя, сынок! Посмотри на меня, улыбнись мне!». Этот голос нашептывал ему множество тех ласковых слов, какие говорят своим детям матери, баюкая их на коленях. И чем ярче светило солнце, тем горячее становились эти речи, тем больше звучало в них нежности. Ребенок словно расцветал, греясь в животворных лучах материнской любви; им овладело чувство безумного счастья, и если бы сейчас кто-нибудь сказал Эберхарду, что он сирота, он был бы бесконечно удивлен.
Почти так же, как в летние погожие дни, Эберхарду нравилась зима, особенно он любил снегопад. Снег наводит уныние в городах, но так радует глаз в лесу! Белое платье, в которое зима одевает землю, не уступает по красоте зеленому весеннему наряду. В такие дни Эберхарду тоже казалось, что его матушка довольна им, и он радовался вместе с ней.
Альбина отнюдь не всегда говорила с Эберхардом так, как всякая мать говорит со своим ребенком. Она была ему не просто матерью, но наставницей, поэтому порой она вела с сыном серьезные беседы, стараясь внушить ему добрые мысли и сделать его сильным. Такие разговоры велись обычно по вечерам, когда на землю спускается тень, а сердца погружаются в задумчивость, когда все спит, а человек размышляет. Мать давала сыну мудрые советы, и ее голос звучал в вечернем шуме листвы, в последних птичьих трелях, в закатных лучах солнца. Все, что было вокруг Эберхарда, будь то разрушенное временем здание или дерево, еще вчера прямое и сильное, а сегодня сломленное бурей, — все служило для него красноречивым подтверждением слов матери. Были минуты, когда перед мальчиком будто раздвигался горизонт: он стоял на вершине горы, перед ним простиралось огромное лесное пространство, а вдалеке слышалось невнятное бормотание, казавшееся гулом самой вечности. Это шумел мощный и неспешный Майн, серебрясь в лунном свете.
Так все вокруг служило посредником между мертвой матерью и сыном-мечтателем: даже серый и тоскливый дождь, даже угрюмая грусть тумана, заставлявшая его погружаться в себя, даже раскаты грозы, в которых мальчик угадывал порой справедливый укор и которые наполняли его душу спасительным ужасом, исчезавшим, впрочем, с первым поцелуем солнца, пробивающимся из-за туч.
Так рос Эберхард, внимая шуму ветра и голосу покойной матери.
Мать была единственной родной душой, с которой он общался и разговаривал. Отец? Да знал ли он вообще, что у него есть отец? Иногда Эберхард слышал, как вокруг говорили: «В этом году господин граф не приедет в замок». Но что ему было за дело? Эти слова не находили никакого отклика в его душе, не пробуждали никаких воспоминаний. Он привык к своей заброшенности, не удивляясь, не жалуясь; она не радовала, но и ничуть не печалила его. Вместо «мой отец» Эберхард говорил вместе со всеми «господин граф».
В замке жили двое-трое слуг, в обязанности которых входило проветривать комнаты и ухаживать за садом. Но Эберхарда не интересовали эти люди, а он не интересовал их. У него была своя комната в замке, однако он почти никогда не жил в ней; чаще всего он ночевал в хижине Йонатаса: там он был ближе к своему милому лесу. Впрочем, как только становилось теплее, он в хорошую погоду и ночи проводил в лесу.
В самой глухой чаще, возле ручья, который в одном месте становился шире и превращался в бурный поток, у подножия высокой остроконечной скалы, Эберхард обнаружил нечто вроде грота, созданного природой. Сначала его внимание привлекли крутые, необычной формы берега. А когда он нашел грот, укромно спрятанный от человеческих глаз в зарослях боярышника и смоковницы, это место показалось ему настоящим раем. На противоположном берегу виднелась вершина горы, поросшей гигантскими соснами. Темная зелень деревьев и шумный водопад придавали ландшафту мрачный, суровый и величественный вид.
Впрочем, иногда эта угрюмая картина оживлялась золотистым отблеском солнца, падавшим на камни горы, или дуновением освеженного грозой воздуха, похожим на тайное благодеяние. Здесь Эберхарду явственнее, чем где бы то ни было, слышалась нежная и таинственная музыка, сопровождающая, как говорил он, каждый его шаг, каждое его движение, каждую его мысль.
— Вы слышите? — спрашивал он.
— Нет.
— А я слышу. Вокруг меня звучит музыка, она меня влечет, она всюду со мной, она обволакивает меня, словно облако. И тогда я беседую со своей матушкой, поверяю ей свои желания, беды и радости и прошу у нее совета.
В этой скрытой от людских глаз лощине Эберхард проводил дни и ночи. Здесь он рос, здесь он был счастлив, здесь он предавался раздумьям о своей Покойной матушке и о Вильгельмине, здесь он — признаемся — мечтал о том, как вновь увидится с Розамундой. Печаль и мечта — не из них ли состоит жизнь? И если бы наш мечтатель отправился в странствия или стал искать развлечений и наслаждений в бурном круговороте жизни — разве нашел бы он там что-то большее, чем в своем благоуханном одиночестве?
Он страстно мечтал о возвращении Розамунды; мысли о маленькой подруге детства не покидали его ни на минуту. Он так и видел перед собой ее розовое личико, капризные гримаски, лукавую улыбку. Он помнил золотистые пряди ее волос, выбивавшиеся из-под черного берета, вспоминал их игры, ссоры и то, с каким важным видом он оберегал ее от малейшей опасности. Только о ней он и говорил с Йонатасом и старым Гаспаром, как, впрочем, и они с ним. Розамунда была единственной нитью, связывающей его с внешним миром. Во всем остальном Эберхард в свои четырнадцать лет ничем не отличался от Йонатаса, которому было сорок, и от восьмидесятилетнего Гаспара. Так же как они, Эберхард был суров и немногословен; когда он молча садился вместе с ними у очага, они не спрашивали его ни о чем: откуда он пришел, что он делал, какие у него планы.
Иногда из монастыря Священной Липы приходило письмо, и это было настоящим праздником в доме смотрителя охоты. Мальчик прыгал от радости, отец утирал слезы умиления, и даже старик на время выходил из своего созерцательно-безразличного состояния. Эберхард читал письмо вслух, а Йонатас и Гаспар слушали затаив дыхание. Розамунда писала о новых подругах, о своих успехах, о том, как в монастыре она окружена неизменным вниманием, подобающим разве что дочери герцога. Она изучала историю, французский язык, рисунок, музыку — все те науки и искусства, о которых Эберхард знал только понаслышке. Но больше всего мальчик радовался, когда Розамунда вспоминала в письме о замке Эпштейнов, о своем дедушке, об отце и о дорогом братце Эберхарде. Письмо читалось и перечитывалось, потом долго обсуждалось и перечитывалось вновь. В такие вечера в деревянном домике Йонатаса до поздней ночи горел свет. И на следующий день письмо продолжало занимать мысли всех троих, но о нем больше не говорили.
Так, на воле, в полном одиночестве, среди призраков и вековых сосен, на грани мистического и божественного, прошло мечтательное детство Эберхарда. Книги ему заменяла природа, а собеседников — суровые и молчаливые люди: Гаспар и Йонатас. Если на дороге Эберхарду случайно встречался дровосек или крестьянин, он убегал от них, как испуганный олененок. Порой Библия выскальзывала из рук Гаспара, но мальчик не перелистывал ее, а рассеянно скользил взглядом по черным буквам, к которым прикасались пальцы Вильгельмины и Розамунды в ту пору, когда мать учила детей читать по складам.
Но была ли нема и бесплодна его душа — душа возвышенного невежды, учившего азбуку по Библии и знавшего язык мертвых? Мы не можем в это поверить! Нет! В его душе, созданной из веры и любви, беспрестанно рождались восторг, удивление, яркие неземные видения, похожие на сказку из «Тысячи и одной ночи». Это была наивная, целомудренная и рыцарственная душа, достойная героев тех легенд, которые были сложены на берегах Рейна. Можно даже сравнить ее с собором, где христианская строгость сочетается с прихотливыми цветами арабских узоров.
Между тем время шло. Тихо и незаметно пролетело пять лет, не принесших, как мы уже говорили в начале этой главы, никаких перемен в замке Эпштейнов. Однако Эберхард и Розамунда достигли четырнадцатилетнего возраста, и, к великой радости мальчика, Йонатас стал поговаривать о том, что пора забирать Розамунду из монастыря.
Как раз в течение этих пяти лет, то есть с 1803-го по 1808-й год, Наполеон завершил самую блистательную часть своей эпопеи; во Франции и в Европе разыгралась величественная и страшная драма. Но все это не имеет отношения к нашему повествованию: нас занимает только история замка Эпштейнов и лесной сторожки, расположенных между Франкфуртом и Майнцем. И если для всего мира эти пять лет были переполнены событиями, то в замке и в хижине они прошли настолько незаметно, что не стоит и говорить об этом времени.
Старый Гаспар все больше слабел и однажды утром уже не смог встать с постели, чтобы, по обыкновению, посидеть на скамейке у порога или в кресле возле очага. Он позвал Йонатаса.
— Друг мой, — сказал старик, — силы покидают меня, и я чувствую, как меня сковывает смертельный холод.
— Это временная слабость, она пройдет, батюшка, — ответил Йонатас, стараясь скрыть тревогу, — вы еще долго не покинете нас.
— Нет, Йонатас, — твердо и спокойно возразил старик, — думаю, мне осталось жить всего несколько дней. Но это не только не печалит, а скорее радует меня. Однако, покидая этот мир, я хотел бы кое о чем попросить тебя. Что поделаешь? Человек никогда не перестает чего-то желать, даже на смертном одре. Так вот, я хотел бы узнать, что стало с моей дочерью Ноэми, пропавшей в суматохе французских событий. Мне хочется знать, встречусь ли я с ней на небесах, умерла ли она по-христиански, как ее сестра. Этому желанию, увы, не сбыться, хотя, видит Бог, зная об этом, я умер бы спокойно. Но второе мое желание ты можешь выполнить.
— Я слушаю вас, батюшка.
— Перед смертью, Йонатас, я хотел бы повидать дочь Вильгельмины.
— Да, батюшка, завтра же я отправлюсь в Вену.
— Спасибо, Йонатас. Господь вознаградит тебя за то, что ты откликнулся на просьбу умирающего, и, надеюсь, позволит мне дождаться твоего возвращения.
На следующее утро Йонатас отправился в путь. Эберхард шел вместе с ним полдня. Он хотел проводить Йонатаса до самой Вены и, конечно, легко мог бы это сделать, поскольку в замке его отсутствие осталось бы незамеченным. Но Йонатас заставил его вернуться домой, чтобы присматривать за больным стариком. Поэтому в три часа пополудни, перекусив вместе с Йонатасом, Эберхард обнял его, передал тысячу нежных приветов и пожеланий милой Розамунде и медленно побрел в замок Эпштейнов.
Когда он вошел в лес, было девять часов вечера. Уже спустились сумерки, но июньская ночь была ясной, прозрачной и спокойной. Эберхард остановился на высокой горе, откуда его взгляд мог охватить гармонично волнующееся лесное море. Перед ним простирались холмы и долины, посеребренные лунным светом; их чередование действительно напоминало морские волны. Слышалось стрекотание кузнечиков. Ветер шумел в верхушках деревьев. В небе сияли звезды. Внизу, словно серебряное зеркало, блестела неподвижная поверхность озера. Светлая, легкая тень опустилась на спящие дома, на тихие задумчивые долины. Эта фантастическая картина убаюкивала душу, навевала мечты, наполняла сердце божественным умиротворением.
Эберхард сел на траву и задумался. Воздух был нежным, теплым, ласковым, и мальчик решил остаться здесь до утра, тем более что за больным обещала присмотреть соседка.
Он чувствовал необходимость побыть в одиночестве, подумать, побеседовать с матушкой, ласки которой он чувствовал сейчас в дуновении летнего ветерка. Ему нужно было воскресить в памяти всю свою жизнь, вернуться в прошлое, заглянуть в будущее. Эберхарду казалось, что перед ним открывается новая жизнь; как путник бросает с горной вершины прощальный взгляд на долину, уже пройденную им, так и он окидывал взором прожитые дни. В свои годы он немного совершил, но много передумал и пережил, поэтому он был одновременно наивен и искушен, по-детски простодушен и по-мужски отважен. В ту ночь сердце и ум его были в смятении: он словно предчувствовал резкий поворот в своей судьбе. Далекие видения прошлого, милые его сердцу или вовсе безразличные, снова прошли перед внутренним взором мальчика, молчаливо приветствуя его. Альбина, верный спутник, всегда была рядом с ним, но сейчас, словно в сверкающем сне, перед ним появилась сначала Вильгельмина, заменившая ему мать, потом его добрый старый учитель Алоизиус, потом, будто издалека, он увидел нахмуренное лицо отца и злобную усмешку брата; но Эберхард отвел от них испуганный взгляд и представил себе благородное и прекрасное лицо старого Гаспара, нежное, печальное лицо Йонатаса, и тогда взгляд его просиял любовью.
И вот, заглянув в глубины своей души, это дитя, на которое снизошла любовь двух умерших женщин и двух угрюмых мужчин, почувствовало себя бесконечно одиноким в этом мире. Эберхард ощутил, что ему чего-то не хватает, что в его сердце есть какая-то незаполненная пустота и что душа его жаждет иной жизни. Он горько упрекнул себя за эту мысль, попытался отогнать ее, но она возвращалась к нему снова и снова. Потом он подумал, что такая неблагодарность должна рассердить его матушку, и замер, боясь закрыть глаза или повернуть голову, чтобы не увидеть ее строгое и обиженное лицо. Но он ошибался: мать смотрела на сына со спокойной улыбкой — ведь мертвым незнакомо жалкое чувство ревности по отношению к живым.
Эберхард был рад, что мать не винит его за желание иной жизни вместо той, что он имел. Мальчик подумал также о скорой встрече со своей маленькой подругой, и какая-то неведомая радость наполнила его сердце. Ему и в голову не приходило, что она должна вырасти и измениться. Нет, он представлял ее себе такой же маленькой шалуньей, такой же трусихой, какой она была пять лет назад, когда он переносил ее на руках через ручей. Наконец-то он сможет снова стать таким как прежде, снова сможет заливисто смеяться, ведь они были ровесники, они родились в один и тот же день, они понимали друг друга, они могли говорить о чем угодно. С Розамундой Эберхард не собирался молчать, углубляясь в размышления, как с теми печальными, неразговорчивыми людьми, с которыми он жил до сих пор. Когда это веселое и живое создание будет рядом с ним, он снова сможет радоваться жизни и резвиться. И он покажет ей свой любимый лес!
Ни о чем другом Эберхард и не мечтал. Этого ему было сейчас достаточно: при мысли о Розамунде тысячи радостных надежд пели в нем, словно птицы при первых лучах солнца. Он заглядывал в будущее лишь на несколько дней вперед — от этого оно не становилось менее огромным. Наоборот, волшебное ожидание пьянило его, и в радостном исступлении ему казалось, что отныне в груди его бьются два сердца.
Однако часы этого поэтического бодрствования пролетели быстро и рассветный луч увенчал вершину горы, где сидел Эберхард. Он протер глаза, после чего препоручил, по обыкновению, свою душу Богу и матушке и стал медленно спускаться в долину, где была расположена деревня Эгалтейн.
Его путь пролегал мимо грота, и он не мог не заглянуть в свой любимый уголок, который, быть может, ему не придется увидеть несколько дней из-за болезни старого Гаспара. Еще за двести шагов Эберхард услышал журчание ручья, омывавшего его маленькое королевство. Но, подойдя ближе, он удивленно остановился, издав удивленный и возмущенный возглас: в его цветущие, никому не ведомые владения вторгся посторонний человек! Чужак сидел на берегу ручья, закрыв лицо руками.
Первым чувством, которое овладело Эберхардом, был гнев, и мальчик решительно направился к незнакомцу. Мягкая лесная трава приглушала шаги, поэтому человек не заметил его приближения. Но вдруг все возмущение Эберхарда как рукой сняло: он увидел, что незнакомец плачет.
На вид ему было лет тридцать пять — сорок, он был небольшого роста и изящного, но крепкого телосложения. У него было красивое и властное лицо. Строгая одежда незнакомца соответствовала его лицу; из-под зеленого сюртука, застегнутого на все пуговицы, виднелась красная орденская ленточка. Облик и осанка этого человека выдавали военного.
IX
Мгновенно все это отметив, Эберхард сразу же почувствовал к этому человеку необъяснимое расположение. Может быть, причиной тому были слезы, струившиеся по щекам незнакомца.
Некоторое время Эберхард молча, с почтительным сочувствием разглядывал его, потом как можно мягче произнес:
— Блаженны плачущие!
— Кто здесь? — спросил незнакомец, оборачиваясь. — Ребенок! Не из этих ли вы мест, друг мой?
— Да, сударь.
— Тогда вы можете помочь мне выяснить кое-что. Скажите… Сейчас… Что-то язык не слушается меня… Подождите, сейчас я приду в себя.
— Да, конечно, сударь, успокойтесь, — сказал Эберхард, тронутый столь искренним проявлением страдания. — Поплачьте. Слезы — это почти всегда хорошо. А вам известна легенда о наших горных реках? — добавил Эберхард, как бы обращаясь к самому себе. — Один злой и нечестивый рыцарь однажды поведал святому пустыннику историю своей жизни, полной злодеяний, при этом он рассказывал о них не только безо всякого раскаяния, но и с насмешкой.
«Скажите, святой отец, можно ли смыть подобные преступления?» — спросил он, улыбаясь.
«Да, для этого надо всего-навсего наполнить водой вот эту флягу», — ответил отшельник.
«Как! Только-то! И за это вы отпустите мне все грехи?»
«Как только фляга станет полной, вы будете прощены. Но вы должны дать мне слово благородного человека, что действительно наполните ее», — сказал отшельник.
«Даю вам слово. Неподалеку находится источник: я слышу шум воды».
Но, когда рыцарь приблизился к источнику, источник иссяк.
Он пошел к ручью — ручей высох.
Он пошел к водопаду — водопад стих.
Он пошел к речке — ее вода не текла во флягу.
Он пошел к большой реке — фляга была по-прежнему пуста.
Он пошел к морю — и опять фляга осталась сухой.
И вот, потратив год на эти бесплодные попытки, злой рыцарь снова пришел к отшельнику.
«Ты насмеялся надо мной, старик, — сказал он. — Но я тебе этого не прощу».
И он ударил святого пустынника по лицу.
«Да смилуется над ним Господь!» — воскликнул старец.
«Проси милости для себя», — ответил рыцарь.
И он толкнул старца так сильно, что тот упал на песок.
«Господи! — воскликнул отшельник. — Прими мою жизнь, проведенную в молитвах, во искупление его грешной жизни!»
«Да замолчи же ты, наконец!» — вне себя от злобы закричал рыцарь.
И он пронзил отшельника шпагой.
«Господи! — вскричал отшельник, падая на землю. — Прости его, как я его прощаю!»
И вот от этого евангельского крика и от самого вида старика, который молил Бога за своего мучителя, в душе рыцаря произошел перелом. Задрожав, как ребенок, он упал на колени перед святым отшельником, и его слезы закапали одна за другой в пустую флягу, быстро наполнив ее. Но и тогда рыцарь все продолжал плакать, и этими покаянными слезами он не только смыл все свои грехи, но и напитал высохшие источники; так что теперь вода здешних рек, когда-то исцелившая душевные раны, обладает способностью залечивать раны телесные.
Так плачьте вволю, — заключил Эберхард, — слезы успокаивают и утешают. Незнакомец, сначала слушавший Эберхарда рассеянно, с любопытством
поднял голову и, улыбаясь, посмотрел на маленького пастуха, предпочитавшего объясняться с ним языком сказки. Действительно, Эберхард был одет так, как все здешние крестьяне: гетры, кожаный пояс, широкие штаны до колен, куртка из коричневого бархата, рубашка с отложным воротником, скрепленная у горла золотым кольцом, серая фетровая шляпа с большим черным пером. Но грубая крестьянская одежда не могла скрыть врожденного изящества мальчика. У простого деревенского парня не могло быть ни такого твердого и глубокого взгляда, ни такого одухотворенного, бледного лица. Чувствовалось, что в хрупком теле мальчика обитает сильная душа, а за его застенчивой и наивной угловатостью скрывается честный и открытый характер.
Поэтому когда незнакомец обратился к Эберхарду, в его голосе прозвучала уважительность:
— Кто вы, друг мой?
— Я сын графини Альбины фон Эпштейн.
— Сын Альбины… А где сейчас ваша матушка?
— Для всех она умерла, но, разумеется, не для меня, — серьезно ответил мальчик.
— Что вы хотите этим сказать?
— А разве те, кого мы любим, могут для нас умереть?
— Значит, Альбина жива и для меня! — с чувством воскликнул незнакомец. — Ибо, видит Бог, я любил ее, эту благородную и святую женщину! Но когда же она умерла?
— В тот самый день, когда я появился на свет.
— Что ж, по крайней мере, она оставила после себя след на земле. И теперь позвольте мне, дитя мое, любить вас так, как когда-то я любил ее.
— Вы знали мою матушку, и вы любили ее — поэтому я не могу испытывать к вам других чувств, кроме любви и благодарности.
Ребенок и мужчина пожали друг другу руки, как старые друзья.
— Вы и в самом деле похожи на Альбину, — заметил незнакомец.
— Правда? О, мне так приятно слышать это!
— Да, я словно вновь вижу перед собой эти прекрасные, ясные глаза, в которых, как в зеркале, отражалась ее небесная душа. Когда вы говорите, я снова слышу ее голос, и он проникает мне в самую душу. Как вас зовут, дитя мое?
— Эберхард.
— Поверьте мне, Эберхард, в вас ваша матушка обрела новую жизнь.
— Да, она ожила во мне и для меня, сударь, ибо, повторяю, это для других она мертва, а я слышу и вижу ее: она моя собеседница, моя опора в жизни. Это она захотела, чтобы я сразу почувствовал к вам расположение и доверие, хотя обычно я сторонюсь людей. Да вы и не смогли бы меня обмануть: благодаря моей матушке, я вижу людей насквозь.
Потом Эберхард поведал незнакомцу историю своей жизни, если только можно назвать жизнью это существование между миром мертвецов и миром людей, существование, неотделимое от смерти, существование, где мертвая ни на минуту не покидает живого, настолько вовлекая его в свой мир, что ребенок порой становится призраком, а мать оживает.
О вы, милые призраки Германии, населяющие природу и жизнь человека: ангелы, нимфы, сильфы, ундины, лесные духи, саламандры! Мне думается, что вы любили и баловали это дитя, и оно было к вам благосклонно! И ты, Германия, старая пантеистка, вера и идеал которой — весь мир, европейская сестра Индии, ты, должно быть, видела свое отражение в этом существе, влюбленном в твои волны и облака, в твои бескрайние просторы, — в этом существе, нежно преданном своей невидимой и вездесущей матери!
Незнакомец слушал необычную историю Эберхарда серьезно, без улыбки, как человек, который познал ненадежность и слабость человеческого ума, но верил в беспредельность Божьего всевластия. По обыкновению, Эберхард почти не упоминал о графе фон Эпштейне. Тайна ревности Максимилиана и смерти Альбины осталась между ней и Богом, и странник оплакал неожиданную и загадочную смерть Альбины, не подозревая здесь преступления.
Не меньше незнакомца интересовало все, что касалось семейства смотрителя охоты.
— Так значит, вы знали ту, которая стала мне второй матерью — Вильгельмину, если ее безвременная кончина так удручает вас? — спросил Эберхард. — Вы говорите о ней и о моей матушке так, как будто они родные сестры.
— Они и были сестрами… Но вы говорите, что Гаспар Мюден еще жив и что у Вильгельмины и Йонатаса осталась дочь?
— Да, это Розамунда, моя сестра. Йонатас вчера отправился за ней в Вену. И мне кажется, что с ее возвращением для меня начнется новая жизнь; я так и сказал сегодня ночью матушке.
— А когда вернется Йонатас?
— Думаю, совсем скоро. Он должен спешить, чтобы исполнить последнюю просьбу Гаспара. Старик уже не поднимается с постели и перед смертью хотел бы повидаться с внучкой. Ведь мы должны делать все, что в наших силах, чтобы исполнить последнее желание умирающего. Но выполнить вторую просьбу старика под силу лишь Господу Богу: Гаспар хотел узнать, что стало с Ноэми, его второй дочерью, умерла ли она богоугодной смертью или по сей день живет и благоденствует. Но Ноэми во Франции, и нет человека, который мог бы успокоить бедного старика.
— Есть такой человек.
— Кто же он?
— Я.
Часть вторая
I
Эберхард любезно предложил незнакомцу остановиться в лесном домике Гаспара, и новый друг принял предложение с самой горячей благодарностью.
— Мне только не хотелось бы показываться на глаза старому Гаспару, пока не приедет Йонатас, — сказал он. — Как только старик увидит внучку и его первое желание исполнится, я обещаю выполнить и его вторую просьбу.
Незнакомец говорил с Эберхардом доверчиво и убедительно, поэтому мальчик согласился, хотя эти слова и озадачили его. По мере того как они приближались к дому, незнакомец все более замедлял шаг. Грудь его вздымалась от волнения: казалось, ему трудно дышать. Очутившись перед домиком, утопавшим в зелени винограда, он внезапно остановился, не в силах сделать больше ни шагу. Эберхард смотрел на него с удивлением, но расспрашивать не решался. Наконец незнакомец справился с волнением и переступил через порог. Эберхард проводил его в комнату, наиболее удаленную от той, где находился больной; там гость и провел остаток дня, то отдыхая, то принимаясь писать письма. Потом наступила ночь, такая же ясная и светлая, как накануне, и когда Эберхард заглянул вечером к своему новому знакомому, тот попросил отвести его в замок. У мальчика был свой ключ от калитки в парк, и он мог беспрепятственно появляться и исчезать. Мы уже говорили, что двое или трое слуг, оставленных графом Максимилианом в замке, не обращали на его сына никакого внимания, поэтому ему не составляло труда исполнить просьбу незнакомца и провести его в старое обиталище семейства Эпштейнов.
Сначала они очутились в саду.
С этого момента Эберхард не переставал удивляться. Казалось, сад воскресил в душе незнакомца тысячи воспоминаний. Он останавливался возле каждого куста, возле каждого дерева. Проходя мимо беседки, он сел на скамью, сорвал ветку жимолости, поднес ее к губам. Выйдя из сада, они попали в замок. После смерти Альбины здесь ничего не изменилось. Незнакомец сразу направился в часовню. Там было темно, только полоска лунного света, проникавшего сквозь цветные стекла окна, падала на обитую бархатом скамеечку для молитвы, где все еще лежала Библия, раскрытая на той самой странице, которую не дочитала Альбина. Незнакомец упал на колени, уронил голову на раскрытую книгу и погрузился в страстную молитву.
Эберхард стоял в дверях и смотрел на человека, которого он видел впервые, но для которого, казалось, каждый предмет в замке таил в себе какое-то воспоминание. Прошло четверть часа. Незнакомец встал с колен. Теперь он сам вел Эберхарда — и вел прямо в красную комнату.
Перед входом Эберхард остановил незнакомца, уже взявшегося за дверную ручку:
— Это была комната моей матушки.
— Я знаю, — ответил незнакомец.
И он вошел в комнату. Мальчик двинулся следом. Комнату освещал только лунный свет, но он был достаточным, чтобы можно было различать предметы. Незнакомец оперся на большое дубовое кресло.
— Это кресло моего дедушки, графа Рудольфа, — сказал Эберхард.
— Я знаю, — снова ответил незнакомец.
Он придвинул другое кресло, похожее на первое.
— Это кресло моей бабушки Гертруды, — сказал мальчик.
— И это мне известно, — ответил гость.
Потом незнакомец встал у дверей и стал смотреть на кресла. Видимо, даже то, как они теперь стояли, пробудило в нем какое-то глубокое и давнее воспоминание, потому что он закрыл лицо руками и разрыдался.
Прошло несколько минут.
— А теперь, — сказал незнакомец, — спустимся в склеп.
Эберхард знал только один путь в склеп — через часовню, поэтому он повернулся, намереваясь выйти из комнаты, но рука незнакомца остановила его.
— Иди сюда, — позвал он.
Удивленный Эберхард покорно последовал за странным гостем, который, видимо, знал замок лучше, чем он сам. Незнакомец подошел к гобелену, висевшему между окном и изголовьем кровати, и прикоснулся рукой к стене. К великому изумлению Эберхарда, стена пришла в движение; в лицо ему ударил влажный ветер, и его глаза, привыкшие видеть в темноте, подобно глазам диких зверей, с которыми он проводил ночи в лесу, различили ступени какой-то лестницы.
— Иди за мной, — сказал незнакомец.
Все больше и больше удивляясь, мальчик последовал за гостем.
По мере того как наши ночные странники спускались по ступеням этого своеобразного коридора, проложенного вдоль стены, они все явственнее различали мерцающий внизу слабый свет. Это была лампа, горевшая в склепе: по распоряжению одного из предков Эберхарда она должна была гореть постоянно.
Эберхард и незнакомец оказались перед небольшой решетчатой дверцей. Она была заперта, но спутник Эберхарда пошарил рукой за колонной, вынул оттуда висевший на гвозде ключ и открыл замок. Эберхард вспомнил, что не раз замечал эту дверцу, когда бывал в склепе, но никогда не интересовался, куда она ведет.
Мальчик преклонил колена возле могилы своей матери, незнакомец — возле гроба графа Рудольфа. Затем незнакомец, остановившись вначале перед могилой графини Гертруды, направился к могиле Альбины и подошел к мальчику, который молился так самозабвенно, что не заметил его приближения.
Подойдя к Эберхарду, незнакомец некоторое время наблюдал за ним. То, что он услышал, поразило его: это была не молитва, а обычный разговор. Невозможно было поверить, что мальчик обращается к усопшей: он говорил с матерью так, как будто она была жива. Порой он замолкал и с улыбкой прислушивался к чему-то. Незнакомец встал на колени напротив Эберхарда.
Так, словно забыв друг о друге, они оставались достаточно долгое время.
Наконец незнакомец поднялся и взял Эберхарда за плечо.
— Пойдем, — сказал он. — Уже поздно, и ты, наверное, устал.
Склонив голову на могилу матери, мальчик спал…
Шли дни. Незнакомец относился к Эберхарду как к родному сыну, и мальчик, помня о том, что произошло в склепе, привязался к нему. Когда их отношения стали более задушевными, гость попытался расспросить мальчика об отце, но, увы, Эберхард ничего не мог ему сообщить.
— По правде говоря, я даже не уверен, что смог бы сейчас его узнать. Он уехал неожиданно, и с тех пор прошло много лет. Граф всегда заботился только о моем старшем брате Альбрехте, и это, наверное, правильно. Я не жалуюсь: ведь таким образом он полностью препоручил меня матушке, а она любит меня за двоих.
Незнакомец уже заметил, что мальчик говорит о матери как о живой, словно отказываясь признавать тот факт, что она умерла, и пытаясь оспорить материнскую любовь у смерти; это наблюдение еще больше заинтересовало незнакомца, к тому времени уже сильно привязавшегося к Эберхарду.
Их дружба росла с каждым днем, но незнакомец стал не без удивления замечать, что мальчик совсем необразован, хотя было очевидно, что он обладает глубоким, гибким и даже утонченным умом. Однажды гость случайно упомянул имя Наполеона, и Эберхард спросил его, кто этот человек. В то время имя Наполеона было на устах у всех, и Эберхард оказался, наверное, единственным человеком в Европе, которому оно ни о чем не говорило. Тогда незнакомец рассказал ему о блистательной эпопее, з которой Египет был лишь главой, а Аустерлиц — частным эпизодом. Он сказал мальчику, что Наполеон — один из тех редких гениев, подобных Цезарю и Карлу Великому, — гениев, которые появляются в назначенный час и проносятся над землей словно метеоры, пророча будущее и освещая путь целым народам. Но имена Цезаря и Карла Великого звучали для мальчика так же непривычно, как имя Наполеона.
Незнакомец рассказывал ему об Альпах, Италии, Египте; все эти рассказы, ставшие первыми сведениями о внешнем мире для маленького отшельника, вызывали у него такое же наивное удивление, как если бы это были сказки «Тысячи и одной ночи». Но жизнь приучила Эберхарда к чудесному и бескрайнему, ум его был глубок и пытлив, поэтому вскоре мальчик перестал изумляться и только восхищался.
II
Смерть Гаспара Мюдена была прекрасна; не все короли, окруженные принцами и свитой, удостаиваются такой кончины. Возле кровати Гаспара как воплощение невидимых ангелов-хранителей — Вильгельмины и Ноэми — стояли Конрад фон Эпштейн и Розамунда; в своих руках они держали руку умирающего. Эберхард и Йонатас рыдали, стоя у изножья кровати.
Оба предсмертных желания Гаспара были исполнены. Его нелегкую жизнь увенчала поистине счастливая смерть, и последний вздох умирающего был озарен блаженной улыбкой, будто лучи небесного света коснулись его лица.
И скорбь детей, потерявших отца, смягчалась светлой верой в то, что эта кончина, спокойная и прекрасная, как осенний закат, была для Гаспара наградой. Когда на следующий день ранним утром, согласно деревенскому обычаю, они шли за гробом старика, их горе изливалось в слезах, полных бесконечной надежды.
Сквозь эти слезы, просветленные верой, Эберхард различал белое, сияющее лицо Розамунды. Как мы уже говорили, он наивно ожидал увидеть веселую, смеющуюся девочку, которую он знал когда-то. Он представлял себе, как возьмет ее за руку, скажет ей «ты», как и раньше, и по-братски обнимет ее при встрече. Но девочка превратилась в девушку. Эберхард робко поглядывал на это создание, прекрасное, как сама мечта, не осмеливаясь даже подойти к сестре, — так изменилась Розамунда. Охваченный порывом безмолвного восторга, он даже забыл — правда, всего на одну минуту — и о смерти старика, который был ему другом, и о дядюшке, которого недавно обрел.
В самом деле, Розамунда была восхитительна. В свои пятнадцать лет она была высокой, вполне сформировавшейся девушкой. С первого взгляда вы были бы поражены тем сочетанием блеска и очарования, ума и доброты, которое придавало ее лицу одновременно важное и милое выражение. Чистые и изящные черты ее лица были удивительно спокойны. Гладкий лоб и голубые глаза казались воплощением нежности и умиротворенности; она напоминала вечную красоту статуй, но не мертвую, а оживленную выражением сдержанной веселости и гордого изящества. Только небесные мадонны Рафаэля могли сравниться с ней.
Легко вообразить, как глубоко был потрясен Эберхард этим сияющим видением! Розамунда держалась просто, и ее наряд не отличался великолепием, но мальчику она показалась королевой, феей, ангелом. Впервые открыв для себя неземную красоту, нелюдимый обитатель леса Эпштейнов почувствовал, что его душа охвачена неведомым доселе смятением. Ему, сыну графа, чудилось, что эта простая крестьянская девочка вознеслась на недосягаемую для него высоту, а то простодушное восхищение, которое она в нем вызывала, внутренне отдаляло его от Розамунды и создавало ощущение, что между ними пролегла непреодолимая пропасть.
Но Розамунда, заметив, что друг детства как будто не узнает ее, сама подошла к нему, протянула маленькую белую ручку и ласково сказала:
— Здравствуй, Эберхард.
Волшебство рассыпалось в прах. И все же в первых словах Эберхарда, обращенных к сестре, прозвучала та необъяснимая почтительность, которую он испытал, едва увидев ту, кого до сих пор звал сестрой. Разговаривая с Розамундой, мальчик смущался и краснел; впрочем, их тихий разговор вскоре прервали: в этот день умер Гаспар, и потому полагалось молиться, размышлять и плакать. Вечером всех ожидал семейный ужин, прошедший в молчании.
На следующий день, вернувшись с кладбища, Розамунда уединилась в комнате Вильгельмины, где стояла скамеечка для молитвы, принадлежавшая ее покойной матери, и обратилась душой к Богу. В это время Конрад фон Эпштейн отозвал в сторону Эберхарда и Йонатаса, чтобы попрощаться с ними и кое о чем сообщить. Долг призывал его незамедлительно вернуться во Францию; смерть отца Ноэми и так уже слишком задержала его. Но перед отъездом он хотел поведать этим людям — сыну Альбины и мужу Вильгельмины — историю своей жизни и рассказать о том, что он собирается делать в дальнейшем.
— Я одинок, — начал он. — У меня нет никого на свете, нет даже семьи. Кроме вас, я никого в мире не интересую, поэтому только вам и известно о моем существовании. Я решил исчезнуть, будучи живым, умереть, стереть самого себя с лица земли, уничтожить свое имя и свою личность. Моя печальная и роковая история отчасти вам известна; мне хотелось бы рассказать ее до конца. Отец изгнал меня за то, что я полюбил святой и чистой любовью. Тогда я нашел убежище во Франции и стал жить, не видя вокруг ничего, кроме своей любви. Я скрывал свое дворянское происхождение за именем простолюдина, словно незаконнорожденный. Обо мне забыли, а через некоторое время я сам стал забывать о том, что существую на свете. Но над Францией гремел гром Революции, и от ее яростного ветра нелегко было уберечь чистое пламя любви. К тому же, я сам был безотчетно наэлектризован идеями, которые носились в грозовом воздухе: я читал Жан Жака и Мирабо, был хорошо знаком с неистовыми мыслителями восемнадцатого века, а ученые занятия и размышления, которым я предавался в юности, помогли мне быстро освоиться с новыми веяниями. Я был немцем, от которого отреклась Германия, я был знатным изгоем среди аристократии, и вот философия заменила мне семью, а свобода — отчизну. Я сбросил бремя предрассудков и предубеждений, которые мне внушали с детства, и смог со стороны вернее судить тех, кто изгнал меня из своего общества. Я видел их достоинства, но видел также их прошлые ошибки, их ненадежное и противоречивое будущее. Тогда, вместо шпаги графа, я взял в руки саблю солдата и посвятил остаток своей жизни молодой Республике. Ноэми не отговаривала меня, а только грустно улыбалась: ее чуткое сердце провидело будущее лучше, чем мой непокорный рассудок. Ноэми была великодушна: она испытывала почти что счастье, видя, что я снова воскрес для жизни. Когда я женился на ней, я только исполнял свой долг, но она поклялась, что заплатит мне за это своим счастьем, своей жизнью, своей душой. И она сдержала слово! Ноэми поддерживала мои увлечения, потому что они вселяли в меня надежду, и делала вид, что тоже увлечена моими фантазиями, из-за которых я совсем забросил ее. Она не жаловалась, а я не смог оценить ее самоотречения. О, как я был слеп! Меня не насторожило ее спокойствие, но я поплатился за свои иллюзии. Даже самые изысканные вина пьянят — так и от воздуха свободы у Франции помутился рассудок. Вскоре, лежа на тюремной соломе, я увидел всю тщету своих мечтаний.
Вы знаете, чем завершились мои несчастья. Моя Ноэми и перед лицом смерти сохранила преданность мне. Я дал ей свое имя, и она заплатила за него жизнью. Не помню, что было со мной в первые три-четыре страшные года этого страшного вдовства; что я делал, о чем думал, какие сны видел — не знаю.
Оцепенение спало с меня, когда пронесся слух о первых победах Бонапарта. Я был живым трупом, но чувство восторга оживило меня. Так, значит, идеи, в которые я верил когда-то, не были химерой: они воплотились в этом человеке и шли по миру победным маршем. Я почувствовал, что моя обездоленная, погибшая жизнь еще может на что-то пригодиться. В великие эпохи каждый может совершить нечто значительное и нужное, пусть даже так, как это сделал Курций.
Я никому и ничем не был обязан, ничто меня не связывало. И я принес свою не имеющую значения жизнь в жертву тому, что называли императорским честолюбием. Я отрекся от своего прошлого, от старых убеждений, наконец, от своей индивидуальности, чтобы раствориться в том человеке, которому было суждено воплотить в себе дух целой эпохи. Я стал чернорабочим его гения, инструментом в его руках. Мне казалось, что, подчиняясь ему, я исполняю волю неумолимой судьбы. Он вел за собой меня, а его вел сам Бог.
Таких, как я, много; это люди, которые пойдут за ним, повинуясь одному его слову, одному движению его руки. Его взгляд завораживает тех, на кого он обращается, притягивая людей, как магнит — железо. И все же я имею смелость полагать, что пошел за ним, будучи в здравом уме, а не в безрассудном упоении, как другие.
Куда он приведет нас? Я не знаю. Но я пойду за ним хоть на край света. Думаю даже, что смерть не придет ко мне, пока я не исполню свой долг до конца и этот человек не перестанет нуждаться во мне.
Он не замедлил обратить на меня внимание, ибо от него ничто не ускользает, и заметил, что моя безоговорочная покорность была глубоко осознанной. Теперь ему известно, что он смысл моей жизни, мой хозяин, моя семья, моя отчизна. Он скажет: «Иди!» — и я пойду. Он скажет: «Сделай!» — и я сделаю. Он скажет: «Умри!» — и я умру без единого слова протеста. Он — моя воля.
Вас, может быть, удивляет, что потомок графов фон Эпштейнов способен так раболепствовать? Но я уже не Конрад фон Эпштейн: он умер. Как вам удалось узнать меня, Йонатас? И почему вы называете меня чужим именем? Повторяю вам: Конрад умер! Он дважды мертв! Сначала он умер, когда его прогнал отец, потом — когда не стало его жены. А сейчас перед вами находящийся на службе у императора французский полковник, возвращающийся из Вены, где он был с тайной миссией.
Наполеону я всегда нужен был на поле битвы. Но на этот раз он решил использовать мой ум: он отправил меня на переговоры — и я, как всегда, повиновался. Меня, носящего простое имя, приняли здесь лучше, чем если бы я представился сыном графа Рудольфа фон Эпштейна. Австрия, кажется, решила превратить Германию во вторую Испанию: старая австрийская династия завидует только что возникшей империи и собирается поддержать вооруженное восстание на полуострове. Она наводнила Германию шпионами и листовками, собрала четырехсоттысячную армию и возобновила свой союз с Англией. Я приехал, чтобы потребовать объяснений, но в Вене все отрицают. Так что не пройдет и года, а может быть, и шести месяцев, как мы объявим войну моей бывшей отчизне. Но я больше привязан к своей новой родине — к той, которую выбрал сам, а не к той, которую дал мне случай. Мысль заменила мне мать, ибо мысль подарила мне новую жизнь.
Йонатас, Эберхард! Теперь вы знаете все. Я счел своим долгом облегчить последние минуты отца Ноэми, однако мне трудно было удержаться от того, чтобы не поведать вам, людям простым и сердечным, историю моей жизни. Но, заклинаю вас, храните все, что я рассказал вам, в тайне. Во мне живут два человека, и первого их них я хочу забыть. Мне хотелось бы, чтобы месяц, проведенный в вашем доме, остался в моей памяти счастливым сном. Теперь я проснулся, и любимых призраков, преследовавших меня, больше нет. Я снова приступаю к своему делу и возвращаюсь в то обличье, которое стало моим «я». Друзья, ни слова больше о том, что было между нами, умоляю вас. Пусть память обо мне умрет в ваших сердцах. Я не хочу, чтобы Максимилиан узнал о моем появлении здесь. Если бы с ним случилось несчастье, как с вами, Йонатас, я бы, наверное, не удержался и прижал бы его к своему сердцу. Но я знаю, что он счастлив, так не будем тревожить его покой. Прощайте же, друзья мои! Мне пора в путь. Увидимся ли мы вновь? Не знаю: на все воля Божья. И все же я чувствую, что покидаю замок Эпштейнов не навсегда. Поэтому до свидания, Йонатас! Вы попросите милую Розамунду хранить тайну, не правда ли? А тебе, Эберхард, я должен открыть еще кое-что. Хочешь проводить меня? Мы поднимемся по Рейну до Вормса — это займет несколько дней. Совсем тихо Конрад добавил:
— Мы поговорим о твоей матушке.
— Ах, милый дядюшка, конечно, хочу. Ведь я так люблю вас!
— Решено: выходим через час. А через неделю ты уже будешь дома. Эберхард радовался, что хотя бы на время покидает замок Эпштейнов — особенно потому (поверите ли?), что это удаляло его от Розамунды. Он словно боялся и ее, и самого себя. При мысли о встрече с ней его бросало в дрожь, и он с удовольствием согласился бы на все, что могло отсрочить их свидание наедине. Поэтому он быстро и весело собрался в путь. Присутствие Конрада избавило его от смущения при расставании с Розамундой, и он не заметил того наивного разочарования, которое отразилось на лице девушки, когда она увидела, как легко и радостно он покидает ее.
III
Через неделю, как и рассчитывал Конрад, Эберхард вернулся из Майнца. За одну эту неделю он узнал свой родной край лучше, чем за все предшествующие годы.
Перед тем как направиться домой, Эберхард, по обыкновению, зашел в свое лесное пристанище. Там он сел и задумался.
Сколько всего произошло за этот месяц! Отъезд Йонатаса, появление Конрада, необыкновенные его рассказы, смерть Гаспара, возвращение Розамунды, признание дядюшки о его первом возвращении в замок Эпштейнов, за полгода до появления Эберхарда на свет. Перед мальчиком открылся реальный мир, прояснилось прошлое, но будущее было окутано тайной. Сколько впереди событий, сколько новых замыслов!
Особенно его занимало то, что он узнал от Конрада о своей матушке. Конечно, и старый Гаспар, и Йонатас много рассказывали ему об Альбине, но в этих воспоминаниях были искажения — у одного от старости, у другого от ограниченности — в то время как Конрад воскресил ее образ, запечатленный глазами брата, сердцем поэта и душой мечтателя.
Да еще эта странная история любви Конрада и Ноэми! Рассказ о союзе между замком и хижиной, о судьбе другого человека заставлял его сердце бешено стучать. В этой истории угадывалось пророческое предсказание его собственного будущего. Удивительно: судьба Конрада, которая должна была, казалось бы, стать для Эберхарда маяком, указывающим на опасный риф, завораживала его как обещание, кружила ему голову. Бог словно преднамеренно посылал ему устрашающее предостережение, но Эберхард видел в нем готовое оправдание, ведь Конрад любил Ноэми. Некий молодой человек, граф фон Эпштейн, в одно прекрасное утро вышел из замка и встретил бедную, безродную девушку из домика смотрителя охоты Гаспара. Он полюбил ее и женился на ней — вот что понимал во всей этой истории Эберхард.
Сотни мыслей вертелись, кружились, перепутывались в голове Эберхарда. Мальчик был словно в лихорадке; он чувствовал, как повзрослел, как в нем что-то изменилось. Он был горд от сознания собственной силы. Все свои смутные порывы, неясные надежды, неведомую доселе тоску он поверил матушке в исступленном, впервые ощущаемом восторге. Сам не зная почему, Эберхард был счастлив. Всю жизнь он только мечтал — теперь ему хотелось действовать. Он быстро и легко схватил суть всего нового, что узнал за последнее время, и если он еще не был способен что-то осуществить, то его мысли было подвластно все. Что теперь ему не по силам? Что может остановить его? Что может его устрашить?
Внезапно ему в голову пришла мысль, что он находится всего в полумиле от домика смотрителя охоты и совсем скоро он увидит Розамунду. Он замер и побледнел.
Конечно, все остальное в этом мире было ему под силу. Но хватит ли его смелости на то, чтобы показаться на глаза Розамунде, такой красивой, взрослой, умной? И инстинктивно, не отдавая себе отчета в том, что он делает, Эберхард, вместо того чтобы, как обычно, направиться к домику, повернул в сторону замка.
Уже вечерело, когда Эберхард, машинально толкнув калитку, оказался в парке. Глубоко погруженный в мысли о том, что он узнал, и о том, что надеялся совершить, наш мечтатель не заметил, что во дворах и коридорах замка царит необычное оживление.
Полностью поглощенный своими мечтами, которые всегда отделяли его от окружающего мира, если только этим миром не был дорогой его сердцу лес, ничего не видя и не слыша, он вошел в большой зал. Голова его была опущена, лицо бледно; но, как мы сказали, душа его ощущала себя гордой и смелой, все его существо словно обновилось.
— Господин Эберхард, — объявил слуга, открывая перед ним двери красной комнаты.
Мальчик вошел, не понимая, почему о его приходе объявляют во всеуслышание. Какой-то незнакомый Эберхарду высокий человек сидел перед ярко пылающим камином (из-за непомерной толщины стен в комнате всегда было прохладно, поэтому огонь здесь горел в любое время года). Но пламени камина было все-таки недостаточно, чтобы осветить помещение, и лакей зажег четыре свечи в канделябре; их света едва хватало на треть огромной комнаты, и по темным углам продолжали бродить огромные тени.
— Ах, так вот он какой — господин Эберхард! — насмешливо воскликнул незнакомец, вставая ему навстречу. Мальчика поразило то, что этот человек как будто совсем освоился здесь, в комнате, где жила его мать и где она умерла.
— Да, это я, — сказал он. — А что случилось и что вам угодно?
— Что случилось? Что мне угодно? Мне угодно знать, где вы были, бродяга!
— Я был там, где хотел быть, — ответил Эберхард. — Мне всегда казалось, что я свободный человек и никому не обязан давать отчета.
— Что за дерзости? — сказал незнакомец, нахмурясь и сжав спинку кресла. — Может быть, сударь, вам неизвестно, с кем вы говорите?
— По правде говоря, неизвестно, — самым искренним тоном ответил Эберхард, все больше и больше удивляясь.
— Как?! Вы осмеливаетесь отвечать насмешкой на мои вопросы, шутить в ответ на мои обвинения?
— Может быть, поскольку я не совсем понимаю, почему вы считаете себя вправе расспрашивать меня и предъявлять мне обвинения.
— Почему я считаю себя вправе?.. Да вы с ума сошли, сударь мой! Я граф Максимилиан фон Эпштейн… я… ваш отец.
— Вы граф фон Эпштейн? Вы мой отец?! — воскликнул пораженный Эберхард.
— Вот как! Вы не узнали меня? Что ж, вы нашли очень удачное извинение, особенно для сына.
— Послушайте, ваша милость, уверяю вас, что в такой темноте… К тому же я так долго не имел чести вас видеть…
— Замолчите! — закричал граф, придя в ярость от слов Эберхарда, уязвивших его совесть. — Замолчите и будьте любезны отвечать как подобает послушному сыну, а не как взбалмошный мальчишка!
Граф замолчал. Эберхард стоял, сняв шляпу, и молча ждал. Он покраснел, и в глазах у него стояли слезы. Граф Максимилиан, гнев которого нарастал подобно морскому приливу, ходил взад и вперед по комнате, изредка останавливаясь и поглядывая на мальчишку, которого он только что против своей воли назвал сыном — здесь, в комнате его матери, в комнате Альбины, на том самом месте, где пятнадцать лет назад виновная пала жертвой его гнева, не затухающего и по сей день. Максимилиан ненавидел этого ребенка как кровного врага, он не мог простить ему мучивших его порой угрызений совести, он не мог простить ему и той ужасной ночи, когда ему привиделась мертвая Альбина, качавшая свое дитя в колыбели. Он внезапно остановился перед мальчиком и, побагровев, как будто тот мог прочитать терзавшие графа мысли, скрестил руки на груди и закричал:
— Да отвечайте же!
— Мне послышалось, что вы просили меня замолчать, — ответил Эберхард.
— Я так сказал? Ну хорошо. А теперь я приказываю вам говорить. Так где же вы были? Почему вы пропадаете по целым неделям? Пять дней назад я приехал, послал за вами, а мне отвечают, что никому не известно, где вы находитесь, что сначала вы были на похоронах какого-то плебея, а потом уехали с каким-то бродягой.
— Сударь, я был на похоронах Гаспара Мюдена и…
— Так, значит, вы, граф фон Эпштейн, шли за гробом крестьянина? Прекрасно! Ну, а после этого акта любви к народу куда вы отправились? Отвечайте… Да отвечайте же, черт побери!
— Прошу меня простить, ваша милость, — тихо сказал Эберхард, — но я покидал замок на целые дни и даже недели, потому что знал, что это никого не обеспокоит.
В этих бесхитростных словах, вся сила которых состояла в их искренности, граф усмотрел намек на то, что он совсем забыл о сыне. И действительно, кошмар положения этого отца заключался в том, что мальчик не мог сказать ни слова, чтобы граф не почувствовал себя оскорбленным. Читатель уже видел Максимилиана в гневе и может себе представить ярость, в которую его повергла ирония, невольно прозвучавшая в словах Эберхарда. Грозно наступая на того, кого он считал самозванцем в семействе Эпштейнов, граф закричал громовым голосом:
— Перестаньте оскорблять меня! Вы говорите, ваше отсутствие никого не беспокоило? Черт подери! Да кто же будет из-за вас волноваться? Вы проклятый ребенок, позор нашей семьи, вы невежественный и низкий мальчишка! Разве вы заслуживаете того, чтобы занимать хоть какое-то место в моем сердце, чтобы вообще жить в этом доме? Разве вы заслужили мою любовь и свою долю наследства? Да понимаете ли вы, сударь, кто вы такой?
— Мне сказали, что я ваш сын, граф, и, к сожалению, я знаю только это.
— Вам сказали?! Бессовестный наглец! Вам сказали, — злобно повторил граф, в котором вновь ожили все былые подозрения и былой гнев. — Так, значит, вам кто-то там сказал, что вы мой сын? А вы уверены, — рука графа сильно сжала плечо Эберхарда, — что тот, кто вам это сказал, не солгал?
— Сударь! — возмущенно воскликнул мальчик. — Сударь!.. Клянусь светлой памятью той, которая сейчас смотрит на нас с небес: это вы лжете, ибо вы клевещете на мою матушку.
— Презренный ублюдок! — выкрикнул граф.
В тот же самый миг, не в силах сопротивляться охватившему его бешенству, граф фон Эпштейн размахнулся и ударил Эберхарда по лицу. От этого удара мальчик весь сжался.
Максимилиан, испугавшись того, что совершил, отступил назад, но Эберхард медленно выпрямился и в упор посмотрел на графа.
Воцарилось жуткое молчание. От обиды Эберхард побледнел, грудь его вздымалась, в глазах блестели слезы. Прижав руку к бешено бьющемуся сердцу, он срывающимся голосом произнес всего несколько слов, простых и полных глубокого смысла, наивных и ужасных одновременно. Эти слова ребенка были страшнее угроз взрослого мужчины:
— Берегитесь, сударь, я скажу об этом матушке!
IV
Эберхард вышел из комнаты в полном отчаянии и покинул замок. Некоторое время он шел, не разбирая дороги, потом упал на цветущий луг возле своего любимого грота и разрыдался. Слезы несколько успокоили его, и он стал собираться с мыслями.
Не далее как два часа назад он чувствовал себя полным гордой радости, повзрослевшим от новых мыслей. Дружба и любовь вошли в его одинокую жизнь. И вдруг одно, только одно оскорбительное слово снова превратило его в маленького ребенка, и он заплакал. Он снова был одинок: с одной стороны была любовь к Розамунде, которой он боялся, с другой — ненависть отца, которого он стыдился. Дорога и в замок, и в лесной домик была для него закрыта. У него оставалось единственное убежище — его маленькая безлюдная долина, и единственный друг и покровитель — тень Альбины: пустыня и призрак.
— Ах, матушка, матушка! — бормотал он сквозь рыдания. — Как тяжко нас обоих оскорбили! Матушка, ты здесь? Ты еще слышишь меня? Может быть, ты тоже отреклась от своего сына и покинула его? Ты же знаешь, как ужасно со мной обошлись. Но пощечина еще не худшее оскорбление: самое страшное и позорное, что при мне унизили твое имя, осквернили твою память и растоптали все, что я любил и уважал. Что же мне делать, матушка, посоветуй! Разве мой гнев не справедлив? Разве мое возмущение — святотатство? Матушка, посоветуй, что мне делать? Утешь меня! О, как ужасно я страдаю!
Жалобные крики и мольбы вырывались из груди Эберхарда, но вместе с безутешными слезами понемногу уходила и его горькая тоска; вскоре он вновь обрел способность слышать, видеть и достаточно спокойно рассуждать.
Стояла тихая и прохладная ночь; в небе сверкали звезды; белый лунный свет дробился в воде ручья и рассыпался тысячью алмазных осколков; воздух был наполнен ароматом дикого боярышника. Восхищенный соловей в темной роще пел гимны прекрасной и безмятежной природе. Все дышало торжеством, любовью, восторгом. И ужасные мысли, терзавшие ум Эберхарда, улетучились словно по велению высшей силы. Соловьиные трели убаюкивали его; вокруг мерцали неясные отблески, и на душу Эберхарда снизошло умиротворение. Он поднял голову и посмотрел на небо. Легкий вечерний ветерок высушил его слезы.
— Да, матушка, конечно, моя добрая матушка, — бормотал он, — ты права: не стоит обижаться, не стоит грустить. Ведь ты святая, ты недосягаема для оскорбления, которое он хотел тебе нанести, оно не может коснуться тебя, как я не могу удержать в руке этот лунный свет. Как я был глуп! Как меня могут огорчить упрек или наказание, если они исходят не от тебя? Ты ведь любишь меня, матушка. Я слышу тебя, я чувствую твое присутствие в прозрачном ночном воздухе, и от этого ночь кажется мне такой чистой и сладостной гармонией, ведь ты источник и скрытая душа ее. Спасибо, спасибо, матушка. Мне хорошо и спокойно: я знаю, что ты не сердишься на меня, что ты меня жалеешь и любишь. Я слышу твой голос в журчании ручья, ловлю твое дыхание в дуновении ветра. Спасибо.
Скажи мне еще что-нибудь, поцелуй меня, приди ко мне благоуханным ветерком, и я засну под твоим ангельским взглядом счастливым и спокойным сном.
И вправду, бормоча эти слова, мальчик закрыл глаза, дыхание его стало тихим и ровным: он погрузился в глубокий сон.
А теперь посмотрим, как спится в замке, так же ли сладко, как в лесу? Граф был словно громом поражен, услышав бесхитростные слова Эберхарда:
«Я скажу об этом матушке». Для его вечно неспокойной совести эти слова заключали в себе устрашающий смысл.
Кто мог научить ребенка этому мене, текел, упар-син? Вот о чем думал бледный от страха Максимилиан, пытаясь унять дрожь в руках. Неверными шагами он дошел до звонка и бешено затряс колокольчик; потом, обессилев, рухнул в кресло.
На шум прибежали лакеи.
— Разведите огонь! Зажгите свечи! — закричал граф. — Сейчас же! Немедленно!
Лакеи бросились выполнять приказ. Вскоре в очаге уже пылал огонь и шесть зажженных в канделябрах свечей стояли на камине.
— Люстру зажгите тоже! — крикнул Максимилиан. — А вы, — обратился он к одному из лакеев, — найдите Эберхарда и приведите его сюда.
В ту минуту душу графа объял такой смертельный ужас, что он захотел вернуть мальчика и взять назад свое оскорбление. Тогда, думал Максимилиан, и Эберхард, быть может, откажется исполнить свою угрозу. Но вскоре вернулся слуга и сообщил, что молодого графа везде искали, но не нашли.
— В таком случае позовите моего секретаря: он нужен мне для работы. Сходили за секретарем. Граф заявил ему, что необходимо проверить счета арендаторов, и под этим предлогом продержал его до девяти часов вечера. В девять графу подали ужин. Максимилиан спустился в столовую один, приказав секретарю продолжать работу и ждать его возвращения. Ему казалось, что присутствие чужого человека отпугнет привидение от комнаты.
В столовой графа уже ждал Альбрехт. Это был долговязый молодой человек с печальным, дерзким и скучающим лицом, в свою очередь наводящим скуку. Граф был настолько бледен и взволнован, что Альбрехт, с удивлением посмотрев на него, спросил более заинтересованно, чем обычно, не случилось ли с ним чего-нибудь. Громким и бодрым голосом Максимилиан ответил, что ничего не произошло. Потом, гремя стульями, он сел за стол. За ужином он много говорил и смеялся, много ел и пил. В какое-то мгновение ему вспомнилось, что вино поможет ему заглушить страх, но потом он решил, что винные пары сами по себе порождают видения. Он перестал есть и задумался так глубоко, что не заметил, как Альбрехт вышел из столовой. Из оцепенения Максимилиана вывел голос лакея, беспокоившегося, не дурно ли господину. Граф рассеянно посмотрел вокруг, увидел, что он сидит за столом один, и спросил, где его сын. Ему ответили, что Альбрехт ушел к себе. Тогда и Максимилиан решил вернуться в свою комнату. Там он застал секретаря за работой.
— Скажите, Вильгельм, вы ничего не видели и не слышали? — спросил он.
— Нет, ваша милость, — ответил секретарь. — А что случилось?
— Ах нет, ничего, — сказал граф. — Мне показалось, что в комнате есть кто-то, кроме вас.
— Господину графу действительно это показалось. И секретарь снова погрузился в работу.
Граф стал нервно ходить по комнате, иногда останавливаясь возле потайной двери и глядя на нее с непреодолимым ужасом.
— Вильгельм, — обратился он к секретарю, задержавшись за его креслом, — как вам кажется, когда вы закончите работу?
— Часа через три-четыре, ваша милость, — ответил секретарь.
— Дело в том, что ее необходимо закончить до завтрашнего утра.
— Я могу забрать работу с собой и доделать ее ночью.
— Нет, лучше оставайтесь здесь, — сказал Максимилиан.
— Но я могу помешать спать господину графу.
— Нет, вы не помешаете. Впрочем, мне немного нездоровится и ваше присутствие даже кстати.
— Как будет угодно господину графу.
— Вот и сделайте, как я говорю, — сказал Максимилиан. — Думаю, так будет лучше.
Секретарь поклонился и, убежденный в том, что проверка счетов действительно не терпит отлагательства, снова сел за работу.
Максимилиан был просто счастлив, что нашел предлог кого-нибудь оставить в комнате на ночь. С помощью камердинера он разделся и лег в постель.
Несмотря на все эти предосторожности, Максимилиану долго не удавалось заснуть. В комнате горел свет; за столом сидел Вильгельм, и было слышно, как скрипит по бумаге его перо; да, призраков не было, но вместо них были мысли. Одно только успокаивало графа: за окном стояла ясная июньская ночь, ничем не напоминавшая зловещее и бурное ненастье накануне Рождества; напротив, в природе царило сонное умиротворение и сквозь приоткрытые ставни было видно звездное небо.
Присутствие Вильгельма ободрило графа, и ему наконец стали смешны все его безумные фантазии. Он задернул занавески балдахина, чтобы закрыться от света, и забылся в тревожном сне.
Некоторое время он спал, но вдруг, безо всякой видимой причины, резко подскочил и сел на кровати, обливаясь холодным потом. О ужас! Сквозь щель в занавесках граф увидел, что свечи в канделябрах и люстре гаснут одна за другой.
Вильгельм спал в своем кресле, видимо обессилев от усталости. Граф хотел крикнуть и разбудить его — но голос ему не повиновался, как будто невидимая рука сжимала его горло. Он хотел встать с кровати — но почувствовал, что его держат незримые цепи. Тем временем, со зловещей последовательностью, свечи продолжали гаснуть. Наконец три остававшиеся свечи потухли в свою очередь и комната погрузилась в полный мрак.
Почти в ту же секунду послышался скрип дверных петель. Граф ничком упал на кровать, не в силах оторвать взгляд от стены, и зарылся головой в простыни.
Тут он явственно услышал, что кто-то подходит к его постели, скорее даже не услышал, а почувствовал по движению воздуха. Сам того не желая, но не в силах сопротивляться какой-то непреодолимой силе, граф высунул голову из простынь, и его блуждающий взгляд устремился туда, откуда приближались шаги.
Он пытался встать, пытался издать хоть какой-нибудь звук, но все его усилия были тщетны: он не мог ни прогнать грозного призрака, ни убежать от него. Потом занавески перед его кроватью приоткрылись, и граф окаменел от ужаса, узнав бледную тень Альбины.
Роковая посетительница выглядела так же, как при их первом свидании, только на этот раз в ее взгляде было больше суровости и гнева. И когда Максимилиан почувствовал на себе этот неподвижный, как у статуи, взгляд, кровь застыла у него в жилах, волосы поднялись дыбом, и он, живой преступник, казался мертвым больше, чем его вставший из могилы судья.
И вот в тишине звездной ночи, точно так же как четырнадцать лет назад среди завываний бури, раздался властный и гневный голос Альбины:
— Максимилиан! Что же, Максимилиан, ты позабыл, о чем тебя просила умирающая и что тебе приказывала мертвая? Ты ударил моего сына и осквернил мою память! Берегись, Максимилиан! Берегись! Ребенок вынесет тебе приговор, а я покараю тебя. Я говорю с тобой в последний раз: выслушай и постарайся ничего не забыть, а главное — постарайся хотя бы сейчас поверить мне, потому что, если слова, произнесенные моими холодными губами, не смогут убедить тебя, мне придется увещевать тебя по-другому — вот этой ледяной рукой.
Граф, казалось, собирался что-то сказать, но властный жест Альбины остановил его. Она продолжала:
— Послушай, Максимилиан: Эберхард действительно твой и мой сын. Он такой же твой сын, как Альбрехт. Но Альбрехта ты любишь, а Эберхардом пренебрегаешь. Что ж, пусть будет так. Я забочусь о своем ребенке и не нуждаюсь в тебе, чтобы воспитать из него мужчину. А ты, если хочешь, уходи. Уезжай из замка и не думай больше об Эберхарде. Возвращайся в Вену: туда призывает тебя твое честолюбие. Это не просто разрешение, это мой настоятельный совет. Но именем всемогущего Бога запрещаю тебе поднимать руку на моего сына. Ни один волос не должен упасть с его головы. Можешь его покинуть, но не смей ему угрожать. Если ты безразличен к нему — воля твоя, но ты не имеешь права быть к нему жестоким. Раз уж ты не хочешь быть ему отцом, не становись его мучителем. Ты не вправе ни отбирать его у меня, ни наказывать его. Я не желаю — слышишь? — чтобы ты хоть пальцем дотрагивался до моего сына. Если ты ослушаешься меня, Максимилиан, — берегись: ты погибнешь в этом мире и будешь проклят в мире ином. Наша первая встреча после моей смерти произошла наверху, в детской. Сегодня мы встретились этажом ниже — здесь, в красной комнате. Но в следующий раз тебе придется самому прийти ко мне в склеп — в мою могилу.
— О Господи! — прошептал граф.
— Прежде чем я вернусь в свое гранитное жилище, хочу сказать тебе еще кое-что. Моя душа действительно сейчас говорит с тобой, и не обольщайся: это не сон. Четырнадцать лет назад ты сказал себе, проснувшись утром: «Мне все это приснилось». Ради Эберхарда и ради тебя самого я не хочу, чтобы ты пребывал в этом роковом заблуждении. Ты помнишь эту цепочку, Максимилиан, надетую тобой двадцать лет назад на шею юной невесты, а четыре года спустя похороненную вместе с холодным трупом твоей жены? Завтра, Максимилиан, ты проснешься с этой цепочкой на шее, и тогда ты уже не посмеешь сказать, что этой ночью тебе всего лишь снился кошмарный сон; тебя уже не спасет твое слепое и смертельное легкомыслие, ибо своими собственными глазами ты увидишь и собственными пальцами ощутишь доказательство моего появления и залог моих слов. Ты подарил мне эту цепочку, когда я была жива, прими же ее назад из моих мертвых рук.
С этими словами Альбина сняла с шеи цепочку и надела ее на помертвевшего от страха Максимилиана.
Губы графа зашевелились, но он не мог произнести ни слова.
— Теперь, — снова раздался голос Альбины, — я все сказала. Прощай или до свидания, Максимилиан, и помни!
Последние слова граф услышал как будто издалека, он даже не успел увидеть, как призрак удалился: глаза его закрылись, дыхание замерло, он без чувств упал на подушку.
А в это самое время на мягкой лесной траве Эберхард спал блаженным и счастливым сном.
Когда на следующий день первые лучи солнца разбудили графа, а точнее, заставили его очнуться от ночного обморока, рука его сразу же потянулась к шее: пальцы почувствовали холодок золотых звеньев, и граф побледнел как полотно.
— Вильгельм! — закричал он. — Вильгельм! Да проснись же, несчастный! Секретарь испуганно открыл глаза.
— Что случилось, ваша милость? — спросил он ошеломленно.
— Я хочу видеть смотрителя охоты Йонатаса. Спуститесь вниз и пошлите за ним лакея. Мне немедленно нужно с ним поговорить.
— А как быть с моей работой? — робко спросил Вильгельм. — Закончить ее здесь?
— Нет, вы будете работать у себя. Я хочу побыть один. Как ни спешил Вильгельм выполнить приказание графа, а лакей — приказание Вильгельма, но вызванный к хозяину Йонатас, войдя в красную комнату, застал его уже одетым. Увидев бледное и осунувшееся лицо графа, Йонатас в испуге попятился к дверям. Максимилиан попытался улыбнуться.
— Йонатас, — сказал он, — подойди ко мне и говори правду. Ты ведь видел, как мою покойную жену Альбину заворачивали в саван, как ее клали в гроб, как заколачивали крышку?
— Увы, ваша милость, видел.
— А как она была одета?
— На ней было белое свадебное платье. И, клянусь, мертвая, она была прекраснее невесты.
— А ты не заметил, Йонатас, было у нее что-нибудь на шее?
— Конечно, ваша милость, на госпоже была золотая цепочка, которую вы ей подарили и с которой она завещала себя похоронить.
— И ты бы смог сейчас узнать эту цепочку?
— Да, ваша милость, конечно, не будь она так надежно спрятана. Ведь тело госпожи покоится в трех гробах — сосновом, дубовом и свинцовом под мраморной плитой.
— Посмотри хорошенько, Йонатас: узнаешь?
— Или это обман, или чудо! — воскликнул Йонатас. — Это точно та самая цепочка, ваша милость!
Граф еще более побледнел, снова надел цепочку себе на шею и знаком дал Йонатасу понять, что тот может быть свободен.
Спустя четверть часа, спешно собрав вещи, граф и его сын Альбрехт были уже в пути. Не спросив об Эберхарде и не оглядываясь назад, граф Максимилиан возвращался в Вену.
V
Эберхард, утомленный трехдневным путешествием и всем пережитым накануне, проснулся поздно. Солнце уже высоко стояло на небе, распевали птицы — мир был полон света и радости. Но в чистом лазурном небе Эберхард заметил черную тучу, медленно идущую с севера.
Он долго смотрел на небо, время от времени переводя взгляд на тучу. «Это небо и эта туча, — рассуждал мальчик, — символ моей судьбы.
Сегодня я счастлив и спокоен, потому что матушка довольна мной, а завтра, быть может, меня ждут сильнейшие потрясения. Да и что будет со мною завтра? Я не хочу возвращаться в замок, к своему отцу, который принял бы меня хуже, чем нищего, но я не хочу возвращаться и в домик Йонатаса: там мое место теперь заняла Розамунда, а встречи с ней я так боюсь, сам не знаю отчего. Что же мне делать? Где найти себе пристанище? Только вы, матушка, вы одна и остались у меня!..»
Эберхард подпер голову руками и задумался. Он не плакал, но лицо его было озабоченным: тысячи мыслей и планов вертелись у него в голове. Наконец решение было принято. Эберхард встал и твердо сказал себе:
«Итак, слабость недопустима. Единственное, что мне остается, — отправиться к дяде Конраду. Только как же можно ехать одному и без денег? Не знаю как, но я не откажусь от этого намерения. Всего неделю назад я впервые покинул эти места, а теперь снова отправляюсь в путь. Бог, помогающий всем людям на земле, поможет и мне, а уж матушка не оставит меня. С их помощью, надеюсь, я буду сильным и отважным. Но если в конце концов непреодолимое препятствие или же какие-нибудь непредвиденные обстоятельства заставят меня повернуть назад и отказаться от моего решения — значит, на то воля Божья и такова воля моей матушки, и я покорюсь. Мне кажется, что я поступаю правильно, но если они посчитают, что действовать по-другому будет лучше, — пусть будет так. Я строю свою жизнь как могу, а они пусть ведут меня по избранному ими пути».
На сборы Эберхарду не требовалось много времени. Все его достояние было при нем. Ему оставалось только взять в руки палку и отправиться в путь. Но прежде чем покинуть свой милый лес, свою долину, свой грот, Эберхард упал на колени и обратился к матушке с пламенной молитвой.
Молитва придала ему твердости. Довольный собой, не рассуждая, не размышляя, он встал и начал быстро взбираться на холм, направляясь к дороге, ведущей в Майнц. Был, должно быть, полдень, когда Эберхард вышел на большую дорогу, обсаженную вязами. С одной стороны от него был лес, с другой — долина Майна и дорога, ведущая во Францию. Итак, Эберхард навсегда покидал родительский дом и вскормивший его лес. За следующим изгибом дороги он будет уже почти в чужой стране. Но прежде чем скрыться за поворотом, он оглянулся и окинул прощальным взглядом владения Эпштейнов с рассеянными тут и там домишками.
Да, Эберхард не ошибся, доверив свою судьбу Провидению и предоставив ему вершить свою святую волю. В последний раз оглядываясь на то, что через минуту станет уже недосягаемым для его взора, он заметил Йонатаса, как раз сворачивавшего с лесной тропинки. Под мышкой у него было ружье; он вел за поводок свою маленькую лошадку, на которой гордо восседала улыбающаяся Розамунда. Фигуры отца и дочери четко вырисовывались на фоне синевы неба и зелени деревьев.
Наш путешественник, собиравшийся бросить прощальный взгляд на родную землю, застыл на месте, разглядывая Йонатаса и Розамунду, словно они явились ему во сне, и не думая о том, что направлявшиеся в его сторону друзья неизбежно его заметят. Он, не двигаясь, наблюдал за их приближением; перед ним забрезжила возможность другой жизни, ничуть не похожей на ту, которую он рисовал себе мгновение назад. А ведь окажись Эберхард на дороге пятью минутами позже или пятью минутами раньше, его ожидало бы иное будущее.
Но пока наш уже поседевший добрый Йонатас и прекрасная белокурая Розамунда еще далеко от Эберхарда, попробуем заглянуть в сердце девушки, разгадать тайны ее души, прочитать ее мысли и попытаемся представить себе ее жизнь.
Последние годы Розамунды прошли в монастыре Священной Липы. Там сформировались ее чистая душа и проницательный ум. Языки, история, музыка — все эти предметы равно увлекали ее. Только две вещи были ей до сих пор неведомы, несмотря на чудесную способность все понимать и обо всем догадываться, — это зло и порок. Сочетание жизненной искушенности и целомудрия не так уж часто встречается в наше время, но в Розамунде эти добродетели прекрасно уживались: в свои пятнадцать лет умом она была зрелая женщина, но сердцем — сущее дитя.
Впрочем, до последнего времени жизнь Розамунды была небогата событиями: прилежная учеба и живое общение с подругами — вот все, что наполняло ее существование; она много чувствовала, много размышляла, но мало действовала. Среди всех своих подруг — а это были наследницы самых богатых и знатных домов старой Австрии — она всегда была первой в науках, и при этом, как ни странно, пользовалась всеобщей любовью. Со всеми Розамунда была ласкова, и за это ей прощали ее превосходство. Все пансионерки были ее подругами или добивались этого; они уважали ее, признавали ее авторитет, спрашивали у нее совета — но никогда не завидовали ей. Она была величавой, очаровательной и доброй королевой своего милого и юного народа, и в этой роли пользовалась благосклонностью наставниц, которые признавали в Розамунде равную себе. Поэтому ее отъезд поверг в настоящее отчаяние и монахинь и воспитанниц.
Однако в монастыре Священной Липы ей уже было особенно нечему учиться, наоборот — скорее она могла бы учить других. Пятнадцатилетняя Розамунда была настолько любознательна, что опережала курсы наук и занятия уже не давали ей ничего нового. Но пусть читатель не думает, что это хоть как-то повлияло на ее скромность и обходительность. Безо всякого позерства, с поразительной простотой она могла так рассказать и об истории народов, и об отдельных людях, что, несмотря на широту нарисованной ею картины, казалось, будто она не забыла ни одной подробности. С искренним воодушевлением и нескрываемым восторгом она рассказывала о Корнеле и Клопштоке, о Гёте и Шекспире. В музыке она не меньше восхищалась гением Глюка и Палестрины, Моцарта или Паизиелло. И поверьте, поэтическое видение мира и тонкое понимание музыки нисколько не мешали ей лучше всех прыгать через веревочку и превосходно играть в волан. Монахини видели ее на школьной скамье серьезной и сосредоточенной, а с подругами в старом каштановом саду она становилась шалуньей и хохотушкой. Именно за это прелестное сочетание веселости и общительности, с одной стороны, и вдумчивости и прилежания — с другой, Розамунда пользовалась всеобщей любовью и уважением.
Среди всех своих подруг — а это были, как мы уже говорили, все воспитанницы монастыря — самой близкой была Люцилия фон Гансберг — дочь бывшего посла при английском дворе, лишенного этого поста несколько лет назад из-за дипломатических интриг. Для Люцилии родным языком был английский, поскольку ее мать была англичанкой. Люцилия легко научила свою неразлучную подругу английскому языку, не говоря о том, что дочь смотрителя охоты стала время от времени гостить в аристократическом доме Люцилии. Там для Розамунды приоткрылась жизнь светского общества. Однако душевная чистота девушки помогала ей не видеть порока, царившего вокруг, и заставляла окружающих относиться к ней почтительно. Благородное сердце Розамунды оставалось безмятежным. Всякий раз без тени сожаления она возвращалась в монастырь, и жизнь ее протекала все так же спокойно и просто.
Но мы не упомянули об одном событии, которое занимало юные умы Розамунды и Люцилии, быть может, гораздо больше, нежели пресные комплименты венских придворных. Таким событием стала для них пьеса «Ромео и Джульетта», прочитанная втихомолку под сенью жимолости. Пламенная и целомудренная поэзия любви перенесла наших земных ангелов в идеальный мир, который был для них стократ опаснее мира действительного. Картина страстей, написанная мощной кистью Шекспира, повергла их в задумчивость и смятение. И мечтательный покой их сердец вскоре уступил бы под напором восторга, переполнившего непорочные пятнадцатилетние сердца; но целомудренная душа Розамунды быстро очнулась от губительного сна, и это смутное откровение любви осталось одинокой тенью, растворившейся в сиянии их лучезарной юности.
Легко догадаться, каким горем стало расставание для наших неразлучных подруг. Но Розамунда должна была уехать с отцом, оставив монастырь и своих друзей. Все пансионерки были опечалены не меньше, чем она сама. Они устроили ей торжественные проводы и, обливаясь слезами, целовали ее на прощание.
— Мы всегда будем помнить о вас и любить вас, — слышалось со всех сторон. — Кто теперь будет мирить нас? У кого мы сможем спросить совета? Кто заступится за нас перед наставницами? Наш ангел-хранитель, наша путеводная звездочка покидает нас.
И подарки, и обещания, и ласковые слова! Нет, ее не могли отпустить так сразу, она не могла уехать так неожиданно, она должна была остаться еще хотя бы на несколько дней, поэтому Йонатас и задержался в Вене дольше, чем рассчитывал.
Настоятельница и монахини были расстроены не меньше, чем воспитанницы.
— Если вы не найдете счастья в миру, — говорили они Розамунде на прощание, — возвращайтесь в монастырь Священной Липы. Здесь вас всегда будут ждать кровать в дортуаре, парта в классной комнате и материнская любовь в наших сердцах.
— Благодарю вас, добрые мои матери, благодарю! — отвечала Розамунда, утирая слезы. — Ах, поверьте, если бы мой батюшка не был одинок, если бы мой дедушка не был бы при смерти и не звал меня к себе, если бы брат не ждал меня, я никогда бы не покинула вас. Мне кажется, что всю радость и все спокойствие, какие были в моей жизни, я оставляю здесь. И если когда-нибудь мне придется худо или я больше никому не буду нужна, — о, поверьте! — тогда я вернусь. Увы! Добрые матери мои, я уже предчувствую, что вернусь.
Тем не менее нужно было ехать: умирающий старик не мог долго ждать. Пришло время расставаться с монастырем, с монахинями, с подругами, с Люцилией. Вот они уже в сотый раз поцеловались, в сотый раз поклялись писать друг другу, уже сказали последнее «прощай», но тут Люцилия потребовала, чтобы Розамунда приняла от нее на память подарок — маленький шкафчик черешневого дерева с книгами их любимых авторов; английское издание Шекспира притаилось в дальнем углу шкафчика.
— Когда ты раскроешь книги наших великих поэтов, — сказала Люцилия, — вспомни, Розамунда, те дни, когда мы читали их вместе, и вспомни ту, которая читала эти книги вместе с тобой. Прощай же, милая сестрица, прощай! А может быть, до свидания!
И тяжелые ворота монастыря закрылись за Розамундой.
«Суждено ли мне вновь войти в эти ворота? — задумчиво спрашивала себя девушка, удаляясь от монастыря под руку с отцом. — Увижу ли я когда-нибудь эти мирные стены, добрых монахинь, милых подруг?.. Ах, я не смею сказать: „На все воля Божья“. Я была здесь счастлива, потому что была молода, но я вернусь сюда только тогда, когда мне станет плохо. А если радости становятся для нас утешением, то в них появляется привкус горечи. Даже в раю может быть грустно, если рай превращается в убежище. И поэтому дай Бог, чтобы мне не пришлось снова вернуться в милое гнездо моего детства!»
Однако вскоре путешествие увлекло Розамунду и новые впечатления завладели ее вниманием. Сначала она была молчалива, но потом стала отвечать на вопросы Йонатаса, а через два дня уже сама расспрашивала его о жизни в замке Эпштейнов и о тех, кого ей предстояло скоро там увидеть.
Наш славный Йонатас только того и ждал: он, бедняга, несколько ревниво наблюдал, с каким сожалением Розамунда покидает монастырь. Поэтому он отвечал на все вопросы дочери самым подробнейшим образом. Он не осмелился пообещать ей, что дома она будет счастлива, но сказал, что все будут ее любить, а главное — она станет его гордостью и радостью; сама себе хозяйка, она будет пользоваться полной свободой, как и раньше, в те времена, когда была маленькой девочкой и мать баловала ее. Он напомнил Розамунде об Эберхарде, которого ей предстояло скоро увидеть, и рассказал, какой он добрый и простой, как он грустил без нее и с каким нетерпением он ее ждет. Впрочем, об Эберхарде Йонатас мог и не говорить: даже если предположить, что Розамунда забыла белокурого товарища своего детства, то приходившие к ней в монастырь письма, полные братской нежности, все время напоминали ей о нем. Сердце Розамунды хранило его образ, ведь они родились в один и тот же день, и оба были сиротами.
Эберхард ее ровесник, он одинок и несчастен — и Розамунда, с детства хранившая любовь к нему, преисполнилась нежным сочувствием. Теперь она утешит брата, развеет его одиночество. Розамунда прямо-таки засыпала Йонатаса вопросами, и все, что рассказывал ей об Эберхарде отец, складывалось в ее воображении в чарующий романтический портрет юного мечтателя. Девушка была охвачена безотчетным желанием поскорее его увидеть, но если бы это непорочное создание задумалось о причине своего нетерпения, та показалась бы ей совершенно естественной: Эберхард был ее братом, вскормленным тем же молоком, что и она; они вместе росли, и мать Розамунды не делала между ними никаких различий; Эберхард был сыном Альбины, ее благодетельницы, память о которой была до сих пор жива в монастыре Священной Липы;
Эберхард, в конце концов, по рождению и воспитанию должен был стать единственным живым существом, которое сможет понять ее не только сердцем, но и умом. Отец говорил ей, что у Эберхарда простая душа и золотое сердце, и она не спросила, образован ли он, умен ли, потому что в ее мечтах это предполагалось само собой, ведь главное, чтобы он не был надменным гордецом. Между ними лежала глубокая пропасть, но разве общее горе не сблизило их? И разве об этом, позвольте спросить, думают в пятнадцать лет?
Так Розамунда, прелестное и невинное дитя, безмятежно предавалась целомудренным мечтам о том, кого она всегда в глубине души называла своим братом. Все ее желания были сосредоточены на той минуте, когда она сможет протянуть ему руку и поделиться с ним всеми бесчисленными новостями, которые она припасла для него.
Надо ли говорить, что мысли о встрече с Эберхардом почти вытеснили из ее сердца скорбь, вызванную близкой кончиной дедушки? В конце концов, почему бы нам не признаться в этом прямо? Ведь эгоистическая забывчивость молодости, которая не замечает в мире ничего, кроме себя самой, и любит смотреть только в будущее, так естественна и даже, не побоимся утверждать это, так очаровательна, что мы охотно прощаем эту забывчивость, а порой и потворствуем ей. Пусть молодость пренебрегает прошлым, пусть ее не заботит вчерашний день: дело просто в том, что ее царство — завтрашний день, будущее!
Выше мы описывали приезд Розамунды во владения Эпштейнов и ее первую встречу с Эберхардом. Юноша был не просто скромен — он был даже застенчив. Он не только не выказывал никакой надменности — напротив, он робел. Робость и смущение его произвели самое благоприятное впечатление на серьезную и твердую в своих убеждениях девушку, которая больше всего на свете презирала напыщенность и дерзость. Но когда Розамунда заметила, что Эберхард как будто избегает ее, радость ее сменилась грустью. Выходит, он ее не понимает! А когда Эберхард уехал вместе с дядей Конрадом, почти не взглянув на нее, она с трудом сдержала слезы. Увидев, что он не ответил ей на то расположение, которое ей сразу же внушил этот нежный мечтательный юноша, Розамунда почувствовала настоящую обиду. Ей казалось, что она могла бы помочь Эберхарду, поддержать его, и ей было больно отказываться от роли любимой сестры, которую она могла бы так хорошо исполнить. Не заслуженная ею холодность Эберхарда ранила девушку. Почему он сторонился ее? И что она могла сделать, чтобы снова сблизиться с ним?
Все то время, когда Эберхард отсутствовал, Розамунда пребывала в беспокойстве и смятении, хотя отец окружил ее нежной заботой и всячески старался ее развлечь. Каждое утро, хотелось ей или нет, ей приходилось садиться на лошадь и ехать осматривать еще один участок лесного царства. Йонатас был счастлив, когда ему удавалось чем-нибудь удивить ее, вызвать ее улыбку или восторженный возглас. Он старался больше говорить об Эберхарде, поскольку сразу же заметил, как эти разговоры приятны дочери: когда речь заходила о юноше, на щеках Розамунды появлялся румянец, а в глазах загорался огонек.
Теперь читатель хорошо знаком с Розамундой. Но пока мы рассказывали о ней, она уже успела вплотную приблизиться к нашему герою, продолжавшему молча и неподвижно стоять под деревом и смотреть на девушку так, как будто она привиделась ему во сне. Итак, давайте вернемся к молодым людям; мы увидим их вместе.
VI
Розамунда, первой заметившая Эберхарда, удивленно воскликнула:
— Ах, Эберхард! Братец мой!
Она тотчас спрыгнула с лошади и побежала навстречу ему, протягивая к нему руки. На душе у Розамунды было радостно: она только что узнала от отца, как Эберхард однажды прямо в одежде бросился в Майн, чтобы спасти ребенка бедной женщины, когда тот, играя, упал в воду.
— Ах, так вот вы где, Эберхард! Как же долго вас не было! В самом деле, мы уже стали беспокоиться. Нехорошо так долго держать нас в неведении. Но теперь мы вас нашли и все забыто.
Пока она это говорила, к молодым людям подошел Йонатас.
— Ну наконец-то наш дорогой Эберхард вернулся, — сказал он. — Вы еще не знаете, Эберхард, что, пока вас не было, в замок приезжал ваш отец и, клянусь, самым настоятельным образом требовал вас к себе несколько дней подряд. Но потом уехал, так и не повидав вас.
— Так он уехал?! — воскликнул Эберхард.
— Да, видит Бог, уехал сегодня утром. По правде говоря, уезжая, он не очень-то вспоминал о вас. Он, впрочем, очень спешил и как будто был сильно взволнован. Я был рядом, когда он уезжал, и мне показалось чрезвычайно непонятным, что он ни разу не произнес вашего имени. Незадолго до этого он послал за мной и задавал мне очень странные вопросы. Лошади уже трогались, ну я и спросил его: «Так, значит, ваша милость не будет дожидаться возвращения господина Эберхарда?» И тут граф злобно крикнул, чтобы я замолчал.
— Он уехал! — повторял Эберхард. — Уехал!
— Да, но зато вы вернулись, — ласково сказала Розамунда.
Эберхард посмотрел на нее со смешанным чувством нежности и смущения. Девушка с улыбкой опустила глаза.
— А раз он вернулся, — подхватил отец, — то, право же, теперь вы можете продолжать прогулку без меня. Вот уже целую неделю, Розамунда, я вожу твою лошадь под уздцы и веду с тобой беседы, а мое ружье остается без дела. Между тем для волков и браконьеров здесь сейчас настоящее раздолье. Ну, Эберхард, мой прекрасный рыцарь, замените меня и покажите Розамунде здешние цветущие луга — вы их знаете лучше меня. Вы, верно, не обедали? Ну да не беда, пообедаете вместе. У Розамунды в сумке есть все необходимое, а на сладкое нарвите дикой ежевики и земляники. Воды наберите из ручья. Ну, дети, теперь я покину вас. До вечера; жду вас к ужину! Мне ведь не нужно представлять вас вашей сестре, Эберхард? Желаю вам хорошей прогулки, друзья!
С этими словами Йонатас вскинул на плечо свое ружье, помахал молодым людям на прощание рукой и, насвистывая, углубился в лес.
Розамунда и Эберхард остались вдвоем в некотором замешательстве. Розамунда первая нарушила молчание:
— Поскольку пора обедать, Эберхард, мы, если вы не возражаете, устроимся на этом лугу, в тени вон того большого дуба. Там, на траве, в сопровождении птичьего концерта, мы пообедаем по-королевски.
Сказано — сделано. Эберхард привязал лошадь к дереву, Розамунда разложила на траве снедь, и наши друзья приступили к еде с таким аппетитом, что лучшего и не пожелаешь. Между тем Эберхард не произнес еще ни слова, не считая тех незначительных реплик, которыми они обменялись во время этого четвертьчасового привала. Но Розамунда все могла прочитать в его глазах, более красноречивых, нежели его уста, ибо взгляд Эберхарда выражал его мысли яснее слов. Читатель уже знает, что Эберхард носил простую и грубую одежду крестьянина-горца, но она не портила его: он светился той внутренней красотой, которая наилучшим образом передается словом «облик». В манерах, усвоенных им с детства, угадывалась гордая и благородная душа; твердый и добрый взгляд сразу очаровывал и внушал доверие. Несмотря на неразговорчивость и угловатость Эберхарда, только глупец мог не разглядеть в нем ума. А Розамунда была такой тонкой и проницательной, какой только может быть добрая и искренняя девушка. Кроме того, люди с честным и чистым сердцем — и оно их не обманывает — всегда испытывают друг к другу взаимную симпатию.
— Когда мы закончим наш обед, — сказала Розамунда, — покажите мне ваши любимые места в лесу. Хорошо, Эберхард? Вам, надеюсь, не обидно быть мне спутником и проводником?
— Мне? Обидно?! — воскликнул Эберхард.
— Или, может быть, — продолжала Розамунда, — я нарушила ваше одиночество и испортила вам прогулку? Ведь, как я теперь понимаю, вы любите одиночество. А я вас так жалела!
— Вы? Вы жалели меня, Розамунда?
— Да. Я говорила себе, что теперь, по крайней мере, у вас будет сестра и подруга! Я так надеялась, что мы сразу найдем общий язык. Я вспоминала наше прошлое, и мне казалось, что здесь, в этом прекрасном и тихом райском уголке, мы сможем воскресить нашу нежную детскую дружбу, что мы, как прежде, будем братом и сестрой. Это место словно создано для счастливой и непорочной жизни. А еще я мечтала, что у нас все будет так, как в романе «Поль и Виргиния», — добавила она, сначала засмеявшись своей фантазии, а потом внезапно покраснев.
— «Поль и Виргиния»? А что это за роман? — спросил Эберхард.
— Это чудесная французская книга, которую написал Бернарден де Сен-Пьер. Вы не читали ее? Я вам дам. Я придумала себе мечту о счастье: как мы могли жить здесь, в горных лесах, непросвещенные, но счастливые, вместе с моим добрым батюшкой Йонатасом. По пути сюда я все время об этом думала. Можете сами спросить у моего батюшки: я ему покоя не давала расспросами о вас, и все, что он мне рассказывал, обнадеживало и воодушевляло меня. И вот я приехала сюда, и мне сразу стало ясно, что все мои мечты были иллюзиями. Я протянула вам руку как брату, а вы встретили меня так, как будто я вам чужая. Знаю: это не от гордости; отец уверял меня, что благородство вашего сердца не уступает благородству вашей крови. Но как же тогда объяснить вашу холодность и ваше равнодушие?
— О нет! — взволнованно воскликнул Эберхард. — Это вовсе не холодность и не равнодушие! Но что я могу поделать? Я пугливое и нелюдимое дитя этих лесов, и вы внушаете мне такую робость, как будто мне явились ангел или фея.
— Как! Это правда? Так значит, я настолько величественна, что даже внушаю страх? — рассмеялась девушка. — Эберхард, — продолжала она уже серьезно, — между нами не должно быть никаких недоразумений. Буду с вами откровенна и скажу вам со всей прямотой: вы нравитесь мне, я считаю вас добрым и честным и поэтому предлагаю вам быть моим другом и братом. Раз мы можем быть вместе, зачем нам оставаться одинокими? Наши чувства освящены самим Богом, создавшим природу, среди которой мы живем, и светлой памятью о тех, кого больше нет с нами. Не надо ложной стыдливости и недомолвок. Под этими древними дубами, перед лицом наших матерей я прошу вас быть мне братом. Вы согласны?
— Согласен ли я?! О, Розамунда! Как вы добры и великодушны! Я сделаю все, чтобы быть достойным вас и вашей дружбы. Теперь мне стыдно за то, что вы видели мою робость и нерешительность. Но дикий олененок стал ручным, он больше не бежит — напротив, теперь он будет целовать следы ваших ног, ангел мой!
— Как будто я Женевьева Брабантская! — улыбнулась Розамунда.
— А кто такая Женевьева Брабантская? — спросил Эберхард.
— Ах, вы снимаете большую тяжесть с моего сердца, — продолжала девушка, не обратив внимания на этот неловкий вопрос, — так это от робости вы не сказали мне ни слова в первый день, так это от застенчивости вы избегали меня и отправились провожать дядю Конрада, не попрощавшись со мной…
— Я даже собирался навсегда покинуть замок и Германию, — подхватил Эберхард. — И больше не увиделся бы с вами, если бы не милость Провидения и не добрая воля моей матушки, благодаря чему я встретил вас в пути.
— Но теперь-то вы останетесь! — взволнованно воскликнула Розамунда. — Мы будем мирно жить и любить друг друга… Но что с вами? О чем вы задумались?
— Я думаю о том, — медленно произнес Эберхард, — что мое решение уехать и стать солдатом императорской армии вызвано не только тем, что я робел перед вами. Дело в том, что мой отец… Но он уехал в Вену. Есть еще одна причина…
— Какая причина? — встревоженно спросила Розамунда. Воцарилось молчание. Взгляд Эберхарда остановился; он задумчиво покачал головой, словно пытаясь разобраться в своих неясных мыслях.
— Ах, Розамунда, Розамунда! — продолжал он размышлять вслух. — Вы чаруете меня, влечете к себе, но в то же время какой-то внутренний голос кричит мне: «Беги! Беги!» Вы не понимаете меня? Дело в том, что обо мне нельзя судить как обо всех, я особенное, странное существо, моя жизнь совсем не похожа на жизнь других людей. Вы видите, я говорю с вами откровенно. Да, я доверяю вам и… и я боюсь. У меня есть предчувствие, что конец нашей дружбы будет ужасен, что над нами тяготеет несчастье! Да, я чувствую, что мне лучше уехать отсюда, и все же я останусь. Но существует предопределение, Розамунда.
— Существует только Бог, — ответила благочестивая девушка.
— Да, Бог, — продолжал Эберхард, все больше увлекаясь своими мыслями. — Боже пресвятой! — воскликнул он и молитвенно сложил руки, словно позабыв о присутствии Розамунды. — Боже Всевышний, тебе, пославшему мне этот неясный проблеск света, тебе, вселившему в мою душу это необъяснимое желание бежать отсюда, тебе, не оставившему мне ни мужества, ни силы, я отдаю свою судьбу, Господи! Да будет воля твоя! К чему мучиться сомнениями, если твоя рука направляет меня? Быть может, моя матушка советует мне уехать, но если Бог приказывает мне остаться, что я могу против его воли?
— Да, да! Так оставайтесь же, оставайтесь! — с прелестной улыбкой настаивала Розамунда. — Вместе мы можем быть так счастливы! Отец говорил мне, что в лесу у вас есть никому не известное жилище. Отведите меня туда, и вы увидите, мой друг, что лучше, гораздо лучше быть с кем-то вместе, чем одному. Ах, да я первая умерла бы здесь от скуки, не будь вас, ведь отец на целые дни уходит в лес. А теперь, когда мы вместе, мы сможем беседовать, делиться друг с другом нашими мыслями и чувствами, читать, учиться. Вы, кажется, удивлены? Вы, может быть, считаете, что я маленькая невежественная девчонка? Так вот, вы ошибаетесь! Я достаточно много знаю, чтобы понимать вас и отвечать на все ваши вопросы или почти на все. Конечно, я, в отличие от вас, не слишком глубоко изучала французский, греческий, латынь, историю и математику, которую я особенно не люблю, но ведь я не мужчина.
— Розамунда, Розамунда, мне незнакомы даже сами эти слова!
— Как! Что вы говорите?
— Да, это правда. Ваша матушка научила меня читать, а капеллан — писать. Но когда они умерли, я остался один, все покинули меня — вы же знаете об этом, — и моим единственным наставником был лес, а единственным воспитателем — природа. Да и кто бы стал учить меня? Из книг я открывал только Библию, да и то редко. Птицам и деревьям, с которыми я общался, мои знания были ни к чему. Лишь месяц назад, когда приехал дядя Конрад, я впервые узнал, насколько я невежествен. И сегодня мне в первый раз стало за это стыдно.
— Но этого не может быть! — воскликнула Розамунда. — Да, вероятно, я должна была догадаться… Бедный мой друг, простите меня: может быть, я невольно обидела вас.
— Вы ничуть не обидели меня, Розамунда. Но теперь вы сами видите, что мое общество не может быть вам ни приятно, ни полезно. Мне до вас слишком далеко; мое присутствие скорее утомит вас, чем развлечет. Вы сами видите, что надо оставить меня наедине с моим невежеством и моей тоской; вы сами видите, что я был прав и что самое лучшее для меня — уехать отсюда и стать солдатом.
— Друг мой, — серьезно сказала Розамунда, — человек с такой возвышенной душой, как ваша, не должен поддаваться ложной гордости и мелочной обидчивости. Оставайтесь здесь, и мы сможем помочь друг другу. У вас мудрое сердце, Эберхард, ведь то, чему вы научились у неба, лесов, полей — это благо. Если вы поделитесь со мной тем, что знаете, это будет мне полезно. Мне же, прошу вас, не отказывайте в удовольствии поделиться с вами своими знаниями, полученными по счастливой случайности, а точнее, благодаря покровительству графини Альбины; так я смогу отплатить ее сыну за то, чем я ей обязана. Хотите, я стану вашей учительницей? Поверьте, это будет чудесно.
— Нет, слишком поздно, Розамунда, слишком поздно!
— О Господи! Так вы думаете, что учиться — такое уж неприятное и трудное дело? Нет, Эберхард, учиться — это увлекательно и совсем просто. Да по существу вам и не откроется ничего нового: вы увидите, что нации возникают, как источники, что гении растут, как дубы, что революции разражаются, как бури. Есть книги, которые так же порадуют вас, как радует чудесный майский вечер, и есть такие эпохи в истории человечества, которые не менее опечалят вас, чем дождливый декабрьский день. А иностранные языки понимать ничуть не труднее, чем язык неба и ветра. Вы увидите, что Бог присутствует в истории человечества так же, как он присутствует в природе. И разве ваше сердце не наполнится радостной гордостью, когда вы обнаружите, что история вашего славного рода составляет часть истории Германии, когда, читая исторические хроники, вы будете на каждом шагу встречать имя ваших предков, имя Эпштейнов — ваше имя, Эберхард?
— Разве я принадлежу к роду Эпштейнов? — с горечью прервал ее Эберхард. — Вы ошибаетесь, Розамунда: покинутый, отвергнутый отцом ребенок — вот кто я. Зачем же мне учиться, если, устремившись ввысь, я только яснее увижу свое падение? Для того, чему я предназначен на земле, Розамунда, мне достаточно немногого, что я уже знаю. Моя матушка направляет меня, и довольно. Сейчас вы не понимаете меня, но если вы больше узнаете о моей жизни, то многое в ней удивит вас и даже ужаснет. Повторяю вам: у меня особенный склад души и странная судьба. На мне лежит Божья печать, и мне не уйти от своего будущего, а что оно мне готовит — известно лишь Богу. Я чувствую его дыхание, чувствую его направляющую руку, он все решает за меня, а раз так, зачем мне человеческая премудрость? Мои чувства подчинены его воле, а собственный рассудок будет внушать мне страх. Лучше уж мне уехать. Но раз я остаюсь, то мне лучше пребывать в неведении.
Не будем повторять увещевания Розамунды и возражения Эберхарда, описывать борьбу вооруженного знаниями инстинкта и слепой осторожности. Роль наставницы была к лицу юной воспитаннице монастыря Священной Липы и хорошо сочеталась с ее серьезным и открытым характером. Она говорила Эберхарду о том, как чудесны и восхитительны будут их занятия в тени столетних деревьев, на безлюдных благоухающих полянах. Эберхард колебался, то почти соглашаясь, то снова отступая.
Их прогулка продолжалась почти весь день: они беседовали, восторгались чудесными видами и прекрасными уголками природы. Надо сказать, что далеко не все время они посвятили рассуждениям о пользе науки. Нередко их серьезная беседа прерывалась, уступая место играм, шалостям или погоне за пестрой бабочкой. Не следует забывать, что нашим героям не было еще и пятнадцати лет. Детские забавы сменялись нравоучительными разговорами, а между тем наступил вечер и пришло время возвращаться домой. Эберхард все еще не принял твердого решения и время от времени клятвенно уверял свою спутницу, что завтра же уедет.
Эберхард не все рассказал Розамунде. Он утаил от нее, что его стремление уехать из родных мест было вызвано кровной обидой, нанесенной ему отцом, — обидой, после которой он не может вернуться в замок. Ни о чем подобном не было разговора, но мучительные мысли не покидали юношу, и, когда он вспоминал о пережитом унижении, лицо его внезапно заливалось краской стыда.
В состоянии полной нерешительности Эберхард вошел в домик Йонатаса, с которым мысленно навсегда попрощался еще утром того же дня. Смотритель охоты уже ждал их.
— Долго же вас не было, — сказал он, — я уже начал беспокоиться. Эберхард, вот письмо от господина графа; оно пришло из Франкфурта на мое имя. Верховой, который его привез, мчался во весь опор. Прочитайте, оно касается и вас.
Дрожащей рукой Эберхард развернул письмо. Максимилиан сообщал Йонатасу, что он решил окончательно поселиться в Вене и что отныне он никогда не вернется в замок Эпштейнов.
«Передайте моему сыну Эберхарду, — писал далее Максимилиан, — что в его распоряжении находится замок и четвертая часть доходов. Мой управляющий каждый год будет приезжать и собирать излишки. Но Эберхард должен знать, что ему запрещено покидать замок и искать встречи со мной: наши жизненные пути разошлись навсегда и я запрещаю ему любую попытку их соединить. Только при этом условии я предоставляю ему полную свободу и отдаю мой дом в его распоряжение. Он может делать все что ему вздумается, но не должен приезжать туда, где нахожусь я. Яне буду его беспокоить, но пусть и он не тревожит меня. Я никогда не потребую от него отчета в его действиях, но пусть и он не вмешивается в мою жизнь. Только вдалеке друг от друга мы можем быть счастливы. Такова моя непреклонная и окончательная воля, и горе ему, если он ослушается».
Прочитав письмо, Эберхард опустил голову на грудь, словно пытаясь собраться с мыслями. Ему было и грустно и радостно.
— Ну что там? — с беспокойством спросила Розамунда.
— Что ж, Розамунда, — ответил он и вздохнул, хотя глаза его заблестели, — я остаюсь: такова воля Божья.
VII
На расстоянии четверти льё от деревушки Эпштейнов, в двухстах шагах от домика смотрителя охоты Йонатаса, на опушке леса раскинулась большая зеленая лужайка, где по воскресеньям собирались окрестные крестьяне. Здесь местная молодежь устраивала танцы, и зеленый луг служил ей залом, а пушистая трава — ковром. Рядом, под столетними липами, собирались мудрые деревенские старики. Между деревьями, в ложбине, журчал родник, к которому вели мшистые каменные ступени.
Возле родника были поставлены скамейки и сделана каменная стенка, перегнувшись через которую было очень удобно набирать воду.
Через три года после смерти Гаспара, мягким и грустным сентябрьским утром, под огромной старой липой сидел молодой человек. Держа на коленях папку, он рисовал старый кривой и узловатый ствол дерева, облюбованный пчелиным семейством. Художник часто отрывался от работы и посматривал на соседнюю лужайку. Но в этот будничный день там не было ни души. Слышалось лишь журчание ручейка да песня славки, спрятавшейся в листве дерева.
Однако час спустя на лужайке появилась девушка, и художник поднялся ей навстречу. Но, сделав несколько шагов, он остановился и, оставаясь незамеченным стал смотреть на нее издалека.
Этот молодой человек был Эберхард, а девушка — Розамунда.
Эберхард был по-прежнему красив и исполнен благородства. На нем была старая одежда, простая и живописная, однако он носил ее теперь с большей элегантностью и изысканностью, нежели раньше. Его серьезный и добрый взгляд стал глубже и печальнее, а на высоком, величавом челе яснее проступала тайная печать мрачной обреченности.
Розамунда была, как прежде, очаровательна и полна сдержанного достоинства. Ее наряд состоял из черной юбки и красного корсажа, плиссированные складки воротника окружали ее прелестное личико. Неся глиняный кувшин на плече и другой, поменьше, в руке, она направлялась к роднику.
Покинув свое место под липами, Эберхард догнал ее, когда она уже спускалась по старым, стертым ступеням.
— Здравствуйте, Эберхард, — сказала девушка, заметив его. Было видно, что его появление здесь не было для нее неожиданностью.
Они присели на скамейку.
— Посмотрите, Розамунда, — сказал Эберхард, протягивая ей папку, — я уже почти закончил рисунок, и, честное слово, мне кажется, что благодаря вашим вчерашним советам он не так уж плох. В этом рисунке я постарался передать то впечатление ужаса, которое, судя по вашим словам, приписывал лесу наш великий Альбрехт Дюрер, о чьей простой и возвышенной жизни вы мне недавно рассказывали.
— Рисунок действительно очень хорош, — сказала Розамунда. — Только, мне кажется, тень на этой ветке не совсем удачна.
Она взяла у Эберхарда карандаш и несколькими штрихами исправила ошибку.
— Теперь получилось великолепно, — сказал Эберхард, хлопая в ладоши. — После того как к этому рисунку прикоснулась ваша рука, я горжусь им вдвойне. Вы столь же добры, сколь и прекрасны, Розамунда, если у вас хватает терпения и снисходительности возиться с таким неумелым учеником.
— Какой же вы еще ребенок! — ответила Розамунда, глядя, как юноша, с наивным восхищением во взоре, нежно целует ее руки. — Разве наши уроки не чудесны, разве они не удовольствие? Вы не просто мой ученик, вы мой друг. К тому же, Эберхард, мне льстит мысль о том, что благодаря моим стараниям немецкая аристократия получит одного из лучших своих представителей, дворянина, кому самим рождением уготовано славное будущее, но, несмотря на это, прозябавшего до сих пор во тьме невежества и тоски. Ведь я сделала для вас то, — о, эта мысль переполняет меня гордостью! — что сделала бы ваша матушка и что должен был бы сделать граф Максимилиан. И какие успехи за три года! Как быстро вы все схватываете, как легко догадываетесь о том, чего я сама толком не понимала! Разве теперь с вами могут сравниться эти раззолоченные придворные мотыльки из Вены?
— Увы! Не образованности я обязан своим счастьем, сестра моя Розамунда, — грустно сказал Эберхард. — К чему мне широта мысли, если мое жизненное пространство ничтожно? Зачем крылья орлу, запертому в клетке? Что значит громкое имя человека, обреченного жить в безвестности? Чем больше я узнаю мир, тем яснее понимаю, как я одинок. Может быть, я благословлял бы вас за ваши уроки, но я благословляю вас за ваше присутствие, ведь я начал жить по-настоящему только тогда, когда узнал вас. Но, научившись мыслить, я познал страдание. Быть может, Розамунда, настанет день, когда мы оба увидим роковые последствия того, что вы сделали для меня, и пожалеем об этом.
— Нет, — ответила девушка, — я никогда не пожалею о том, что помогла одному из Эпштейнов обрести себя для своей родины.
— Ах, я один из Эпштейнов, но отвергнутый, проклятый, всеми забытый, — сказал Эберхард, грустно качая головой. — Мне никогда не стать знаменитым генералом, как дедушка Рудольф, которого боялся Фридрих, или тонким дипломатом, как другой мой дед, со стороны матери, который превосходил Кауница. В лучшем случае я стану героем мрачной, жуткой легенды, и тогда мое имя будут повторять не на поле боя и не в школьном классе, а на крестьянских полуночных посиделках.
— Эберхард, брат мой, оставьте эти безрассудные мысли, — перебила его Розамунда.
— Ах, не утешайте меня. Я чувствую, что на моем будущем лежит печать преступления. С той самой минуты, когда я узнал от вас о настоящей жизни, я стал понимать, что Бог приуготовил мне странную долю — жить рядом с мертвой. Вы приоткрыли мне истину, и в ее свете я увидел, что я изгой среди людей, тень, привидение, грозное предупреждение о мести, быть может, — все что угодно, но не человек.
— Друг мой!
— Ах, тут вы ничем не можете мне помочь. Сейчас я вижу перед собой вас, Розамунда, но позади меня стоит призрак моей матушки Альбины. Вы могли бы стать для меня сияющим будущим, но она — мое страшное прошлое! Давайте же не будем об этом говорить.
Они замолчали и погрузились в свои мысли.
— Вы уже прочитали «Историю тридцатилетней войны»? — спросила Розамунда.
— Да. Генерал Валленштейн показался мне столь же великим в своем деле, как Шиллер в поэзии. Я так благодарен вам, Розамунда, вы открыли мне анналы былых веков, и все эти яркие, богатые событиями судьбы стали, если можно так выразиться, частью моей жизни. Спасибо вам: вы научили меня восхищаться. О, не сердитесь на меня, если я порой говорю вам горькие слова, не слушайте их; я несправедливый и злой, но в глубине души я люблю вас как родную сестру и почитаю не меньше, чем мою матушку.
— Эберхард, — сказала Розамунда, и действительно ее торжественный голос и строгое выражение лица делали ее похожей на молодую мать, увещевающую сына, — я знаю, что у вас доброе и нежное сердце, но когда вы грустите и теряете мужество, я и в самом деле недовольна вами. Почему вы верите в существование злого рока и не верите в Провидение? Это нехорошо. Разве Господь Бог и ваша матушка не заботятся о вас? Единственное, что вам нужно, — это образовать ваш ум. Для этого и появилась я. Мы вместе читали, размышляли, беседовали — зимой у очага, летом в вашем гроте или у этого маленького родника. Вы легко научились всему, что я знала, и даже превзошли меня, так что сами стали рассказывать мне о том, что было мне неизвестно. И теперь, что бы с вами ни случилось — останетесь вы здесь, в вашем уединении, или окажетесь в светском обществе Вены, среди придворных, — ваш просвещенный и тонкий ум всегда пребудет с вами. Отныне вы сами можете быть наставником и советчиком для других. Поэтому прошу вас: не омрачайте грустью и сомнениями ту радость, которую я испытываю при мысли, что теперь, благодаря моим скромным заслугам, вы стали достойны того имени, которое вы носите, и того будущего, которые вам предназначено.
— Хорошо, если вы хотите, я буду радоваться, пока вы рядом со мной, как радуются цветы, когда их освещает солнце.
— В добрый час, брат мой! — сказала Розамунда. — А теперь мне надо набрать воды и отнести ее домой, после чего, если вы не возражаете, мы повторим историю династии Гогенштауфенов.
— Конечно, не возражаю! — весело ответил Эберхард. — Обещаю вам, Розамунда, не думать больше о завтрашнем дне, ведь сегодня я с вами!
Двое друзей пожали друг другу руки, и их лица просияли улыбкой, полной искренней любви. Потом девушка взяла маленький кувшин и, склонившись к роднику, наполнила его водой. Эберхард набрал свежей воды в кувшин побольше. Небо над ними было голубым и безоблачным, и лазурная гладь отражала их прелестные лица.
В зеркальной поверхности родника они увидели, как их головы сблизились; они рассмеялись и приветливо кивнули друг другу. Выпрямившись, Эберхард весело сказал:
— Дайте мне напиться.
Розамунда протянула ему свой кувшин, и он приник к нему. Если бы скульптор мог видеть в эту минуту их изящные фигуры, он не нашел бы лучшего образца для своей композиции.
— Мы, должно быть, напоминаем сейчас библейскую картину: Елиезера и Ревекку, — с улыбкой заметила девушка.
С маленьким кувшином на плече она проворно поднялась по каменным ступеням. Эберхард, неся в руке другой кувшин, а под мышкой свою папку, быстро догнал ее, и они вместе направились в домик смотрителя охоты.
По дороге они то и дело переглядывались. Взор Эберхарда был полон нежности и восхищения. Но в глазах Розамунды светилась скорее мудрость и доброта, нежели любовь.
VIII
Описанная нами утренняя сцена дает представление о том, как жили Эберхард и Розамунда — нежное, мечтательное дитя гор Таунус и степенная воспитанница монастыря Священной Липы. Вот так они оба тихо прожили три года. За это время в них обоих произошли изменения, которые были предопределены их личными наклонностями и их судьбой.
Розамунда обучала Эберхарда, и он обожал свою маленькую учительницу. Наш любитель одиноких прогулок не был более одинок. Теперь рядом с ним был человек, с кем он мог поделиться своими мыслями, кому он мог отдать ту часть своего сердца и своей жизни, которую не заполняло общение с матушкой. Эберхард находил радость в том, чтобы беспрекословно подчиняться Розамунде, и без труда выполнял все ее поручения. Она безраздельно властвовала над его нелюдимым характером; самоотверженная душа Эберхарда принадлежала ей целиком и полностью.
Только одним Эберхард не хотел делиться ни с кем — своей верой в существование призрака Альбины. От Розамунды у него не было никаких секретов, но о своих дневных и ночных видениях он рассказывал весьма сдержанно даже ей. Розамунда знала далеко не все о загадочных появлениях тени Альбины и о том, что милый призрак говорил Эберхарду. Как всякая истинная любовь, сыновнее чувство Эберхарда было стыдливо, и могила покойной матери приоткрывалась только для него одного.
С некоторых пор Эберхард вел двойную жизнь и делил свою любовь на двоих, но его матушка, видимо, не была этим обижена.
Рядом с Розамундой Эберхард был счастлив. Их совместные занятия, возможность слушать и понимать ее дарили ему радость. Но, когда Эберхард оставался один и углублялся в лес, предаваясь своим мечтам, он звал матушку, и она приходила, и снова обретала над ним былую власть, и снова ему слышался в шуме ветра ее голос, поучавший его и внушавший ему благие мысли.
Но он никому не рассказывал о том, как он встречается и о чем говорит с ней: так почтительный любовник молчит о поцелуях, которые ему дарит возлюбленная. Лишь холодная луна и тускло мерцающие звезды были свидетелями этих встреч, хотя о многом можно было догадаться: Альбина или бранила сына, и он был удручен ее упреками, или же она его жалела, и тогда ее страхи и сочувствие глубоко трогали Эберхарда. Вот почему он почти всегда возвращался из своего грота задумчивый, а порой и угрюмый. Когда Розамунда пыталась расспрашивать его, он мягко уклонялся от ответа. После встреч с матушкой Эберхард горько плакал и говорил что-то непонятное о своем мрачном будущем; в такие дни Розамунде не удавалось его утешить.
В остальном же Эберхард был ей всецело предан, и эта покорность с каждым днем доставляла ему все больше удовольствия.
Нужно заметить, что Розамунда не злоупотребляла своей властью и относилась к Эберхарду так мудро и бережно, как будто тем материнским чувствам, которые ее переполняли, никогда — увы! — не суждено было обратиться на другой предмет. Она радостно взялась за образование юного, девственного ума Эберхарда и с любовью довела это дело до конца. Вместе со своим учеником она еще раз прошла тернистыми путями науки; она была доброжелательна и терпелива; она обучила Эберхарда всему, что знала сама: истории, географии, рисованию, музыке, французскому и английскому языкам, не говоря уже о родной литературе. Во многом Эберхард превзошел ее, но в некоторых отношениях ему все еще было далеко до своей наставницы. Так один ребенок обучал другого, и это было прекрасно и трогательно! Перемена, которая произошла благодаря Розамунде в диком и невежественном деревенском мальчике, казалась настоящим чудом: он превратился в изысканного и просвещенного молодого человека.
Впрочем, мы не имеем здесь возможности подробно рассказать обо всем, что произошло за эти три года в замке Эпштейнов. Эберхард и Розамунда жили просто, всецело посвятив себя духовным радостям, и их существование было полностью лишено каких-либо значительных событий. Но все же можно попытаться вкратце описать один день из их жизни.
Утром Эберхард долго молился на могиле своей матушки, после чего покидал замок, где он уже окончательно поселился и где у него была своя комната, и шел в жилище доброго Йонатаса. Пока Розамунда (которая, кстати, оказалась прекрасной хозяйкой) прибирала в доме и расставляла все по своим местам, он занимался один: повторял пройденное накануне и самостоятельно готовил задания. Потом все семейство весело садилось за скромный завтрак. После завтрака наступало время напряженной и вдумчивой работы; занятия проходили в доме, если погода не внушала доверия, а если день выдавался погожий — то в лесу, на полянке или у родника. Не беда, если ученик и учительница располагались порой на обочине пшеничного поля, а чтение книг сопровождалось птичьими песнями. Сорванные у дороги цветы служили им закладками, и от страниц исходил аромат. Все это ничуть не мешало им постигать книжную премудрость.
Вечером наступало время отдыха и беседы. Если дело было зимой, наши герои устраивались у пылающего очага и слушали, как за окном падают снежные хлопья или капли дождя; летом они садились у порога на скамейку, обсаженную кустами жимолости и жасмина, и смотрели, как заходит солнце и на небе появляется первая вечерняя звезда.
У Йонатаса и Розамунды всегда была наготове какая-нибудь волшебная сказка или чарующая легенда. Память у смотрителя охоты была поистине неисчерпаема, и он славился своими рассказами на всю округу. Среди них попадались и разнообразные любовные истории, которые он, по простоте душевной, не утаивал от своих молодых слушателей; подобные истории могли бы быть для них небезопасны, если бы Йонатас не излагал их с такой непосредственностью и простодушием.
Когда истории иссякали, Розамунда садилась за клавесин и играла восхитительные пьесы Глюка, Гайдна, Моцарта и Бетховена, в то время только приобретавшего известность. Невозможно представить себе то потрясение, которое вызвала эти бессмертные мелодии в душе Эберхарда, зыбкой и глубокой, как море и как сама музыка. Пока быстрые пальчики Розамунды бегали по клавиатуре, безумная мечта словно на крыльях уносила его в бескрайние поля воображения.
Мы уже говорили, что Эберхард ни на минуту не переставал ощущать разлитую вокруг него вечную гармонию, слышать звучавшие в тишине небесные голоса. Иногда во вдохновенных, дивных мелодиях великих музыкантов он узнавал отдельные ноты той экстатической музыки, что звучала в его душе. И в эти минуты Розамунда казалась ему такой, какой раньше перед ним представала Альбина: она являлась ему окутанная мелодической вуалью, и небесные серафимы, игравшие на арфах, возвещали о ее появлении. В такие мгновения он был готов поклоняться девушке как святой, ему казалось, что он в раю, и только голос Йонатаса пробуждал его от прекрасного сна.
В одинокой жизни Эберхарда не происходило ничего замечательного. Но красота действительно так проста, что наш мечтатель, пристально вслушиваясь в какую-нибудь сонату или симфонию, казалось, узнавал в ней отголоски своей незаметной судьбы. Да, вот этот торжественный и протяжный бас напоминал ему о грустных и мрачных глубинах его души, где вечно жила память о мертвой матери; его глухой и угрожающий рокот звучал предвестием неведомого будущего, в то время как звонкие, живые фантазии, эти невесомые звуковые арабески, словно вышивка, оживляющие однообразную ткань аккордов, напоминали ему солнечные дни, улыбающееся лицо Розамунды, их занятия и игры, поля и леса, багровые от заходящего солнца. Убаюканный капризными переливами гармонии, Эберхард блаженно улыбался, но неожиданно взрывавшаяся, подобно грому среди ясного неба, нота вдруг звучала для него каким-то мрачным предзнаменованием.
Иногда рассказы и музицирование заменяло чтение вслух. Такие чтения становились подлинными и единственными событиями в их уединенной жизни. Однажды вечером Розамунда прочитала Эберхарду «Гамлета». Эберхард выслушал эту мрачную трагедию молча, потом встал и, не сказав ни слова, вышел из дома, сгорбившись под тяжестью нахлынувших на него мыслей.
На следующий день он рассказал Розамунде о том, какой след эта страшная эпопея сомнения оставила в его душе. Разве не существовало некоторого странного сходства, некоторого духовного родства между ним и Гамлетом — живым воплощением скепсиса? Оба были обречены вечно видеть рядом с собой призрак, оба были молоды, печальны и бессильны, оба предчувствовали, что им предстоит совершить нечто ужасное, оба были орудием в руках рока. Но Эберхард не осмелился поделиться с Розамундой еще одним своим наблюдением — его сходством с шекспировским героем: подобно Гамлету, он ощущал постоянную неуверенность перед лицом жизни, боялся надеяться, верить и главное — любить, поэтому он хотел бы сказать своей Офелии с такой же горькой безнадежностью: «Офелия, иди в монастырь!»
— Но в одном мы расходимся, — задумчиво продолжал Эберхард, — принцу Датскому известна та страшная миссия, на которую его обрекла судьба, а я, бедный изгнанник, пребываю в неведении. Он видит ту цель, к которой идет, тот кинжал, которым он должен нанести удар, и это ужасает его. А если бы он, как я, шел на преступление сквозь непроглядную тьму, если бы он, как я, знал, что он убийца, но убийца с завязанными глазами?
— О чем вы говорите, Эберхард? — испуганно воскликнула Розамунда.
— Я внушаю вам ужас и жалость, не так ли, Розамунда? Но я пока еще в своем уме, и, поверьте, мои сопоставления верны: Гамлет был орудием мести, и мне суждено стать причиной кары. От этого моя матушка так грустит и так горько плачет. Может быть, сам я не стану убийцей, но из-за меня совершится убийство, и совершит его Бог. Для этого я и живу на свете, Розамунда. Есть замечательные люди, которым суждено совершить великие дела и изменить лицо мира. Но мне не предначертаны такие достопамятные свершения. Увы! Я не свободен, как все мне подобные: я всего лишь орудие возмездия в руках Бога или дьявола, я всего лишь камень, брошенный на обочину дороги. Я годен только на то, чтобы какая-нибудь душа, споткнувшись о меня, свалилась в ад. Вот какая доля мне суждена, а вы, Розамунда, пытались сделать мою жизнь осмысленной и полезной. Ах! Вы напрасно старались! К чему все это, Боже мой? Свет нужен дворцам, а если зажечь лампу в темнице, взору предстанет лишь убожество.
Таковы были порой горькие жалобы этой печальной души, и Розамунде с трудом удавалось своей улыбкой, снова вселить в Эберхарда надежду и призвать его к смирению. И все же отважная девушка достигала цели, в этом ей помогали ее великодушие, доброта и упорство. Последствия от чтения «Гамлета» и «Вертера» она пыталась исправить с помощью других книг: «Подражание Христу» и «Жизнь святой Терезы».
Кому предстояло победить в этой борьбе между любовью и роком — Розамунде или Альбине? Розамунда жила и надеялась на лучшее. Мертвая Альбина была полна ужасных предчувствий. На чьей стороне была правда? Одному Богу это известно.
Теперь читатель знает в подробностях об этих трех годах жизни Эберхарда и Розамунды, жизни, полной трогательного и детского, пугающего и мрачного. Добавим от себя, что часто произносимое нами слово «любовь» никогда не срывалось с уст двух этих невинных созданий. Для этого душа Эберхарда была слишком печальна, а душа Розамунды слишком чиста. Дафнис и Хлоя христианской эпохи, они любили друг друга, о том не ведая и не признаваясь в своем чувстве даже самим себе. Только внешние обстоятельства могли случайно открыть им глаза на то, о чем они сами никогда не смогли бы догадаться.
Так они жили вдвоем, целомудренные, как дети, под синим небом, в деревенском домике, под сенью старых деревьев, всегда и везде вместе, рука об руку. Когда они склонялись над книгой, головы их соприкасались, и, увидев эту изящную и непринужденную позу, их можно было принять за античную скульптуру из белого мрамора.
IX
Добряк Йонатас был человеком честным и простым, но лишенным прозорливости. Он не мог догадаться об этой тайной страсти, а значит, не смог предотвратить развитие и последствия ее. Эберхард превратился в молодого человека, а Розамунда — в девушку, но ему они все еще казались детьми. Впрочем, здесь он не совсем ошибался: невинность молодых людей способствовала его заблуждению. Если бы они действительно были братом и сестрой, как они называли друг друга, то и тогда их беседы и игры не могли бы быть более чисты и непорочны. Если бы их спросили, любят ли они друг друга, они со всем своим простодушием ответили бы «да». Но, как это и случилось с Паоло и Франческой, какая-нибудь случайность, одно невзначай оброненное слово могли открыть им то неведомое, что происходило в их сердцах.
И в назначенный час Бог послал им такую случайность, дабы ускорить развязку этой нехитрой истории. Однажды, вернувшись после обхода леса домой, Йонатас обнаружил письмо. Оно было от Конрада. Вот уже три года, как он состоял в свите императора, и за это время от него не было никаких вестей. Пришедшее письмо было просто напоминанием; он почти ничего не сообщал о себе жителям домика, но, между прочим, обещал в скором времени навестить их. В своих славных странствиях по Европе он никогда не забывал о маленьком бедном семействе, нашедшем себе приют в лощине гор Таунус. Для всех у него нашлись добрые слова. Ведь во всем мире у Конрада не осталось людей ближе, чем они. Он вспоминал о них и на бивуаке, и тогда, когда трубы возвещали о начале битвы. А они вспоминали об отсутствующем? Говорил ли о нем Йонатас порой по вечерам? Молились ли дети за него Богу? А как поживает юный Эберхард, его товарищ, так гостеприимно встретивший его в замке Эпштейнов? Помнит ли он, как провожал своего дядюшку до Майнца? Какой он теперь — все такой же нелюдимый, одинокий и задумчивый? Или его приручили, как расиновского Ипполита? Обо всем этом спрашивал в письме Конрад.
— О да, конечно, он по-прежнему жив в нашей памяти и в наших сердцах! — с умилением воскликнул Йонатас. — Благородное сердце! Как это мило с его стороны, что он не забыл нас! Садитесь за стол, дети! Выпьем за здоровье Конрада!
По этому случаю наш добрый Йонатас выпил за ужином больше, чем обычно, и, два-три раза опорожнив свою воскресную кружку, он почувствовал себя размякшим, и у него развязался язык.
Был конец декабря. Пока семейство ужинало, на улице стемнело. За окном мелькали крупные снежные хлопья, но в домике ярко пылал камин, а, как хорошо известно, теплое местечко у огня, когда снаружи воет зимний ветер, располагает к беседе не меньше, чем вино.
Когда после ужина все вышли из-за стола, Йонатас, скрестив руки на груди, расположился в своем большом кресле, обитом лоснящейся кожей, дети сели бок о бок на скамейку, стоявшую в изножье кровати, и приготовились слушать.
Естественно, речь зашла о Конраде. Йонатас был со свояком почти одного возраста и помнил его еще ребенком. Сначала он рассказал детям о его пристрастии к прогулкам в одиночестве, о его неизменной серьезности, а потом постепенно перешел к истории о том, как случилось, что граф Конрад фон Эпштейн, то есть один из самых знатных людей Германии, стал частым гостем в доме старого смотрителя охоты Гаспара и возлюбленным простой крестьянской девушки Ноэми.
Розамунда и Эберхард слушали эту историю с величайшим вниманием: уж очень многое в ней напоминало им их отношения. В очаге комнаты горел огонь, и Йонатас, удобно расположившийся под высоким каминным колпаком, был ярко освещен, в то время как молодых людей, забившихся в угол, скрывала глубокая тень. Они почему-то затаили дыхание и почувствовали, что их охватывает волнение, как будто должно было произойти нечто важное.
— Известно ли вам, — лукаво спросил Йонатас, — когда и как я стал замечать, что его милость Конрад влюблен в Ноэми? Это случилось тогда, когда я увидел, с какой подозрительной частотой происходят их «случайные» встречи. У Ноэми была маленькая белая коза, которую она часто пасла на лесной опушке. И что самое невероятное, в какое бы время и какой бы дорогой она ни шла, можно было не сомневаться, что по пути ей встретится господин Конрад, прогуливающийся как ни в чем не бывало с ружьем или с книгой. Он подходил к ней, произносил какие-нибудь незначительные слова, и вот уже завязывался разговор. Когда Ноэми не пасла козу, Конрад сам навещал девушку. Если же она выходила из дома на воскресную службу в церковь, то опять любовь вела Конрада за ней следом. В то время я был молод, как и они, и, честное слово, не нужно было большого ума, чтобы догадаться, что на самом деле все эти встречи были любовными свиданиями.
Тут глаза Эберхарда и Розамунды встретились, хотя в темноте трудно было что-либо разглядеть. Ведь и они тоже часто оказывались в одном и том же месте, словно притянутые неодолимым магнитом, и не могли объяснить себе, как это могло случиться. Они никогда не договаривались о встрече. Они просто гуляли в полном одиночестве, думая друг о друге. Но вдруг, перескочив через изгородь или свернув с тропинки, они внезапно встречались, с удивлением и радостью понимая, что какие-то невидимые нити, какие-то тайные чувства влекут их друг к другу против их собственной воли.
— Помню еще, — продолжал Йонатас, — как однажды собака папаши Гаспара загрызла птичку Ноэми — ручную славку. Эта птичка жила в лесу, но по первому зову своей хозяйки возвращалась, садилась ей на руку и пела чудесные песни. Ноэми очень любила маленькую певунью и горько оплакивала ее гибель. Конрад, узнав об этом, ничего не сказал и ушел в лес. К вечеру он вернулся — в изодранной одежде и с окровавленными руками. В диких зарослях, куда не мог пробраться даже мой пес Кастор, он отыскал гнездо певчих славок и принес безутешной Ноэми пять птиц вместо одной; этот дар был залогом их будущего. Горе маленькой Ноэми сразу же сменилось радостью. Но подобный подвиг настолько не соответствовал уравновешенному характеру Конрада, что, по правде говоря, если бы Гаспар был более проницательным…
Розамунда и Эберхард не расслышали конца фразы. Их руки встретились и переплелись: Розамунда в этот момент вспомнила об одном неожиданном подарке, который ей преподнес в свое время братец Эберхард.
Однажды Розамунда начертила ему на листе бумаги точный план маленького сада, за которым она ухаживала, когда жила в монастыре, и о котором все время вспоминала. Этот садик занимал около десяти квадратных футов; в нем росли кусты белых роз, смородина, клубника, а также множество разнообразных цветов, сменявшихся в зависимости от времени года. На следующий день Розамунда гуляла в саду Йонатаса и вдруг внезапно вскрикнула от радости и удивления: в углу сада она увидела цветущий участок, в точности похожий на тот, который она оставила в монастыре Священной Липы. Подняв голову, она заметила наблюдавшего за ней Эберхарда. Подарок юноши имел для нее особую ценность еще и потому, что Эберхард взял в руки лопату и грабли чуть ли не впервые в жизни.
Таким образом, нельзя было не признать, что история про птичку была как две капли воды похожа на историю про садик; Эберхард и Розамунда были потрясены и восхищены этим открытием. Девушка сжала руку Эберхарда, словно желая еще раз поблагодарить за радость, что он доставил ей в тот день. Не разнимая горячих рук, они слушали, о чем им рассказывал увлеченный воспоминаниями молодости Йонатас, и перед их внутренним взором представала иная, неведомая им жизнь.
— Поистине, у них обоих были золотые сердца, — продолжал сторож. — Они были чисты душой, как дети Господни, и в конце концов невозможно было их винить за то, что они молоды, красивы и любили друг друга. Я был почти их ровесник и тогда же добивался руки моей милой Вильгельмины, поэтому я понимал их лучше, чем они сами себя понимали. Случилось так, что однажды Ноэми заболела, слава Богу, не очень серьезно, но врач запретил ей в течение нескольких дней выходить из дому и даже покидать свою комнату. Конрад остался один, но причин для беспокойства у него не было. Однако он впал в такую глубокую тоску, что рассеять ее не было никакой возможности. Мне в то время уже приходилось иногда заменять Гаспара; так вот, всякий раз, обходя лес, я встречал несчастного Конрада, и мне было больно на него смотреть — так он был грустен и безутешен. Конрад скрывал от меня свои слезы, ибо не хотел признаваться в своей тоске кому бы то ни было, даже себе самому. А когда я начинал расспрашивать его — со всей почтительностью и деликатностью, к которым меня обязывали его положение и те теплые чувства, что я к нему питал, он отвечал мне так: «Что я могу тебе сказать, мой милый Йонатас? Я и сам не знаю, что со мной происходит, сам не могу понять причину своей тоски. Все меня ранит, все меня беспричинно раздражает, а если по моим щекам текут слезы, то уверяю тебя, Йонатас, они текут безо всякой причины, просто так». Вот что он мне говорил, а я делал вид, что верю ему; но, по правде говоря, мне-то была прекрасно известна причина его грусти, и можно было ему об этом сказать, если бы он на самом деле не догадывался о ней. Ведь я понимал его, как никто другой: я любил Вильгельмину, как он любил Ноэми, и тоже был в разлуке с ней.
Эберхард и Розамунда и так уже были сильно смущены, и если бы их лица не скрывала густая тень, то от этих слов они пришли бы в полное смятение, потому что теперь они попеременно то бледнели, то краснели. Дело в том, что месяц назад Розамунда уехала на несколько дней в гости к двоюродной сестре своего отца в Шпайер, а когда она вернулась, Эберхард рассказал ей о том, какой тоской, каким унынием были полны для него эти долгие дни, словно она увезла с собой его душу, и как он плакал часами напролет, сам не зная отчего.
«Боже мой! Боже мой! — говорили они себе. — Так значит, если мы всегда, каждую минуту нашей жизни чувствовали, что нас влечет друг к другу, если мы были готовы пожертвовать своим счастьем и самой своей жизнью, лишь бы исполнить желания друг друга, если мы не могли жить и дышать друг без друга — так это значит, что мы влюблены? Боже мой! Так вот оно, то слово, которое все объясняет, — „любовь“«.
И тогда нашим очарованным и растерявшимся детям открылся новый, неизвестный им мир. Их бросало то в жар, то в холод. Их тела соприкасались, руки были тесно сплетены, и, если бы они не вслушивались так пристально в свои беспорядочные мысли, они могли бы различить биение собственных сердец.
За окном стояла безмятежная и ясная ночь. Ветер, бившийся в стены домика, стих. Тучи рассеялись, и на чистом небе сияла луна; ее свет проникал сквозь щели в ставнях. Лес, казалось, уснул. Тишина, царившая вокруг, почти испугала Эберхарда и Розамунду.
— А как Конрад и Ноэми объяснились друг с другом? — спросил Эберхард дрожащим голосом, и Розамунда поняла, что он взволнован не меньше, чем она.
— Они поняли друг друга без слов, — ответил добрый Йонатас. — Влюбленным не нужны слова. Впрочем, их нельзя было назвать влюбленными. К некоторым людям неприменимы слова, пригодные для всех остальных. Я говорю чистую правду: они были так безгрешны и чисты, что казались мужем и женой еще до свадьбы, и я всегда верил, что Бог соединил их раньше, чем священник. К тому же, они потом много страдали, многое пережили, поэтому для меня свято все, что связано с ними. История их непорочной и прекрасной любви кажется мне не менее достойной почтения, чем жития святых мучеников, и, когда я думаю об их судьбе, мною овладевают поистине религиозные чувства. Не будет преувеличением сказать, что в моем отношении к ним было больше поклонения, нежели любви. Они и сами знали, как я им предан, и относились ко мне как к члену своей семьи, поверяя мне все свои тайны. О! С какой нежностью, с каким умилением они говорили мне друг о друге! Вот что рассказала Ноэми своей сестре Вильгельмине, а та рассказала мне, когда стала моей женой. Однажды Ноэми и Конрад, держась за руки, сидели вдвоем на скамейке. На коленях у них лежала какая-то книга, но они читали не ее, а каждый в сердце другого; когда они ощутили чистое дыхание друг друга, их нежные губы сблизились, и, честное слово, сами не зная, как это получилось, Конрад и Ноэми без единого слова сказали друг другу о том, что каждый из них, впрочем, уже давно чувствовал: они любят друг друга!
В то время как простодушный Йонатас, ни о чем не подозревая, говорил все это, Эберхард и Розамунда под покровом темноты все сильнее сжимали руки, все теснее придвигались друг к другу. Ими овладело смятение, они были очарованы, они задыхались. Никто их не видел, и они сами не видели друг друга. Рука юноши обняла дрожащее тело своей подруги, и Розамунда, сама Розамунда, утратила твердость и способность рассуждать, будучи не в силах сопротивляться охватившему ее порыву. Их волосы соприкоснулись, лица сблизились, дрожащие губы слились в поцелуе. Но счастье, которое озарило их в это мгновение — счастье первого поцелуя — было коротким, как вспышка молнии. В испуге они быстро отпрянули друг от друга. Йонатас как будто только того и ждал.
— Ну все, дети, — сказал он. — Пришло время расходиться. Огонь в камине почти потух, да и вам, господин граф, уже пора возвращаться в замок, а тебе, Розамунда, в свою спальню.
Голос Йонатаса пробудил их от упоительного сна и заставил спуститься с небес на землю.
Все трое встали. Эберхард и Розамунда были так ошеломлены, так сильно дрожали, что им пришлось опереться друг о друга, чтобы не упасть. Сказав на прощание несколько слов и пожав друг другу руки, они расстались. Йонатас был безмятежен и продолжал думать о прошлом. Розамунда и Эберхард — взволнованы до глубины души и погружены в размышления о будущем.
Простодушные дети! Как же бились их бедные сердца, как учащено было их дыхание, словно они долго бежали изо всех сил! Да и в самом деле, разве они сейчас не пробежали в один миг длинную дорогу юности, которая называется любовью?
Так Эберхард и Розамунда узнали о том, что происходило в их сердцах. История Конрада и Ноэми, казалось, послужила судьбе черновиком, который та набросала, прежде чем написать историю любви их племянников. Какую страшную развязку судьба предназначила этой новой истории?
Как мы уже сказали, это ведомо было одному лишь Богу.
X
На другой день наши влюбленные — а теперь мы можем называть их так — пришли на утренний урок в лесной грот, поросший изнутри мхом, отчего в нем было тепло даже зимой. Радость, переполнявшая сердце Эберхарда, светилась в его глазах. Розамунда же казалась задумчивой и серьезной как никогда.
Излишне говорить, что оба они провели ночь без сна.
Когда прошел момент первого удивления, юноша погрузился в пьянящий, упоительный бред, не покидавший его до утра. Он любит! И он любим! Любим! Так вот как называется то, что занимало все их мысли и наполняло все их существование; эти невольные порывы, это смятение, это томление — все это называется любовью! Перед Эберхардом открылся неизведанный мир: прошлое озарилось светом нового дня, превратившись в цепь сладостных воспоминаний; будущее заблистало тысячью сияющих надежд. О, теперь он не будет больше грустить! Если действительно ему суждено мрачное будущее — так что ж? Ведь теперь он не одинок, теперь у него есть то, в чем он всегда сможет найти спасение.
Розамунда провела ночь в тоске и страхе. Нет, она была достаточно мужественна, чтобы не упрекать себя за то, что уступила непреодолимому порыву страсти. Но она не могла простить себе того, что, дав повод для новой вспышки гнева Максимилиана, она стала причиной новых несчастий Эберхарда. Так-то она отплатила своей благодетельнице Альбине за всю ее доброту? Полюбив, она осталась чиста перед Богом, но в глазах света ее чувство было предосудительным, и судьба Конрада и Ноэми, очаровавшая ее накануне, на следующий день ужаснула ее. Чем закончилась для Конрада и Ноэми их святая любовь? Изгнанием, отчаянием, смертью. И все же граф Рудольф не испытывал к сыну ненависти, как Максимилиан к Эберхарду, да и Конрад не дал Ноэми того, что дала Розамунда Эберхарду и что составляет духовную жизнь всякого человека, — образования.
Итак, когда наши друзья встретились в лесном гроте, Эберхард был весел, но Розамунда держалась строго.
Эберхард давно ждал девушку и, заметив ее, бросился ей навстречу, дрожа от нетерпения.
— Ах, Розамунда! — воскликнул он. — Это вы! О, мне не хватает слов! Но послушай: я хочу сказать тебе одно только слово — слово, в котором заключен весь земной мир, — я люблю тебя! И еще одно слово, в котором заключен мир небесный, — ты любишь меня, Розамунда!
Эберхард упал перед девушкой на колени, молитвенно сложив руки и устремив на нее очарованный взгляд.
— Эберхард, друг мой, брат мой! — сказала Розамунда с тем неизменным достоинством, которое сквозило в каждом ее слове и движении. — Встаньте, Эберхард. Поговорим как брат и сестра — так мы говорили всегда. Я никогда не откажусь от того молчаливого признания, которое вырвалось у меня в минуту восторга: да, я люблю вас, Эберхард, так же, как вы любите меня.
— Ангелы небесные, слышите ли вы эти слова?! — воскликнул пылкий юноша.
— Да, — задумчиво продолжала Розамунда, — я люблю вас, как Ноэми любила Конрада, и мне сладостно повторять эти слова. Но подумайте, какая судьба постигла Конрада и Ноэми. Я могу отдать вам свою жизнь, но я не могу, к сожалению, принять в жертву вашу. Вы иногда говорите, что в будущем вас ждет великое несчастье — такое у вас предчувствие. Я скорее умру, чем соглашусь стать причиной этого несчастья! Что касается меня самой, то я согласна страдать, но заставлять страдать вас — это свыше моих сил, предупреждаю вас, Эберхард. Сон, который пригрезился нам вчера вечером, губителен, и нам лучше забыть о нем.
— Забыть об этом — значит забыть всю мою жизнь, — ответил Эберхард, — ибо этот сон стал моей жизнью, моим дыханием, моим существом, он стал неотделим от меня. Отныне ничто не в силах разлучить нас, Розамунда: я принадлежу вам, а вы принадлежите мне.
— Зачем же нам разлучаться? — ответила Розамунда, которая искренне старалась хранить твердость, но по наивности своего сердца безотчетно действовала так, как лукаво и властно подсказывало ей ее чувство. — Мы можем оставаться вместе, Эберхард, но при условии, что мы заживем по-старому, что мы оба навсегда вычеркнем из нашей памяти этот безумный вечер, что мы вернемся к нашим тихим и невинным беседам. Вы, Эберхард, будете как брат служить мне защитой и поддержкой, а наши матери — ангелы небесные — всегда пребудут с нами. Если вы согласны, то впереди нас ждет много счастливых дней, потому что, признаюсь вам, мне и в самом деле было бы сейчас нелегко отказаться от нашей дружбы. Если мы твердо и смиренно будем исполнять свой долг, то Бог будет к нам благосклонен и поддержит нас, а в его руках наше будущее.
— Будущее!.. — горько воскликнул Эберхард. — Да, конечно, давайте отложим наше счастье, как откладывают визит кредитора, не будучи в состоянии заплатить долг.
— Эберхард, мой друг и брат! — грустно сказала Розамунда. — К чему эта ирония? Вы несправедливы ко мне. Почему же тихие и невинные радости, которых вам хватало еще вчера, вызывают у вас теперь такое презрение? Разве вы больше не хотите, чтобы ваша подруга, ваша сестра оставалась священной для вас, непорочной и честной в глазах окружающих?
— Да, Розамунда, но именно для того, чтобы вас все по-прежнему почитали и преклонялись перед вами, мы и не можем ограничиться неопределенными словами, говоря о нашем будущем. Послушайте: мое одиночество, из-за которого я когда-то пролил столько горьких слез — Господь Бог и моя матушка тому свидетели, — теперь только радует меня. Отец решил больше не вмешиваться в мою жизнь, при условии, что и я не буду его беспокоить, поэтому я свободен и сам себе хозяин. Так вот, моя жизнь отныне принадлежит вам, и не я ее вам отдаю, а сам Бог, потому что, сделав меня сиротой, он дал мне право распоряжаться своей жизнью. Примите же этот дар, Розамунда. Прошу вас: будьте моей женой.
— Увы, Эберхард! Те же самые слова Конрад должен был бы сказать Ноэми… А Ноэми… Вспомни, Эберхард.
— Ноэми умерла на эшафоте, не так ли?.. Но я не предлагаю вам тайный брак, Розамунда. Нет, мы обвенчаемся открыто, в часовне Эпштейнов, и наш брак не будет тайной ни для Бога, ни для людей, ни даже для моего отца. Из книг, которые вы давали мне читать, я немного знаю свет, и мне кажется, что я могу угадать чувства и намерения графа Максимилиана. Если бы я старался выдвинуться, быть на виду, если бы я претендовал на славу своего имени и требовал бы своего места под солнцем и милостей императора — тогда бы отец проклял меня и постарался бы от меня избавиться. Но поскольку я довольствуюсь своей судьбой, не ищу признания при дворе, известности, почестей, то в этом случае, по соображениям его ограниченного ума, мое «падение» и мой неравный брак не могут быть для него оскорбительны. И можете мне поверить, он не стал бы меня отговаривать от этого шага — напротив, если бы он мог, он бы подталкивал меня к этому браку. Само мое существование ущемляет его гордыню и честолюбие, поэтому он будет только рад, если сможет избавиться от меня с моей же помощью, уверяю вас, Розамунда. Как только я женюсь на вас, между ним и мной встанет непреодолимая преграда, ему больше не придется отдавать кому-либо отчет в моих действиях и краснеть за меня, виноват буду я один, а ему останется только жаловаться на свою судьбу; таким образом он окажется в удобном для себя положении и будет втайне благодарен мне за это. Тогда он наконец сможет спокойно думать о своем преуспеянии, о будущем моего старшего брата, ведь Альберт отныне действительно станет единственным его сыном. Я больше не смогу в роли досадного лишнего третьего лица мешать осуществлению их величественных планов! Я превращусь в непокорного сына, который женился на простой крестьянке, как это сделал Конрад фон Эпштейн и поэтому был по заслугам отвергнут отцом! Как Конрада, меня все забудут и никогда не вспомнят о моем существовании; но нам, в отличие от Конрада и Ноэми, не придется менять нашу жизнь и скитаться в поисках приюта для нашего счастья. Граф фон Эпштейн безвыездно живет в Вене и, судя по его письму, не собирается покидать столицу. А мы с вами, Розамунда, сможем жить здесь, в доме вашего отца, вдвоем, всеми забытые, а значит, спокойные и счастливые. Соглашайтесь, Розамунда: вам предлагает руку не богатый наследник рода Эпштейнов, а бедный, всеми презираемый и никому не известный изгнанник, которому вы великодушно можете подарить сокровища своей любви и счастье видеть ваш радостный взгляд и ваше чистое чело. Этот шаг требует от вас самоотверженности, но разве она не желанна вам? Или вы не верите, что наша жизнь будет настоящим раем? Я, ваш друг и брат, предлагаю вам этот рай; неужели у вас хватит смелости отказать мне?
— Эберхард! Эберхард! Не искушайте меня! — сказала Розамунда взволнованно, но при этом достаточно твердо отстраняясь от юноши. — Да, то, что вы предлагаете мне, — это неземное счастье. Но мы с вами живем на земле, и было бы наивностью или безумием надеяться, что земное счастье может быть абсолютным. И точно так же было бы кощунством и святотатством безо всяких колебаний предрекать себе жалкое будущее, как это делали вы. Неужели вам не известно, бедный мой мечтатель, что на земле надо уметь ждать, а не витать в облаках?
— О Розамунда, Розамунда!! — воскликнул Эберхард. — Не напоминайте мне о моей судьбе, не ввергайте меня снова в пучину тоски. Мне кажется, что вы могли бы отвести от меня беду, которую чует мое сердце, что вы могли бы, как добрая фея, одним мановением руки превратить все мои сомнения в пустые домыслы. Если вы оттолкнете меня, то я буду думать, что вы испугались зловещего наследства, которое я получил от судьбы, и не хотите разделить мои горести.
— Ах, не говорите так! Не нужно так думать! — взволнованно сказала Розамунда. — Единственное, чего я боюсь, — это усугубить ваши беды, но, клянусь вам, для меня не было бы большего счастья, чем разделить вашу судьбу.
— Так значит, вы согласны! Вы моя, Розамунда! Вы моя жена! Теперь ничто мне не страшно — ни горе, ни смерть! Пусть я буду счастлив с вами на этой земле только один день, а где он продолжится — здесь или на небесах — разве это важно?
Эберхард говорил красноречиво, пламенно, убедительно, и Розамунда почувствовала, как и накануне, что неведомая сила увлекает, завораживает ее. Она бессильно опустилась на обломок скалы, а Эберхард мгновенно, как по волшебству, очутился у ее ног. Она рассеянно смотрела вокруг: на грот, на мшистые скамейки — на все то, что было свидетелем упоительных и безмятежных часов, которые они провели вместе. Ее охватило чувство неземного счастья, и она — возвышенное, непорочное создание — отдалась мощному обаянию этого опасного чувства. Сама тишина, царившая вокруг, была полна смятения и соблазна.
Но именно сила этих незнакомых ей доселе чувств заставила ее гордую безгрешную душу очнуться от сна. Розамунда провела рукой по своему прекрасному лбу, стараясь изгладить даже следы тех мыслей, которые теснились в ее голове, резко встала и уверенным жестом приказала Эберхарду встать.
Затем, стоя перед своим покорным возлюбленным, она сказала ему твердо, спокойно и решительно:
— Брат, не будем поддаваться слабости и опасным соблазнам. Можем ли мы в одну минуту, не размышляя, как легкомысленные дети, связывать — увы, не наши души: они давно связаны, — но наши судьбы? Брат мой, будем хладнокровны и мужественны, посмотрим спокойно в лицо будущему, которое нам предназначил Господь, окинем взором тот путь, по которому нам предстоит идти.
— Вы размышляете! — воскликнул Эберхард. — Значит, вы не любите меня!
— Я люблю вас, Эберхард, и мое чувство свято — Бог тому свидетель. Когда я думаю о вас, мною овладевает нежное и отрадное чувство, но в этом чувстве много серьезного и, можно сказать, материнского.
— Вы не любите меня, не любите меня! — твердил Эберхард.
— Выслушайте меня, Эберхард, — просто и искренне сказала ему Розамунда. — Мне действительно кажется, что моя любовь не похожа на вашу, но, вероятно, я люблю вас так, как мне это свойственно. Вчера, оправившись от волнения, я всю ночь думала, пыталась разобраться в себе, и сейчас я могу вам сказать вот что: обещаю вам, Эберхард, клянусь вам, что, если мне не суждено стать вашей, я не буду принадлежать в этом мире никому, кроме Бога. Сама мысль о возможности связать свою жизнь с кем-то другим, кроме вас, Эберхард, для меня невыносима. Если это сможет вас хоть немного утешить и успокоить, я буду счастлива.
— Сейчас ваши слова приводят меня в восторг, Розамунда, но смогу ли я довольствоваться ими завтра?
— И сегодня и завтра моя жизнь принадлежит вам, Эберхард. Но прошу вас, давайте оставим нашей любви возможность проверить себя временем и страданием; у горя, как и у счастья, есть свои права. Мне кажется, что, если мы примем ниспосланное нам блаженство, не испытав себя, судьба будет нам мстить. Меня учили, что бы я ни делала, всегда думать о Боге. Чего я хочу от вас? Терпения. Быть может, я совершила большую ошибку, дав вам повод безосновательно надеяться; я была благоразумна только сегодня и только наполовину. Хотя вы и утверждаете, что я не люблю вас, я все же не могу просто так отказаться от возможности быть счастливой: это превыше моих сил… Да простит мне Бог! О моя матушка, о Альбина, простите меня!
— Ах, Розамунда, моя матушка не только прощает, но благодарит вас за своего сына, ибо благодаря вам в мое мрачное и тоскливое существование войдут свет и красота. Вот, Розамунда, от имени моей матушки — и пусть ее именем будут освящены все мои намерения и поступки — примите это кольцо, которое она носила до замужества, примите его в знак любви от нее и от меня. Вы были так великодушны: вы не лишили меня надежды на будущее. Пусть же это кольцо станет залогом того, что мы обручены, мой ангел!
— Вы действительно этого хотите, Эберхард?
— Я прошу, я умоляю, — ответил юноша.
— Тогда выслушайте мои условия, — сказала Розамунда.
— О, я слушаю, слушаю вас.
— Прежде всего, если я связываю свою жизнь с вашей и делаю это от чистого сердца, то хочу, чтобы вы при этом сохранили полную свободу.
— О Розамунда!
— Я так хочу, Эберхард. Это солнечное утро навсегда останется в нашей памяти, но мы никогда больше не будем о нем говорить. И мы снова станем теми, кем были вчера, — братом и сестрой, мы возобновим наши занятия и наши мирные беседы. Отныне мы не произнесем слова «любовь» и будем ждать, сохраняя спокойствие и доверие друг к другу, пока время и Провидение не пошлют нам какой-нибудь знак.
— Боже мой, но это ужасное ожидание может длиться бесконечно!
— Через два года, Эберхард, ровно в тот день, когда нам обоим исполнится двадцать лет, вы объявите о вашем намерении отцу, а там будет видно.
— Два года! Через два года!
— Да, брат. Это мое решительное и непреложное требование. Согласны ли вы с ним?
— Я покоряюсь вашей воле, Розамунда.
— Наденьте мне на палец ваше кольцо, Эберхард. Спасибо, друг мой. С этого дня сердце мое будет знать, что я ваша невеста, но в остальном я останусь вам, как и прежде, лишь сестрой.
— Милая Розамунда!
— Будьте добры, Эберхард, покажите мне окончание вашего перевода «Гамлета».
Нетрудно догадаться, что, несмотря на героическое решение молодых людей, урок на этот раз прошел быстрее обычного, а ученик и учительница были несколько рассеянны. Однако они остались верны своим обещаниям и не выказывали никакой слабости.
XI
К Розамунде вернулись покой и счастье. Бедное дитя! Выиграв время, она уже праздновала победу. Она избежала выбора между любовью и долгом, смогла примирить свою страсть со своей совестью, поэтому была довольна собой и повторяла себе каждую минуту, что Бог и Альбина тоже должны быть ею довольны.
«Два года — это так долго, — говорила она себе, — к тому времени Эберхард, увы, наверняка разлюбит меня. Но зато я избавила его от угрызений совести. Все это время он будет рядом со мной, и если через два года его любовь не пройдет… Но видит Бог, я совершенно уверена, что через два года он разлюбит меня».
Что до Эберхарда, то он расстался с Розамундой опьяненный любовью и обезумевший от радости.
«Два года послушания — совсем не так много, — рассуждал он, — ведь все это время я буду видеться с ней. За два года мне удастся доказать ей, как нежно я ее люблю. Мне кажется, я верно рассчитал намерения отца, впрочем, надо испытать его: Бог простит мне эту хитрость. Я попытаюсь пробудить в нем беспокойство и заставлю его поверить в мое честолюбие. Когда же он увидит, что, вместо того чтобы добиваться положенного мне по праву — а такое требование его бы напугало, — я люблю простую девушку и намереваюсь на ней жениться, он успокоится. Он засыплет меня упреками, но позволит делать все, что я захочу, и тогда Розамунда, которая из гордости отказала бы знатному и могущественному жениху, не сможет в своей самоотверженности оттолкнуть меня, одинокого и всеми покинутого. Да, я так и сделаю: сегодня же напишу отцу и попробую какими-нибудь неясными намеками и двусмысленными фразами зародить в его душу тревогу. Но сначала надо перечитать ту записку, которую он прислал Йонатасу и в которой он предлагает мне свободу в обмен на мои права; это поможет мне правильно составить письмо».
Эту записку Эберхард бережно хранил в замке Эпштей-нов, в своей комнате. Задумчиво опустив голову, он побрел в том направлении, где виднелись высокие башни семейной цитадели Эпштейнов. По дороге он обдумывал, в каких выражениях составить письмо графу, и, когда он подходил к воротам замка, текст этого письма почти уже полностью сложился в его голове.
«Да, именно так его можно пронять, — рассуждал он. — Именно эти струны его души нужно затронуть, и успех будет почти обеспечен. Поскольку отец поклялся никогда больше не возвращаться в замок, придется прибегнуть к помощи письма».
Рассуждая таким образом и радуясь от души своей выдумке, Эберхард не спеша переступил порог главного входа. И тут, подняв голову, он увидел, что перед ним с мрачным и надменным видом стоит граф Максимилиан в траурной одежде. И отец и сын вздрогнули от неожиданности.
Граф Максимилиан фон Эпштейн принадлежал к разряду хитрых и изворотливых политиков, которым прямой путь из одной точки в другую всегда кажется самым длинным. Если бы кто-нибудь мог наблюдать встречу Максимилиана с сыном со стороны, он бы подумал, что видит перед собой дипломата, который за тысячью уловок и обиняков прячет какую-то свою тайную цель, ни на минуту не теряя ее из виду. Было видно, что ловкий и проницательный Максимилиан хочет нащупать почву, узнать, что происходит в душе сына, прежде чем произнести ту выражающую его намерения фразу, которая уже готова была сорваться с его губ и стать сигналом к неожиданному повороту событий, подобно реплике драматического актера.
— Ваша милость граф фон Эпштейн! — вырвалось наконец у изумленного Эберхарда.
— Обнимите меня, сын мой, и называйте меня вашим отцом, — ответил граф.
Эберхард колебался.
— Я спешил увидеть вас, — продолжал Максимилиан, — и для этого приехал из Вены, затратив на этот путь всего четыре дня.
— Чтобы увидеть меня, сударь? — пробормотал Эберхард. — Вы приехали, чтобы увидеться со мной?
— Подумайте сами, сын мой, вот уже три года, как я не видел вас, три года эти ужасные заботы о государственных делах держали меня в Вене, вдали от вас. Но я должен сказать вам нечто лестное, Эберхард: я оставил здесь ребенка, а теперь передо мной мужчина. Вы приводите меня в восхищение: так вы красивы и мужественны. Когда я вижу, как вы изменились, мое отцовское сердце переполняется радостью, гордостью и ликованием.
— Ваша милость, — сказал Эберхард, — если бы я мог поверить тому, что вы говорите, я был бы горд и счастлив.
Эберхард не мог прийти в себя от удивления. Действительно ли перед ним стоял граф Максимилиан? Неужели этот когда-то суровый и жестокий человек говорил теперь с ним с такой мягкостью и добротой? Эберхард был наивен и простодушен, но любовь сделала его более прозорливым, поэтому он сразу заподозрил в словах графа ловушку и был настороже. Граф же, со своей стороны, пристально вглядывался в лицо Эберхарда, стараясь прочитать его мысли и чувства.
Забавно было наблюдать эту сцену: встречу отца и сына после трехлетней разлуки. Они и в объятиях были полны недоверия друг к другу и вели тонкую игру, выражавшуюся в бесконечных взаимных уверениях; подобно карточным игрокам или дуэлянтам, они сверлили друг друга взглядами и пристально наблюдали за каждым движением противника, не переставая соревноваться в излиянии родственных чувств.
— Да, Эберхард, — продолжал граф тем же фальшивым тоном, все время вопросительно поглядывая на сына, — вы не можете себе представить, с какой радостью я возвращался в замок Эпштейнов, как ликовала моя душа при мысли о том, что я снова увижу своего сына, кого я немного недооценивал и кому я поэтому не уделял, быть может, достаточно внимания. Но ведь вы простите мне, я надеюсь, эту невольную забывчивость, вызванную беспрестанно одолевавшими меня заботами. Я горько сожалею о том, что здесь, в одиночестве, вы были лишены возможности учиться, читать книги и поэтому совсем не знаете света. Но для такой благородной души, как ваша, образование никогда не приходит поздно. Позвольте представить вам ученейшего доктора Блазиуса, специально приехавшего со мной из Вены, чтобы проверить уровень ваших знаний и в случае необходимости довести ваше образование до должного уровня.
В это мгновение Эберхард увидел, что из дверей ему навстречу идет долговязый, худой, одетый в черное человек. Услышав, что произносят его имя, он низко поклонился Эберхарду и пробормотал несколько слов, из которых его будущий ученик разобрал нечто вроде «ваша милость» и «мое почтение».
«Все ясно, — подумал Эберхард. — Теперь я понимаю, что кроется за ласковыми словами моего отца и предупредительностью учителя: они хотят узнать, остался ли я таким же невежественным и безобидным ребенком, каким был раньше, или же по какой-то случайности стал для них опасен. Пришло время заронить тревогу в их подозрительные души и показать им, что при необходимости я могу распознать и опрокинуть все их планы».
— Отец, — с поклоном произнес молодой человек, — я чрезвычайно признателен вам, а равно и господину профессору, что вы соблаговолили принести свет науки бедному изгнаннику. Действительно, здесь я не имел возможности вполне удовлетворить жажду знания, и от этого она стала лишь сильнее.
— Увы! — произнес Максимилиан. — В этом следует упрекать скорее меня, нежели вас. Но все это поправимо, не так ли, доктор Блазиус?
— Вне всякого сомнения, ваша милость, вне всякого сомнения, — ответил профессор. — Мне в тысячу раз приятнее иметь дело с девственным умом, с тем, что называют «табула раза», с чистым листом, на котором еще не нанесено ни одного знака, чем с интеллектом, перегруженным предвзятыми доктринами и ложными убеждениями. Нам придется многое сделать, но зато ничего не нужно будет переделывать, а это уже хорошо.
— Благодарю вас за то, что вы не теряете надежды, — сказал граф.
— А я за то, что вы не отчаиваетесь, — добавил Эберхард, в глубине души возмущенный комедией, в которой его заставили участвовать. Но, отвечая иронией на их лживые слова, он испытывал от этого своеобразное удовольствие, смешанное с горечью.
— Итак, — сказал доктор, — мы начнем с того, что обратимся к самым элементарным познаниям во всех областях: истории, языках, точных науках, философии — это отличная идея.
— Чтобы вы не теряли времени понапрасну, — сказал Эберхард, наблюдая за тем, какое впечатление его слова производят на отца, — я думаю, дорогой профессор, что нам лучше будет сразу оставить в стороне практические познания, с которыми я не испытываю никаких трудностей, и обратиться к основным проблемам каждой из названных вами наук. Что касается истории, то тут, я думаю, вам не удастся сообщить мне ничего нового относительно фактов, однако я буду счастлив побеседовать со столь просвещенным человеком, как вы, о философском аспекте исторических событий. Позвольте вас спросить, господин профессор, какова ваша точка зрения на Гердера и Боссюэ? Что касается меня, то я поддерживаю первого и не согласен со вторым.
Граф и доктор изумленно переглянулись.
— Относительно иностранных языков, — продолжал Эберхард, — могу вам сказать, что мои знания английского и французского достаточны, чтобы переводить и комментировать с листа Мольера и Шекспира. Но если вы хотите, чтобы я еще глубже проник в мысль этих великих гениев, если вы хотите, чтобы вслед за буквой текста я постиг его дух, то обещаю вам, доктор, что вы найдете во мне если и не очень сообразительного, то чрезвычайно внимательного и старательного ученика.
Максимилиан и Блазиус не могли прийти в себя от удивления.
— Но, Эберхард, — воскликнул граф, — кто же мог научить вас всем этим премудростям в вашем одиночестве?
— Само мое одиночество, — ответил Эберхард, почувствовав, что сейчас нужно быть вдвойне осторожным. — Я просто брал с собой в лес книги из нашей библиотеки: грамматики, исторические хроники, трактаты по математике — и изучал их до тех пор, пока полностью не постигал их смысла, а потом дополнял прочитанное размышлениями. Конечно, мне было нелегко, особенно трудно дались мне точные науки, но, благодаря терпению и упорству, я преодолел все трудности. И вот однажды мне случайно попалась под руку программа требуемых знаний для поступающих в государственные школы. Какова же была моя радость, когда я обнаружил, что с уверенностью могу сдавать экзамены как в военные школы, так и в университеты. Так что если даже я буду представлен ко двору, то вам, отец, не только не придется краснеть за меня, но, возможно, вы будете гордиться мной.
— Это невероятно! — воскликнул граф. — Это чудо, доктор, настоящее чудо! Надо расспросить его подробнее, потому что я все-таки не могу в это поверить. Пойдемте скорее, доктор, мне не терпится окончательно убедиться в этом чуде. Пойдем, Эберхард, пойдем же, мой дорогой сын!
И граф увлек Эберхарда в столовую, которая находилась неподалеку.
Там доктор Блазиус устроил так называемому ученику экзамен, но вскоре стал понимать, что с его стороны было бы непредусмотрительно слишком углубляться в беседу с юным эрудитом, поскольку во многих областях науки знания его будущего ученика были если и не более обширными, то, по меньшей мере, более глубокими, нежели знания учителя. И в самом деле, благодаря своим выдающимся способностям, Эберхард во многом превзошел Розамунду, познания которой отличались некоторой поверхностностью. Вопреки привычной скромности, Эберхард держался самоуверенно: ему нравилось удивлять педантичного доктора Блазиуса с его строго классическим образованием.
— Это что-то небывалое! — заключил в конце концов ошеломленный профессор. — Это чудо, которым вы обязаны Богу, господин граф, и он послал вам его, конечно, не в возмещение вашей потери, но, по крайней мере, в утешение.
— Да, — сказал Максимилиан, — и эта радость даже заставила меня на какое-то мгновение забыть о трауре, который я ношу, и о горе, от которого разрывается мое сердце. Увы! Дорогой Эберхард, теперь ты можешь узнать о трагическом событии, о котором я не хотел тебе сообщать, не убедившись, что ты достоин славного имени твоих предков: твой старший брат, мой бедный Альбрехт…
— Что с ним? — встревоженно спросил Эберхард.
— Он умер, Эберхард… Смерть поразила его мгновенно, словно удар молнии, за три дня он сгорел от воспаления мозга. В двадцать один год! И это в то время, как перед ним открывалось блестящее будущее, обеспеченное ему моими усилиями и его талантами! Бедный юноша! Какие у него были способности! Как он был находчив, как ловко умел балансировать на скользкой почве двора, как быстро, с первого взгляда, ему удавалось распознать козни наших врагов и проворно ответить ударом на удар, как умело он выпутывался из самых сложных интриг! И Бог взял его у меня, понимаешь, Эберхард! Но он нанес мне только один удар, потому что теперь я обрел другого сына, не менее, чем Альбрехт, достойного моей любви и милости его императорского величества. Ты заменишь своего брата, сын мой. Теперь ты старший сын в семье и единственный наследник рода Эпштейнов, а тебе известно, к чему обязывает эта честь. Для тебя теперь начнется новая жизнь; так забудем прошлое и станем смотреть в будущее, не так ли? Отныне ты можешь полностью рассчитывать на любовь и поддержку своего отца. Я уже подумал о том, как тебе наверстать упущенные возможности и время. За это не беспокойся, сын мой!
Эберхард побледнел, и ноги у него подкосились. Он представил себе, как должна измениться его жизнь в связи с намерениями отца. Но поскольку та внутренняя борьба, которая происходила в душе Эберхарда, никак не отразилась на его лице, граф продолжал:
— Отныне, Эберхард, ты офицер австрийской службы . Понимаешь ли ты, что это значит? Вот твой патент, но это еще не все.
Граф подошел к стулу, взял лежавшую на нем шпагу и протянул ее сыну.
— Вот твоя шпага, — сказал он. — Ты должен был бы получить все это лишь через полгода, но, поскольку ты достоин этой чести уже сейчас, прими эту шпагу и этот патент из моих рук. Поверь, Эберхард, милости императора этим не ограничатся. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Сейчас я слишком устал. Меня утомили и горькие, и радостные переживания: воспоминания, которые во мне пробудила встреча с тобой, горестные чувства, вызванные кончиной моего дорогого Альбрехта, и счастье от того, что я вижу тебя таким, каким даже и не мечтал увидеть. Побеседуйте пока с доктором Блазиусом, а вечером, Эберхард, мы снова встретимся, и я расскажу тебе о своих намерениях. Я уверен, что ты поймешь меня и станешь моим единомышленником. А пока, в ожидании нашей встречи, можешь предаваться радостным мечтам, мальчик мой; но все равно ты не сможешь себе представить, какое высокое предназначение ждет тебя при дворе, в Вене, куда мы с тобой отправимся через несколько дней. Произнося эти слова, граф поцеловал ошеломленного Эберхарда, снисходительно похлопал по плечу доктора Блазиуса, который при этом склонился до земли, и вышел из комнаты.
— Через несколько дней я буду представлен ко двору! — бормотал потрясенный Эберхард, с тоской разглядывая патент и шпагу. — Через несколько дней… О Боже мой! Боже мой! Что она скажет, когда узнает об этом?
Он бросился вон из замка, не обращая внимания на крики доктора Блазиуса, который не имел желания следовать за ним:
— Ваша милость господин фон Эпштейн, не забудьте: через час ваш батюшка, господин граф, ждет вас к ужину!
Эберхард примчался в лесной домик и бросился искать Розамунду. Она гуляла в саду, том самом, который Эберхард разбил для нее. Юноша предстал перед ней бледный и задыхающийся, все еще сжимая в руке патент и шпагу.
— Что с вами, Эберхард? — спросила девушка.
— Вы спрашиваете, что со мной, Розамунда? Приехал граф и, как всегда, принес с собой беду.
— Что вы имеете в виду, Эберхард?
— Вот, посмотрите! — и он протянул ей патент и шпагу.
— Что это?
— Вы не догадываетесь, Розамунда?
— Нет.
— Мой брат Альбрехт умер, и теперь я старший сын в семье. Поэтому мой отец привез мне этот патент и эту шпагу и намеревается забрать меня с собой в Вену.
Девушка побледнела как полотно, но в то же время грустная улыбка появилась на ее губах.
— Дайте руку, Эберхард, — сказала она. — Пойдемте домой.
Они вернулись в домик. Розамунда бессильно опустилась в кресло Йонатаса, Эберхард поставил шпагу в угол и бросил патент на стол.
— Что ж, Эберхард, — сказала Розамунда, — разве я не говорила вам еще сегодня утром, что нужно предвидеть несчастье? Только беда пришла раньше, чем я ожидала.
— Ну и что же с того, Розамунда? — ответил Эберхард. — Неужели вы думаете, что я уеду?
— Конечно, уедете.
— Розамунда, я поклялся, что никогда не покину вас.
— Вы не давали такой клятвы, Эберхард, потому что такая клятва означала бы, что вы отказываетесь подчиняться воле вашего отца, а на это вы не имеете права.
— Граф отрекся от меня и сам мне об этом написал. Я ему не сын, а он мне не отец.
— Дурные мысли отдалили его от вас, Эберхард, но добрые намерения вновь привели его к вам: сам Бог не захотел раздора между отцом и сыном. Вы должны покориться, Эберхард, вы должны ехать в Вену.
— Я уже сказал вам, Розамунда: никогда.
— Тогда я вернусь в монастырь Священной Липы, потому что ни в коем случае не стану потворствовать вашему непослушанию, Эберхард.
— Розамунда, вы не любите меня.
— Напротив, Эберхард, именно потому, что я люблю вас, я и настаиваю на том, чтобы вы приняли то, что предлагает вам отец. Когда человек рождается на свет, у него появляются обязанности, и он не вправе уклоняться от них. Пока у вас был старший брат, пока ответственность за славу имени Эпштейнов лежала на другом, а не на вас, вы могли быть счастливы и жить в безвестности. Но теперь отказываться от бремени славы и скорби, что вам послано свыше, было бы преступлением перед вашими предками, а равно и перед вашими потомками. Отец прочит вам поприще военного — это прекрасная и славная судьба, Эберхард. А значит, вы должны ехать.
— Розамунда! Розамунда! Как вы жестоки!
— Нет, Эберхард, просто сейчас я говорю с вами так, как если бы меня не существовало в вашей жизни, потому что перед лицом того, что вас ждет, существование такой бедной девушки, как я…
— Розамунда, вы можете дать мне одну клятву? — перебил ее Эберхард.
— Какую?
— Поклянитесь, что, если я не смогу отговорить отца и мне придется ехать с ним в Вену, если я буду вынужден вступить на военное поприще, которое не принесет мне ничего, кроме отвращения к жизни и презрения к смерти, наконец, если, преуспев на этом поприще, я смогу стать свободным, стать единственным хозяином собственной воли и распоряжаться своей судьбой, — поклянитесь, Розамунда, что тогда вы исполните обещание, данное мне сегодня утром, и станете моей.
— Я поклялась, Эберхард, что не буду принадлежать никому, кроме вас или Господа Бога. Теперь я снова повторяю эту клятву, и можете на меня положиться: я сдержу обещание.
— А теперь послушай меня, Розамунда, — сказал Эберхард. — Клянусь тебе могилой моей матери, что никогда не полюблю никакую другую женщину, кроме тебя.
— Эберхард! Эберхард! — в испуге воскликнула Розамунда.
— Клятва дана, Розамунда, и я от нее не отрекусь: ты будешь принадлежать мне или Богу, я буду принадлежать тебе или никому.
— Клятвы — страшная вещь, Эберхард.
— Для того, кто их нарушает, — да, но не для того, кто держит свое слово.
— Помни об одном, Эберхард: если ты захочешь снять с себя эту клятву, то тебе не нужно снова приезжать сюда, потому что я освобождаю тебя от нее сейчас.
— Хорошо, Розамунда. Но мне пора: звонят к ужину. До завтра. Хладнокровно произнеся свое решение, Эберхард ушел, оставив Розамунду в страхе и смятении.
XII
После ужина, во время которого граф был еще веселее и еще любезнее с сыном, чем днем, Максимилиан торжественно пригласил Эберхарда в свои покои. Юноша последовал за ним, плохо соображая и весь дрожа от волнения.
Когда они оказались в красной комнате, Максимилиан указал сыну на кресло. Эберхард молча сел. Граф принялся ходить от окна к потайной дверце широкими шагами, украдкой поглядывая на сына, которому он до сих пор выказывал так мало отеческих чувств. Выражение лица Эберхарда было так бесхитростно, а взгляд так простодушен, что граф почти оробел и явно не знал, с чего начать разговор. Наконец он решил, что для такой ситуации лучше всего подойдет строгий и напыщенный тон, никогда не подводивший его в дипломатической деятельности.
— Эберхард, — начал он, усаживаясь напротив сына, — прошу вас, позвольте мне сейчас говорить с вами не как отец, а как государственное лицо, как человек, ответственный за судьбу великой империи. Долг призывает вас, Эберхард, занять рядом со мной место, опустевшее после смерти вашего брата. Когда-нибудь и вы, сын мой, получите высокий пост, позволяющий управлять целыми народами и ведать убеждениями людей, но, вступая на это славное и чреватое опасностями поприще, вы должны понимать, какие жесткие обязанности налагает на вас подобная миссия. Вам необходимо отказаться от ваших страстей, от самой вашей индивидуальности и отдавать себе отчет в том, что отныне вы живете не для себя, а для других. Необходимо пойти на высшее самоотречение и забыть о своих желаниях, наклонностях, даже о своей гордости и вознестись над общественными условностями, над добром и злом, над предвзятыми идеями и предрассудками — одним словом, надо всем, что присуще человеку, чтобы столь же беспристрастно, как Бог руководит миром и вселенной — позволю себе это сравнение, — руководить великой нацией, за которую вы будете нести ответственность на доверенной вам должности.
Граф остался доволен столь торжественным вступлением и сделал паузу, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела его речь на сына. Эберхард слушал отца внимательно, но без особого восторга, и выражение его лица могло в равной мере свидетельствовать как о почтительности, так и о скуке.
— Вы, должно быть, уже размышляли о столь важных предметах и, без сомнения, разделяете мою точку зрения, Эберхард? — спросил Максимилиан, несколько обеспокоенный упорным молчанием сына.
— Я действительно полностью согласен с вами, отец, — с поклоном ответил юноша. — И я от всего сердца восхищаюсь людьми, столь ясно осознающими свое высокое предназначение. Но я думаю — и вы, я уверен, согласитесь со мной, — что можно пожертвовать своими пристрастиями и наклонностями, даже своим счастьем, но нельзя не считаться с правами совести; превращая тщеславие в самоотречение, нельзя пренебрегать честью.
— Это все пустые слова, молодой человек, — сказал граф с презрительной усмешкой, — тонкости, не имеющие никакого смысла, и вы сами не замедлите в этом убедиться. Нужно быть выше и сильнее этого.
— Не знаю, отец, — ответил Эберхард, — может быть, для некоторых людей, достигших известных высот, слова «добродетель» и «честь» не имеют никакого смысла, но для меня, смиренного изгоя, эти слова выражают те понятия, что мне так же дороги, как моя жизнь, а может быть, и дороже жизни. Я хотел сказать вам об этом сейчас, ваша милость, так как я опасаюсь, что вы обольщаетесь на мой счет, возлагая на меня столь большие надежды. Не забывайте о том, что, в конце концов, я всего лишь научившийся читать крестьянин, сын лесов и гор, и что мне, несомненно, будет нелегко усвоить законы и привычки, принятые в высшем обществе. Я мог бы появиться в свете и даже вполне прилично выглядеть, но мне кажется, что я не смогу жить так постоянно, не обнаруживая своей неотесанности. Я знаю себя, и я много размышлял над этим сегодня. Я привык к этому лесному воздуху, и мне будет душно в городских стенах. Правда и свобода стали неотделимы от моего существа, я не вынесу интриг и зависимости — все это вызовет мое возмущение и открытый протест, что погубит меня и, вероятно, повредит вашей репутации, отец. Прошу вас, ваша милость, откажитесь от ваших блестящих планов в отношении меня, и, если вы хотите, чтобы я был счастлив, возвращайтесь ко двору один, а меня оставьте здесь, среди моих лесов и полей.
— Я хочу не только вашего счастья, Эберхард, — сказал граф, еще не давая волю гневу, закипавшему в его груди, но в голосе его зазвучали грозные нотки, — я хочу также славы и процветания для нашего дома. А вы, к несчастью, оказались единственным наследником. Ах, Боже мой, и я когда-то с гораздо большим удовольствием резвился бы на просторе и охотился бы в своих владениях, вместо того, чтобы впрягаться в ярмо государственных забот. Но имя Эпштейнов обязывает. Мой отец заставил меня пожертвовать моими пристрастиями, и сейчас я благодарен ему за это; точно так же и вы в один прекрасный день скажете мне спасибо. Я отказался от любви к праздности, смирил свой буйный нрав: ибо раньше я был столь же вспыльчив и необуздан, сколь сейчас выдержан и терпелив, как вы сами можете убедиться, сын мой. И все-таки я бы не советовал вам слишком упорствовать, Эберхард. Опасно толкать меня на крайние меры, особенно если речь идет о делах моей семьи, где я чувствую себя хозяином и высшим судьей. Конечно, я уже не так молод и не так силен, но знайте: если вы разбудите мой гнев, он будет ужасен.
Речь графа становилась глухой и отрывистой и звучала словно раскаты грома. Однако продолжал он несколько мягче:
— Но ведь нет необходимости угрожать вам, Эберхард, не так ли? Ведь вы не останетесь глухи к отцовским увещеваниям. Чтобы призвать вас к рассудительности, я скажу вам только одно: Эберхард, дитя мое, вы мне нужны.
— Как, отец?! — воскликнул в простоте своего сердца Эберхард, тронутый тем, с каким простодушием придворный произнес эти слова. — Я не ослышался? Вы можете нуждаться во мне?
Нотки искреннего чувства, прозвучавшие в словах Эберхарда, не ускользнули от Максимилиана, и он решил этим воспользоваться.
— Более того, — произнес он, дотрагиваясь до руки сына, — вы мне просто необходимы. Вы не можете себе представить, какой изворотливости требует придворная жизнь, скольким интригам приходится сопротивляться, чтобы не уступить своих позиций. Не далее как два месяца назад из-за одной такой интриги я был на краю пропасти. Только ваш брат мог бы спасти положение, но Бог отнял его у меня. И тогда, Эберхард, бедное мое, забытое дитя, я подумал о вас — и вот я здесь.
— Скажите же, отец, — пылко воскликнул Эберхард, — скажите, что нужно сделать, и я сделаю это!
— Да, вы это сделаете, Эберхард, — произнес Максимилиан, — поскольку вы должны понять, что люди, самим своим рождением предназначенные к великим делам на благо государства, должны расплачиваться за эту славную судьбу полным самоотречением и что почести покупаются ценой многочисленных жертв и испытаний. Чтобы заслужить звания и титулы, Эберхард, надо обречь себя на суровое и тягостное послушание, полное забот, на бессонные ночи и безрадостные дни, надо научиться преодолевать отвращение. Признаюсь вам, что государи и их министры — иногда, надо признать, из прихоти, а чаще для того, чтобы нас испытать, — создают нам порой труднейшие условия. Но цель наша так прекрасна, так блистательна, так велика, — вдохновенно добавил граф, — что перед ней все препятствия, встающие на нашем пути, кажутся ничтожными.
На этот раз дипломатические уловки графа не достигли своей цели. Честолюбивые речи Максимилиана заставили Эберхарда вновь обрести хладнокровие, и он стал думать о том, как ему уклониться от жутких предложений отца.
Граф, сочтя задумчивость Эберхарда заинтересованностью, продолжал:
— Так вот, сын мой, в то время как перед двадцатью людьми, стремящимися достичь твоего положения, встают препятствия, которых им не преодолеть и за двадцать лет, ты можешь достичь этого положения играючи, даже пальцем не пошевельнув! Для тебя все зависит от ничтожной, ничего не значащей формальности: тебе всего-навсего нужно жениться.
— Жениться? Мне?! — вскричал Эберхард. — Жениться? Да что вы такое говорите, отец?
— Ну да, я понимаю: ты еще очень молод, но это не беда. Подожди, послушай меня до конца, — произнес граф в ответ на вырвавшееся у Эберхарда движение ужаса, — потом можешь сколько угодно удивляться. Я делаю это для твоего же счастья, поверь. Твой несчастный брат, Эберхард, не успел заключить тот брак, который я ему прочил: накануне свадьбы я потерял его. И тогда я подумал о тебе, потому что, видишь ли, этот союз обещает тебе блистательное будущее. Это счастье, на которое нельзя было и надеяться, это прямой путь к подножию трона, и даже больше, Эберхард, — на сам трон: ведь реальная власть имеет не меньше веса, чем власть формальная. Что же ты молчишь? Разве такое будущее не увлекает тебя?
— Честно говоря, отец, я мечтал не об этом.
— О черт! Но о чем же тогда? О том, что ты сейчас с презрением отвергаешь, мечтал весь двор. Самые знатные придворные оспаривали честь стать супругом герцогини фон Б., но как только речь зашла о потомке Эпштейнов, они поняли, что придется уступить место, и быстро ретировались.
— А кто она, эта герцогиня фон Б., которой непременно требуется в мужья наследник одного из древшейших родов Германии? Я никогда не слышал этого имени, — сказал Эберхард.
— Герцогиня фон Б., Эберхард, — это все и ничего. Это простая, безродная женщина, которой пожаловали герцогский титул, но она и есть настоящая императрица: ты ведь понимаешь, Эберхард, какие возможности открываются перед тем человеком, которому посчастливится стать ее мужем, и перед его семьей?
— Нет, отец, не совсем понимаю, — ответил Эберхард.
— Как! Ты не понимаешь, что эта женщина не замужем, но ей нужен муж, раз этого требуют известные условности? Так вот, тот, кто станет мужем этой женщины, будет всесилен. Государство будет заинтересовано в величии этого человека и в процветании его семейства. Вообрази только, на какие вершины ты вознесешься — разве у тебя не кружится от этого голова? Ну же, отвечай!
— На какой вопрос мне следует отвечать, ваша милость? — спросил Эберхард.
— Разумеется, на мое предложение.
— Какое предложение?
— О черт! Да на предложение жениться. Ты действительно так глуп или притворяешься?
— Не то и не другое, ваша милость. Я просто в недоумении. Как? Вы, граф фон Эпштейн, предлагаете вашему сыну… О, простите, отец, но вы или испытываете меня, или смеетесь надо мной. Ведь вы не могли сказать этого всерьез, не правда ли?
— Эберхард! Эберхард! — процедил граф сквозь зубы.
— Нет, ваша милость, — продолжал Эберхард, не обращая на это никакого внимания, — нет, я не могу поверить. Хотя мне и кажется странным, что титулы и почести вам дороже истинной славы, — это я еще могу понять. Но торговать именем ваших предков, пускать в оборот имя, которое будут носить ваши потомки, — такая низость просто не укладывается у меня в голове. И я не верю, чтобы вы, Максимилиан фон Эпштейн, предлагали мне нечто подобное! Вы можете взывать к моему честолюбию, но вы не можете требовать, чтобы я совершил подлость.
— Ничтожество! — закричал Максимилиан, побледнев от ярости.
— Нет, не ничтожество, а безумец, потому что позволяю вам думать обо мне как о ничтожестве, мой благородный отец. О, простите меня! Но чего же вы хотели? Вам не следовало слишком полагаться на мою догадливость. Я, по глупости своей, все понимаю прямо, и поэтому от меня можно ожидать любых оплошностей. Я же говорил вам, ваша милость, что лучше всего оставить меня здесь, в моем захолустье, и осуществлять ваши великие проекты без меня. Теперь вы видите сами: я ни на что не гожусь. Хоть я и владею двумя-тремя языками, но освоить язык придворных мне не под силу. Оставьте меня, ваша милость, возвращайтесь в Вену, и прошу вас, не принуждайте меня расставаться с этой бедной деревней, где я навсегда похоронил свои порывы и честолюбивые мечты.
Некоторое время граф гневно смотрел в лицо Эберхарду. Но тут его поразила внезапная мысль, и он, казалось, принял решение.
— А если вы не ошибаетесь, Эберхард, — сказал он, — если эта свадьба не предположение, а уже решенное дело? Вы все равно будете сопротивляться?
— Да, ваша милость, — твердо ответил юноша. — Но сначала я обращусь к вам с мольбой, сначала я скажу вам: «Отец, во имя всего святого (с губ Эберхарда готовы были сорваться слова: „Во имя моей матушки“, но, сам не зная почему, он не решался потревожить ее память) не толкайте меня на этот низкий поступок! Если ваш единственный сын совершит подлость, то это покроет его позором, а вам не принесет счастья. Вы можете взять мою жизнь, отец, если она вам нужна, но пощадите мою совесть». И если, ваша милость, вы все равно будете настаивать на своем, то я с достоинством подниму голову и скажу вам: «Граф фон Эпштейн! По какому праву вы требуете, чтобы я пожертвовал своей честью? Моя жизнь, может быть, и принадлежит вам, но моя честь — нет. Я ношу одно из самых гордых и благородных имен Германии, а вы хотите поставить меня ниже последнего ремесленника, который, по крайней мере, ни с кем не делит свою жену. Нет, ваша милость, я отказываюсь».
Эберхард вложил в эти слова всю пылкость своей страстной души. Граф с улыбкой смотрел на него своим холодным, пронзительным взглядом.
Когда молодой человек замолчал, граф взял его за руку и сказал с радостью, которая была так искусно разыграна, что казалась искренней:
— Хорошо, Эберхард! Прекрасно! Иди ко мне, мое милое дитя, я обниму тебя. Прости, что я сомневался в твоем честном сердце. Но теперь я наконец узнал, какой ты на самом деле. Счастлив тот отец, который имеет столь благородного сына. Теперь-то я вижу, что ты действительно достоин той, которую я тебе предназначил. Самая непорочная и обворожительная девушка в Вене будет принадлежать тебе, мой Эберхард. Да, одна из самых богатых и знатных наследниц Австрии, настоящее сокровище добродетели и красоты — Люцилия фон Гансберг — будет твоей женой.
Имя, которое произнес Максимилиан, Эберхард тысячу раз слышал от Розамунды.
— Как, отец?! — воскликнул пораженный юноша. — Люцилия фон Гансберг, это прекрасное и чистое создание…
— Это дело решенное: через месяц вы поженитесь. Надеюсь, этот брак никак не уязвит твою честь?
— Даже в этой глуши мне известно, что Люцилия фон Гансберг — самая завидная партия в Германии, — сказал Эберхард и опустил глаза.
— Ну что ж, Эберхард, — сказал граф, — можешь меня поблагодарить. Я преподнес тебе два подарка, достойных благодарности: непорочную девушку и незапятнанную шпагу.
— Конечно, батюшка, благодарю вас, — произнес Эберхард, целуя протянутую руку Максимилиана. — Нет отца заботливее и предусмотрительнее вас. Не могу найти слов, чтобы выразить переполняющее меня чувство благодарности… Но я не могу… не смею… я никогда не смогу полюбить Люцилию фон Гансберг и жениться на ней.
— А, вот вы и попались, голубчик! — закричал Максимилиан страшным голосом. Глаза его засверкали, и он встал. — Притворщик! Так значит, вы морочили мне голову? Вы попались в ловушку — вот оно что! Как это мило с вашей стороны! Так значит, не соображения чести мешают вам жениться на той женщине, которую я для вас выбрал? Дело не в ней, а в том, что вы вообще не хотите жениться. И кто же причина этому, кто же внушил эту неземную любовь, скажите на милость?
Комедия постепенно превращалась в драму. Эберхард, побледнев и дрожа, стоял, не в силах проронить ни слова. Граф положил на его плечо руку, которая казалась свинцовой, и процедил сквозь зубы резко и властно:
— Послушай, мой обожаемый сын, теперь я уже не прошу, а приказываю, я не спрашиваю у тебя, хочешь ты или нет, а говорю тебе: «Я так хочу». Я дал принцу слово, о свадьбе уже объявлено. Не будь мне пятьдесят лет, я обошелся бы без тебя, непокорный простофиля! Но нужен молодой человек, и я вынужден использовать тебя. Молчи! Не заставляй меня углубляться в причину твоего отказа: сама мысль об этом приводит меня в ярость. Берегись: я становлюсь страшен, если меня толкают на крайность. Вижу, ты собираешься мне что-то возразить. Советую тебе молчать и опустить глаза. Поверь, есть некоторые воспоминания, которые раздражают меня больше, чем пугают. Но сейчас мне жалко тебя и страшно за себя. Ступай, даю тебе время на размышление до завтра. Ступай же, говорю тебе, да пошевеливайся. До завтра. Да поможет тебе Бог принять в эту ночь разумное решение. Помни: если мне нанесено оскорбление, я становлюсь неумолимым.
И граф, тоже бледный и дрожащий, указал Эберхарду на дверь. В гневе Максимилиан становился омерзительным: он топал ногами, его трясло от злобы, пена брызгала у него изо рта. Пошатываясь, Эберхард вышел. Он был потрясен гневом отца, подавлен его родительской властью, но твердо верил в то, что, ослепленный и оглушенный яростью, Максимилиан ничего от него не добьется.
Все эти события разворачивались накануне Рождества.
XIII
Эберхард бросился вон из замка и устремился в лесную чащу. Стояла холодная ясная ночь, дул резкий ветер, но природа была прекрасна. Незадолго до того все дни напролет шел снег, одевший землю белым саваном. На этой зловещей снежной белизне темными пятнами выступала зелень сосен. Эберхард, без шапки, со спутанными волосами, то брел, то бежал, задыхаясь, без цели, без единой мысли в голове. Он не чувствовал пронизывающего его до костей северного ветра. Скорее по наитию, нежели преднамеренно, он двигался прямо к домику Йонатаса. Но была полночь, поэтому там все было закрыто и темно. Эберхард несколько раз обошел домик кругом и, убедившись, что все спят, побежал к себе в грот. У входа в него он рухнул на колени и разрыдался.
— Матушка! — взывал он к Альбине, отчаянно заламывая руки. — Где ты, матушка? Знаешь ли ты, что хотят сделать с твоим сыном? Известно ли тебе, в какое постыдное дело его собираются вовлечь? Знаешь ли ты, какие опасности ему грозят? Разве ты допустишь, чтобы он опозорил себя или погиб? Еще сегодня здесь, на этом самом месте, где я теперь рыдаю, ты видела меня опьяневшим от радости. Может быть, ты осуждаешь мое счастье? Мне казалось, что это не так, но, тем не менее, за весь день ты не сказала мне ни слова. Правда, я сам был настолько поглощен своими чувствами — то счастьем, то горем, — что ни о чем не спрашивал тебя. Но теперь я хочу спросить. Прости же меня и скажи мне что-нибудь.
Эберхард прислушался. Но тишину нарушали лишь завывания ветра и треск ломающихся еловых веток. Некоторое время Эберхард молчал, как будто боясь услышать звук собственного голоса.
— Матушка! — наконец тихо сказал он. — Или ты молчишь, или я не слышу и не разбираю твоих слов, заглушаемых зловещим воем северного ветра. Ты обижена на то, что я полюбил? Ты отвернулась от меня? Или то, что ты должна мне сказать, так устрашает, что ты предпочитаешь молчать? Боже мой, Боже мой! Вероятно, я стою на пороге главного события своей жизни! И ты ничего не посоветуешь мне, матушка? Быть может, мне лучше бежать отсюда? Скажи! Или уже слишком поздно? О матушка! Ты ничего не отвечаешь мне, ничего, ничего! А ветер все время воет! Мне страшно. О, горе мне! Неужели впервые в жизни я лишился твоей любви? Мне так одиноко, я весь дрожу. Неужели Бог разлучил нас с тобой и отдал мою жизни в руки злого рока или недоброго ангела? О матушка, неужели твоя тень может умереть?
Кругом по-прежнему царило молчание, нарушаемое лишь завываниями ледяного ветра, гуляющего по холмам и долинам. От страха и холода Эберхарда бросило в дрожь.
— О Небо, будь милосердно! — отчаянно прошептал он, задыхаясь от рыданий. — Я чувствую, что моего ангела-хранителя нет больше рядом со мной. Что же теперь будет? Как поступит граф? И что делать мне самому? Ах, лучше бы я уехал отсюда три года назад! Но может быть, и сейчас еще не поздно? Да, решено, отправлюсь к дяде Конраду — это моя единственная и последняя надежда. Он поможет мне, ведь он твой друг, матушка! Да, я уеду, я скроюсь от судьбы.
Охваченный смятением, Эберхард уже было встал, порываясь идти.
— Но Розамунда! Розамунда! — воскликнул он. — Мне нужно повидаться с ней: ведь мы обручены, и она моя жена. Уехать, уехать без нее… О матушка, ты покинула меня: какое это жестокое наказание! О, как я страдаю! Ты сетовала на то, что мне на роду было написано стать палачом, но с сегодняшнего дня я жертва.
Ответом на стенания Эберхарда был такой яростный порыв ветра, что один из старых дубов, осенявших грот, с корнями вывернуло из земли. Этот шквал наполнил душу Эберхарда ужасом. Остаток ночи он боролся со своими страхами и унынием, то поддаваясь мятежным порывам, то смиряя себя. Он то начинал мерить грот быстрыми шагами, то без сил падал на скамью и разражался рыданиями. В отчаянии он прижимался лицом к земле и рвал зубами покрывающий ее мох. Когда поздняя заря позолотила своими бледными лучами вершины гор Таунус, Эберхард был белее снега и холоднее заиндевевших скал. Если бы кто-нибудь мог видеть его в эту минуту, он принял бы юношу за безжизненный призрак: невзирая на его мольбы, рыдания и стоны, Альбина за всю ночь не сказала ему ни слова.
Когда сквозь сухие ветви деревьев пробились тусклые лучи зловещего, мертвого декабрьского солнца, Эберхард, еле живой, побрел в сторону домика Йонатаса. Единственное твердое решение, которое он принял, — надо увидеть Розамунду и посоветоваться с ней. Он твердил себе, что ему нужно бежать от отца, бежать из Германии, но сначала он хотел повидаться со своей возлюбленной.
Так он шел, погруженный в свои мысли, как вдруг звук рога и лай собак заставил его поднять голову. Сквозь листву деревьев он увидел доезжачих, свору и, наконец, сидящего верхом на лошади Максимилиана: граф выехал на охоту. Эберхард едва успел перепрыгнуть через ров и скрыться в лесной чаще. Но пока он шел дальше, ему все казалось, что за каждым поворотом дороги прячется слуга графа и наблюдает за ним. Впрочем, это могло быть одним из порождений его болезненного самочувствия, потому что Эберхарда действительно лихорадило.
В этом состоянии он добрался до лесного домика. Как и следовало ожидать, Йонатас, извещенный рано утром, ушел, чтобы сопровождать графа на охоту, и Эберхард застал Розамунду одну. Увидев своего возлюбленного таким возбужденным и бледным, Розамунда вскрикнула. Эберхард стал рассказывать ей о своей второй встрече с отцом. Это продолжалось долго, поскольку он часто был не в силах вымолвить ни слова, а порой речь его прерывалась рыданиями. Розамунда, как обычно, была сама рассудительность и самоотверженность.
— Друг мой, — сказала она Эберхарду, — если и в самом деле вашей женой должна стать Люцилия фон Гансберг, я сказала бы вам: Эберхард, Люцилия — достойнейшая девушка; покоритесь воле отца, женитесь на ней: даже если вы не будете счастливы, то, по крайней мере, сохраните свою честь и доброе имя. Но союз с герцогиней фон Б. ужасен, и я просто обязана отвратить вас от этого шага, Эберхард, потому что граф Максимилиан таким образом не только обрекает на страдания вас и меня, он оскорбляет справедливость и Бога. Граф — ваш отец, Эберхард, но у него, как рассказывают, необузданный нрав и наклонности тирана, а значит, бороться против него не просто кощунственно, но и опасно. Самое лучшее, что вы можете сделать, — это уехать отсюда. Не беспокойтесь обо мне, Эберхард, я всегда прекрасно понимала, что наши мечты несбыточны и что, пока стоит мир, я не смогу стать вашей женой. Но это не имеет значения: я ваша и никогда не буду принадлежать никому другому. Где бы я ни была, я буду молиться за вас и любить вас, пусть безнадежно. Да, безнадежно, потому что теперь вы знатны и богаты, и, даже если бы ваш отец дал согласие на наш брак — что невозможно, — я сама отказала бы вам. Но я повторяю: всю жизнь я буду вам верна, как если бы я действительно была вашей женой. Но вы, Эберхард, вы полностью свободны. Оставайтесь таким же добрым и великодушным, постарайтесь издалека смягчить графа: пусть ваши добрые дела заставят его простить вас и признать своим сыном. А меня, несчастную, которая будет вечно помнить о вас, вы можете забыть.
— Розамунда, ангел мой, не покидай меня! — со слезами на глазах воскликнул Эберхард. — Говори! О, говори еще! Когда я слышу твой голос, на меня снисходят милосердные и добрые мысли. Я сделаю все так, как ты скажешь, милая наставница моей души, и твой последний урок, как и остальные, не пройдет для меня даром. Да, Розамунда, я буду добрым, милосердным — к этому ты призываешь меня — и уеду, но не для того, чтобы спастись самому, а чтобы спасти моего отца. Матушка ничего не отвечала мне этой ночью, а сейчас как раз канун Рождества. Я боюсь, да, боюсь за отца и бегу от опасности, которая грозит ему, и от того проклятия, которое, быть может падет на него.
— О чем ты говоришь, Эберхард? — встревоженно спросила Розамунда, увидев, как исказились черты лица юного прорицателя.
— Ничего, ничего, — пробормотал Эберхард. — Мертвые знают то, чего живым знать не дано. Сейчас мне нужно идти, Розамунда. Поцелуй меня в последний раз. О, не бойся: я прошу, чтобы ты поцеловала меня в лоб как сестра, и твой поцелуй я приму на коленях.
Эберхард преклонил колена, и Розамунда, как она обычно делала по окончании уроков, вздохнув, запечатлела на его лбу поцелуй, нежный и чистый, как ее сердце. В этот момент за спиной двух невинных и прелестных созданий раздался злобный смех. Быстро обернувшись, они увидели, что на пороге стоит граф Максимилиан в охотничьем костюме, с хлыстом в одной руке и ружьем в другой.
— Прекрасно! Очень хорошо! — сказал граф, насмешливо кланяясь им. Бросив хлыст и шапку на стол и прислонив к стене ружье, Максимилиан прошел в комнату. Розамунда покраснела, опустила глаза и не смела пошевелиться. Заслонив ее собой, Эберхард, гордый и решительный, выступил вперед и с вызовом встретил насмешливый и бесцеремонный взгляд графа.
Насвистывая какую-то охотничью песенку и издевательски поглядывая то на Розамунду, то на Эберхарда, граф медленно снял перчатки. Потом, небрежно закинув одну ногу на другую, он развалился в кресле.
— Так вот где разгадка, — сказал он. — По правде говоря, прелестная разгадка! Так вот оно — объяснение вашей поистине спартанской добродетели, Эберхард, объяснение, надо признать, очаровательное и весьма соблазнительное!
— Ваша милость, — начал Эберхард, — если ваш гнев…
— Гнев? — быстро перебил его Максимилиан. — Ах, Боже мой, при чем тут гнев? Об этом не может быть и речи. Я дворянин, Эберхард, и более того: я дитя восемнадцатого века. К тому же я еще, слава Богу, не монах! Породистого пса не надо учить. Нет, дети мои, я вовсе на вас не сержусь. И если я устроил за вами слежку, Эберхард, то это просто из любопытства, но я не хотел вас тревожить, поверьте. Вашего отца, мое прелестное дитя, я отправил с каким-то поручением в город. Думаю, что он не посвящен в тайну ваших отношений и мог бы помешать этой дружеской встрече. Вот видите: я вовсе не деспот. Я просто не хочу, чтобы мне морочили голову, и надеюсь, ваша интрижка, Эберхард…
— Простите, ваша милость, — твердо сказал юноша, — но я вынужден прервать вас, чтобы разъяснить одно недоразумение. Соблаговолите уделить мне минуту внимания. Вы бросили меня одного в старом замке Эпштейнов, без советчика, без учителя, без человека, который мог бы поддержать меня. И я рос сам по себе, как дерево в лесу. Разве вы были отцом? И разве я был вашим сыном? Судя по тому, какое равнодушие — и, я бы даже сказал, ненависть — вы ко мне проявляли, в это трудно было поверить. Однажды вы написали мне, что я должен отказаться от любых притязаний на ваши отцовские чувства, но вы освободили меня и от моих сыновних обязанностей. Следуя своему решению, вы не обращали на меня ни малейшего внимания, как будто меня не существует на свете или как будто я недостоин быть вашим сыном. Любой крестьянин учит своего ребенка читать, чтобы тот мог, по крайней мере, постичь слово Божье, а вы даже не удосужились полюбопытствовать, обучен ли я грамоте. Вы обрекли меня на праздность, невежество и бродяжничество, а сами уехали с Альбрехтом, вашим единственным и любимым сыном, чтобы завоевывать себе чины, титулы и почести. Но случилось так, что Бог, который в своей справедливости бывает порою жесток, забрал у вас любимого сына. И тогда вы вспомнили о другом, кого бросили когда-то, потому что вам нужен был помощник для осуществления ваших планов. Вы ожидали, что найдете здесь существо с непросвещенным умом и неразвитой душой, и даже привезли с собой какого-то известного профессора, чтобы он сделал меня пригодным для осуществления ваших намерений. Обнаружив, что мое достаточно широкое образование почти не требует усовершенствования, вы были весьма обрадованы — но не за меня, а потому, что это на год или два приближало успех ваших комбинаций. А знаете ли вы, кто обучил меня наукам, кто дал мне представление о жизни и о Боге, кто сформировал мою душу и разум, был моим советчиком, заменив мне бросившего меня отца и покойную мать? Вы знаете, ваша милость?
— Клянусь, нет, — ответил граф. — Вы сказали, что вашим учителем было одиночество, но это весьма неопределенно.
— Так вот, ваша милость, это Розамунда, та, которая стоит сейчас перед вами и которую вы только что намеревались оскорбить, это благородное и благочестивое создание; это она передала мне знания, полученные ею благодаря моей матушке; это она, час за часом, день за днем, терпеливо учила меня постигать первоосновы всех наук; это она сделала мужчину из вашего сына, кого вы готовы были превратить в собаку. Благодаря ей я узнал, что такое чувство собственного достоинства, надежда и — теперь я могу это сказать — любовь. Благодаря ей я готов теперь и к самым тяжким испытаниям, и к самому высокому предназначению. Повернется ли у вас после этого язык оскорбить ее?
— Вы чрезвычайно красноречивы, Эберхард, — сказал Максимилиан, — и это радует меня. Однако, — добавил он, усмехнувшись, — единственное, что я мог заключить из вашей пламенной и с блеском произнесенной речи и о чем сам быстро догадался, — то, что это милое дитя дало вам образование. Это весьма похвально, и я бесконечно признателен ей. Однако, я думаю, что и вы преподали ей кое-какие уроки. Вы приобрели образование — прекрасно, но не лишилась ли она при этом невинности?
Розамунда, застыв в горделивой позе, хотела что-то сказать, но не могла проронить ни слова, хотя губы ее шевелились. Она была бледна и неподвижна как статуя.
— О проклятье! Вы упорствуете в своем заблуждении! — дрожа от гнева, воскликнул Эберхард.
— Не в заблуждении, а в своем презрении к вам, — ответил граф. Розамунда молча воздела руки к небу.
— Берегитесь, ваша милость, — сказал Эберхард, плохо держась на ногах от охватившего его безумного гнева. — Вы так долго не вспоминали о том, что вы мой отец, что и я могу забыть — да простит меня Бог! — о том, что я ваш сын!
— Так вот до чего дошло дело, сударь мой, — сказал Максимилиан, сменив оскорбительный и насмешливый тон на серьезный и надменный. — Честно говоря, интересно было бы на это посмотреть. Успокойся, юноша, я приказываю тебе это. Если тебе придется иметь дело со мной, твой детский гнев сразу поутихнет. Сдержи свою ярость — это будет благоразумнее — и дай мне поговорить с твоей Дульсинеей. Ей, конечно, далеко до герцогини, которую ты отверг сегодня утром, но она, хоть и с меньшим размахом, кажется, подвизается на том же поприще.
— Господи Всевышний! — воскликнула Розамунда, без чувств падая на пол.
— О, проклятье! — вскричал Эберхард, бросаясь к шпаге, оставленной им накануне в углу у камина.
Затем, наполовину обнажив ее, он двинулся на графа, но в двух шагах от него остановился и снова вложил шпагу в ножны.
— Вы дали мне жизнь, — сказал он, — поэтому мы квиты. Максимилиан уже держал в руке заряженное ружье.
В эту минуту отец и сын, смотревшие друг на друга полными ненависти глазами, были подобны двум демонам.
— Так ты говоришь, что я дал тебе жизнь? Ты ошибаешься, презренный, я ничего тебе не давал, и ты ничего мне не должен. Вынимай свою шпагу! Если мы будем сдерживать наш гнев, он утихнет. Что ж, скрестим наши шпаги и дадим волю нашей ненависти! А-а, ты отступаешь, трус! Ты пятишься назад! Но я не отступлю.
Граф подошел к двери и подозвал нескольких слуг, которые сопровождали его.
— Возьмите эту девчонку, — сказал он им. — Неважно, пришла она в себя или нет. Возьмите ее и вышвырните вон из моих владений.
Эберхард встал возле своей возлюбленной и обнажил шпагу.
— Я убью того, кто дотронется до нее, — сказал он. Слуги замялись.
— Трусы! Взять ее! — крикнул Максимилиан, замахнувшись на них хлыстом. Слуги сделали шаг вперед, но их встретило острие шпаги Эберхарда.
— Ваша милость, — обратился он к графу, — я, Эберхард фон Эпштейн, заявляю вам, что буду следовать за этой девушкой повсюду, где бы она ни оказалась, даже против ее воли. Слышите?
— Поступай как хочешь, — ответил Максимилиан. — Делайте, что вам было приказано, негодяи! — снова обратился он к слугам.
— Ваша милость, — сказал Эберхард, приставив острие шпаги к груди своей возлюбленной, все еще не приходящей в сознание, — знайте, что я скорее убью Розамунду на ваших глазах, чем позволю кому-нибудь из этих людей прикоснуться к ней.
— Убивай, если твоя шпага достаточно остра для этого, — насмешливо сказал граф. — Ах, ты боишься? Уберите же отсюда девчонку или я сам займусь этим!
— Ваша милость, — воскликнул Эберхард, — поостерегитесь! Я буду защищать ее, кто бы ни был передо мной.
— Даже если перед тобой твой отец? — спросил граф, приближаясь к Эберхарду с ружьем в руке.
— Да, если передо мной убийца моей матери! — неистово крикнул Эберхард, ослепленный яростью.
От бешенства у Максимилиана потемнело в глазах. Он навел ружье на сына и спустил курок.
— О матушка, матушка, сжальтесь над ним! — воскликнул Эберхард, падая на землю.
Граф похолодел и замер на месте, словно громом пораженный. Его лицо побелело и взгляд остановился: ему почудилось, что возле безжизненных тел Розамунды и Эберхарда стоят как живые Конрад и Альбина.
Это была не галлюцинация: Максимилиан действительно видел Конрада, который, как и обещал, приехал в замок Эпштейнов навестить семейство лесника. Войдя в дом, он как раз успел отвести в сторону ружье Максимилиана, наделенное на смертоносный выстрел. Жизнь Эберхарда была спасена: его ранило, но не опасно.
Опомнившись, граф явственно увидел рядом с собой брата. Сначала он подумал, что это призрак, привидевшийся ему в кошмарном сне. Блуждающим взглядом он обвел комнату. Это была та же самая комната, но теперь в ней не было никого, кроме Конрада и его самого, Пол был забрызган кровью.
— Где Эберхард? — дрожащим голосом спросил Максимилиан.
— В комнате наверху. Успокойтесь: он ранен в плечо, и рана не опасна, — ответил Конрад.
— А Розамунда?
— Она пришла в себя и ухаживает за Эберхардом.
— Но вы, вы действительно Конрад? Вы изменились и постарели, как и я. Как вы очутились здесь? Что означает эта форма французского офицера?
— Да, я был когда-то Конрадом. Сейчас же перед вами генерал Наполеона. Когда вам станет лучше, я вам все расскажу.
— Так значит, вы живы? Мне не померещилось? Но та, другая?
— О ком вы говорите, Максимилиан?
— О той, которая стояла сейчас рядом с Эберхардом, одной рукой как будто защищая его, а другой угрожая мне.
— Да о ком вы? — встревожено переспросил Конрад.
— О, я узнал ее, — продолжал Максимилиан с блуждающим взором, — я узнал ее суровый, неумолимый взгляд. Я не мог ошибиться. Мне не миновать ее кары. Напрасно Эберхард просил, чтобы она сжалилась надо мной: мне не будет пощады.
— Я не понимаю, что значат ваши слова, — сказал Конрад. — Эберхард просил передать вам, что он прощает вас и будет молить за вас Бога.
— К чему? Все напрасно. Говорю вам, она была здесь, — тревожно сказал Максимилиан.
— Да кто «она»?
— Она — это возмездие, она — это кара, она — это Альбина! Пойдемте, брат, пойдемте отсюда! Разве вы не слышите голоса этой пролитой крови? Она вопиет о мести. Я словно пьян, пьян от убийства, которого чуть было не совершил, и от ужаса. Пойдемте! Я думаю, на свежем воздухе мне станет лучше, да, чистый воздух полей пойдет мне на пользу. Но мое дыхание может загрязнить его! О, проклятье мне!
— Не хотите ли вы увидеть Эберхарда и ответить прощением на прощение?
— Нет, нет! Я никого не желаю видеть. Я больше не отец, я больше не человек: отныне я принадлежу не земле, но аду! К тому же, что значит для него мое прощение? Прощение проклятого — это анафема! Пойдемте же, Конрад, уйдемте отсюда, прошу вас.
И Максимилиан вышел из дома Йонатаса так поспешно, что брат едва смог догнать его.
По пути граф спотыкался о каждый камень, лежавший на дороге, о каждую кочку. Увидев его, бегущего, с растрепанными волосами и блуждающим взглядом, можно было подумать, что за ним кто-то гонится: его преследовали угрызения совести, от которых человеку никуда не уйти.
Вскоре братья добрались до замка Эпштейнов. Максимилиан, как будто все еще чувствуя позади себя погоню, бросился в красную комнату, сделав Конраду знак следовать за ним. С испуганным видом он дважды повернул ключ в замке и задвинул все засовы.
— Теперь я в безопасности, — сказал граф, падая в кресло. — Ну вот, я уже окончательно пришел в себя и могу привести в порядок свои мысли. Но что это было со мной? Страшная действительность или лихорадочное видение?
— Увы! Все это было на самом деле, — ответил Конрад.
— Но ты, уверяющий меня в этом, не призрак ли ты сам?
— Моя жизнь таинственна, но я действительно живой человек, — сказал Конрад. — Я приехал в замок Эпштейнов, потому что пообещал это Эберхарду и Йонатасу. По воле случая, а точнее, Провидения, я появился как раз вовремя и успел отвести в сторону вашу руку и спасти вас от преступления, — и какого! — от убийства вашего сына!
— Но как это возможно? Как? — бормотал Максимилиан, все еще охваченный безумием.
— Вы бредите, брат, вы утратили ощущение действительности, и, чтобы привести вас в себя, я охотно расскажу вам мрачную историю своей жизни. Мы встретились с вами сейчас при необычных и страшных обстоятельствах, когда все смешалось, все привычные установления рухнули, поэтому, я думаю, нет нужды брать с вас честное слово, что вы сохраните эту историю в строжайшей тайне. В этом нет никакой насущной необходимости, но таинственная жизнь стала для меня привычкой, в известном смысле потребностью. Я жил, не считаясь с условностями, усвоенными мною в детстве, и люди обычно не понимали и превратно истолковывали те соображения, которыми я руководствовался в своих поступках. Мнение толпы могло бы с полным правом осудить и заклеймить все, что я делал, поэтому я предпочитаю не иметь другого судьи, кроме Бога, ибо он один может заглянуть мне в душу и увидеть, что мои намерения чисты. Кроме того, я полюбил ту таинственность, которая окружает мою жизнь, потому что, скрывая от людей мое прошлое, я и сам порой могу о нем позабыть. Конрад рассказал брату историю своей бурной и полной бед жизни. Начав серьезно, он закончил говорить в слезах. Максимилиан слушал его чрезвычайно внимательно. Лицо его понемногу приобрело спокойное и ясное выражение. Он вынул из своего дорожного баула бутылку крепкого напитка и выпил несколько стаканов.
— Спасибо, Конрад, — сказал он, когда брат замолчал. — Спасибо, вы вернули мне чувство реальности. Да, хотя ваша жизнь и необычна, хотя тот человек, которого вы сделали вашим двойником — личность загадочная, но, по крайней мере, слушая вас, я имел дело с человеком, которого знаю, который дышит и живет. Я сейчас был не в себе, Конрад, меня одолевали бредовые видения и детские страхи. Думаю, что это последствия припадка гнева, который я пережил. Я вам что-то говорил об Альбине, о привидениях, о мести, не так ли?
— Да, говорили, — ответил Конрад, удивленный резкой переменой, что произошла в Максимилиане.
— Боже мой, — мрачно усмехнулся граф, — это невероятно, но даже сильные души порой подвержены минутной слабости и страху. Подумать только: я, Максимилиан фон Эпштейн, допущенный в императорский совет, поверил в бабьи россказни! Должно быть, я смешон вам, брат?
— Вы внушаете мне жалость и огорчаете меня, — ответил Конрад. — Ваше неистовство и испуг потрясли и ужаснули меня, но едкая ирония и эгоистическое хладнокровие в такую минуту возмутительны, и это меня удручает.
— Ну-ну, — качая головой, сказал Максимилиан, которого не покидали сомнения и мрачные мысли. — Надо быть мужчиной и не поддаваться химерам. Я готов признать, что был не прав в своем гневе, и я благодарен Господу и вам, Конрад, за то, что вы не допустили убийства. Но, по правде говоря, я тогда не владел собой, этот молодой наглец возмутил меня до глубины души. Но вы говорите, он отделался легкой раной? Надеюсь, это послужит ему уроком и отныне он будет более покладистым. Что же до угроз мертвой Альбины и видений, в которых она являлась мне, то лишь мальчишка или глупец может все еще верить в это, но не я. Скажите мне, Конрад, вы, солдат Наполеона и выдающийся человек, скажите, ведь вы согласны со мной: эти видения и в самом деле обманчивы?
— Кто знает… — задумчиво произнес Конрад.
— Как! — воскликнул Максимилиан. — Вы верите в существование призраков и привидений?
— Иисус Христос велел живым молиться за мертвых. Возможно, у мертвецов есть свое Евангелие, которое велит им наблюдать за живыми.
— Молчите! Молчите! — перебил его граф, снова задрожав и побледнев. — Нет! Этого не может быть! Я не верю, я не хочу верить, что между миром мертвецов и миром людей существует какая-то связь. Прошу вас, брат, не ввергайте меня снова в пучину страшного бреда.
Достаточно было Конраду сказать несколько слов, и этот человек, который минуту назад кичился своим хладнокровием, стал слабее женщины или ребенка, превратился в трясущееся от страха существо. Но граф сделал над собой усилие и поднял голову.
— А если бы это было действительно так, — сказал он, — если бы Бог посылал своих избранников из рая на землю в облике ангелов-хранителей, то разве он наделил бы этим чудесным даром грешников? А ведь я знаю точно, Конрад, я уверен, несмотря ни на что: Альбина — падшая женщина, она недостойна небесной благодати и не имеет права защищать кого бы то ни было, даже свое дитя, рожденное в позоре.
— Альбина! — вскричал Конрад. — Это о ней, благочестивой, невинной, благородной Альбине, вы смеете так говорить!
— Разве вы знали ее? — спросил Максимилиан.
— Мне о ней говорили… — в замешательстве пробормотал Конрад.
— Ах, вам о ней говорили! Да, она была великая притворщица, и ей, лицемерке, ловко удавалось вводить людей в заблуждение, принимая обличие святой! Но вам, брат, я могу и должен рассказать о ее позоре… Да, — продолжал Максимилиан, все больше возбуждаясь и теряя власть над собой, — да, в конце концов, я должен обличить ее, чтобы оправдать себя. И вы сейчас сами поймете, что я был прав: это низкая женщина, и не нужно бояться ее угроз, не нужно мучиться угрызениями совести. Все мои страхи вызваны только тем, что у меня помутился рассудок. Да, я поступил по справедливости и ни в чем не виноват. Мои слова поразили ее, как удар кинжала, и прекрасно: этот Эберхард не мой сын, а сын капитана Жака — да будет он проклят!
— Капитана Жака! — воскликнул Конрад, отступая назад.
— Да, это один француз, который проникся к ней возвышенной рыцарской любовью, какой-то загадочный проходимец — ни настоящее имя, ни историю его жизни она не пожелала мне сообщить. И этого чужого человека она прилюдно называла своим другом и братом!
— О, несчастный! Он действительно был ей другом и братом! — прогремел Конрад. — Потому что этот проходимец, этот француз, этот капитан Жак — я, Конрад фон Эпштейн, ваш брат и ее брат.
Максимилиан подскочил, как будто внутри у него выпрямилась пружина, и остался стоять, вытянувшись и все больше бледнея.
— Это я, — продолжал Конрад, — я, безумец, попросил, чтобы она молчала, и она великодушно пообещала мне хранить мою тайну до самой смерти, поэтому я, как и вы, но невольно, повинен в ее смерти. Я утаил от вас свое первое, роковое возвращение в замок двадцать лет назад, ибо не хотел воскрешать ваши страхи. Но теперь я могу вам сказать: вы убили невиновную! И вы, брат мой, ответите за это перед Богом!
Конрад умолк. Вид Максимилиана внушал жалость и страх: так глубоко был потрясен этот некогда гордый, полный сил человек. Граф смертельно побледнел. Казалось, что гневная рука Всевышнего уже легла на его плечо. Он с трудом поднял глаза, полные невыразимого ужаса. Ему казалось, что он ясно видит рядом с собой карающего ангела с мечом в руке.
Последовало долгое молчание. Конрад чувствовал, что не в силах более проклинать брата. Максимилиан шептал: «Я погиб!» — и все время повторял эти слова глухим, дрожащим голосом.
Было четыре часа пополудни, и начинало смеркаться. По небу носились большие черные тучи, которые пригнал ветер; трещали сосны; вокруг донжонов замка с криком кружило воронье. Максимилиан стряхнул с себя оцепенение.
— Эй, кто-нибудь! Идите все сюда! Почему мы одни? — закричал он. — Конрад, распорядитесь, чтобы вся прислуга собралась в большом зале внизу. Зажгите все факелы и свечи, пусть играет музыка, пусть будет шумно: я не хочу видеть и слышать ее!
— Вы раскаиваетесь, значит, вам нечего опасаться, — мягко сказал Конрад, у которого исступление Максимилиана вызвало невольное сочувствие.
— Раскаиваюсь?.. Нет, мне просто страшно, вы ведь понимаете меня, Конрад? Пусть будет свет и шум!.. Я не могу оставаться один здесь, в этой комнате, в красной комнате, над которой расположена та самая детская и рядом с которой находится потайная лестница, ведущая в склеп! Разве вы не видите, как зловеще колышутся шторы? Во всем: в дрожащем свете лампы, в потрескивающем пламени камина, в самом этом воздухе и тишине — есть нечто зловещее! Видите золотую цепочку на моей шее? Это последнее, роковое предупреждение моего ледяного кредитора! Разве вы забыли, что приближается рождественская ночь? О, скорее! Несите факелы, пойте песни, позовите людей!.. Нет, лучше велите заложить карету и прикажите моим людям седлать лошадей. Я хочу немедленно ехать в Вену.
— Брат, зачем бежать? — сказал Конрад. — Зачем окружать себя слугами? Не лучше ли покаяться? Ведь даже страх, что вы испытываете, спасителен.
— Кто сказал, что я испытываю страх? — резко выпрямляясь, воскликнул Максимилиан. — Это неправда!
Сжав кулаки и стиснув зубы, он снова рухнул в кресло. Жестокая борьба между страхом и стыдом происходила в его душе. Но его сатанинская гордыня восторжествовала.
— Эпштейнам неведом страх! — воскликнул граф и попытался расхохотаться, но вместо смеха из его груди вырвались хриплые звуки.
Конрад смотрел на него, сочувственно качая головой; от безмолвной жалости брата Максимилиан рассвирепел.
— Эпштейнам неведом страх! — крикнул он еще громче. — Когда эта женщина была жива, она трепетала передо мной, так неужели теперь, когда она умерла, она заставит трепетать меня? Нет, я не боюсь ни ее самой, ни ее мести, ни ее строптивого сына!
— Не богохульствуйте! — в ужасе воскликнул Конрад.
— О нет, я еще в своем уме. Я верую в Бога, раз так положено при австрийском дворе, но я не верю в привидения, черт побери! Легенда о нашем замке всегда вызывала у меня только недоумение. Оставьте меня, я хочу побыть один. Все эти ваши фантазии сбили меня с толку. Просто однажды ночью у меня разыгрались нервы и мне привиделся кошмарный сон, вот и все — было бы о чем беспокоиться, черт побери!
— Ах, Максимилиан, — сказал Конрад, — я предпочел бы видеть вашу борьбе со страхом, но не это кощунственное веселье.
— Да о каком страхе вы говорите? Вы, я вижу, как были пустым мечтателем, так и остались им. Мой рассудок помутился из-за вас, из-за вашего внезапного появления, из-за ваших нелепых рассказов и из-за жалости к раненому Эберхарду. Но я ничего не боюсь, — слышите? — ни призраков, ни самого дьявола, и я это вам докажу: вы можете оставить меня здесь одного. Будьте любезны, пойдите к Эберхарду и передайте ему, чтобы он оставил здесь свою инфанту и готовился к отъезду в Вену, к герцогине.
— Брат, одумайтесь! Я не оставлю вас одного, — сказал Конрад.
— Нет, оставите, черт подери! В конце концов, вы начинаете меня раздражать. Я не ребенок, который пугается и отступает назад. Я хочу остаться один, мне надо отправить в Вену некоторые распоряжения и сообщение о согласии Эберхарда.
— Будьте осторожны, Максимилиан! — еще раз сказал Конрад.
— Это вам следует быть осторожнее! — топнув ногой, закричал граф. — Вы знаете, что мое терпение имеет пределы. Я хочу остаться один! Хочу остаться один! — повторял он с упорством безумца.
— Должен ли я предоставить Богу вершить свой суд? — спросил Конрад, словно обращаясь к самому себе.
— Да уйдешь ты или нет?! — закричал Максимилиан.
— Да, я уйду, несчастный. Но даже если этой ночью тебе удастся избежать возмездия, оно настигнет тебя завтра, потому что та, которая может свершить его немедленно, терпелива, и терпелива, как сама вечность.
— О черт! — закричал Максимилиан, сверкнув глазами, и двинулся на брата со стиснутыми кулаками.
Но, встретив спокойный взгляд Конрада — честный и властный взгляд, способный укрощать негодяев, — Максимилиан резко остановился.
— Прощай, — сказал ему Конрад, горько и сочувственно качая головой.
Он медленно подошел к двери, открыл ее и вышел.
— Спокойной ночи! — крикнул ему Максимилиан, с шумом задвигая засовы. — Как видишь, я остаюсь с призраком один на один, и тем самым создаю ему самые благоприятные условия. Эй! Эй! Если завтра к восьми утра я не выйду отсюда, прикажи, чтобы взломали дверь. Спокойной ночи! Иди к дьяволу, которого ты так боишься! Трус!
На большее у Максимилиана не хватило сил: мертвенно-бледный, дрожащий, он без сил рухнул на колени.
Конрад остановился в коридоре и прислушался, но ничего не услышал. Он хотел еще раз попрощаться с братом, но слова застыли у него на губах. Он подумал, не посидеть ли ему возле двери Максимилиана, но какая-то непреодолимая сила гнала его прочь, словно сама Божья рука понуждала его уйти. Шатаясь, он спустился по лестнице и отправился к Эберхарду в домик Йонатаса.
XIV
Собравшись вместе в домике смотрителя охоты, Конрад, Эберхард, Розамунда и Йонатас провели бессонную ночь в тоске, ужасе и слезах.
Эберхард, как только его рана была перевязана, немедленно захотел встать и теперь полулежал в кресле. Конрад, держа его за руку, сидел рядом. Розамунда ходила по дому, приготавливая питье для больного. Порой, охваченная благочестивым порывом, она падала на колени и страстно молилась.
Наш добрый Йонатас был как громом поражен этими событиями, которые он, хотя бы отчасти, должен был бы предвидеть. Всю эту зловещую, бессонную ночь он проплакал.
Все четверо были угнетены одной и той же мыслью и на протяжении этой долгой ночи часто погружались в молчание, длившееся часами. Были слышны только рыдания Йонатаса, монотонное тиканье деревянных стенных часов да шум ветра, который бесновался за окном, грозя снести ветхую крышу домика. Тоскливое ожидание прерывалось восклицаниями, молитвами, призывами к Богу, и от этого становилось еще страшнее.
— Помолимся за него, — говорил Конрад.
— Господи, сжалься над ним! — вторила ему Розамунда.
— Матушка, прости его, — шептал Эберхард. Пробило полночь. И тут Конрад произнес слова, заставившие всех вздрогнуть.
— Жив ли он еще?
— Увы! Он погиб, — помолчав, сказал Эберхард. — Матушка всегда говорила мне, что ему суждено погибнуть — если и не от моей руки, то из-за меня. Я не стал палачом, но послужил орудием казни. Моя бедная матушка жалела его, но против судьбы она бессильна. Все послужило тому, чтобы это предсказание сбылось: не только зло и порок, воплощенные в честолюбии графа и в дурных наклонностях моего брата, убивших его, но также все доброе и святое — доверчивость Йонатаса и наша великая любовь. Такова воля судьбы. Жуткие страсти, которыми был одержим мой отец, требовали себе жертвы. Он погиб!
Час спустя, Эберхард снова заговорил:
— Что сейчас происходит в замке? Какая страшная беда нас ожидает? О Господи! Еще вчера утром мы были так счастливы, так лучезарны были наши мечты! А на что нам надеяться теперь? И что с нами будет?
— Помолимся, — сказали в один голос Конрад и Розамунда.
Рассвет — унылый декабрьский рассвет, темнее, чем майская ночь, — особенно долго не наступал в то утро.
Как только тусклые лучи солнца проникли в комнату сквозь оконные стекла, Конрад поднялся.
— Я пойду туда, — сказал он.
— Мы все пойдем, — ответил Эберхард.
Никто не возразил. Все четверо направились в замок: Эберхард, опиравшийся на плечо дяди, шел впереди, за ними следовали Йонатас и Розамунда.
Когда они подошли к главным воротам, пробило восемь часов утра. Прислуга начинала просыпаться.
— Кто-нибудь из вас видел графа фон Эпштейна со вчерашнего дня? — спросил у слуг Конрад.
— Нет, — ответили они. — Граф заперся у себя в спальне и запретил его беспокоить.
— И утром он не звонил? — спросил Конрад. — Я граф Конрад, брат вашего хозяина, а это его сын Эберхард — его вы знаете. Следуйте за нами.
В сопровождении двух-трех слуг Конрад и Эберхард направились в спальню Максимилиана. Розамунда и Йонатас остались ждать внизу. Подойдя к двери графской спальни, дядя и племянник переглянулись и испугались друг друга: так они были бледны.
Конрад постучал — на его стук никто не отозвался. Он постучал сильнее — тишина. Он позвал Максимилиана, сначала тихо, потом громче, потом уже с отчаянием в голосе. Эберхард и слуги графа стояли возле двери. В комнате было тихо.
— Принесите клещи, — приказал Конрад. Выломали дверь. Комната была пуста.
— Войдем только мы с Эберхардом, — сказал Конрад. Они вошли, заперли дверь изнутри и огляделись. Кровать была нетронута, все вещи на месте, но потайная дверца была приоткрыта.
— Смотрите! — сказал Эберхард, указывая на нее. Конрад взял с камина еще не погасшую свечу. Дядя и племянник проскользнули в узкий проход и стали медленно спускаться по мрачной лестнице. Дверь в склеп была открыта. Эберхард взял из рук Конрада факел и повел дядюшку прямо к могиле своей матери. Мраморная крышка была сдвинута. Из гроба высовывалась рука скелета, вцепившаяся в бездыханное тело Максимилиана, задушенного дважды обвившейся вокруг его шеи золотой цепочкой.
На следующий день, отдав последние почести графу фон Эпштейну, Конрад, Розамунда и Эберхард собрались вместе.
— Прощайте, — сказал Конрад. — Я уезжаю, чтобы сложить свою голову за императора.
— Прощайте, — ответила Розамунда. — Я пообещала, что буду принадлежать либо Богу, либо вам, Эберхард. Вашей я быть не могу, поэтому я возвращаюсь в монастырь Священной Липы.
— Прощайте, — сказал Эберхард. — Я остаюсь здесь и буду страдать. Конрад с пулей в сердце пал в битве при Ватерлоо. Розамунда год спустя приняла постриг в Вене.
А Эберхард продолжал одиноко жить в замке Эпштейнов, в той самой комнате, где свершились страшные события, о которых мы здесь поведали.
Смерть солдата, молитвы девственницы, слезы отшельника — смогло ли все это искупить вину убийцы?
КОММЕНТАРИИ
Роман «Замок Эпштейнов» («Le chateau d'Eppstein») впервые был опубликован в газете «Парижское обозрение» («Revue de Paris») с 04.06 по 16.07.1843 под названием «Альбина» («Albine»). Первое книжное издание во Франции: Paris, L. de Potter, 1844, 8vo, 3 v.
Публикуемый новый перевод, выполненный специально для настоящего Собрания сочинений, сверен с оригиналом Г. Адлером по изданию: Bruxelles, Meline, Cans et Cie.
… Однажды во Флоренции долгим и чудесным зимним вечером 1841 года мы сидели у княгини Голицыной. — Возможно, имеется в виду Евдокия Ивановна Голицына (1780 — 1850), юношеская любовь А.Пушкина; приятельница многих литераторов своего времени; в петербургском обществе имела прозвище «Ночная княгиня», так как вела преимущественно ночной образ жизни, опасаясь умереть во сне; в 40-х гт. XIX в. некоторое время жила за границей.
… Гофман… сам видел Повелителя блох и лично знал Коппелиуса. — В фантастический сюжет романа-сказки «Повелитель блох» Гофман вплел остросатирическую историю о тайном советнике Кнаррпанти, в которой с жестоким сарказмом высмеял одного из крупных немецких судейских чиновников. Издание сказки было конфисковано. Коппелиус — см. примеч. к с. 420.
… к одному богатому франкфуртскому негоцианту… — То есть жителю Франкфурта-на-Майне — одного из значительных торговых и финансовых центров Германии, в средние века имевшего права вольного имперского города, то есть фактическую самостоятельность.
Шарабан — открытый четырехколесный экипаж с поперечными сидениями в несколько рядов или одноконный двухколесный экипаж.
Таунус — хребет на юге Рейнских Сланцевых гор в Западной Германии; славится минеральными источниками и курортами.
… подобно охотнику Лафонтена, я был одержим алчностью… — Имеется в виду басня Лафонтена (см. примеч. к с. 463) «Волк и охотник», сюжет которой был заимствован из средневековой восточной поэзии.
Шамбор — замок французских королей в долине Луары близ города Блуа, построенный в 1523 — 1533 гг.; шедевр мировой архитектуры.
Мортефонтен — небольшое селение к северу от Парижа, славящееся своим английским пейзажным парком.
Шантийи — небольшой город неподалеку от Парижа; известен своим замком-дворцом, построенным в середине XVI в. и принадлежавшим нескольким знатнейшим семействам Франции.
Мажордом — дворецкий, домоправитель.
… лучшие сорта бордоского, бургундского и рейнского. — Бордоское вино (или бордо) — общее название группы вин, производимых на юге Франции в окрестностях города Бордо, большей частью красных, и отличающихся высокими качествами. Бургундское вино — см. примеч. к с. 40.
Рейнское вино — сорта вин, преимущественно белых столовых, производимых в Западной Германии в бассейне реки Рейн.
… Вильгельм привез свою Ленору. — См. примеч. к с. 122. Гобелен — вытканный вручную ковер-картина.
Возрождение (Ренессанс) — период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы в XTV — XVI вв., переходный от средневековья к новому времени. Отличительные черты Ренессанса — его антифеодальный и светский антицерковный характер, гуманистическая направленность, обращение к культурному наследию древности, как бы его «возрождение». В архитектуре Возрождения вместо церковных зданий главное место заняли светские постройки, отличавшиеся величественностью, гармоничностью и соразмерностью человеку.
Александр Македонский — см. примеч. к с. 444. Консоль — см. примеч. к с. 237. Бастилия — см. примеч. к с. 300.
… Франкфурт, вольный город, но одновременно и место, где избирают императоров… — Речь идет о выборах императоров Священной
Римской империи германской нации — государственного образования в Европе (962 — 1806), включавшего в себя, кроме Германии, часть Италии, Нидерланды, Венгрию, а также Чехию и другие западные и южные славянские земли.
Глава Империи избирался, и власть его над государями других владений, входивших в ее состав, с XIII в. была номинальной. С 1356 г. право избирать императора принадлежало семи светским и духовным феодальным владетелям (так называемым курфюрстам — «князьям-избирателям»). Местом выборов служил с 1152 г. Франк-фурт-на Майне.
… император готовился объявить французам войну. — Имеется в виду австрийский император Иосиф II (см. примеч. к с. 45).
Валленштейн (Ваяьдштейн), Альбрехт Евсевий Венцель, герцог Фрид-ландский и Мекленбургский (1583 — 1634) — немецкий полководец периода Тридцатилетней войны, по рождению чешский дворянин; в 1618 — 1630 и 1632 — 1634 гг. главнокомандующий имперскими войсками; стремился проводить независимую от венского двора политику, за что был отставлен и убит своими офицерами.
Отец Жозеф — французский государственный деятель и дипломат Франсуа Ле Клерк дю Трамбле (1577 — 1638), в монашестве Жозеф; доверенное лицо и советник Ришелье; был прозван «Серым кардиналом» по цвету своей монашеской рясы. Деятельность отца Жозе-фа много способствовала укреплению позиций Франции в Германии и на Ближнем Востоке.
Доезжачий — старший псарь, заведующий сворой охотничьих собак и обучающий их.
Бастарды — в средние века незаконнорожденные дети владетельных особ, часто сами приобретавшие права высшего дворянства.
Мезальянс — брак с лицом низшего общественного положения; неравный брак.
Аббатиса — см. примеч. к с. 267.
Всадник с железной рукой — немецкий военачальник Гёц (Готфрид) фон Берлихинген (1480 — 1562); выступал в защиту среднего дворянства (имперского рыцарства); в 1525 г. во время крестьянской войны в Германии примкнул в корыстных целях к восставшим, был избран предводителем одного из отрядов, но в решающий момент предал крестьян; написал интересную автобиографию. Гёц в молодости потерял правую руку в одном из сражений, но продолжал неутомимо участвовать в войнах, используя железную руку, которую выковал ему деревенский кузнец (она потом долгое время хранилась в родовом замке графов Берлихинген).
Максимилиан II (1527 — 1576) — австрийский эрцгерцог, император Священной Римской империи с 1564 г.
… Гёте дал ему вторую жизнь в своей драме. — Имеется в виду драма Гёте «История Готфрида фон Берлихингена с железной рукой» (1771 г.) и ее окончательный вариант «Гёц фон Берлихинген» (1773 г.).
Зикинген, Франц фон (1481 — 1523) — немецкий рыцарь, примкнувший к Реформации; предводитель рыцарского восстания в 1522 — 1523 гг.; его образ использован в драме Гёте «Гёц фон Берлихинген».
Зельбиц, Ганс фон — немецкий рыцарь, примкнувший к Реформации; персонаж драмы «Гёц фон Берлихинген».
Амазонки — в древнегреческой мифологии женщины-воительницы, обитавшие на берегах Азовского моря или в Малой Азии.
Семилетняя война — велась в 1756 — 1763 гг. между Австрией, Россией, Францией, Испанией, Саксонией, Швецией — с одной стороны, и Пруссией, Англией, Ганновером, Португалией — с другой; была вызвана англо-французским морским и колониальным соперничеством и захватнической политикой прусского короля Фридриха II в Германии. Военные действия, кроме европейского театра, велись также в Америке и Индии. В результате войны Франция была вынуждена уступить Англии часть своих американских и индийских владений, а Пруссия, несмотря на ряд поражений, понесенных главным образом от русских войск, приобрела ряд земель в Германии.
Бивуак (бивак) — расположение войск на отдых вне населенных пунктов под открытым небом без предварительной подготовки, с применением лишь подручных средств; вошло в обиход военного искусства во время войн Французской революции.
… я, как Елизавета, буду свидетельницей его подвигов… — Альбина сравнивает себя с Елизаветой, женой Гёца фон Берлихингена, также персонажем драмы Гёте.
Роланд — доблестный рыцарь, племянник и сподвижник императора Карла Великого, погибший в битве с маврами, герой средневекового французского эпоса «Песнь о Роланде». Его прототипом был франкский маркграф Роланд (ум. в 778 г.), участник похода Карла в Испанию, убитый в бою с басками.
Образ Роланда был также использован в поэмах итальянских поэтов эпохи Возрождения Маттео Мария Боярдо (1441 — 1494) «Влюбленный Роланд» (1494 г.) и Лудовико Ариосто (см. примеч. к с. 193) «Неистовый Роланд» (1516 г.).
Рено де Монтобан (ит. Ринальдо) — храбрый и благородный рыцарь; герой французских народных эпических поэм и поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» (см. примеч. к с. 33).
Оливье — герой французских народных сказаний, храбрый рыцарь, один из пэров Карла Великого, друг Роланда.
Бервик, Джеймс, герцог (1670 — 1734) — французский полководец, маршал Франции; побочный сын английского короля Якова II; был убит ружейной пулей при осаде Филипсбурга во время войны Франции с Англией, Россией и Саксонией за Польское наследство (1733-1735).
Тюренн — см. примеч. к с. 191.
Дюрандаль (Дюрандарт) — меч Роланда; чтобы меч не достался врагам, рыцарь перед смертью сломал его о камень.
Бализарда — чудесный непобедимый рыцарский меч в «Неистовом Роланде» (II, 6) Ариосто.
… волшебное копье Астольфа… — Астольф — легендарный английский принц, один из спутников Роланда; герой поэмы Ариосто «Неистовый Роланд»; обладатель чудесного копья, перед которым не мог устоять ни один противник.
Густав IIАдольф (1594 — 1632) — шведский король с 1611 г.; знаменитый полководец; сыграл большую роль в развитии военного искусства. Готский альманах («Almanach de Gotha», «Gothaischer Hofkalender») — ежегодный справочник, выпускавшийся в городе Гота в Германии в 1763 — 1929 гг.; сначала выходил на французском, а с четвертого года издания — параллельно на немецком языке; содержал статистические сведения, перечни состава царствующих и знатнейших аристократических фамилий, составы правительств и дипломатического корпуса, хронику политических событий; в конце XVIII в. публиковал также рисунки.
… моя прекрасная сивилла. — Сивиллы (или сибиллы) — легендарные прорицательницы древности.
Карл Великий (742 — 814) — франкский король с 768 г., с 800 г. император; происходил из династии Каролингов: его завоевания привели к образованию обширной империи, включавшей значительную часть Западной Европы; герой многочисленных средневековых сказаний.
Мерлин — волшебник и предсказатель; герой народных кельтских сказаний, а позже рыцарских романов о легендарном короле древних бриттов Артуре (V-VI вв.).
… Имени этого императора никто уже не помнит… — Судя по датам, имеется в виду герцог Баварии Людвиг Витгельсбах (1287 — 1347), император Священной Римской империи с 1328 г. под именем Людвига (Людовика) IV Баварского. Людвиг был женат дважды: первая жена, Беатрис, умерла в 1323 г., вторая, Маргарита, — в 1355 г.
Обер-шталмейстер (нем. Oberstalmeister — буквально: «начальник конюшни») — придворный чин в некоторых монархических государствах; при французском дворе обершталмейстеру соответствовал великий конюший.
Капеллан — священник, состоящий при капелле (католической ча— совне). … Сам император подписал брачный контракт… — Имеется в виду
Леопольд II (1747-1792) — австрийский император с 1790 г., брат Иосифа II и Марии Антуанетты.
… король не был казнен, но уже находился в заточении. — Речь идет о Людовике XVI; 13 августа 1792 г. он был отстранен Конвентом от власти и в этот же день с семьей препровожден в укрепленный монастырь Тампль в Париже; там он находился до казни 21 января 1793 г.
… Кюстин уже захватил Майнц и угрожал Франкфурту. — Речь идет о действиях на западногерманском театре в начале войны Франции с первой коалицией европейских государств (1792 — 1797). В начале ноября 1792 г. французские войска под командованием Кюстина заняли важный стратегический пункт Майнц, а через два дня — Франкфурт. Однако в середине декабря французы после тяжелых боев оставили Франкфурт и отступили к Майнцу. Кюстин, Адам Филипп, граф де (1740 — 1793) — французский генерал и политический деятель, участник войны против первой коалиции; после отступления его войск был обвинен в попытке восстановления монархии и в сделке с неприятелем и казнен.
… красивым и романтическим, подобно Максу Пикколомини. — Речь идет об одной из сюжетных линий трилогии Ф.Шиллера «Валлен-штейн»: любовь случайно встретившихся во время войны молодого полковника Макса Пикколомини (реально существовавшее лицо, ум. в 1645 г.) и дочери Валленштейна принцессы Тэклы.
Фурьер — в XVIII в. в раде европейских армий (в том числе и во французской) унтер-офицер, отвечающий за расквартирование своей роты.
Клавесин — струнный щипково-клавишный музыкальный инструмент, род фортепьяно; известен с начала XVI в.
Физиогномист — см. примеч. к с. 36.
Руфь — героиня библейской книги Руфь; после смерти мужа она не покинула его мать Ноеминь, а кормила ее, собирая колосья на поле Вооза, родственника свекрови, и получая от него милостыню. Тронутый добротой Руфи, Вооз женился на ней и купил у Ноеминь землю ее сыновей. Брак Руфи и Вооза был благословлен Богом. Согласно евангелию от Матфея (1: 5), Руфь была в числе предков Христа.
Агарь — рабыня-египтянка у праотца Авраама; по желанию жены Авраама Сарры, долго не имевшей детей, стала его наложницей и родила сына Измаила; позже была с сыном изгнана и ушла в Аравийскую пустыню; там они стали родоначальниками арабских племен, называемых в Библии агарянами и измаильтянами (Бытие, 16: 21).
Кауниц, Венцель Антон Доминик, граф Ритберг, князь (1711 — 1794) — австрийский государственный деятель и дипломат, канцлер (глава правительства) в 1753 — 1792 гг.; содействовал проведению рада экономических и политических реформ; противник Французской революции.
Алигьери — Данте Алигьери (см. примеч. к с. 8).
Микеланджело Буонароти (1475 — 1564) — итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт; представитель Высокого Возрождения.
Вебер, Карл Марш фон (1786 — 1826) — немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы.
Ин-фолио — см. примеч. к с. 244.
… признаки той болезни, которой подвержены люди с хрупким телом и печальной душой. — То есть чахотки, туберкулеза легких.
Праздник Тела Господня — см. примеч. к с. 16.
Донжон — главная башня средневекового замка-крепости; служила местом последней защиты и убежища при нападении неприятеля.
Франциск Сальский (1567 — 1622) — католический святой, Франсуа де Саль, епископ в Женеве; в 1618 г. основал орден посвящающих себя уходу за больными и воспитанию молодых девушек; перезахоронен в 1624 г., канонизирован в 1665 г.
… с 1803-го по 1808-й год, Наполеон завершил самую блистательную часть своей эпопеи… — В этот период Наполеон провозгласил себя императором (1804 г.) и одержал победы в войнах против третьей и четвертой антифранцузскими коалициями, разгромив в 1805 г. войска Австрии и России, а в 1806 — 1807 гг. — войска России и Пруссии. В июле 1807 г. были подписаны Тильзитские договоры с Россией, закрепившие главенствующее положение Франции в Европе. Император Александр I стал союзником Наполеона, а почти все остальные европейские страны находились в сфере его влияния. В некоторых из них правили его прямые ставленники.
… Блаженны плачущие! — Полностью: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Слова из Нагорной проповеди Христа (Матфей; 5:4).
Ангелы — вестники, посланники; согласно Библии, существа другого порядка, чем люди; посредники между Богом и людьми.
Нимфы — в античной мифологии низшие божества, долговечные, но смертные; олицетворяют силы и явления природы.
Ундина — по средневековым поверьям, дух воды в образе женщины.
Саламандра — сказочное существо, живущее в пламени.
… И ты, Германия, старая пантеистка, вера и идеал которой — весь мир, европейская сестра Индии… — Дюма имеет здесь в виду бурное развитие классической немецкой философии в XVIII — первой половине XIX в., породившее значительное число философских и религиозно-философских систем. Сравнивая в этом отношении Германию с Индией, автор намекает на множественность индийских религий и философских воззрений.
Пантеист — сторонник пантеизма (от гр. pan — «все» и theos — «бог»), философского учения, отождествляющего божество с природой и рассматривающего природу как воплощение божества; в XVI — XVII вв. некоторые сторонники пантеизма, по существу, проповедовали под его оболочкой материализм и безбожие.
… Египет был лишь главой… — Имеется в виду экспедиция французской армии в Египет в 1798 — 1801 гг., осуществленная по инициативе и под командованием Наполеона Бонапарта (сам он оставался там до осени 1799 г.). Это предприятие имело целью завоевание новой колонии, защиту интересов французских коммерсантов в Восточном Средиземноморье и создание плацдарма для борьбы с Англией на Востоке, прежде всего базы для дальнейшего наступления на главную английскую колонию — Индию. В результате уничтожения их флота англичанами, французские войска, завоевавшие Египет, оказались там отрезанными от своей страны. После отъезда Бонапарта и нескольких поражений они в 1801 г. вынуждены были сдаться англичанам. Пребывание Бонапарта в Египте описано Дюма в романе «Белые и синие».
Аустерлиц — см. примеч. к с. 187.
… рассказывал ему об Альпах, Италии… — То есть о труднейшем переходе французской армии через Альпы в 1800 г. Результатом этой операции был разгром австрийских войск и возвращение Франции Северной Италии, которая была завоевана Бонапартом в 1796 — 1797 гг. (его первая Итальянская кампания) и в 1799 г. занята войсками Австрии и России. Переход Бонапарта через Альпы и вторая Итальянская кампания 1800 г. описаны Дюма в романе «Соратники Иегу».
… небесные мадонны Рафаэля… — Образ Богоматери занимал в творчестве Рафаэля (см. примеч. к с. 121) значительное место; несколько ее воплощений, созданных им, принадлежат к шедеврам мировой живописи.
… я читал Жан Жака и Мирабо… — Имеется в виду Жан Жак Руссо (см. примеч. к с. 240).
Мирабо, Оноре Габриель Рикети (1749 — 1791) — выдающийся деятель Французской революции, публицист; приобрел популярность обличением королевского деспотизма; один из лидеров Учредительного собрания, сторонник конституционной монархии; в 1790 г. был подкуплен двором и тайно перешел на его сторону.
Курций — см. примеч. к с. 457.
… Австрия, кажется, решила превратить Германию во вторую Испанию: старая австрийская династия завидует только что возникшей империи и собирается поддержать вооруженное восстание на полуострове. — Речь идет о вторжении французских войск в марте 1808 г. на Пиренейский полуостров и о начавшемся массовом сопротивлении испанского народа иноземным захватчикам. Сопротивление это приняло формы как регулярной, так и партизанской войны. Одновременно вспышки вооруженных партизанских действий имели место в Германии, порабощенной Наполеоном в результате войны 1806 — 1807 гг., и в землях Австрийской монархии. В 1809 г. Австрия, воспользовавшись затруднениями французской армии в Испании, сделала попытку выйти из-под влияния наполеоновской империи, под которое попала после разгрома в 1805 г. Новая война в 1809 г., однако, тоже закончилась поражением и еще большей зависимостью от Франции. При этом австрийское правительство не только не поддерживало народного сопротивления французам в немецких землях, но даже оказывало помощь в его подавлении.
«Старая австрийская династия» — династия Габсбургов, императоров Священной Римской империи германской нации в 1273 — 1806 гг. (с перерывами), австрийских (с 1867 г. австро-венгерских) императоров с 1806 по 1918 гг. и королей Испании в 1516 — 1700 гг.
… и возобновила свой союз с Англией. — Австрия впервые вступила в союз с Англией против Французской революции в начале 1793 г., когда эта держава присоединилась к первой антифранцузской коалиции. В 1795 г. союз был подтвержден договором между этими двумя государствами и Россией. В 1797 г. союз распался ввиду поражения Австрии и развала коалиции. Затем англо-австрийский союз возобновлялся в 1798 и 1804 — 1805 гг., когда были созданы вторая и третья коалиции против Французской республики и наполеоновской империи. Очередное его возобновление имело место в 1809 г. (пятая коалиция) накануне новой войны Австрии с Францией.
Вормс — старинный город в Юго-Западной Германии на реке Рейн; в описываемое в романе время принадлежал Франции; после падения империи Наполеона вошел в состав герцогства Гессен — Дарм-штадт.
… Мене, Текел, Упарсин? — Здесь имеется в виду эпизод из описания гибели Вавилонского царства и его государя Валтасара в 538 г. до н.э. в библейской Книге пророка Диниила. На роскошном пиру, устроенном Валтасаром во время осады его столицы, персты невидимой руки вывели слова: «Мене, мене, текел, упарсин». Иудейский пророк Даниил растолковал эти слова как предзнаменование скорой гибели царя: «Мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Даниил, 5: 24-28).
Корнель — см. примеч. к с. 343.
Клопшток — см. примеч. к с. 366.
Гёте — см. примеч. к с. 362.
Шекспир — см. примеч. к с. 10.
Глюк — см. примеч. к с. 320.
Палестрина, Джованни Пьер Луиджи да (1524/1525 — 1594) — итальянский композитор, преобразователь и классик хоровой религиозной музыки.
Моцарт, Паизиелло — см. примеч. к с. 377.
Дортуар — общая спальня для учащихся в закрытом учебном заведении. «Поль и Виргиния» — знаменитый роман французского писателя Жана Анри
Бернардена де Сен-Пьера (1737 — 1814), вышедший в свет в 1787 г.; повествует об идеальной любви на лоне природы двух молодых людей, свободных от развращающего влияния общества и сословных предрассудков.
Женевьева (Гановефа) Брабантская (VIII в.) — супруга франкского сановника Зигфрида; по преданию, была приговорена к смерти по лживому обвинению в супружеской неверности, но спаслась и жила с сыном в пещере в лесу, пока муж не нашел ее и не вернул домой.
Дюрер, Альбрехт (1471-1528) — немецкий художник, гравер и рисовальщик; крупнейший представитель искусства Возрождения в Германии.
«История Тридцатилетней войны» — книга Ф.Шиллера «Тридцатилетняя война» («Geschichte des DreiBigjahrigen Krieges»), вышедшая в свет в 1793 г. и подчеркивавшая религиозный характер этого конфликта. Для Шиллера-историка были характерны преобладающий интерес к судьбам исторических деятелей, склонность к драматизации исторического повествования.
Тридцатилетняя война (1618 — 1648) — первая общеевропейская война между габсбургским блоком (Испания и Австрия), поддержанным папством, католическими князьями Германии и Польско-Литовским государством, и национальными государствами — Францией, Швецией, Голландией, Данией, которые образовали антигабсбургскую коалицию, опиравшуюся на протестантских князей в Германии, на антигабсбургское движение в Чехии и Трансильвании и поддержанную Россией. Политический конфликт принял форму религиозной войны между протестантизмом в различных его течениях и католицизмом.
Война закончилась провалом планов католической реакции, фактическим распадом Священной Римской империи, страшным разорением и узаконением раздробленности Германии, часть земель которой перешли под власть Швеции. Испания была вынуждена признать независимость республики Соединенных провинций (Нидерландов), освободившихся от ее владычества в результате революции конца XVI в.
Анналы — годовые сводки, вид исторической хроники, отличающийся более сжатой формой изложения событий; в переносном смысле вообще прошлое.
Гогенштауфены (Штауфены) — династия германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138-1254 гг., а также королей Сицилийского королевства в 1197-1268 гг.
… Мы, должно быть, напоминаем сейчас библейскую картину: Елиезера и Ревекку… — Елиезер — раб праотца Авраама, посланный им на поиски невесты для своего сына Исаака. В православном тексте Библии имя его не называется.
Ревекка (Ребекка) — библейская героиня, первая жена прародителя древних евреев Исаака. Здесь имеется в виду эпизод сватовства Исаака к Ревекке, представляющая интересную картину патриархального быта древних кочевников (Бытие, 24): посланный на поиски невесты, Елиезер со своими верблюдами пришел к некоему колодцу и загадал, что дева, которая напоит его и его скотину, и есть невеста, назначенная Богом сыну его господина. Подошедшая Ревекка начерпала своим кувшином воды для раба и его скота. Раб богато одарил ее, после чего отец девушки согласился отпустить ее в кочевье будущего мужа.
Экстатическая музыка — музыка, проникнутая экстазом, исступленно-восторженным воодушевлением.
Серафим — см. примеч. к с. 214.
Арабеска — музыкальная пьеса изящного характера с причудливо орнаментированным мелодическим рисунком.
«Гамлет» — см. примеч. к с. 10.
«Офелия, иди в монастырь!» — слова Гамлета, обращенные к Офелии, его возлюбленной (III, 1).
«Вертер» — см. примеч. к с. 362.
«Подражание Христу» (или «Подражание Иисусу Христу») — религиозный трактат, появившийся в свет около 1419 г. и приписываемый голландскому христианскому мыслителю монаху Фоме Кем-пийскому (Томасу Хемеркену; 1380 — 1471). В книге приводится доказательство бытия Бога, которого автор считает первопричиной и конечной целью сущего. Все сочинение проникнуто духом аскетизма. Лежащий во зле мир может спастись только через подражание жизни Христа; значение имеет лишь праведная жизнь, а не выполнение обрядов; целью жизни должна быть забота о ближних.
«Жизнь святой Терезы» — вероятно, имеется в виду «Книга о моей жизни» испанской религиозной деятельницы и писательницы Терезы из Авилы (ок. 1515-1582), автора сочинений и писем, являющихся духовными наставлениями. При жизни преследовалась инквизицией, но в 1622 г. была причислена к лику святых и признана небесной покровительницей Испании.
Дафнис и Хлоя — герои одноименного романа Лонга (см. примеч. к с. 357).
… как это и случилось с Паоло и Франческой… — См. примеч. к с. 157.
Ипполит — в древнегреческой мифологии и в написанной на ее сюжет трагедии Ж. Расина «Федра» сын царя Афин Тесея был изгнан своим отцом, заподозрившим его в любви к мачехе.
Шпайер — старинный город в Юго-Западной Германии на Рейне; в XVIII-XEX вв. принадлежал Баварии.
«Табулараза» (лат. — «чистая доска», буквально: «стертая доска») — то есть пустое место, на котором можно делать все, что угодно. Это выражение происходит от названия навощенной дощечки — материала для письма древних греков и римлян, на которой стерт написанный ранее текст. В переносном смысле — нечто чистое, нетронутое.
Гердер, Иоганн Готфрид (1744-1803) — немецкий мыслитель, филолог и литературный критик; представитель Просвещения; в политике придерживался консервативных взглядов.
Босаоэ, Жак Бенинь (1627-1704) — французский церковный деятель, епископ, писатель, проповедник ортодоксального католицизма и абсолютной монархии.
Дульсинея — персонаж «Дон Кихота» (см. примеч. к с. 193); простая крестьянка, которую герой романа вообразил своей идеальной возлюбленной.
Инфанта (инфант; от лат. infans — «ребенок») — титул принцесс и принцев королевского дома в Испании и Португалии.
Ватерлоо — селение в Бельгии неподалеку от Брюсселя, где в июне 1815 г. войска Наполеона были разгромлены соединенными силами Англии, Пруссии и Нидерландов; французская армия практически перестала существовать; после этого поражения Наполеон окончательно отрекся от престола и вскоре был сослан на остров Святой Елены.
Примечания
1
Священная роща (лат.)
(обратно)

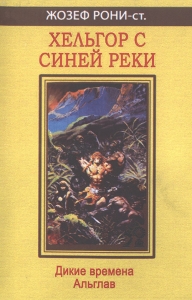


Комментарии к книге «Замок Эпштейнов», Александр Дюма
Всего 0 комментариев