Александр Дюма Женщина с бархоткой на шее
I. АРСЕНАЛ
Вечером 4 декабря 1846 года наш корабль стал на якорь в Тунисском заливе, а часов в пять утра я проснулся с чувством той глубокой грусти, от которой весь день глаза наполняются слезами и грудь вздымается от вздохов.
Это чувство было вызвано сновидением.
Спрыгнув с койки, я надел панталоны, вышел на палубу и стал смотреть по сторонам.
Я надеялся, что чудный вид, открывшийся моим глазам, рассеет мою тревогу, тем более неотступную, чем менее явственной была причина ее возникновения.
Передо мной, на расстоянии ружейного выстрела, была дамба; она тянулась от форта Голетты до форта Арсенала и оставляла узкий проход для судов, следовавших из залива в озеро. Воды этого озера, не уступавшие по своей голубизне небесам, которые они отражали, местами были неспокойны, — там хлопала крыльями стая лебедей, а на одном из вбитых на определенном расстоянии друг от друга столбов, указывающих мель, неподвижно, подобно изваянию птицы на надгробном памятнике, сидел баклан; изредка он вдруг камнем падал вниз, нырял за добычей и вновь появлялся на водной поверхности, держа в клюве рыбу; проглотив ее, он снова взлетал на столб и опять застывал в безмолвном оцепенении до тех пор, пока другая рыба, проплывавшая поблизости, не возбуждала его аппетита, и тогда, преодолевая лень, он снова исчезал в воде и опять появлялся.
Каждые пять минут воздух прорезала вытянувшаяся цепочкой стая фламинго; их розовые крылья, выделяясь на фоне матово-белого оперения и образуя четырехугольники, казались игральными картами, состоящими из одних бубновых тузов, устремившихся друг за другом.
На горизонте виднелся Тунис — другими словами, белые как мел квадратные дома без окон и без дверей; они громоздились амфитеатром и выделялись на фоне неба своими на редкость четкими очертаниями. Слева, как огромный зубчатый крепостной вал, возвышались Свинцовые горы, само название которых указывает на их мрачный цвет; у подножия гор примостилась мечеть и деревня Сиди-Фаталлах; справа виднелись гробница святого Людовика и пространство, где находился Карфаген — места, воскрешающие в памяти два величайших события в мировой истории. Позади нас качался на якоре великолепный паровой фрегат «Монтесума», обладавший двигателем в четыреста пятьдесят лошадиных сил.
Разумеется, здесь было много такого, что могло бы развлечь самое расстроенное воображение. При виде всего этого великолепия можно было забыть и вчерашний день, и сегодняшний, и завтрашний. Но я погрузился в воспоминания о том, что было десять лет назад, сосредоточившись на одной-единственной мысли, которую сон, казалось, пригвоздил к моему сознанию.
Взгляд мой становился застывшим. Весь этот изумительный пейзаж мало-помалу расплывался перед моим рассеянным взором. Вскоре я уже ничего вокруг не видел. Действительность исчезла, а затем в центре этой туманной пустоты, будто по мановению волшебной палочки, возникли очертания гостиной с белыми лепными украшениями; в глубине ее за фортепьяно, небрежно перебирая клавиши, сидела женщина, исполненная вдохновения и в то же время задумчивая; то была муза, и то была святая. Я узнал эту женщину и прошептал, словно она могла меня слышать:
— Привет вам, Мари, полная благодати; душа моя с вами.
Затем, не в силах более противиться обаянию этого ангела с белоснежными крыльями, возвращавшего меня к дням моей юности и — подобно чудесному видению — являвшего мне целомудренный облик юной девушки, молодой женщины и матери, я отдался уносившему меня потоку, называющемуся памятью и возвышающему прошлое в ущерб будущему.
И тут меня охватило эгоистичное чувство, в высшей степени свойственное человеку, что заставляет его не оставлять свои мысли при себе, но лелеять свои ощущения, делясь ими с окружающими, и, наконец, изливать в душу другого сладкий или же горький напиток, наполняющий собственную душу.
Я взял перо и написал:
«На борту „Быстрого“,
в виду Карфагена и Туниса,
4 декабря 1846 г.
Сударыня!
Вскрыв письмо, помеченное Карфагеном и Тунисом, Вы спросите себя, кто может писать Вам из этих краев, и, пожалуй, подумаете, что получите автограф Регула или же Людовика IX. Увы, сударыня, тот, кто из столь дальних стран повергает к Вашим стопам робкое напоминание о себе, не является ни героем, ни святым, и если он когда-либо и походил чем-то на епископа Гиппонского, чью могилу он посетил три дня тому назад, то речь об этом сходстве может идти, только если вспомнить о первой половине жизни этого великого человека. Впрочем, подобно ему, пишущий эти строки может искупить первую половину своей жизни второю. Но раскаиваться слишком поздно, и, по всей вероятности, он умрет так же, как и жил, не смея даже оставить после смерти свою исповедь, которую, в лучшем случае, можно выслушать, но которую почти невозможно прочитать.
Вы уже взглянули на подпись, не правда ли, сударыня? Вы уже знаете, с кем имеете дело, и теперь Вы спрашиваете себя, почему автор «Мушкетеров» и «Монте-Кристо» решил написать Вам, именно Вам, находясь между этим великолепным озером, которое служит могилой городу, и бедным памятником, который является гробницей короля, тогда как в Париже он способен был прожить рядом с Вами целый год и не появляться в Вашем доме?
Прежде всего, сударыня, Париж есть Париж, — другими словами, водоворот, где забываешь обо всем среди шума, что поднимают мчащиеся люди и вращающаяся Земля. В Париже, видите ли, я двигаюсь так же, как все люди и как сама Земля: я мчусь и вращаюсь; в остальное время, когда не вращаюсь и не мчусь, я пишу. Но теперь, сударыня, все обстоит иначе: когда я пишу, я не так уж далек от Вас, как Вы думаете, ибо Вы одно из тех немногих существ, для которых я пишу, и не было такого случая, чтобы я, закончив главу, которой я доволен, или же книгу, которая пользуется успехом, не сказал себе: «Ее прочитает Мари Нодье, удивительная, чудесная душа»; и я горжусь этим, сударыня, ибо надеюсь, что, когда Вы прочтете эти строки, я, быть может, займу чуточку больше места в Ваших мыслях.
Итак, сударыня, я возвращаюсь к письму; я не смею сказать, что этой ночью грезил Вами, но Вы мне снились; забыв о волнах, качающих гигантское паровое судно, которое правительство предоставило в мое распоряжение и на котором я оказал гостеприимство Буланже, одному из Ваших друзей и одному из Ваших поклонников, и моему сыну, — не считая Жиро, Маке, Шанселя и Дебароля, принадлежащих к числу Ваших знакомых, — я уснул, не думая ни о чем; но, так как сейчас я нахожусь, можно сказать, в стране «Тысячи и одной ночи», меня посетил некий гений и ввел меня в царство мечты, повелительницей которого были Вы. Место, куда он привел или, лучше сказать, вернул меня, было прекраснее дворца, прекраснее королевства: это был милый моему сердцу великолепный Арсенал в его радостные и счастливые времена, когда наш горячо любимый Шарль встречал нас самым искренним гостеприимством, на какое были способны древние, а глубокочтимая Мари проявляла очаровательное гостеприимство нашего века.
Ах, сударыня, поверьте, что пишущий эти строки испускает сейчас тяжелый вздох. То была счастливейшая для меня пора. Ваше очарование сообщалось всем, и порою, смею сказать, мне больше, нежели другим. Вы видите, что меня влечет к Вам эгоистичное чувство. Мне передавалась часть Вашей прелестной веселости, так же как кремню у поэта Саади передавался аромат розы.
Помните ли Вы костюм лучника, который надевал Поль ? Помните ли Вы желтые ботинки Франциска Мишеля ? Помните ли Вы моего сына, переодетого дебардёром ? И помните ли Вы тот уголок, где стояло фортепьяно и где Вы пели «Lazzara» note 1 — эту чудесную мелодию, ноты которой Вы обещали мне дать и, не в упрек будет Вам сказано, так и не дали?
Я пробудил Вашу память; теперь пойдемте дальше. Помните две мрачные фигуры — Фонтане и Альфреда Жоанно, остававшихся грустными даже в те мгновения, когда все мы умирали со смеху: людей, которым суждено уйти из жизни молодыми, никогда не покидает смутное предчувствие своей гибели? Помните Тейлора, сидящего в углу, неподвижного, молчаливого, размышляющего о том, какое из следующих его путешествий обогатит Францию испанской картиной, греческим барельефом или египетским обелиском? Помните де Виньи, который в ту пору, быть может, еще сомневался в своем преображении и снисходил до того, чтобы смешиваться с толпой? Помните Ламартина, стоящего перед камином и расстилающего перед нами созвучия своих великолепных стихов? Помните Гюго, который слушал его так, как, вероятно, Этеокл внимал По-линику? Он один среди нас сохранял на устах улыбку человека, делающего вид, что не считает себя выше других, тогда как г-жа Гюго, играя своими чудесными волосами, полулежала на диване, словно устав от бремени славы, часть которой она несла.
А в центре — Ваша матушка, такая простая, такая добрая и милая; Ваша тетушка — г-жа де Терси, такая умная и благожелательная; Доза, взбалмошный, хвастливый и остроумный; Бари, столь отрешенный от всего этого шума, что казалось, будто мысли его вечно блуждают в поисках семи чудес света; Буланже — сегодня грустный, завтра радостный, но всегда великий художник, всегда великий поэт, всегда верный друг, независимо от того, весел он или печален; и, наконец, маленькая девочка, скользящая среди поэтов, художников, музыкантов, великих людей, умных и ученых, — маленькая девочка, которую я ставил на ладонь и подносил Вам, словно это была статуэтка Барра или Црадье ? О Боже мой, что сталось со всем этим, сударыня?
Господь дунул на своды, и вот волшебное здание рухнуло, и те, кто населял его, разбежались, и опустело то место, где некогда все жило, цвело, сияло.
Фонтане и Альфред Жоанно умерли; Тейлор отказался от путешествий; де Виньи исчез из поля зрения; Ламартин — депутат; Гюго — пэр Франции, а Буланже, мой сын и я — в Карфагене, откуда я, тяжело вздыхая, пишу Вам, сударыня; и хотя ветер уносит, словно облако, редеющий дым нашего судна, этот тяжкий вздох (я уже говорил Вам о нем) никогда не догонит тех дорогих воспоминаний, которые время на своих темных крыльях тихо уносит в серый туман былого.
О весна, молодость года! О молодость, весна жизни!
Итак, вот он, этот исчезнувший мир, который сегодня ночью вернул мне мой сон, — мир, столь сверкающий, столь явственно различимый, но, увы! в то же время столь неосязаемый, как те пылинки, что пляшут в солнечном луче, проникшем в темную комнату сквозь щель в приоткрытом ставне.
Теперь, сударыня, Вас больше не удивляет это письмо, не правда ли? Настоящее рушилось бы беспрестанно, если бы его не поддерживали в равновесии надежда с одной стороны и воспоминания — с другой; к несчастью, а быть может, к счастью, я принадлежу к числу тех, у кого воспоминания оказываются сильнее надежды.
А теперь поговорим о другом: быть печальным позволительно при том условии, что грусть твоя не омрачит других. Что поделывает мой друг Бонифас? Да, кстати, дней десять тому назад я посетил некий город, и долгонько придется моему другу корпеть, прежде чем он найдет его название в книге злобного лихоимца, чье имя Саллюстий. Этот город — Константина, древняя Цирта, — чудо, выстроенное на скале, без сомнения, племенем сказочных существ с орлиными крыльями и человеческими руками, которых видели Геродот и Левайян — эти два великих путешественника.
Потом мы ненадолго зашли в Утику и надолго — в Бизерту. В Бизерте Жиро написал портрет турецкого нотариуса, а Буланже — его старшего писца. Посылаю их Вам, сударыня, дабы Вы могли сравнить их с парижскими нотариусами и старшими писцами. Думаю, что сравнение будет не в пользу последних.
Ну а я, охотясь на фламинго и лебедей, свалился в воду — таковое событие, случившееся на берегах Сены, быть может сейчас подмерзшей, вероятно, имело бы печальные последствия, но на берегах озера Катона оно доставило мне лишь ту неприятность, что я, одетый с головы до ног, принял ванну и тем очень удивил Александра, Жиро и губернатора, которые следили за нашей лодкой с холма и не могли понять, что происходит: они подумали, что это моя прихоть, а на самом деле я просто потерял равновесие.
Я вынырнул, как баклан, о котором я уже Вам рассказывал; подобно баклану, я исчез, подобно баклану, я вновь показался на поверхности, только, в отличие от него, у меня в клюве не было рыбы.
Через пять минут я уже и думать забыл об этом происшествии и был так же сух, как г-н Валери, — столь любезно было по отношению ко мне ласковое солнышко.
О, как бы я хотел, сударыня, чтобы Вас всегда сопровождал луч этого чудесного солнца — хотя бы только затем, чтобы на Вашем окне расцвели незабудки!
Прощайте, сударыня; простите мне столь длинное письмо; я не привык к этому жанру и, как ребенок, который просит прощения за то, что набедокурил, обещаю Вам, что больше не буду; и, однако, почему небесный привратник оставил открытой дверь из слоновой кости, в которую проникают золотые мечты?
Примите, сударыня, уверения в моем глубочайшем к Вам уважении.
Александр Дюма. Сердечно жму руку Жюлю».
А теперь меня спросят, зачем я поместил здесь письмо столь интимного характера? Дело в том, что я хочу рассказать читателям историю женщины с бархаткой на шее, а для этого мне надо было распахнуть двери Арсенала — другими словами, двери жилища Шарля Нодье.
А теперь, так как эту дверь открыла мне рука его дочери и, следовательно, мы можем быть уверены, что будем здесь желанными гостями, — «Кто любит меня, за мной!»
На окраине Парижа в конце набережной Целестинцев, обратясь спиной к улице Морлан и господствуя над рекой, возвышается большое, темное, печального вида здание под названием Арсенал.
Участок земли, на котором стоит это громоздкое сооружение, до того как в городе прорыли крепостные рвы, назывался Шан-о-Платр. Когда Париж готовился к войне, он купил это поле и построил там склады для своей артиллерии. К 1533 году Франциск I обнаружил, что ему не хватает пушек, и у него возникла мысль начать их отливать. Тогда он позаимствовал у своего доброго города один из этих складов, пообещав, разумеется, вернуть его, как только отливка будет закончена; затем, под предлогом того, что необходимо ускорить работы, он позаимствовал второй склад, потом — третий, каждый раз повторяя свое обещание; наконец, следуя пословице «Наживай, но не проживай», он без всяких церемоний оставил за собой все три склада.
Двадцать лет спустя вспыхнули двадцать тысяч тонн пороха, которые там хранились. Взрыв был ужасен. Париж трясся, как Катания в те дни, когда шевелится Энкелад. Камни перелетели через все предместье Сен-Марсо; раскаты этого ужасающего грома потрясли Мелён. Окрестные дома шатались как пьяные и рушились. Рыба гибла в реке, убитая неожиданным сотрясением; наконец, тридцать человек, подхваченные огненным ураганом, попадали в обгорелых лохмотьях на землю, а полтораста человек получили ранения. Как произошло это бедствие? Какова была причина несчастья? Об этом никто никогда не узнает, но вследствие незнания во всем обвинили протестантов.
Карл IX приказал восстановить разрушенные здания, но по более обширному плану. Дело в том, что Карл IX был строителем; он приказал украсить Лувр скульптурами и изваять рельефы фонтана Избиенных младенцев Жану Гужону, который, как известно, впоследствии был убит там шальной пулей. Этот великий художник и великий поэт, без сомнения, завершил бы начатое, если бы Бог, хотевший предъявить ему кое-какой счет по поводу 24 августа 1572 года, не призвал его к себе.
Его преемники взялись за прерванные работы и продолжили их. В 1584 году Генрих III велел украсить резьбой дверь, выходящую на набережную Целестинцев; по бокам ее стояли колонны в виде пушек, а на мраморной скрижали, возвышавшейся над ней, можно было прочитать дистих Никола Бурбона — этот дистих так нравился Сантёю, что тот готов был бы взойти на виселицу, лишь бы суметь написать такой самому:
AEtna hic Henrico vulcania tela ministrat, Tela gjganteos debellatura furores.
По-французски это значит: «Этна готовит здесь стрелы, которыми Генрих поразит ярость гигантов».
И в самом деле, поразив гигантов Лиги, Генрих заложил прекрасный сад (его можно увидеть на картах времен Людовика XIII), а Сюлли, устроив здесь резиденцию своего правительства, приказал расписать и позолотить прекрасные салоны, где и сейчас помещается библиотека Арсенала.
В 1823 году Шарль Нодье стал директором этой библиотеки; он покинул улицу Шуазёль, на которой жил до того, и переехал на новую квартиру.
Нодье был чудеснейшим человеком; у него не было ни одного порока, зато было полным-полно недостатков, тех очаровательных недостатков, что придают оригинальность человеку гениальному, расточительному, беззаботному, праздному и притом наслаждающемуся своей праздностью так же, как Фигаро упивался своей ленью.
Нодье знал почти все, что дано знать ученому; впрочем, он пользовался привилегией человека гениального: когда он чего-нибудь не знал, он выдумывал, и то, что он выдумывал, было куда увлекательнее, куда красочнее, куда правдоподобнее, нежели то, что существовало в действительности.
Впрочем, создав огромное количество систем и будучи восторженно парадоксален в своих суждениях, он меньше всего был способен их пропагандировать; для себя самого Нодье был парадоксален, для себя одного Нодье создавал свои системы; если бы они были приняты, а парадоксы признаны, он бы их изменил и немедленно изобрел бы новые.
Нодье был персонажем Теренция, и ничто человеческое не было ему чуждо. Он любил ради счастья любить: то есть любил так же, как светит солнце, как журчит вода, как благоухает цветок. Все великое, все доброе и все прекрасное было ему мило; даже в зле он искал добро, подобно тому как химик из вредного растения, даже из яда, извлекает целебное вещество.
Сколько раз Нодье любил? На этот вопрос он и сам не мог бы ответить; впрочем, будучи великим поэтом, он смешивал мечту с явью. Нодье с такой любовью лелеял свои фантастические вымыслы, что в конце концов сам в них поверил. Для него Тереза Обер, Фея хлебных крошек, Инее де лас Сьеррас существовали на самом деле. Это были его дочери, такие же, как Мари; это были сестры Мари, с той разницей, что г-жа Нодье не принимала никакого участия в их появлении на свет; подобно Юпитеру, Нодье извлек всех этих Минерв из своей головы.
Но не только в человеческие существа, не только в дочерей Евы и сыновей Адама вдохнул жизнь их творец Нодье. Он выдумал животное и окрестил его. А потом, своею властью, не задумываясь над тем, что скажет Бог, наградил его бессмертием.
Это животное было таратанталео.
Вы не знаете, что такое таратанталео? Я тоже понятия о нем не имею; но сам Нодье его видел, Нодье знал его как свои пять пальцев. Он мог рассказать вам о нраве, о привычках, о капризах таратанталео. Он рассказал бы вам и о его любовных похождениях, если бы в тот момент, когда он заметил, что таратанталео наделен бессмертием, он не обрек бы его на безбрачие, ибо потомство не обязательно для того, кто все равно воскреснет.
Каким образом Нодье открыл, что таратанталео существует?
Сейчас расскажу.
В восемнадцать лет Нодье занялся энтомологией. Жизнь его состояла из шести различных этапов.
Сначала появился его труд по естественной истории — «Энтомологическая библиотека»;
потом — по лингвистике: «Ономатопеистический словарь»;
потом — политическая ода «Наполеона»;
потом — труд по религиозной философии «Размышления о монастыре»;
потом — стихи «Этюды юного барда»;
потом — проза: «Жан Сбогар», «Смарра», «Трильби», «Художник из Зальцбурга», «Мадемуазель де Марсан», «Адель», «Вампир», «Золотая мечта», «Воспоминания молодости», «Король Богемский и его семь замков», «Фантазии доктора Неофобуса» и много других прелестных вещей, которые знаете вы, которые знаю я и дать определение которым мое перо бессильно.
Итак, Нодье был на первом этапе своей деятельности; Нодье занимался энтомологией; Нодье жил на седьмом этаже — так высоко и Беранже не помещает поэтов. Он производил опыты с помощью микроскопа над бесконечно малыми частицами и задолго до Распайля открыл мир крошечных, невидимых существ. Однажды, после того как он исследовал воду, вино, уксус, сыр, хлеб и, наконец, все вещества, над которыми обычно производят опыты, он достал из водосточной трубы щепотку мокрого песку и положил ее под объектив микроскопа, а затем посмотрел в линзу.
И тогда он увидел, что там шевелится какое-то странное существо, имеющее форму велосипеда, снабженного двумя колесиками, которыми оно быстро двигало. Если ему нужно было переплыть реку, то его колесики служили ему, как колеса парохода. Если же надо было передвигаться по суше, его колесики крутились, как колеса кабриолета. Нодье разглядел его, рассмотрел во всех деталях, зарисовал и вообще исследовал чрезвычайно долго, но вдруг вспомнил, что у него назначено свидание, о чем он совсем забыл; он убежал, бросив и микроскоп, и песок, и таратанталео, для которого этот песок был вселенной.
Когда Нодье возвратился, было уже поздно; он устал, поэтому лег и заснул тем сном, каким спят люди, когда им восемнадцать лет. И вот, открыв глаза лишь на следующий день, он вспомнил о песке, о микроскопе и о таратанталео.
Увы! За ночь песок высох, и несчастный таратанталео, которому, чтобы жить, была необходима влага, погиб. Его крошечный трупик лежал на боку, его колесики были неподвижны. Пароход больше не двигался, велосипед остановился.
Но, даже мертвое, это существо представляло собой, по меньшей мере, любопытную разновидность поденки, и его трупик заслуживал того, чтобы его хранили так же бережно, как хранили бы труп мамонта или мастодонта; конечно, имея дело с этим существом, в сто раз меньшим, нежели клещ, надо было принять куда больше предосторожностей, нежели для того, чтобы переместить животное, превышающее размеры слона в десять раз.
И вот Нодье кончиком пера перенес щепотку песку из-под микроскопа в маленькую картонную коробку, которой было предназначено стать гробницей таратанталео.
Нодье решил показать этот трупик первому же ученому, кто рискнет подняться к нему на седьмой этаж.
Но в восемнадцать лет человек думает о столь многих вещах сразу, что ему позволительно забыть о трупике поденки. И Нодье не вспоминал о трупике таратанталео три месяца, десять месяцев, а быть может, и год.
Но вот, в один прекрасный день, коробка попала к нему в руки. Ему захотелось посмотреть, какие изменения произошли за год с этим существом. Бушевала гроза, и в комнате было темно. Чтобы лучше видеть, он поднес микроскоп к окну и высыпал на предметное стекло содержимое коробочки.
Трупик по-прежнему неподвижно лежал на песке: время, одержавшее столько побед над колоссами, казалось, забыло о бесконечно малом существе.
Итак, Нодье смотрел на свою поденку, как вдруг ветер уронил на предметное стекло микроскопа каплю дождя, и она увлажнила песок.
И тут Нодье показалось, что живительная прохлада возвращает таратанталео к жизни; что он зашевелил сперва одним усиком, потом другим, начал крутить сперва одним колесиком, потом двумя; что он обретает равновесие; что его движения становятся равномерными и, наконец, что он жив.
Чудо воскресения совершилось — не через три дня, но через год.
Десять раз Нодье повторял этот опыт: десять раз песок высыхал, и таратанталео умирал; десять раз песок увлажнялся, и десять раз таратанталео воскресал.
Нодье открыл не поденку, Нодье открыл бессмертное существо. По всей вероятности, его таратанталео был свидетелем всемирного потопа и должен был присутствовать на страшном суде.
К несчастью, однажды, когда Нодье — вероятно, в двадцатый раз — готовился повторить свой опыт, порыв ветра унес сухой песок, а вместе с песком и трупик феноменального таратанталео.
Нодье перебрал немало щепоток сырого песку из своего водостока, из многих других, но тщетно: ему так и не удалось найти что-либо равноценное этой утрате — таратанталео оказался единственным в своем роде и, будучи потерян для человечества, остался жить лишь в памяти Нодье.
Зато в памяти Нодье он остался жить навсегда.
Мы уже говорили о недостатках Нодье; самым большим из них, по крайней мере в глазах г-жи Нодье, была библиомания; этот недостаток, составлявший счастье Нодье, приводил в отчаяние его жену.
Дело в том, что все деньги, которые Нодье зарабатывал, он тратил на книги. Сколько раз бывало так, что Нодье уходил за двумя или тремястами франков, совершенно необходимых для дома, и возвращался с редкой книгой, с уникальным экземпляром!
Деньги оставались у Тешнера или у Гийемо.
Госпожа Нодье, недовольная этим, ворчала, но он вытаскивал из кармана книгу, открывал ее, закрывал, поглаживал, показывал опечатку, свидетельствовавшую о подлинности экземпляра, и еще приговаривал:
— Ты только подумай, дружок: триста франков я найду, а вот такую книгу — гм! — такую книгу — гм! — такую книгу уже не найдешь, спроси хоть у Пиксерекура.
Пиксерекур вызывал глубокое восхищение у Нодье, всю жизнь обожавшего мелодрамы. Нодье прозвал Пиксерекура «Корнелем бульваров».
Почти каждое утро Пиксерекур являлся к Нодье с визитом.
Утро Нодье было посвящено приему библиофилов. Именно у него сходились маркиз де Гане; маркиз де Ша-то-Жирон; маркиз де Шалабр; граф де Лабедойер; Берар — знаток эльзевиров, который в 1830 году, в часы досуга, исправил Французскую конституционную хартию; библиофил Жакоб; ученый Вейс из Безансона, Пеньо из Дижона, человек энциклопедических познаний, и, наконец, у него собирались иностранные ученые, которые, приехав в Париж, тотчас же бывали ему представлены или же представлялись сами членам этого «Сенакля», пользовавшегося известностью во всей Европе.
Здесь советовались с Нодье, оракулом в этом собрании, здесь показывали ему свои книги, здесь спрашивали его мнения; это было его любимым развлечением. Зато ученые из Института почти никогда не посещали эти собрания: Нодье вызывал у них ревность. Нодье сочетал с эрудицией поэзию и ум, а это порок, который Академия наук, так же как и Французская академия, не может простить.
К тому же Нодье частенько поднимал кое-кого на смех, порой ему случалось кое-кого укусить. В один прекрасный день он выпустил «Короля Богемского и его семь замков» — на сей раз он был особенно язвителен. Все полагали, что он рассорился с Институтом навеки. Ничуть не бывало: Академия Томбукту ввела Нодье во Французскую академию.
У сестер бывают свои счеты.
После двух-трех часов работы — как правило, легкой, — после того как Нодье исписывал четким, ровным почерком, не сделав ни единой помарки, десять — двенадцать листов бумаги размером приблизительно в шесть дюймов в длину и четыре дюйма в ширину, он выходил из дому.
Он бродил по городу наугад, но почти всегда вдоль набережных: переходил через реку и вновь возвращался — согласно топографии книжных лотков; затем шел по книжным лавкам, а после книжных лавок — по переплетным мастерским.
Дело в том, что Нодье разбирался не только в книгах, но и в переплетах. Шедевры Газона при Людовике XIII, Дессёя при Людовике XIV, Паделу при Людовике XV и Дерома при Людовике XV и Людовике XVI были ему так хорошо знакомы, что он узнавал их с закрытыми глазами — ему достаточно было прикоснуться к ним. Не кто иной, как Нодье, возродил переплетное мастерство, которое во времена Революции и Империи перестало быть искусством; именно он вдохновлял и направлял таких реставраторов этого искусства, как Тувенен, Брадель, Ньедре, Бозонне и Легран. Тувенен, умирая от чахотки, приподнялся на своем смертном одре, чтобы бросить последний взгляд на переплеты, которые он делал для Нодье.
Путь Нодье почти всегда кончался у Крозе или Тешнера — это были шурин и зять, которых разъединило соперничество и в роли посредника между которыми выступал мирный нрав Нодье. Там был кружок библиофилов, там собирались, чтобы поговорить о книгах, об изданиях, о распродажах, там совершались обмены; когда появлялся Нодье, все присутствующие приветствовали его хором, но как только он открывал рот, воцарялась мертвая тишина. Тогда Нодье повествовал, Нодье сыпал парадоксами de omni re scibili et quibusdam aliis note 2.
Во второй половине дня, после семейного обеда, Нодье обыкновенно работал в столовой, при трех — всегда именно трех — свечах, расставленных треугольником; мы уже говорили о том, на какой он писал бумаге и каким почерком, и притом только гусиными перьями; железные перья, как вообще все новые изобретения, приводили Нодье в ужас: газ бесил его, пар вызывал у него ярость, в уничтожении лесов и истощении каменноугольных копей ему виделся близкий и неизбежный конец света. Ненависть к прогрессу цивилизации заставляли Нодье произносить особенно вдохновенные речи и особенно неистово метать громы и молнии.
Приблизительно в половине десятого Нодье снова выходил из дому, но на сей раз он шел не вдоль набережных, а вдоль бульваров; он заходил либо в Порт-Сен-Мартен, либо в Амбигю, либо в Фюнанбюль; чаще всего — в Фюнанбюль. Нодье боготворил Дебюро; для Нодье во всем мире существовало только три актера: Дебюро, Потье и Тальма; Потье и Тальма умерли, но Дебюро вознаграждал Нодье за потерю двух других.
Нодье сто раз смотрел «Бешеного быка».
Каждое воскресенье Нодье завтракал у Пиксерекура. Там он снова встречался со своими гостями — библиофилом Жакобом, который был там королем в отсутствие Нодье и становился вице-королем, когда появлялся Нодье, с маркизом де Гане, с маркизом де Шалабром.
Маркиз де Гане, человек с переменчивым нравом, капризный книголюб, влюблялся в книгу так же, как повеса времен Регентства влюблялся в женщину: он влюблялся с целью завладеть ею; потом, когда он становился ее обладателем, в течение целого месяца он был ей верен; мало сказать верен — сходил по ней с ума, носил ее с собой, останавливал друзей, чтобы показать ее им, вечером клал ее себе под голову, просыпаясь ночью, зажигал свечу, чтобы еще разок поглядеть на нее, но так никогда ее и не читал; он вечно с завистью смотрел на книги Пиксерекура, но тот ни за какие деньги не соглашался их продать, и он отомстил за этот отказ, купив на распродаже у г-жи де Кастеллан автограф, о котором Пиксерекур мечтал целых десять лет.
— Не беда! — в бешенстве сказал Пиксерекур. — Все равно я его получу.
— Что получите? — спросил маркиз де Гане.
— Этот автограф.
— Каким же образом?
— Да после вашей смерти, черт побери! Пиксерекур сдержал бы слово, если бы маркиз де Гане тут же не решил пережить Пиксерекура.
А маркиз де Шалабр мечтал об одном, но мечтал страстно: о Библии, которой не было бы ни у кого. Он так измучил Нодье, чтобы тот назвал ему какой-либо уникальный экземпляр, что Нодье в конце концов придумал лучше, чем маркиз де Шалабр: он назвал несуществующий экземпляр.
Маркиз де Шалабр тут же начал поиски этого экземпляра.
Христофор Колумб не столь упорно стремился открыть Америку, Васко де Гама не столь усердствовал ради открытия Индии, сколь упорно искал Библию маркиз де Шалабр.
Но Америка находится между 70° северной и 53° и 54° южной широты, но Индия лежит по ту и по другую сторону Ганга, тогда как Библия маркиза де Шалабра не находилась ни в каких широтах и не лежала ни по ту, ни по другую сторону Сены. Из этого следует, что Васко де Гама нашел Индию, что Христофор Колумб открыл Америку и что маркиз, сколько ни искал — от севера до юга и от востока до запада, — своей Библии не нашел.
Но чем более недосягаемой была Библия, тем более рьяно стремился обрести ее маркиз де Шалабр.
Он предлагал за нее пятьсот франков, он предлагал за нее тысячу франков, он предлагал за нее две тысячи, четыре тысячи, десять тысяч. Все библиографы сбились с ног, разыскивая эту злополучную Библию. Писали в Германию и в Англию. Никаких результатов. Будь это запрос маркиза де Шалабра, люди не стали бы так трудиться и попросту ответили бы ему: «Такой Библии не существует». Но запрос Нодье — дело другое. Раз Нодье сказал: «Такая Библия существует» — значит, такая Библия, бесспорно, существует. Папа мог ошибаться — Нодье был непогрешим.
Поиски продолжались три года. Каждое воскресенье маркиз де Шалабр, завтракая вместе с Нодье у Пиксерекура, говорил ему:
— Ну, дорогой Шарль, эту Библию…
— Ну?
— Невозможно найти.
— Quaere et invenies note 3, — говорил Нодье. Библиоман устремлялся на поиски с удвоенным рвением, но ничего не находил.
Наконец маркизу де Шалабру принесли Библию.
Это была не та самая Библия, которую назвал Нодье, но разница в дате выхода в свет составляла всего один год; напечатана она была не в Келе, а в Страсбуре — таким образом, разница в расстоянии составляла всего одно льё; экземпляр, по правде сказать, уникальным не был, но второй и последний экземпляр находился в Ливане в недрах одного друзского монастыря. Маркиз де Шалабр отнес Библию к Нодье и спросил его мнение.
— Черт возьми, дорогой друг! — ответил Нодье, видя, что маркизу грозит безумие в том случае, если он не купит Библию. — Берите ее, ведь найти другую невозможно.
Маркиз де Шалабр купил Библию за две тысячи франков, заказал для нее роскошный переплет и положил ее в особый ларец.
Когда маркиз де Шалабр умер, его библиотека по завещанию досталась мадемуазель Марс. Мадемуазель Марс, которая отнюдь не была библиоманкой, попросила Мерлена оценить книги покойного и устроить распродажу. Мерлен, честнейший человек на свете, в один прекрасный день явился к мадемуазель Марс, держа в руках не то тридцать, не то сорок тысяч франков в банковских билетах.
Он нашел их в чем-то вроде бумажника, засунутого под великолепный переплет этой, можно сказать, уникальной Библии.
— Зачем вы сыграли эту шутку с беднягой маркизом де Шалабром, — ведь вы не такой уж любитель мистификаций? — спросил я у Нодье.
— Затем, что он разорялся, друг мой, а за эти три года, что он искал свою Библию, он ни о чем другом уже не думал; за эти три года он истратил две тысячи франков, тогда как за те же три года он мог бы истратить и пятьдесят.
Теперь, когда мы показали горячо нами любимого Шарля в будни и в воскресное утро, расскажем, что он делал в воскресенье от шести вечера и до двенадцати ночи.
Как я познакомился с Нодье?
Так же, как знакомились с ним все. Он оказал мне услугу. Это было в 1827 году; я только что закончил свою «Христину»; я никого не знал ни в министерствах, ни в театрах; мое начальство, вместо того чтобы помочь мне и ввести меня в Комеди Франсез, было для меня помехой. За два-три дня до этого я написал тот последний стих, который вызывал бешеный свист и гром аплодисментов:
Ну что ж, мне жаль…
Отец, добить его велите. note 4
Под этим стихом я написал слово «конец», и мне оставалось только прочитать мою пьесу господам королевским комедиантам, а их дело было принять ее или же отвергнуть.
К несчастью, в то время управление Комеди Франсез было, как и управление Венецией, республиканским, но в то же время аристократическим и далеко не каждому удавалось предстать перед сиятельными персонами из театрального комитета.
Разумеется, там был некто вроде экзаменатора, в чьи обязанности входило чтение произведений молодых авторов, которые еще ничего не создали и, следовательно, имели право прочитать свою пьесу комедиантам только после экзамена; однако тут установилась печальная традиция, из-за чего случались весьма неприятные истории: иные рукописи ждали своей очереди год, два, а то и три, я же, будучи знаком с Данте и Мильтоном, не осмеливался выступить против этого чистилища, опасаясь, как бы моя злосчастная «Христина» попросту не увеличила число Questi sciagurati, che mai non fur vivi. note 5
Я слышал разговоры о том, что Нодье — прирожденный покровитель еще не родившихся поэтов. Я попросил его замолвить за меня словечко перед бароном Тейлором. Он так и сделал. Неделю спустя я читал свою пьесу во Французском театре и она была почти принята.
Я говорю «почти», ибо для того времени, то есть для лета от Рождества Христова 1827, в «Христине» имеется столько литературных вольностей, что господа штатные королевские комедианты не осмелились принять мою пьесу сразу и решили подчиниться решению г-на Пикара, автора «Городка».
Господин Пикар был одним из оракулов своего времени.
Фирмен привел меня к г-ну Пикару. Тот принял меня в библиотеке, которая была украшена всеми изданиями его произведений и в которой красовался его бюст. Он взял мою рукопись, назначил мне свидание через неделю и отпустил нас.
Через неделю, минута в минуту, я стоял у дверей г-на Пикара, по-видимому ждавшего меня: он встретил меня с улыбкой Ригобера из комической оперы «Продается дом».
— Сударь, — сказал он, протягивая мне мою рукопись, аккуратно свернутую в трубочку, — у вас есть какие-нибудь средства к существованию?
Начало нельзя было назвать многообещающим.
— Да, сударь, — отвечал я, — я занимаю скромную должность при господине герцоге Орлеанском.
— Отлично, мой мальчик, — сказал он, с самой сердечной улыбкой всовывая мой сверток мне в руки и одновременно пожимая их, — в таком случае идите на службу.
И, в восторге от своей остроты, он потер руки, знаком показывая мне, что аудиенция окончена.
Как бы то ни было, я обязан был поблагодарить Нодье. Я отправился в Арсенал. Нодье принял меня так, как он встречал всех, — тоже с улыбкой… Но, как говорит Мольер, улыбка улыбке рознь.
Быть может, когда-нибудь я забуду улыбку Пикара, но я никогда не забуду улыбку Нодье.
Я хотел доказать Нодье, что я не так уж недостоин его протекции, как он мог подумать, судя по ответу Пикара. Я оставил ему мою рукопись. На следующий день я получил чудесное письмо от него: Нодье вернул мне все мое мужество и приглашал на вечера в Арсенале.
В этих вечерах в Арсенале было нечто чарующее, нечто такое, чего нельзя описать пером. Бывали они по воскресеньям и, собственно говоря, начинались в шесть часов.
В шесть часов стол был накрыт.
Постоянно садились за стол Кайё, Тейлор, Франсис Вай, которого Нодье любил как родного сына; кроме них — двое-трое зашедших на огонек и еще кто угодно.
Кто однажды был допущен в обворожительный уют этого дома, тот ходил к Нодье без всякого дела, просто поужинать. Два-три прибора всегда ждали каких-нибудь нежданных гостей. Если этих трех приборов было недостаточно, к ним прибавлялся четвертый, пятый, шестой. Если требовалось раздвинуть стол, его раздвигали. Но горе было тому, кто приходил тринадцатым! Он с безнадежной тоской ужинал за маленьким столиком до тех пор, пока не приходил четырнадцатый и не освобождал его от наказания.
У Нодье были свои причуды: он предпочитал серый хлеб белому, олово — серебру, стеариновые свечи — восковым.
Никто не придавал этому значения, кроме г-жи Нодье, которая все делала по его вкусу.
Года через два я стал одним из тех друзей дома, о чем я только что говорил. Я мог прийти без предупреждения в часы ужина; меня встречали восклицаниями, не оставлявшими сомнения в том, что я здесь желанный гость, и сажали за стол, или, вернее, я сам садился за стол между г-жой Нодье и Мари.
Через некоторое время мое право на это место стало непререкаемым. Приходил ли я слишком поздно, сидели ли уже все за столом, было ли мое место занято, гостю-узурпатору делали знак, что перед ним извиняются, мое место предоставляли мне, и — даю вам слово! — тот гость, кого я побеспокоил, пристраивался на первом попавшемся свободном месте.
Нодье считал в ту пору, что я для него находка, ибо я освобождал его от необходимости говорить. Но если это было находкой для него, то это была потеря для всех остальных. Нодье был самым блестящим рассказчиком в мире. С моими рассказами проделывали всё, что творят с огнем: мешают в камине, чтобы огонь вспыхнул, разгорелся, заполыхал, подбрасывают щепок, чтобы искры остроумия летели так же, как летят искры в кузнице; это было вдохновение, это было увлечение, это была молодость, но здесь не было ни капли того добродушия, того невыразимого очарования, того несравненного изящества, в которые, как в сети, расставленные птицеловом, попадаются и большие птицы, и маленькие. Я не был Нодье.
То был низший сорт, которым гости довольствовались, вот и все.
Но порою я обижался, порою я не хотел ничего рассказывать, а поскольку я отказывался и поскольку мы были у Нодье, говорить приходилось ему, и тогда слушали все — и взрослые и дети. Он представлял собой Вальтера Скотта и Перро в одном лице, это был ученый в схватке с поэтом, это была память в борьбе с воображением. И тогда Нодье было не только интересно слушать, но и радостно смотреть на него. Его высокий рост и худощавость, его длинные тонкие руки, его длинные бледные пальцы, его длинное лицо, выражавшее глубокую грусть и доброту, — все это гармонировало с его слегка тягучей речью, которая модулировала из тона в тон и в которой время от времени слышался франшконтийский выговор — от него Нодье так до конца и не избавился. Нодье-рассказчик был неистощим: он никогда не повторялся, он всегда рассказывал что-нибудь новое. Время, пространство, природа, история были ддя Нодье кошельком Фортуната, откуда Петер Шлемиль неизменно черпал полными пригоршнями. Нодье знал всех — Дантона, Шарлотту Корде, Густава III, Калиостро, Пия VI, Екатерину II, Фридриха Великого — кого он только не знал! Подобно графу де Сен-Жермену и таратанталео, он присутствовал при сотворении мира и, видоизменяясь, прошел сквозь века. Относительно этого видоизменения у него существовала даже весьма любопытная теория. Согласно теории Нодье, сны — это лишь воспоминания о днях, протекших на другой планете, отсвет того, что было когда-то. Согласно теории Нодье, самые фантастические мечты соответствовали событиям, некогда происшедшим на Сатурне, на Венере или на Меркурии: самые причудливые образы были всего только тенью тех форм, что оставили о себе воспоминания в нашей бессмертной душе. Впервые посетив Геологический музей в Ботаническом саду, он вскрикнул, обнаружив там животных, которых он видел во время потопа при Девкалионе и Пирре, и порой с языка у него срывались признания, что, увидев стремление тамплиеров к мировому господству, он посоветовал Жаку Моле обуздать свое честолюбие. Иисуса Христа распяли не по вине Нодье — из всех, кто слушал Христа, он один предупредил его о том, что Пилат против него злоумышляет. Чаще всего Нодье представлялся случай увидеть Вечного жида: впервые он увидел его в Риме во времена папы Григория VII, второй раз — в Париже, накануне Варфоломеевской ночи, и в последний раз — в городке Вьен, что в Дофине; о Вечном жиде у Нодье хранятся наиболее ценные документы. И в связи с этим он обнаружил ошибку, в которую впали ученые и поэты, в частности Эдгар Кине: это был не Агасфер (имя полугреческое, полулатинское) — так звали человека, в чьем кармане всегда было пять монет, — это был Исаак Лакедем; за это Нодье ручался, ибо слышал разъяснения из его собственных уст. От политики, от философии, от традиций он переходил к естественной истории. Как далеко опередил Нодье в этой науке Геродота, Плиния, Марко Поло, Бюффона и Ласепеда! Он знал таких пауков, рядом с которыми паук Пелисона был просто дрянь; он возился с жабами, рядом с которыми сам Мафусаил казался младенцем; наконец, он завязал отношения с такими кайманами, рядом с которыми тараска была не более как ящерицей.
И в таких случаях с Нодье все происходило так, как это всегда бывает с гениями. В один прекрасный день, когда он искал чешуекрылых (это было во время его пребывания в Штирии, краю гранитных скал и вековых деревьев), он залез на дерево, чтобы исследовать дупло, которое он заметил, сунул туда руку — у него была такая привычка, и это было достаточно неосторожно, ибо в один прекрасный день он вытащил из дупла не только руку, но и змею, которая обвилась вокруг руки, — итак, обнаружив в один прекрасный день дупло, он сунул туда руку и почувствовал что-то липкое, мягкое и податливое. Он быстро вытащил руку и заглянул в дупло: в глубине тускло блестели два глаза. Нодье верил в существование дьявола, и вот, увидев эти два глаза, которые очень напоминали глаза Харона, как уголья горящие, по словам Данте, Нодье сначала удрал, потом, поразмыслив, передумал, взял топорик и, измерив глубину дупла, принялся прорубать отверстие в том месте, где, как он предполагал, должно было находиться неведомое существо. На пятом или на шестом ударе топора из дерева потекла кровь — вот так же под ударами Танкредова меча текла кровь из очарованного леса Тассо. Но не прекрасная воительница представилась его взору — то была огромная жаба, заточенная в дереве, куда ее, вне всякого сомнения, занес порыв ветра в те времена, когда она была величиной с пчелку. Сколько же лет прожила она там? Двести, триста, а быть может, и все пятьсот. Она была шести дюймов в длину и трех в ширину.
В другой раз дело было в Нормандии, в то время, когда они с Тейлором совершали чудесное путешествие по Франции; он зашел в церковь и увидел: под сводами ее висели гигантский паук и огромная жаба. Он обратился к одному крестьянину с просьбой объяснить ему, что это за странная пара.
Старый крестьянин подвел его к одной из плит этой церкви, на которой был изображен лежащий рыцарь в доспехах, и рассказал ему следующую историю.
Жил этот рыцарь баронского рода в старину, и оставил он по себе в том краю такую страшную память, что даже самые отважные люди обходили его могилу, чтобы не наступить на надгробную плиту, — и отнюдь не из почтения, а от страха. Над могилой, во исполнение обета, данного этим рыцарем на смертном одре, день и ночь должна была гореть лампада: умирающий позаботился отказать на благочестивые цели сумму, более чем достаточную для покрытия подобного расхода.
В один прекрасный день, вернее, в одну прекрасную ночь, кюре, которому почему-то не спалось, увидел из окна своей комнаты, выходившего на церковь, что огонек лампадки меркнет и гаснет. Он решил, что это случайность, и не придал тому большого значения.
Но на следующую ночь, когда он проснулся часа в два, ему захотелось удостовериться, горит ли лампада. Он встал с постели, подошел к окну и убедился de visu note 6, что церковь погружена в полный мрак.
Это происшествие, случившееся дважды за сорок восемь часов, становилось серьезным. На рассвете кюре позвал сторожа и просто-напросто обвинил его в том, что он поливает маслом свой салат, вместо того чтобы подливать его в лампаду. Сторож поклялся всеми святыми, что уже пятнадцать лет он имеет честь быть церковным сторожем и все эти пятнадцать лет каждый вечер добросовестнейшим образом наливает в лампаду масло и что это не иначе как проделка самого злого рыцаря: он мучил людей при жизни и теперь, через триста лет после смерти, опять начал мучить их.
Кюре сказал, что вполне верит сторожу, но, тем не менее, желал бы присутствовать вечером при наполнении лампады; и вот, когда стемнело, в присутствии кюре масло было налито и лампада затеплилась; тогда кюре собственноручно запер церковь, положил ключ в карман и пошел домой.
Дома он взял молитвенник, сел в большое кресло у окна и, глядя то в книгу, то на церковь, стал ждать.
В полночь он увидел, что свет, горевший в витражах, побледнел, померк и наконец погас.
История была странная, загадочная, необъяснимая, и бедняга-сторож не мог иметь к ней никакого отношения.
Кюре пришло в голову, что в церковь забрались воры и украли масло. Но если преступление было совершено ворами, то оставалось предположить, что эти молодцы, ограничивавшиеся кражей масла и не трогавшие священных сосудов, были на редкость честными людьми.
Итак, то были не воры; скорее всего, тут было что-то сверхъестественное. Кюре решил, чего бы это ему ни стоило, выяснить, что тому причиной.
Вечером он сам налил масла в лампаду, чтобы окончательно увериться, что не пал жертвой ловкого обмана, но на сей раз он не ушел из церкви, как вчера, а спрятался в исповедальне.
Часы текли, лампада сияла ровным, спокойным светом. Вот и пробило полночь…
Кюре показалось, что он слышит тихий шум, похожий на тот, который производит сдвигаемый с места камень, потом он увидел тень какого-то животного с гигантскими лапами, и эта тень поднялась по столбу, побежала вдоль карниза, на секунду задержалась у свода, спустилась по цепочке и остановилась на лампаде; тут лампада закачалась, свет ее начал меркнуть и наконец погас.
Кюре очутился в полной темноте. Он понял, что этот опыт надо повторить, устроившись поближе к тому месту, где все это произошло.
Это было совсем просто: вместо того чтобы пойти в исповедальню, находившуюся в стороне, противоположной той, где висела лампада, он спрятался в другой исповедальне, в нескольких шагах от лампады.
Словом, все было сделано так же, как и накануне, только кюре выбрал другую исповедальню и запасся потайным фонарем.
До полуночи все было так же тихо, спокойно, так же исправно горела лампада. Но с последним ударом полночного боя послышался тот же треск, что и накануне. А так как на сей раз треск послышался шагах в четырех от исповедальни, то кюре удалось мгновенно перевести взгляд на то место, откуда он доносился. Треск раздавался в могиле рыцаря.
Потом резная плита, лежавшая на могиле, медленно приподнялась и кюре увидел, что через образовавшуюся щель вылез паук величиной с пуделя, покрытый шерстью длиной в шесть дюймов, с лапами длиною в локоть, и не медля, не колеблясь, не отыскивая дороги, которая, по-видимому, была ему хорошо знакома, полез вверх по столбу, пробежал по карнизу, спустился по цепочке и, достигнув цели своего путешествия, принялся пить масло из лампады, и та погасла.
Но тут кюре прибегнул к помощи потайного фонаря и направил его луч на могилу рыцаря.
Он увидел, что предмет, благодаря которому могила оставалась полуоткрытой, был не что иное, как жаба, огромная, как морская черепаха; жаба эта, раздуваясь, приподнимала надгробную плиту и выпускала паука, который не медля пускался в путь и высасывал масло, а по возвращении делился им со своей товаркой.
Итак, оба укрывались в этой могиле в течение нескольких веков и, быть может, дожили бы и до сего дня, если бы случай не раскрыл кюре глаза на то, что в церкви завелся вор.
На другой день кюре созвал людей: могильная плита была поднята, насекомое и земноводное убиты, а их трупы подвесили к потолку как доказательство истинности этой необыкновенной истории.
К тому же крестьянин, рассказывавший Нодье об этом происшествии, был одним из тех, кого кюре позвал, чтобы уничтожить сотрапезников, проживавших в могиле рыцаря, а так как он особенно усердно воевал с жабой, то капля крови поганой твари брызнула ему в глаз, и он едва не ослеп, подобно Товиту.
Отделался он тем, что окривел.
Для Нодье истории с жабами на этом не кончились: нечто загадочное было в долголетии этого животного, пленившего его воображение. И потому все истории со столетними или тысячелетними жабами были ему известны; все жабы, обнаруженные под камнями или в стволах деревьев, начиная с жабы, найденной в 1756 году в Эретвиле скульптором Лепренсом в углублении, образовавшемся в твердом камне, где она пребывала в заточении, и кончая жабой, которую Эрифсан посадил в гипсовый ящичек в 1771 году и которую он обнаружил целой и невредимой в 1774-м, были ему известны. Когда у Нодье спрашивали, чем питаются эти несчастные пленники, он отвечал: «Своей собственной кожей». Он наблюдал за одной жабой-щеголихой: за зиму она шесть раз сбрасывала старую кожу и все шесть раз ее съедала. Что же касается тех жаб, от сотворения мира находившихся в пластах древней формации, — одну из таких жаб нашли в каменном карьере в Бургсвике, на Готланде, — то это вынужденное абсолютное бездействие, пребывание в такой температуре, которая не допускала распада и не требовала восстановления каких-либо потерь, влажность среды, поддерживавшая влажность самого животного и не дававшая ему засохнуть и рассыпаться в прах, совершенно убеждали Нодье в достоверности подобных фактов, хотя это убеждение подкреплялось не только научными доводами, но и верой.
Впрочем, мы уже говорили, что в Нодье жила какая-то врожденная покорность, какая-то склонность воспитывать в себе смирение, а это, в свою очередь, тянуло его к людям маленьким и смиренным. Нодье-библиофил разыскивал среди книг неведомые шедевры и вытаскивал их из библиотечных склепов; Нодье-филантроп разыскивал среди людей неизвестных поэтов, вытаскивал их на свет Божий и делал знаменитостями; всякая несправедливость, всякое угнетение возмущали его; он считал, что, когда люди мучили жабу, они были к ней несправедливы: они не знали или же не хотели знать, сколько в ней хорошего. Жаба — прекрасный товарищ, в доказательство Нодье приводил историю с жабой и пауком, а в случае крайней необходимости приводил еще одно доказательство и рассказывал другую историю о жабе и ящерице — историю, не менее фантастическую, чем первая; кроме того, жаба не только прекрасный товарищ, но и прекрасный отец и прекрасный муж. Помогая при родах своей жене, жаба подавала мужьям первые уроки супружеской любви; обхватывая задними лапами яйца, из которых должно вылупиться потомство, или же таская их на спине, жаба дала отцам семейств первый урок проявления отцовского чувства; что же касается пены, которая течет у жабы или которой она плюется, особенно тогда, когда ее мучают, то Нодье уверял, что это самое безвредное вещество, какое когда-либо существовало на свете, он ее предпочитал слюне знакомых критиков.
Не то чтобы эти критики были приняты в его доме не так, как другие гости, не то чтобы их принимали неласково, только мало-помалу они сами исчезали: им было не по себе в атмосфере благожелательности, ибо она была естественна для Арсенала и в ней не появлялась насмешка, как появляются прекрасными ночами светлячки во Флоренции и в Ницце, — появляются, чтобы сверкнуть и тотчас погаснуть.
Итак, чудесный ужин, во время которого всё, кроме опрокинутой солонки или оброненного хлеба, воспринималось философски, подходил к концу; после ужина подавали кофе. Нодье, в сущности, сибарит, очень ценил то великолепное чувственное наслаждение, что испытываешь, когда между десертом и кофе, венчающим десерт, не возникает никакого движения, никаких перемещений, ни малейшего беспокойства. В этот час восточной неги г-жа Нодье вставала и шла зажигать свет в гостиной. Я частенько отказывался от кофе и выходил вместе с нею. Мой высокий рост оказывал ей услугу: можно было зажигать люстру, не влезая на стулья.
Словом, в гостиной зажигалась люстра — до ужина, а также в будние дни гостей принимали только в спальне г-жи Нодье, — словом, в гостиной зажигалась люстра и освещала выкрашенные в белый цвет панели с лепными украшениями в стиле Людовика XV и весьма скромную обстановку: двенадцать кресел и диван, обитые красным казимиром, оконные занавески такого же цвета, бюст Гюго, статуэтку Генриха IV, портрет Нодье и альпийский пейзаж Ренье.
Через пять минут после того как гостиная была освещена, туда направлялись гости; Нодье входил последним под руку то с Доза, то с Биксио, то с Франсисом Ваем, то со мной; Нодье вечно вздыхал и стенал, как если бы он утратил дар речи; он либо разваливался в большом кресле, стоявшем справа от камина, вытянув ноги и уронив руки, либо останавливался перед наличником камина лицом к огню, спиной к холоду. Если он разваливался в кресле, то всем было ясно: сейчас Нодье, погрузившись в блаженное состояние, что вызывает у нас кофе, эгоистически хочет побыть наедине с собой и молча следовать за мечтой своей души; если же он прислонялся к наличнику, это уж было дело другое: это значило, что он будет рассказывать; тогда все умолкали, и перед нами развертывалась или одна из очаровательных историй времен его молодости, походивших то на роман Лонга, то на идиллию Феокрита; или мрачная трагедия времен Революции, действие которой происходило то на поле битвы в Вандее, то на площади Революции; или, наконец, нам раскрывался какой-нибудь таинственный заговор Кадудаля или Уде, Штапса или Лагори; и тогда входившие в гостиную умолкали, жестом приветствовали присутствующих и либо садились в кресла, либо прислонялись к панелям; потом история кончалась — всему на свете приходит конец. Нодье не аплодировали, ведь не аплодируют журчанию ручья или пению птицы; но журчание затихает, но песня замирает, а мы все еще продолжаем слушать. Затем Мари молча садилась за фортепьяно, и внезапно в воздух взлетала сверкающая звуковая ракета, словно прелюдия к фейерверку; тогда игроки, жавшиеся по углам, садились за столы и начинали игру.
Нодье давно уже играл только в баталыо; это была его любимая игра, и он считал, что в этом не имеет себе равных, но в конце концов сделал уступку веку и стал играть в экарте.
А Мари пела песни Гюго, Ламартина или мои; наши стихи были положены на музыку ею самою; потом, среди этих чарующих мелодий, всегда чересчур коротких, внезапно возникал ритурнель контрданса: все кавалеры подбегали к своим дамам, и начинался бал, прелестный бал, когда Мари, сидя за фортепьяно, успевала бросить сквозь стремительные трели, выбегавшие из-под ее гибких пальцев, словечко тем, кто приближался к ней при каждом траверсе, при каждой шен-де-дам, при каждом шассе-круазе.
В эту минуту, Нодье, всеми забытый, исчезал, ибо он не принадлежал к числу тех властных и брюзгливых хозяев дома, чье присутствие ощущается, а приближение чувствуется; это был хозяин ушедших времен: он стушевывается, чтобы уступить место тому, кого принимает у себя, и довольствуется тем, что он изящен, томен и почти женствен.
Впрочем, исчезая на короткое время, Нодье вскоре исчезал окончательно. Он рано ложился или, вернее, его рано укладывали. Забота об этом лежала на г-же Нодье. Зимой она выходила из гостиной первая; когда на кухне не было горячих углей, все видели, как грелка шествует в спальню. Нодье шел вслед за грелкой, и все становилось ясно.
Через десять минут г-жа Нодье возвращалась в гостиную, а муж ее засыпал под звуки фортепьяно, на котором играла его дочь, под шарканье и смех танцующих.
Однажды мы нашли, что Нодье кроток как-то совсем по-иному, чем обычно. На сей раз он был смущен, сконфужен. Мы с беспокойством осведомились о причине его волнения.
Нодье только что выбрали в Академию.
Он смиренно принес нам — Гюго и мне — свои извинения.
Но то была не его вина: его сделали академиком в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал.
Дело в том, что Нодье, который знал больше, чем все академики, вместе взятые, не оставил камня на камне от Академического словаря. Он рассказывал, что один из «бессмертных», трудившийся над статьей «Рак», показал ему эту статью и спросил его мнения.
В статье было написано:
«Рак — маленькая красная рыбка; ходит задом наперед».
— В вашем определении только одна ошибка, — заметил Нодье, — дело в том, что рак не рыба, что он не красный и что он не ходит задом наперед… а все остальное совершенно верно.
Я забыл сказать, что, пока происходили все эти события, Мари Нодье вышла замуж и стала госпожою Менессье, но жизнь в Арсенале от этого не изменилась. Жюль, наш общий друг, давно уже бывавший в этом доме, теперь поселился в нем — вот и все.
Я ошибся: Нодье пошел на огромную жертву — он продал свою библиотеку; книги Нодье любил, но обожал он Мари.
Надо еще заметить, что никто не мог создать книге такую репутацию, как Нодье. Хотел ли он сам продать или же добиться, чтобы какая-то книга была продана, он, обнаружив в ней нечто интересное, прославлял ее в статье и тем делал ее уникальной. Я вспоминаю историю с книгой под названием «Зомби из великого Перу». Нодье хотел, чтобы ее напечатали в колониях, и он уничтожил это издание своим авторитетом; книга стоила пять франков, после этого цена ее поднялась до ста экю.
Нодье продавал свои книги четыре раза, но неизменно сохранял основной фонд, драгоценное ядро, с помощью которого он восстанавливал свою библиотеку года через два, через три.
Наступил день, когда все эти чудесные празднества кончились. В течение двух-трех месяцев Нодье страдал и жаловался более обычного. Однако все так привыкли выслушивать жалобы Нодье, что никто не обратил на них серьезного внимания. Дело в том, что человеку с характером Нодье было довольно трудно отделить настоящую болезнь от вымышленных страданий. Но теперь он слабел на глазах. Кончилось хождение по набережным, прогулки по бульварам; остался лишь медленный путь, что он совершал именно в то время, когда серое небо посылает на землю последний луч осеннего солнца, — медленный путь к Сен-Манде.
Конечной целью прогулки был скверный трактир, где в лучшие времена Нодье, когда он был еще совершенно здоров, лакомился серым хлебом. Обычно в этих походах его сопровождала вся семья, за исключением Жюля, задерживавшегося на службе. С ним была г-жа Нодье, с ним была Мари, с ним были двое внуков — Шарль и Жоржетта: никто из них не хотел бросить мужа, отца и дедушку. Они чувствовали, что ему уже недолго осталось быть с ними, и каждая минута, проведенная в его обществе, была для них драгоценна.
До последних дней Нодье настаивал на том, чтобы воскресные вечера у них продолжались, но в конце концов окружающие заметили, что больному, лежащему у себя в комнате, уже трудно выносить шум и движение в гостиной. И вот как-то раз Мари с грустью объявила нам, что в следующее воскресенье Арсенал будет закрыт; потом шепнула самым близким:
— Приходите, поговорим.
Наконец Нодье слег и больше уже не встал. Я пошел к нему.
— Ах, дорогой Дюма! — сказал он, протянув мне руки, как только увидел меня в дверях. — В те времена, когда я был здоров, вы нашли во мне всего-навсего друга, но теперь, когда я болен, вы видите перед собой человека, который вам благодарен. Я не могу больше работать, но еще могу читать и, как видите, читаю вас, а когда я устаю, зову мою дочь, и вас читает моя дочь.
В самом деле: Нодье показал мне мои книги, разбросанные на его постели и на столе.
Это была одна из тех минут, когда я был по-настоящему горд. Нодье, который был оторван от жизни, Нодье, который не мог больше работать, Нодье, этот громадный ум, Нодье, который знал все, читал меня и, читая меня, получал удовольствие!
Я взял его за руки и хотел поцеловать их — так я был ему благодарен. Накануне я как раз прочитал одну его вещь, небольшое произведение, только что вышедшее в двух номерах «Peftfo де дё монд».
Это была «Инее де лас Сьеррас».
Я был восхищен. Этот роман — одно из последних произведений Шарля — был таким свежим, таким ярким, что можно было бы принять его за одно из сочинений молодого Нодье, которое автор разыскал и выпустил в свет, когда перед ним уже раскрылись иные горизонты.
История Инее — это повествование о возникновении призраков и привидений, но фантастика заполняла лишь первую часть; во второй она отсутствовала, и конец объяснял начало. По поводу этого объяснения я попенял Нодье.
— Вы правы, — сказал он, — это мой промах, но у меня есть другая книга, и уж ее-то я не испорчу, можете быть спокойны.
— Дай-то Бог! Но когда же вы приметесь за эту вещь? Нодье взял меня за руку.
— Эту-то уж я не испорчу — ведь не я напишу ее, — сказал он.
— А кто?
— Вы.
— Как? Я, дорогой Шарль? Но ведь я же не знаю эту историю!
— Я вам ее расскажу. Я берег ее для себя, или, вернее, для вас.
— Дорогой Шарль, вы мне ее расскажете, но напишете ее вы и сами же ее напечатаете.
Нодье покачал головой.
— Я вам ее расскажу, — произнес он, — а если я выздоровею… что ж, вы мне ее вернете.
— Отложим это до моего следующего визита, — время терпит.
— Друг мой, я скажу вам то же самое, что сказал одному кредитору, когда давал ему залог: «Дают — бери».
И он начал свой рассказ.
Никогда еще манера Нодье рассказывать не была столь прелестна.
Ах, если бы при мне было перо, если бы у меня была бумага, если бы я мог писать так быстро, чтобы поспевать за ним!
История была длинная, и я остался у Нодье обедать.
После обеда Нодье задремал. Я вышел из Арсенала, не простившись с ним.
Больше я его не видел.
Нодье, о ком говорили, что от любит жаловаться, до последней минуты скрывал от семьи свои страдания. Когда он показал свою рану, стало ясно, что она смертельна.
Нодье был не только христианином — он был добрым и ревностным католиком. Он взял слово с Мари, что, когда настанет время, она пошлет за священником. Время настало, и Мари послала за кюре из церкви святого Павла.
Нодье исповедовался. Бедный Нодье! Должно быть, у него было много грехов, но несомненно не было ни одного дурного поступка.
Исповедь кончилась, и вся семья вошла к нему.
Нодье лежал в темном алькове и протягивал руки жене, дочери и внукам.
За членами семьи стояли слуги.
Позади слуг была библиотека — другими словами, друзья, которые никогда не изменят: книги.
Кюре вслух прочитал молитвы, и Нодье отвечал ему тоже вслух, как человек, хорошо знакомый с христианским богослужением. Потом он обнял всех по очереди, каждого успокоил, уверив, что он проживет еще день или два, особенно если ему дадут несколько часов поспать.
Нодье оставили одного, и он проспал пять часов.
Вечером 26 января, то есть за день до смерти, лихорадка усилилась, начался легкий бред; к полуночи Нодье никого уже не узнавал и произносил бессвязные слова; различить можно было лишь имена Тацита и Фенелона.
В два часа ночи в дверь начала стучаться смерть: у Нодье был жестокий приступ лихорадки; у его изголовья склонилась дочь, протягивая ему чашку с успокоительной микстурою; он открыл глаза, посмотрел на Мари и узнал ее по слезам; он взял из ее рук чашку и с жадностью выпил микстуру.
— Тебе нравится это питье? — спросила Мари.
— О да, дитя мое, — как и все, что исходит от тебя.
И бедная Мари уронила голову на изголовье постели, накрыв своими волосами влажный лоб умирающего.
— О, если бы ты так и осталась, я бы никогда не умер! — прошептал Нодье. note 7
А смерть продолжала стучаться в дверь.
Конечности у Нодье начали холодеть, но жизнь, уходя из тела, поднималась и сосредоточивалась в мозгу, и разум его был светел как никогда.
Он благословил жену и детей, потом спросил, какое сегодня число.
— Двадцать седьмое января, — отвечала г-жа Нодье.
— Вы не забудете это число, друзья мои, не правда ли? — спросил Нодье; потом, повернувшись к окну, произнес со вздохом: — Мне очень хотелось бы еще раз увидеть день.
Потом он впал в забытье.
Потом дыхание его стало прерывистым.
Потом, наконец, в то мгновение, когда первый луч света постучался в окно, он снова открыл глаза, бросил прощальный взгляд и испустил дух.
Со смертью Нодье в Арсенале умерло все — радость, жизнь, свет; все мы облачились в траур; каждый из нас, утратив Нодье, утратил часть самого себя.
А я… не знаю, как это объяснить, но, с тех пор как умер Нодье, я словно ношу в себе частичку смерти.
Эта частичка оживает, только когда я говорю о Нодье.
Вот почему я говорю о нем так часто.
А история, которую вы сейчас прочитаете, — это та самая, что рассказал мне Нодье.
II. СЕМЕЙСТВО ГОФМАНА
Среди прелестных городков, разбросанных по берегам Рейна, подобно бусинам четок, нитью которых является как бы сама река, нельзя не назвать Мангейм — вторую столицу великого герцогства Баденского, Мангейм — вторую резиденцию великого герцога.
Ныне, когда паровые суда, снующие вверх и вниз по Рейну, заходят в Мангейм, ныне, когда в Мангейм ведет железная дорога, ныне, когда Мангейм, с разметавшимися волосами и в одежде, окрашенной кровью, под ураганным огнем потрясает знаменем восстания против великого герцога, я не знаю, что он собой представляет; но о том, каким он был в те времена, когда началась эта история — то есть почти пятьдесят шесть лет назад, — я вам сейчас расскажу.
Это был город прежде всего немецкий: спокойный и в то же время занимавшийся политикой, немного печальный или, вернее, мечтательный; это был город романов Августа Лафонтена и стихов Гёте, город Генриетты Бельманн и Вертера.
В самом деле, достаточно было бросить на Мангейм один-единственный взгляд, увидеть выстроенные в линию дома, четыре квартала, широкие, красивые улицы, поросшие травой, фонтан с мифологическими фигурами, тенистый бульвар с двойным рядом акаций, тянувшихся от края до края, — достаточно было, говорю я, бросить один-единственный взгляд на Мангейм, чтобы убедиться, сколь прекрасной и легкой была бы жизнь в этом подобии рая, если бы порою любовные или политические страсти не вкладывали пистолет в руку Вертера или кинжал в руку Занда.
Выделяется там одно место — оно носит совершенно особый характер; это то самое место, где возвышаются рядом церковь и театр.
Церковь и театр, по всей вероятности, были построены в одно время и, наверное, одним архитектором, по-видимому, приблизительно в середине минувшего столетия, когда капризы той или иной фаворитки влияли на искусство до такой степени, что целое направление искусства носило ее имя — от церкви и до домика, от бронзовой статуи в десять локтей высоты и до фигурки из саксонского фарфора.
Таким образом, церковь и театр в Мангейме были построены в стиле помпадур.
Снаружи в церковной стене были две ниши; в одной из них стояла статуя Минервы, в другой — Гебы.
У дверей театра были два сфинкса. Один из них изображал Комедию, другой — Трагедию.
Под лапой первого сфинкса лежала маска, под лапой второго — кинжал. У обоих были взбитые прически с напудренными шиньонами, что служило великолепным дополнением к египетскому стилю.
Впрочем, вся площадь, вычурные дома, пышные деревья, украшенные гирляндами стены — все было в одном стиле и создавало один из самых отрадных для взора ансамблей.
Так вот, именно в одну из комнат на втором этаже дома, окна которого расположены наискосок от портала иезуитской церкви, мы поведем сейчас наших читателей и попросим их заметить, что мы убавили им возраст более чем на полвека и что мы, если говорить о летосчислении, попали в лето благости или же гнева Господня 1793, если же говорить о числах — то это воскресенье 10 мая. В эту пору все расцветает: кувшинки у берегов реки, маргаритки на лужайках, боярышник у изгороди, розы в садах, любовь в сердцах.
А теперь прибавим к сказанному вот еще что: одно из самых пылких и лихорадочно бьющихся сердец во всем Мангейме и в его окрестностях принадлежало молодому человеку, жившему в той самой маленькой комнатке, только что упомянутой нами; наискосок от ее окна стояла иезуитская церковь.
И комната, и молодой человек заслуживают подробного описания.
Человеку с наметанным глазом комната показалась бы обиталищем причудливым и живописным, ибо у нее был вид мастерской художника, магазина музыкальных инструментов и рабочего кабинета.
Тут были палитра, кисти и мольберт, а на мольберте — начатый эскиз.
Тут были гитара, виола д'амур и фортепьяно, а на фортепьяно — раскрытая соната.
Тут были перо, чернила и бумага, а на бумаге — начало баллады, все в помарках.
Стены были увешаны луками, стрелами, арбалетами XV века, гравюрами XVI века, музыкальными инструментами XVII века, заставлены сундуками всех времен, сосудами для вина всех форм, кувшинами всех родов; их украшали также стеклянные бусы, веера из перьев, набитые соломой чучела ящериц, засушенные цветы и многое другое, но все это не стоило и двадцати пяти серебряных талеров.
Кто же жил в этой комнате — художник, музыкант или поэт? Это нам неизвестно.
Ясно было одно: человек этот был курильщиком, ибо среди всех его коллекций одна из них была наиболее полная, она привлекала к себе особое внимание, занимала почетное место под солнцем, привольно расположившись над старым канапе, до нее можно было дотянуться рукой; то была коллекция трубок.
Но кем бы он ни был — поэтом, музыкантом, художником или курильщиком, — сейчас он не курил, не рисовал, не писал, не сочинял музыку.
Нет — он смотрел.
Он смотрел, стоя неподвижно, прислонившись к стене и затаив дыхание: он смотрел в открытое окно, предварительно устроив себе в занавеске смотровую щель, чтобы он мог видеть, а его увидеть не могли; он смотрел так, как смотрят, когда глаза — это подзорная труба сердца!
Куда же он смотрел?
Он смотрел на портал иезуитской церкви — место, в данный момент пустовавшее.
Портал был пуст оттого, что полна была церковь.
Ну а теперь — какой же вид был у обитателя этой комнаты, у того, кто смотрел из-за занавески, у того, чье сердце так сильно билось, когда он смотрел в окно?
Это был молодой человек самое большее лет восемнадцати, маленького роста, худощавый, нелюдимый с виду. Длинные черные волосы падали ему на лоб и, если он не отбрасывал их рукой, закрывали глаза, и сквозь завесу волос сверкал его взгляд, пристальный и дикий, взгляд человека неуравновешенного.
Этот молодой человек не был ни поэтом, ни художником, ни музыкантом, но он объединял в себе и поэта, и художника, и музыканта; это было воплощенное сочетание живописи, музыки и поэзии; все в нем было странно, фантастично, в нем были добро и зло, храбрость и робость, жажда деятельности и леность; этот человек был не кто иной, как Эрнст Теодор Вильгельм Гофман.
Он родился суровой зимней ночью 1776 года; выл ветер, падал снег, страдали все обездоленные; он родился в Кенигсберге — в сердце старой Пруссии; он родился таким слабеньким, таким хилым, такого хрупкого сложения, что его тщедушность навела окружающих на мысль: пожалуй, стоит заказать ему гробик, а не покупать колыбель; он родился в год, когда Шиллер, закончив свою драму «Разбойники», подписал ее: «Шиллер, раб Клопштока»; он родился в одном из тех старинных буржуазных семейств, что существовали у нас во Франции эпохи Фронды и поныне существуют в Германии, однако в скором времени их не останется нигде; он родился от болезненной матери, которая отличалась глубоким смирением, придававшим всему ее облику страдалицы вид обаятельно-меланхоличный; он родился от отца, сурового и в речах и в поступках, ибо отец его был советником уголовного суда и чиновником верховной судебной палаты провинции. Вокруг отца и матери толпились дядюшки-судьи, дядюшки-чиновники, дядюшки-бургомистры и еще молодые, еще красивые, еще кокетливые тетушки; и все эти дядюшки и тетушки рисовали, музицировали, все они были полны сил, все были веселы. Гофман утверждает, что видел их; он вспоминает, что, собравшись вокруг него — шести-, восьми-, десятилетнего ребенка, они или все вместе исполняли какие-то странные концерты, или каждый в отдельности играл на одном из тех старинных инструментов, названия которых ныне никто даже и не знает: на цимбалах, на ребеках, на цитрах, на цистрах, на виолах д'амур, на виолах да гамба. Надо заметить, что ни один человек, кроме Гофмана, отроду не видывал ни таких дядюшек-музыкантов, ни таких тетушек-музыкантш и не был свидетелем такого явления, что все эти дядюшки и тетушки исчезали как призраки один за другим, а перед тем как исчезнуть, гасили свет, горевший над их пюпитрами.
Из всех дядюшек один все же остался. Из всех тетушек одна все же осталась.
Об этой тетушке Гофман хранил одно из самых светлых воспоминаний.
В доме, где Гофман провел свою юность, жила сестра его матери, молодая женщина с нежным, глубоко проникающим в душу взором, молодая женщина, ласковая, душевная, чувствительная; в ребенке, которого все считали ненормальным, маньяком, безумцем, она одна видела возвышенную душу; она одна защищала его (вместе с его матерью, разумеется), она предсказала, что он будет гением и прославится; предсказание это не однажды вызывало слезы у матери Гофмана, ибо она знала, что неразлучный спутник гения и славы — несчастье.
Это была тетушка Софи.
Как и вся семья Гофманов, она была музыкантшей: она играла на лютне. Когда Гофман, еще ребенком, просыпался в своей колыбельке, его затопляла сладостная гармония; открывая глаза, он видел привлекательную молодую женщину, обвенчанную со своим инструментом. Обыкновенно на ней было платье аквамаринового цвета с розовыми бантами; обыкновенно ей аккомпанировал старик-музыкант с кривыми ногами и в белом парике; он играл на басе, который был для него слишком велик; он крепко держал его, то поднимаясь, то опускаясь, как ящерица по тыкве. Этот поток гармонии низвергался подобно каскаду жемчугов, падавшему из-под пальцев прекрасной Эвтерпы, и Гофман пил волшебное приворотное зелье, что сделало музыкантом его самого.
Мы уже упомянули, что у Гофмана сохранилось о тетушке Софи одно из самых светлых воспоминаний.
Этого нельзя, однако, сказать про его дядюшку.
Когда умер его отец и заболела его мать, Гофмана оставили на руках этого дядюшки.
Дядюшка был столь же педантичен, сколь рассеян был бедный Гофман; он был столь же методичен, сколь бедный Гофман был странен и мечтателен; он упорно прививал племяннику свою педантичность и методичность, но всегда это было столь же бесплодно, сколь пытаться привить его часам дух императора Карла V; дядюшка трудился напрасно: часы звонили по прихоти племянника, а вовсе не по желанию дядюшки.
В сущности, невзирая на свою педантичность и строгое соблюдение всех правил, дядюшка вовсе не был таким уж ярым врагом искусства и фантазии, он даже терпел музыку, поэзию и живопись, но полагал, что человек здравомыслящий должен прибегать к развлечениям подобного рода только после обеда, чтобы облегчить процесс пищеварения. Именно на такой основе и строилась жизнь Гофмана: столько-то часов отводилось для сна, столько-то — для изучения права, столько-то — для еды; столько-то минут отводилось для музыки, столько-то — для живописи, столько-то — для поэзии.
Самому Гофману хотелось все это переиначить и объявить: столько-то минут — на право и столько-то часов — на поэзию, живопись и музыку, но он не был хозяином положения и в конце концов почувствовал отвращение и к праву и к дядюшке; в один прекрасный день он сбежал из Кенигсберга с несколькими талерами в кармане и добрался до Гейдельберга; тут он ненадолго остановился передохнуть, но не обосновался, ибо музыка, которую исполняли в здешнем театре, была из рук вон плоха.
И вот из Гейдельберга он перебрался в Мангейм; Мангеймский театр — рядом с этим театром он, как мы видели, поселился — слыл соперником музыкальных театров Франции и Италии; мы сказали «Франции и Италии», ибо вряд ли кто-либо может забыть, что всего лет за пять-шесть до того дня в Королевской академии музыки шла грандиозная борьба между Глюком и Пиччини.
Итак, Гофман пребывал в Мангейме и жил рядом с театром, причем жил на те средства, какие ему давали его произведения художника, музыканта и поэта, а равно и на те фридрихсдоры, что время от времени присылала ему его добрая матушка, — пребывал вплоть до того мгновения, когда мы, пользуясь привилегией Хромого беса, подняли потолок его комнаты и показали нашим читателям, что он, прислонившись к стене, неподвижно стоит за занавеской, тяжело дыша и не сводя глаз с портала иезуитской церкви.
III. ВЛЮБЛЕННЫЙ И БЕЗУМЕЦ
В то время как люди, выходившие из иезуитской церкви (хотя месса только приближалась к середине), более чем когда-либо привлекали внимание Гофмана, в дверь к нему постучали. Молодой человек тряхнул головой, нетерпеливо топнул ногой, но не откликнулся.
Стук раздался снова.
Угрожающий взгляд готов был сквозь дверь поразить назойливого гостя.
Постучали в третий раз.
На этот раз молодой человек остался неподвижен: он явно решил не открывать.
Но, вместо того чтобы продолжать стучаться, посетитель ограничился тем, что произнес одно из имен Гофмана.
— Теодор! — позвал он его.
— Ах, это ты, Захария Вернер! — пробормотал Гофман.
— Да, я; ты хочешь побыть один?
— Нет, постой.
И Гофман отворил дверь.
Вошел высокий молодой человек, бледный, худой, белокурый, с немного растерянным видом. Вероятно, он был года на три-четыре старше Гофмана. Переступив порог, он положил руку Гофману на плечо и коснулся губами его лба так, как это мог бы сделать старший брат.
В самом деле, это был настоящий брат Гофману. Родившийся в том же доме, что и Гофман, будущий автор «Мартина Лютера», «Атиллы», «Двадцать четвертого февраля», «Креста на Балтийском море», он вырос под двойной опекой — под опекой своей родной матери и матери Гофмана.
Обе женщины страдали нервным заболеванием, перешедшим в безумие, передали своим детям эту болезнь, которая во втором поколении оказалась менее тяжкой и проявлялась лишь в бурном воображении у Гофмана и в склонности к меланхолии у Захарии. Мать Захарии помешалась на том, что ей, подобно Богоматери, предназначена божественная миссия: ее дитя должно стать новым Христом, будущим Силоамом, как то было обещано в Писании. Когда он спал, она плела венки из васильков и возлагала их ему на голову; она преклоняла перед ним колени, напевая своим нежным и мелодичным голосом самые прекрасные гимны Лютера в надежде, что во время пения этих стихов венок из васильков превратится в ореол.
Дети воспитывались вместе; Гофман удрал от дядюшки главным образом по той причине, что Захария жил и учился в Гейдельберге; в свою очередь Захария, платя дружбой за дружбу, покинул Гейдельберг, чтобы присоединиться к Гофману в Мангейме, когда тот прибыл туда, желая послушать музыку лучше той, что ему довелось услышать в Гейдельберге.
Но, когда молодые люди очутились в Мангейме, вдали от опеки нежных матерей, у них появилась страсть к путешествиям (а это непременно входит в воспитание немецкого студента) и они решили посетить Париж.
Вернер — потому что его привлекало редкостное зрелище, которое должна была явить его взору столица Франции, где, кстати сказать, в это время террор был в самом разгаре.
Гофман — потому что он хотел сравнить французскую музыку с итальянской, а главное — изучить возможности французской Оперы в смысле сценических эффектов и декораций; тогда же у Гофмана возникло стремление, которое он лелеял всю жизнь, — стать директором театра.
Вернер, человек распутный от природы, хотя и религиозный по воспитанию, рассчитывал на чрезвычайную распущенность нравов, до которой у нас дошли в 1793 году и которую один из его друзей, вернувшись недавно из Парижа, представил ему столь соблазнительно, что эта картина вскружила голову чувственному студенту.
Гофман же, еще не уверенный в выборе своей манеры живописца, мечтал увидеть музеи (о них ему рассказывали чудеса) и сравнить итальянскую живопись с немецкой.
Впрочем, каковы бы ни были тайные намерения двух друзей, а поехать во Францию они всей душой стремились оба.
Для исполнения своего желания им не хватало только одного — денег. Но случай распорядился так, что, по странному совпадению обстоятельств, Захария и Гофман одновременно получили от своих матерей по пяти фридрихсдоров.
Десять фридрихсдоров составляли приблизительно двести ливров; это была порядочная сумма для двух студентов, которые жили, обогревались и питались на пять талеров в месяц. И все же эта сумма была ничтожной для того, чтобы совершить задуманное путешествие.
Молодым людям пришла в голову мысль, и поскольку эта мысль пришла в голову сразу обоим, то они решили, что это наитие свыше.
Мысль заключалась в том, что оба они со своими деньгами пойдут в игорный дом и рискнут своими пятью фридрихсдорами.
С десятью фридрихсдорами в кармане далеко не уедешь. Но если рискнуть этими десятью фридрихсдорами, то, пожалуй, выиграешь такую сумму, с которой можно отправиться и в кругосветное путешествие.
Сказано — сделано; приближался сезон, когда люди приезжают на воды, и первого мая открылись игорные дома; Вернер и Гофман зашли в один из них.
Вернер попытал счастья первым, и после пяти ходов проиграл свои пять фридрихсдоров.
Настал черед Гофмана.
Гофман, дрожа, поставил на карту свой первый фридрихсдор и выиграл.
Ободренный таким началом, он удвоил ставку. В этот день он был в ударе; четыре хода из пяти приносили ему выигрыш, а надобно знать, что этот молодой человек принадлежал к числу людей, верящих в счастье. Нимало не колеблясь, он легко загибал пароли за пароли — можно было подумать, что ему помогает сверхъестественная сила: без какой-либо заранее продуманной комбинации, без всякого расчета он ставил на карту свое золото, и оно удваивалось, утраивалось, удесятерялось. Захария дрожал сильнее, чем в лихорадке, и был бледнее, чем привидение; он шептал: «Довольно, Теодор, довольно», — но игрок смеялся над этой детской робостью. Золотые монеты текли одна за другой, одна рождала другую. Наконец пробило два часа ночи — в это время заведение закрывалось, — и игра кончилась; молодые люди, не считая, сгребли каждый по куче золота. Захария, не веривший, что ему привалило такое счастье, вышел первым; Гофман собирался последовать за ним, но вдруг какой-то старый офицер, не спускавший с него глаз во все время игры, остановил его, когда тот уже хотел переступить порог.
— Молодой человек, — сказал он, кладя руку ему на плечо и пристально глядя на него, — если вы пойдете по этой дорожке, вы сорвете банк, я не спорю; но когда банк будет сорван, вы тем вернее станете добычей дьявола.
Не дожидаясь ответа, офицер исчез. Вслед за ним вышел на улицу и Гофман, но это был уже другой человек. Предсказание старого воина охладило его, как ледяной душ, а золото, которым были набиты его карманы, стало для него непосильной ношей. Ему казалось, что он несет на себе бремя беззакония.
Вернер поджидал его вне себя от восторга. Они пошли по направлению к жилищу Гофмана; один из них смеялся, пел, танцевал, другой был задумчив, почти мрачен.
Смеялся, пел, танцевал Вернер; задумчив, почти мрачен был Гофман.
Как бы то ни было, оба решили на следующий день вечером отправиться во Францию.
Они обнялись и расстались. Оставшись один, Гофман подсчитал свое золото.
У нега было пять тысяч, талеров — другими, словами, двадцать три-двадцать четыре тысячи франков.
Он долго раздумывал; казалось, ему было трудно принять решение.
Его освещала горевшая в комнате медная лампа, лицо его было бледным, по лбу струился пот.
При каждом шорохе, даже если то был шорох неуловимый, как трепет крылышек мотылька, Гофман вздрагивал, оборачивался и с ужасом оглядывался по сторонам.
Предсказание офицера вновь и вновь приходило ему на память; он еле слышно шептал строки из «Фауста», и ему казалось, что он видит на пороге комнаты крысу, что-то грызущую, а в углу — черного пуделя.
Наконец решение было принято.
Он отложил тысячу талеров как сумму, по его расчету, необходимую для путешествия, положил в пакет остальные четыре тысячи, воском приклеил к пакету карточку, а на карточке написал:
«Господину бургомистру Кенигсберга для самых бедных семейств в городе».
Успокоенный, довольный победой, которую он сейчас одержал над собой, Гофман разделся, лег и проспал спокойным сном до семи часов утра.
В семь утра он проснулся, и первое, что он увидел, были деньги, лежавшие прямо на столе, и запечатанный пакет с талерами. В первую секунду ему показалось, что это сон.
Однако золото убедило его: все, что произошло с ним вчера, было на самом деле.
Но самым реальным — хотя ни один осязаемый предмет не мог бы напомнить ему об этом — было для Гофмана предсказание старого офицера.
И вот, одевшись, как всегда, он без малейшего сожаления взял под мышку пакет с четырьмя тысячами и — по правде сказать, не забыв прежде всего запереть оставшуюся тысячу талеров в ящик, — пошел отправлять их с кёнигсбергским дилижансом.
Читатель, верно, помнит, что в тот же вечер два друга должны были уехать во Францию, а потому, вернувшись домой, Гофман начал собираться в дорогу.
Бегая по комнате, он чистил фрак, складывал рубашку, выбирал носовые платки, но вдруг случайно посмотрел в окно и замер на месте.
Очаровательная юная девушка лет шестнадцати-семнадцати, явно чужая в Мангейме, ибо Гофман не знал ее, переходила улицу, направляясь в церковь.
Даже в своих мечтах, мечтах поэта, художника и музыканта, Гофман не видывал ничего подобного.
Та, на кого он смотрел, превосходила не только то, что он когда-либо видел, но даже и то, что надеялся увидеть.
Однако на таком расстоянии он видел лишь восхитительное целое; подробности ускользали от его взгляда.
Юную девушку сопровождала старая служанка.
Обе медленно поднялись по ступенькам иезуитской церкви и исчезли под сводом портала.
Гофман бросил чемодан, уложенный наполовину, бордовый фрак, вычищенный наполовину, редингот с брандебурами, сложенный наполовину, и стал за занавеской как вкопанный.
Тут-то, в ожидании выхода той, что вошла в церковь, мы и увидели его впервые,
Он опасался одного: этот ангел, вместо того чтобы выйти в дверь, может вылететь в окно и подняться к небесам.
В этом-то положении его застали мы, а вслед за нами — Захария Вернер. Вновь прибывший, как мы уже сказали, положил руку на плечо друга и коснулся губами его лба.
После этого он испустил вздох, который мог перепугать кого угодно. Захария Вернер и всегда-то был очень бледен, но сейчас он был бледнее обычного.
— Что с тобой? — спросил Гофман с непритворной тревогой.
— Ах, друг мой! — воскликнул Вернер. — Я разбойник! Я негодяй! Я заслуживаю смертной казни! Отруби мне голову топором! Пронзи мне сердце стрелой! Я недостоин более смотреть на свет небес!
— Ба! — воскликнул Гофман с благодушным спокойствием счастливого человека. — Что же такое приключилось с тобой, дорогой друг?
— Случилось… Что случилось? Ты спрашиваешь, что случилось? Так вот, мой друг, меня искушает дьявол!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Да то, что сегодня утром я увидел все мое золото; его оказалось так много, что я подумал, будто это во сне.
— Как так — во сне?
— Золотом был усыпан, завален весь стол, — продолжал Вернер. — Так вот, когда я это увидел, — а это было целое состояние: тысяча фридрихсдоров, мой друг, — так вот, когда я это увидел, когда я увидел, что каждая монета сверкает, то пришел в такое возбуждение, что не мог побороть себя — взял треть золота и пошел в игорный дом.
— И проигрался?
— До последнего крейцера.
— Ну что ж такого? Беда невелика: ведь у тебя остались две трети?
— Две трети? Как бы не так! Я вернулся за второй третью и…
— И проиграл ее, как проиграл первую?
— Куда быстрее, друг мой, куда быстрее!
— И ты пошел за третьей третью?
— Я не пошел, а полетел, взял оставшиеся полторы тысячи талеров и поставил их на красное.
— И тут, — подхватил Гофман, — вышло черное, не так ли?
— Ах, друг мой! Черное, проклятое черное, и вышло оно без колебаний, без угрызений совести, как будто, выходя, оно не лишало меня последней надежды! Черное, друг мой, черное!
— Ты жалеешь о тысяче фридрихсдоров только из-за нашего путешествия?
— Только из-за этого. Ах, если бы я отложил хоть пятьсот талеров, чтобы было на что ехать в Париж!
— И тогда бы ты утешился?
— В ту же минуту!
— Ну что ж! Не думай больше об этом, дорогой Захария, — сказал Гофман, подводя его к своему ящику, — бери пятьсот талеров и поезжай.
— Как это — поезжай? — вскричал Вернер. — А ты?
— А я не поеду.
— Как не поедешь?
— Так, не поеду — по крайней мере, сейчас.
— Да почему? По какой причине? Что мешает тебе уехать? Что удерживает тебя в Мангейме?
Гофман увлек своего друга к окну. Народ начал выходить из церкви: месса кончилась.
— А ну посмотри, — сказал он, указывая на кого-то пальцем, дабы привлечь внимание Вернера.
В самом деле, юная незнакомка появилась в портале церкви и начала медленно спускаться по ступенькам, прижав молитвенник к груди, опустив голову, задумчивая и скромная, как гётевская Маргарита.
— Видишь? — шептал Гофман. — Ты видишь?
— Разумеется, вижу.
— Ну и как? Что ты скажешь?
— Скажу, что во всем мире не найдется женщины, ради которой стоило бы пожертвовать путешествием в Париж, даже если женщина эта — прекрасная Антония, дочь старого Готлиба Мурра, нового дирижера мангеймского театра.
— Так ты ее знаешь?
— Разумеется.
— И ты знаешь ее отца?
— Он был дирижером франкфуртского театра.
— И ты можешь дать мне рекомендательное письмо к нему?
— Конечно, дам.
— Садись сюда, Захария, и пиши. Захария сел за стол и начал писать. Отправляясь во Францию, он рекомендовал своего юного Друга Теодора
Гофмана своему старому другу Готлибу Мурру.
Гофман никак не мог дождаться, пока Захария допишет письмо; как только письмо было подписано, он схватил его и, обняв своего друга, выбежал из комнаты.
— Все равно! — крикнул ему вдогонку Захария Вернер. — Ты увидишь, что ни одна женщина, как бы хороша она ни была, не заставит тебя забыть о Париже!
Гофман слышал эти слова своего друга, но не счел нужным даже обернуться и ответить ему, даже показать знак согласия или несогласия.
А Захария Вернер положил в карман пятьсот талеров и, дабы демон игры больше не искушал его, помчался на почтовый двор так же быстро, как мчался Гофман к дому старого дирижера.
Гофман постучал в дверь маэстро Готлиба Мурра как раз в ту минуту, когда Захария Вернер садился в страсбурский дилижанс.
IV. МАЭСТРО ГОТЛИБ МУРР
Дирижер сам пошел открывать Гофману дверь.
Хотя Гофман никогда не видел маэстро Готлиба, он сразу понял, кто это. Этот человек, как бы смешон он ни был, мог быть только артистом, и притом великим артистом.
То был маленький старичок лет пятидесяти пяти — шестидесяти; одна нога у него была кривая, но он не очень сильно хромал на эту ногу, похожую на штопор. Все время двигаясь или, вернее, все время подпрыгивая — что живо напоминало подпрыгивание трясогузки, — и обгоняя людей, которых он проводил к себе, он останавливался, делая пируэт на кривой ноге, отчего казалось, что он ввинчивает в пол буравчик, а затем шел дальше.
Не отставая от старика, Гофман изучал его и запечатлевал в своей памяти один из тех фантастических, великолепных портретов, законченную галерею которых он дал нам в своих произведениях.
Выражение лица у старика было хитрое и в то же время восторженное, одухотворенное; его пергаментная кожа, испещренная красными и черными жилками, походила на страницу нотной записи церковного песнопения. На этом необычном лице сверкали живые глаза; остроту его взгляда нельзя было не заметить, ибо очки, которые он не снимал даже на ночь, всегда были либо подняты на лоб, либо спущены на кончик носа. Только когда маэстро Готлиб играл на скрипке и откидывал голову, глядя вдаль, он невольно употреблял по назначению эти очки, казавшиеся на нем скорее предметом роскоши, нежели необходимости.
Его плешивая голова была прикрыта черной ермолкой, которая стала неотъемлемой частью его особы. И утром, и вечером маэстро Готлиб появлялся перед посетителями в ней. Только когда он выходил из дома, он довольствовался тем, что водружал на нее небольшой парик на манер Жан Жака. Таким образом, ермолка оказывалась зажатой между черепом и париком. Нечего и говорить, что маэстро Готлиб никогда и ни в малой мере не заботился о полоске бархата, вылезавшей из-под его фальшивых волос, которые, сдружившись со шляпой теснее, нежели с головой, сопровождали шляпу в ее воздушном полете всякий раз, как маэстро Готлиб приветствовал своих знакомых.
Гофман огляделся вокруг, но никого не увидел.
Однако он следовал за маэстро Готлибом — как мы уже сказали, шедшему впереди, — куда тому угодно было его препроводить.
Путь маэстро Готлиба окончился в большом кабинете, заваленном штабелями партитур и разрозненными нотными листами; на столе стояло с десяток коробок; они были инкрустированы: одни красиво, другие похуже, но все они имели одинаковую форму, которую музыкант никогда не спутает с другой, — форму футляра для скрипки.
В то время маэстро Готлиб собирался проявить расположение к мангеймскому театру и проверить, как здесь будет принята итальянская музыка — «Matrimonio segreto» note 8 Чимарозы.
Смычок, как деревянный меч Арлекина, был засунут у него за пояс или, лучше сказать, оттопыривался из застегнутого кармашка его панталон; перо горделиво торчало за ухом, пальцы были все в чернилах.
Этими пальцами в чернильных пятнах он взял письмо, протянутое ему Гофманом, а затем, бросив взгляд на конверт и узнав почерк, воскликнул:
— Ах, это Захария Вернер, поэт, да, да, поэт, но игрок! — И, словно занятие поэзией в известной мере оправдывало этот недостаток, он добавил: — Игрок, игрок, но — поэт! Он уехал, уехал, не так ли? — продолжал он, вскрывая письмо.
— Он уезжает, сударь, в эту самую минуту.
— Господь да сохранит его! — сказал Готлиб, поднимая глаза к небу, словно для того, чтобы рекомендовать Господу Богу своего друга. — Но он отлично сделал, что уехал. Путешествия много дают молодежи; если бы я не путешествовал, то не познакомился бы ни с бессмертным Паизиелло, ни с божественным Чимарозой.
— Но вы и не путешествуя прекрасно могли бы ознакомиться с их произведениями, маэстро Готлиб, — возразил Гофман.
— Да, конечно, но что даст знакомство с творением без знакомства с творцом? Это все равно что познать душу без тела; творение — это призрак, это видение; творение — это то, что остается от нас после смерти. Но, понимаете ли, тело-то ведь умирает, и вы никогда до конца не поймете произведения, если не познакомитесь с его автором.
Гофман кивнул, выражая согласие.
— Вы правы, — сказал он, — я только тогда по-настоящему оценил Моцарта, когда увидел его самого.
— Да, да, — сказал Готлиб, — у Моцарта есть свои достоинства, но почему у него есть достоинства? Потому что он путешествовал по Италии. Немецкая музыка, молодой человек, — это музыка людей, но запомните хорошенько, что итальянская музыка — это музыка богов.
— А между тем, — с улыбкой возразил Гофман, — не в Италии Моцарт сочинил «Свадьбу Фигаро» и «Дон Жуана»: первую оперу он сочинил в Вене для императора, а вторую — в Праге для итальянского театра.
— Верно, верно, молодой человек, мне приятно, что патриотизм заставляет вас встать на защиту Моцарта. Да, конечно, если бы бедняга не умер, если бы он совершил еще одно-два путешествия по Италии, это был бы маэстро, великий маэстро. Но как он написал «Дон Жуана», о котором вы говорите, «Свадьбу Фигаро», о которой вы говорите? Он написал их на итальянские либретто, на итальянские слова, в сиянии солнца Болоньи, Рима или же Неаполя. Поверьте мне, молодой человек, надо увидеть, надо ощутить это солнце, чтобы оценить его по достоинству. Слушайте: я покинул Италию четыре года тому назад, и все эти четыре года я дрожу от холода, кроме тех минут, когда думаю об Италии; одна мысль о ней согревает меня, и вот, когда я думаю об Италии, мне уже не нужен плащ, мне уже не нужно платье, мне уже не нужна даже ермолка. Воспоминания воскрешают меня. О музыка Болоньи, о солнце Неаполя! О!..
И лицо старика приняло выражение неземного блаженства; все его тело, казалось, дрожало от бесконечного наслаждения, словно потоки южного солнца, все еще заливающие его лысую голову, потекли с его лба на плечи, а с плеч до самых пят.
Гофман был настолько благоразумен, что не стал выводить его из состояния экстаза; он воспользовался этим, чтобы оглядеться по сторонам, не теряя надежды увидеть Антонию. Но все двери были закрыты, и ни за одной из них не слышно было ни малейшего шороха, обнаруживавшего присутствие живого существа.
Впрочем, ему пришлось возобновить разговор с маэстро Готлибом, чей экстаз мало-помалу утих: он в конце концов вышел из этого состояния, как-то особенно передернув плечами.
— Б-рр! Так вы говорите, молодой человек?.. — спросил он.
Гофман вздрогнул.
— Я говорю, маэстро Готлиб, что я пришел к вам от моего друга Захарии Вернера, рассказывавшего мне о вашем добром отношении к молодым людям: я ведь музыкант!
— Ах, вот как! Вы музыкант!
Тут Готлиб выпрямился, поднял голову, откинул ее и посмотрел на Гофмана через очки, которые в этот момент чуть было не сползли на самый кончик носа.
— Да, да, — продолжал он, — голова музыканта, лоб музыканта, глаз музыканта; а кто же вы — композитор или инструменталист?
— И то и другое, маэстро Готлиб.
— И то и другое! — воскликнул Готлиб. — И то и другое! Да, этим молодым людям сомнения не знакомы! Целая жизнь одного, двух, а то и трех человек нужна только для того, чтобы быть либо тем, либо другим, а эти молодые люди хотят быть и тем и другим одновременно!
С этими словами маэстро повернулся вокруг собственной оси, воздымая руки к небу и словно желая вонзить в паркет буравчик — свою правую ногу.
Совершив пируэт, он остановился перед Гофманом.
— Итак, самонадеянный молодой человек, — снова заговорил он, — какие же у тебя есть сочинения?
— Сонаты, духовные гимны, квинтеты.
— Сонаты после Себастьяна Баха! Духовные гимны после Перголезе! Квинтеты после Франца Йозефа Гайдна! Ах, молодежь, молодежь! Ну, а в качестве инструменталиста, — продолжал он с чувством глубокого сожаления, — на каком инструменте играете вы?
— Почти на всех, начиная с ребека и кончая клавесином, начиная с виолы д'амур и кончая теорбой, но инструмент, которым я занимаюсь особенно серьезно, — это скрипка.
— Поистине, — с насмешливым видом сказал маэстро Готлиб, — поистине ты оказал скрипке великую честь! Что и говорить, он осчастливил тебя, бедная скрипка! Несчастный! — продолжал он, приближаясь к Гофману и для скорости подпрыгивая на одной ноге, — знаешь ли ты, что такое скрипка? Скрипка! (Тут маэстро Готлиб принялся балансировать на той же ноге — о ней мы говорили раньше, — словно журавль, приподняв другую.) Скрипка! Да ведь это самый сложный инструмент! Скрипку изобрел сам Сатана, чтобы погубить человека, когда он уже изобрел для него все прочие муки. С помощью скрипки Сатана погубил больше душ, чем с помощью семи смертных грехов, вместе взятых. Один лишь Тартини, бессмертный Тартини, — мой учитель, мой кумир, мой бог, — за всю историю музыки достиг совершенства в игре на скрипке, но только он один знает, чего ему стоило в этом мире и чего ему будет стоить в мире ином целую ночь играть на скрипке самого дьявола и при этом сохранить смычок. О, скрипка! Да знаешь ли ты, несчастный святотатец, что этот инструмент за своей почти убогой простотой таит неиссякаемые сокровища гармонии, доступные лишь тому человеку, кто пьет из кубка богов? Изучил ли ты это дерево, эти струны, этот смычок, этот конский волос, особенно конский волос? Надеешься ли ты соединить, собрать, покорить своим пальцам все то волшебство, которое в течение двух веков не уступает натиску самых искусных скрипачей, все то, что жалуется, стонет, плачет под их пальцами и что впервые запело лишь под пальцами бессмертного Тартини, моего учителя? Хорошенько ли ты поразмыслил, впервые взяв в руки скрипку, над тем, что ты делаешь, молодой человек? Впрочем, ты не первый, — продолжал маэстро Готлиб, испуская вздох, вырвавшийся у него из глубины души, — и не последний из тех, кого погубила скрипка, скрипка — вечный искуситель! Другие, так же как и ты, верили в свое призвание и потратили всю жизнь на то, что скребли смычком по струнам, и вот ты присоединишься к этим несчастным, уже столь многочисленным, столь бесполезным для общества и столь невыносимым для им подобных!
Сказав это, он внезапно, без всякого перехода, схватил скрипку и смычок — так учитель фехтования берет две рапиры — и, с вызывающим видом протянув их Гофману, сказал:
— Что ж, сыграй мне что-нибудь; ну-ка, сыграй, а я скажу тебе, как далеко ты зашел, и если еще есть возможность вытащить тебя из пропасти, я тебя вытащу, как вытащил я беднягу Захарию Вернера. Он ведь тоже играл на скрипке, играл исступленно, неистово. Он мечтал о чудесах, но я воззвал к его разуму. Он разбил скрипку на куски и побросал их в огонь. После этого я сунул ему в руки бас, и тогда он успокоился окончательно. Тут был простор для его длинных, худых пальцев. Вначале он заставлял их пробегать по десять льё в час, ну а теперь… теперь он играет на басе вполне прилично для того, чтобы поздравить с днем именин своего дядюшку, тогда как на скрипке он всю жизнь играл бы только для того, чтобы поздравлять с днем именин дьявола. Итак, молодой человек, вот тебе скрипка — покажи, что ты умеешь с ней делать.
Гофман взял скрипку и принялся ее рассматривать.
— Да, да, — сказал маэстро Готлиб, — ты рассматриваешь ее подобно тому, как гурман нюхает вино, которое собирается пить. Тронь струну, одну-единственную струну, и если твой слух не подскажет тебе имя того, кто создал эту скрипку, значит, ты недостоин к ней прикасаться.
Гофман тронул струну — струна издала протяжный, дрожащий, трепещущий звук.
— Антонио Страдивари? — спросил он.
— Что ж, недурно, но какой период жизни Страдивари? А ну-ка! С тысяча шестьсот девяносто восьмого по тысячу семьсот двадцать восьмой год он сделал немало скрипок.
— Ну, тут я каюсь в своем невежестве, — сказал Гофман. — Мне представляется невозможным…
— Невозможно, богохульник ты этакий! Невозможно! Это все равно как если бы ты, несчастный, сказал мне, что, отведав вина, невозможно определить, сколько ему лет! Слушай хорошенько, и это так же верно, как то, что сегодня у нас десятое мая тысяча семьсот девяносто третьего года: скрипка была сделана во время путешествия из Кремоны в Мантую, которое бессмертный Антонио совершил в тысяча семьсот пятом году; в Мантуе он и оставил свою мастерскую лучшему своему ученику. Так вот, видишь ли, именно этот Страдивари — я отнюдь не постесняюсь сказать это тебе, — всего-навсего третьего сорта, но я очень боюсь, что и он слишком хорош для такого жалкого новичка, как ты. Ну, играй, играй!
Гофман приложил скрипку к плечу и в сильном волнении начал вариации на тему из «Дон Жуана»: «La ci darem' la mano» note 9.
Маэстро Готлиб стоял рядом с Гофманом, отбивая такт головой и носком своей кривой ноги. Лицо Гофмана все более и более оживлялось, глаза разгорались, верхними зубами он покусывал нижнюю губу, и по краям этой придавленной губы показались два зуба, которые она, находясь в обычном своем положении, предназначена была прятать; однако в эту минуту зубы торчали, как клыки кабана. Наконец ликующее аллегро, которое Гофман исполнил с особым подъемом, заслужило у маэстро Готлиба движение головы, похожее на знак одобрения.
Гофман кончил деманшё, которым он хотел особенно блеснуть, но которое отнюдь не удовлетворило старого музыканта и вызвало у него ужасную гримасу.
Тем не менее черты лица его мало-помалу разгладились, и, похлопывая молодого человека по плечу, он сказал:
— Ну-ну, это не так уж плохо, как я ожидал; когда ты забудешь все, чему тебя научили, когда ты перестанешь делать эти модные прыжки, когда ты оставишь в покое эти скачущие ноты и крикливые деманшё, из тебя можно будет кое-что сделать.
Эта похвала в устах такого придирчивого старого музыканта привела Гофмана в восторг. К тому же он, хоть и утонул в океане музыки, все же не забывал, что маэстро Готлиб — отец прекрасной Антонии.
И вот, подхватив слова, только что слетевшие с уст старика, он спросил:
— А кто возьмет на себя труд кое-что из меня сделать? Вы, маэстро Готлиб?
— А почему бы и не взять, молодой человек? Почему бы и не взять, если только ты захочешь выслушать старика Мурра?
— Я выслушаю вас, маэстро, когда вам будет угодно.
— О, — с грустью произнес старик, и взор его устремился в прошлое, и память его вернулась в минувшие годы, — я хорошо знал виртуозов! Я — хотя и по рассказам, что правда, то правда, — знал Корелли; это он проложил тропинку, которая превратилась в столбовую дорогу: либо играть в манере Тартини, либо отречься от нее. Это он первый понял, что если скрипка и не божество, то, во всяком случае, храм, из которого божество может выйти. Вслед на ним появился Пуньяни — скрипач вполне сносный, даже искусный, но вялый, слишком вялый, особенно в некоторых appoggimenti note 10; за ним Джеминиани — это был сильный скрипач, но силен он был только в бутадах, переходов он не признавал; я нарочно побывал в Париже, чтобы увидеть его, — вот как ты сейчас собираешься в Париж, чтобы послушать Оперу, — это был маньяк, мой друг, сомнамбула, мой друг; этот человек размахивал руками, уйдя в свои мечты и отчетливо слыша tempo rubato note 11, роковое tempo rubato, погубившее больше инструменталистов, чем могла бы погубить их оспа, желтая лихорадка или чума! В ту пору я сыграл ему свои сонаты в манере бессмертного Тартини, моего учителя, и тут он признал свою ошибку. К несчастью, этот ученик по уши увяз в своей методе. Бедному ребенку был уже семьдесят один год! Будь он на сорок лет моложе, я спас бы его, как спас бы и Джардини, которого я захватил вовремя, но, к несчастью, он был неисправим: сам дьявол завладел его левой рукой, и он несся, несся, несся с такой быстротой, что правой руке было не поспеть за ним. От этих нелепостей, скачков, деманшё у голландца началась бы пляска святого Витта. И вот однажды, в присутствии Йоммелли, он испортил великолепный кусок, и добрейший Йоммелли, к тому же честнейший человек в мире, закатил ему такую страшную пощечину, что Джардини месяц ходил с распухшей щекой, а Йоммелли — три недели с вывихнутой кистью. Таков был и Люлли — сумасшедший, форменный сумасшедший — канатный плясун, сальтоморталист, эквилибрист без балансира, который надо было сунуть ему в руку вместо смычка. Увы! Увы! Увы! — горестно воскликнул старик. — Я говорю об этом с глубоким отчаянием: вместе с Нардини и со мной умрет и великое искусство игры на скрипке — искусство, с помощью которого наш общий учитель — Орфей — привлекал к себе животных, сдвигал с места камни и строил города. Мы же, вместо того чтобы строить по примеру божественной скрипки, разрушаем по примеру окаянных труб. Если французы когда-нибудь вторгнутся в Германию, то, для того чтобы пали стены Филипсбурга, который они осаждали столько раз, им понадобится всего-навсего заставить четырех скрипачей из числа моих знакомых сыграть концерт перед городскими воротами.
Старик перевел дух и продолжал более мягким тоном: — Мне хорошо известно, что существует Виотти — один из моих учеников, — ребенок, полный благих намерений, но нетерпеливый, но развратный, но беспутный. Что касается Жарновицкого, то это фат и невежда, и с самого начала я сказал моей старушке Лизбет, что, если она когда-нибудь услышит его имя у дверей моего дома, пусть безжалостно закрывает перед этим человеком двери. Лизбет служит у меня уже тридцать лет, — так вот, я вам говорю, молодой человек, что прогоню Лизбет, если она впустит ко мне Жарновицкого; этот сармат, этот валах позволил себе дурно отозваться о великом маэстро — о бессмертном Тартини. О! Тому, кто принесет мне голову Жарновицкого, я обещаю давать столько уроков и советов, сколько он захочет. Что касается тебя, мой мальчик, — продолжал старик, подойдя к Гофману, — что касается тебя, то ты не силен, спору нет, но мои ученики Роде и Крейцер были не сильнее тебя; что касается тебя, то ведь я сказал: придя к маэстро Готлибу, обратившись к маэстро Готлибу и рекомендованный ему тем, кто его знает и ценит, — сумасшедшим Захарией Вернером, — ты доказал, что в твоей груди бьется сердце артиста. А теперь вот что, молодой человек: сейчас я дам тебе уже не Антонио Страдивари и даже не Грамуло — старого мастера, кого бессмертный Тартини почитал столь глубоко, что всегда играл только на его инструментах, — нет! Я хочу послушать, как ты играешь на Антонио Амати — на предке, предтече, родоначальнике всех когда-либо сделанных скрипок, на инструменте, что пойдет в приданое моей дочери Антонии. Это, знаешь ли, лук Улисса, а кто сможет натянуть тетиву Улиссова лука, тот будет достоин Пенелопы.
С этими словами старик открыл бархатный футляр, обшитый со всех сторон золотым галуном, и вытащил скрипку, которая, казалось, вряд ли могла принадлежать к роду скрипок и которую, пожалуй, мог припомнить один только Гофман, видевший нечто подобное на фантастических концертах своих двоюродных дедушек и бабушек.
Старик склонился перед почтенным инструментом, а затем, протягивая его Гофману, сказал:
— Возьми и постарайся оказаться хоть сколько-нибудь достойным ее. Гофман поклонился, почтительно взял инструмент и начал старый этюд
Себастьяна Баха.
— Бах, Бах, — пробормотал Готлиб, — для органа это еще туда-сюда, но в скрипке он ничего не смыслил. Ну да ладно!
При первом же звуке, извлеченном из инструмента, Гофман вздрогнул, ибо, будучи выдающимся музыкантом, он понял, какое сокровище гармонии ему только что дали в руки.
Смычок, похожий на лук, — до того он был изогнут, — позволял музыканту прикасаться ко всем четырем струнам сразу, и четвертая струна издавала почти небесные звуки, звуки столь прекрасные, что Гофман и мечтать никогда не мог о том, что этот божественный звук оживет под рукою человека.
Старик не отходил от Гофмана, откинув голову, моргая глазами и приговаривая, чтобы подбодрить его:
— Недурно, недурно, молодой человек! Правая рука, правая рука! Левая рука — это всего только движение, правая рука — это душа. Больше души! Больше души! Больше души!
Гофман прекрасно понимал, что старик Готлиб прав, и чувствовал, что должен, как тот сказал ему уже во время первого испытания, забыть все, чему его научили; и вот он совершил неприметный, но непрерывный, но все нарастающий переход от пианиссимо к фортиссимо, от ласки к угрозе, от зарницы к молнии, и его самого увлек этот поток гармонии, поднимаемый им, как облако, и рассыпаемый плещущими водопадами, жидким жемчугом, влажной пылью; он еще не освободился от этого нового для него ощущения, он все еще пребывал в состоянии экстаза, как вдруг его левая рука, пальцы которой прижимали струны, ослабела, в правой руке замер смычок, скрипка соскользнула на грудь, глаза вспыхнули и уставились в одну точку.
Произошло это потому, что отворилась дверь и в зеркале (Гофман играл напротив него) он увидел, словно то была тень, вызванная божественной гармонией, прекрасную Антонию: рот ее был полуоткрыт, грудь вздымалась, глаза увлажнились.
Гофман вскрикнул от радости, и маэстро Готлиб едва успел подхватить почтенного Антонио Амати, выскользнувшего из рук юного музыканта.
V. АНТОНИЯ
Когда Антония открыла дверь и переступила через порог, она показалась Гофману в тысячу раз прекраснее, чем в тот момент, когда он увидел, как она спускается по ступенькам церкви.
Ведь в зеркале, в котором сейчас отражался облик молодой девушки и которое было в двух шагах от Гофмана, он сразу разглядел во всех подробностях всю прелесть ее облика, какая ускользнула от его взгляда на расстоянии.
Антонии только что исполнилось семнадцать лет; она была среднего роста, скорее даже высокого, но такая тоненькая, хотя и не худая, такая гибкая, хотя и не слабенькая, что всех сравнений с лилией, колеблющейся на стебле, с пальмой, склоняющейся под ветром, было бы недостаточно для того, чтобы живописать эту итальянскую morbidezza note 12 (единственное слово, почти точно определяющее чувство томной неги, возникавшее при виде ее). Ее мать, подобно Джульетте, была одним из самых прекрасных весенних цветков Вероны, и окружающие находили, что в Антонии не уживалась, а скорее наоборот — соперничала (это-то и составляло очарование девушки) красота двух рас, оспаривающих одна у другой пальму первенства. Так, тонкость кожи женщин севера сочеталась у нее с матовостью кожи женщин юга; так, белокурые волосы, густые и мягкие, трепетавшие при легчайшем дуновении ветерка, подобно золотистому облаку, оттеняли глаза и брови словно из черного бархата. Наконец — явление гораздо более удивительное — именно в ее речи было явственно различимо гармоническое сочетание двух языков. Так, когда Антония говорила по-немецки, сладость прекрасного языка, в котором, как замечает Данте, поет звук «si», смягчала резкость германского выговора, и наоборот — когда она говорила по-итальянски, сладковатый язык Метастазио и Гольдони приобретал крепость, что придавала ему могучая ударность языка Шиллера и Гёте.
Но не только в физическом облике Антонии проявлялся этот сплав; с точки зрения нравственной Антония представляла собой редкостную, чудесную натуру, она была из тех, кто способен соединить в себе поэзию столь враждебных друг другу явлений, как солнце Италии и туманы Германии. Ее можно было бы назвать и музой, и феей; и Лорелеей из баллады, и Беатриче из «Божественной комедии».
Ведь Антония — прежде всего артистка — была дочерью великой артистки. Ее мать, привыкшая к итальянской музыке, в один прекрасный день вступила в единоборство с музыкой немецкой. Ей попала в руки партитура Глюковой «Альцесты», и она получила приказание от своего мужа, маэстро Готлиба, перевести поэму на итальянский язык; когда поэма была переведена, мать Антонии стала исполнять партию Альцесты в Вене; но она переоценила свои силы, или, вернее, эта изумительная певица не знала, сколь велика ее чувствительность. На третьем представлении оперы, когда она имела наибольший успех, во время восхитительного соло Альцесты:
Я Стикса божествам мольбы не вознесу,
Сочувствия прося, — они его не явят.
Супруга нежного от смерти я спасу,
Но верная его жена сей мир оставит, — note 13.
она взяла «ре» и спела его полной грудью, потом вдруг побледнела, зашаталась и упала. В этой благородной груди лопнул сосуд, и жертва богам ада была принесена не на сцене, а в жизни: мать Антонии скончалась.
Несчастный маэстро Готлиб дирижировал оркестром; стоя за пультом, он видел, как зашаталась, побледнела и упала та, которую он любил больше всего на свете; он даже слышал, как лопнул в ее груди тот сосуд, от которого зависела ее жизнь, и испустил страшный крик, слившийся с последним вздохом великой певицы.
Быть может, тогда-то и зародилась ненависть маэстро Готлиба к немецким маэстро: ведь не кто иной, как кавалер Глюк, сам того не желая, убил его Терезу; но маэстро Готлиб, во всяком случае, не желал кавалеру Глюку смерти за ту глубокую скорбь, которую тот ему причинил и которая утихала по мере того, как он переносил на подрастающую Антонию всю ту любовь, что он питал к ее матери.
Семнадцатилетняя девушка стала для старика всем на свете: он жил и дышал Антонией. Мысль, что она может умереть, не приходила ему в голову, но если бы она и пришла, он не был бы очень взволнован, ибо он и представить себе не мог, что он в силах пережить Антонию.
То чувство, которое возникло у него, когда он увидел Антонию на пороге своего кабинета, было, разумеется, гораздо более чистым, нежели чувство Гофмана, но не менее пылким.
Девушка медленно вошла в комнату; две слезы сверкали на ее ресницах; сделав три шага по направлению к Гофману, она протянула ему руку.
Затем, с оттенком целомудренной простоты в обращении, она сказала так, как если бы знала молодого человека уже лет десять:
— Здравствуйте, брат мой!
Маэстро Готлиб с того мгновения, как появилась его дочь, оставался нем и недвижим; как всегда в таких случаях, душа его покинула тело и, порхая вокруг Антонии, пела ей все мелодии любви и счастья, какие только поет душа отца при виде горячо любимой дочери.
Он положил любезного его сердцу Антонио Амати на стол и, сложив руки так, как сделал бы перед Богоматерью, смотрел на свое дитя.
А Гофман не знал, бодрствует он или грезит, на земле он или на небе, приближается к нему женщина или же ему явился ангел.
Он чуть не попятился, когда увидел, что Антония подходит к нему и протягивает ему руку, называя его братом.
— Вы моя сестра? — спросил он глухим голосом.
— Да, — отвечала Антония, — сестра не по крови, а по духу. Все цветы — братья по благоуханию, все артисты — братья по искусству. Я никогда не видела вас, это верно, но я вас знаю: ваш смычок только что рассказал мне историю вашей жизни. Вы поэт, и в вас есть частица безумия, мой бедный друг! Увы! Это та искра, которую Бог вкладывает нам в голову или в грудь, и она сжигает наш мозг или убивает наше сердце.
Тут она повернулась к маэстро Готлибу и сказала:
— Здравствуйте, батюшка, что же вы не поцелуете свою Антонию? Ах, понимаю: «Matrimonio segreto», «Stabat mater» note 14, Чимароза, Перголезе, Порпора! Что такое Антония рядом с этими великими гениями? Я несчастная девушка! Я вас люблю, а вы забываете меня ради них!
— Чтобы я забыл тебя! — воскликнул Готлиб. — Чтобы старик Мурр забыл Антонию! Чтобы отец забыл свою дочь! И ради чего? Ради каких-то мерзких нот, ради кучи целых и восьмых, четвертей и половинок, диезов и бемолей! Превосходно! Смотри же, как я тебя забыл!
И тут старик, удивительно ловко повернувшись на кривой ноге, обеими руками и другой ногой стал разбрасывать партии всех инструментов из оркестровки «Matrimonio segreto», уже совершенно готовые для раздачи музыкантам.
— Отец, отец! — воскликнула Антония.
— Огня! Огня! — кричал маэстро Готлиб. — Принесите мне огня, и я все сожгу! Огня! Я сожгу Перголезе! Огня! Я сожгу Чимарозу! Огня! Я сожгу Паизиелло! Огня! Я сожгу моих Страдивари, моих Грамуло! Огня! Я сожгу моего Ан-тонио Амати! Разве моя дочь, моя Антония не сказала, что струны, дерево и бумагу я люблю больше, чем свою плоть и кровь! Огня! Огня!! Огня!!!
И старик метался, как безумец, подпрыгивал на одной ноге, как хромой бес, и размахивал руками, как ветряная мельница.
Антония смотрела на безумствующего старика с милой улыбкой удовлетворенной дочерней гордости. Она прекрасно знала — она, никогда не кокетничавшая ни с кем, кроме своего отца, — что ее власть над стариком безгранична, что в его сердце она царит как абсолютная монархиня. И она остановила неистовствовавшего старика, привлекла его к себе и коснулась губами его лба.
Старик испустил радостный вопль, поднял ее на руки, как поднял бы птичку, и, три-четыре раза повернувшись вокруг своей оси, повалился на широкий диван и принялся качать ее, как мать качает ребенка.
Вначале Гофман смотрел на маэстро Готлиба с ужасом; увидев, как он расшвыривает партитуры, увидев, как он схватил дочь на руки, молодой человек подумал, что это буйно помешанный. Но кроткая улыбка Антонии быстро его успокоила, и он начал почтительно собирать разбросанные ноты и водворять их на столы и пюпитры, краешком глаза поглядывая на эту необычную пару, в которой и сам старик был на свой лад прекрасен.
Вдруг что-то сладостное, нежное, крылатое понеслось по воздуху; это было облако, это была мелодия… нет, это было нечто еще более божественное: то был голос Антонии; увлекаемая своей артистической фантазией, она начала изумительное сочинение Страделлы, спасшее жизнь своему автору, — «Pieta, Signore» note 15.
При первых звуках этого ангельского голоса Гофман застыл на месте, а старик Готлиб осторожно положил дочь на диван, не изменив при этом позы, в которой она лежала у него на коленях, а затем подбежал к своему Антонио Амати, и теперь его смычок, согласуя аккомпанемент со словами, сливал звуки скрипки и пение Антонии в единое гармоническое целое; они поддерживали голос, как держит ангел душу, которую он уносит на небо.
У Антонии было сопрано такого широкого диапазона, каким может наделить божественная щедрость не голос женщины, а голос ангела. Антония охватывала пять с половиной октав; она одинаково легко брала «контр-ут» — этот божественный звук, казалось бы, принадлежащий лишь небесной музыке, и «ут» пятой октавы басовых нот. Гофман никогда не слышал таких бархатистых звуков, как звуки первых четырех тактов «Pieta, Signore, di me dolente» note 16, пропетых без аккомпанемента. Это устремление страдающей души к Богу, эта горячая молитва о том, чтобы Господь сжалился над этим сетующим страданием, звучала в устах Антонии предчувствием божественной воли, переходящим в священный ужас. Аккомпанемент, подхвативший фразу, поплывшую между небом и землей, принял ее, если можно так выразиться, в свое лоно после того, как было взято «ля», и — piano, piano note 17, — словно эхо, повторял жалобу, и аккомпанемент этот был вполне достоин скорбного, печального голоса — голоса Антонии. Он — этот аккомпанемент — говорил не по-итальянски, не по-немецки, не по-французски, он говорил на том общемировом языке, который называется музыкой:
«Господи, помилуй, помилуй меня в скорби моей! Господи, помилуй меня, и если услышишь молитву мою, то да утихнет гнев твой и да воззрят на меня очи твои не с гневом, но с милосердием!»
Все время следуя за голосом, все время сливаясь с ним, аккомпанемент представлял ему, однако, полную свободу, полный простор; он ласкал, а не подавлял, он поддерживал, а не мешал; когда же на первом sforzando note 18, когда на «ре» и на двух «фа» голос возвысился, как бы стремясь подняться к небесам, аккомпанемент, словно боясь отягчить голос чем-то земным, покинул его, чтобы он сам взлетел на крыльях веры, и вновь поддержал его уже на «ми бекар», другими словами — на diminuendo note 19; другими словами — в ту минуту, когда, устав от усилий, голос вновь упал, словно согнулся, словно преклонил колени, подобно Мадонне Кановы, которая стоит на коленях и в которой и душа, и тело согнулись под тяжестью страшного сомнения: настолько ли велико милосердие Творца, чтобы он отпустил грех своему творению?
Затем, когда она дрожащим голосом продолжала: «Боже великий! Да никогда не буду я проклята и ввергнута в вечный огонь!» — аккомпанемент отважился примкнуть к трепещущему голосу женщины, которая, увидев издали вечный огонь, молила Господа о спасении. Аккомпанемент тоже просил, умолял, плакал и вместе с голосом поднялся до «фа», и вместе с голосом спустился до «ут», в нем звучали та же слабость, тот же страх; затем, когда трепещущий, обессилевший голос замер в груди Антонии, аккомпанемент продолжал играть соло — так вслед за вылетевшей из тела и несущейся к небу душой несутся тихие, жалобные молитвы живых.
Но тут с мольбами скрипки маэстро Готлиба начала сливаться нежданная гармония, сладостная и одновременно могучая, почти неземная. Антония приподнялась на локте, маэстро Готлиб сделал пол-оборота, и смычок его застыл на струнах скрипки. Гофман, ошеломленный, опьяненный, обезумевший, понял, что этой порывистой душе надо дать хоть какую-то надежду, что она погибнет, если луч божественного света не укажет ей путь к небесам, и он бросился к органу, прикоснулся пальцами к его трепетным клавишам, и орган, испустив протяжный вздох, слился со скрипкой Готлиба и с голосом Антонии.
И тут случилось нечто изумительное: мотив «Pieta, Signore» послышался вновь, но, в отличие от первой части, его не преследовал ужас — его сопровождал голос надежды, и когда, полная веры как в свое дарование, так и в силу своей молитвы, Антония взяла «фа» всей силой своего голоса, дрожь пробежала по жилам старого Готлиба и крик вырвался из уст Гофмана, побеждавшего Антонио Амати потоками гармонии, низвергавшимися из его органа, который звучал и после того, как затих голос Антонии, и на крыльях уже не ангела, но урагана, казалось, все-таки принес последний вздох души к стопам всемогущего и всеблагого Бога.
Наступило молчание; все трое посмотрели друг на друга, и руки их соединились в братском рукопожатии так же, как в полной гармонии слились их души.
И теперь уже не только Антония стала называть Гофмана братом, но и старик Готлиб Мурр стал называть Гофмана сыном!
VI. КЛЯТВА
Быть может, читатель спросит себя или, вернее, спросит нас, почему, принимая во внимание, что мать Антонии умерла во время пения, маэстро Готлиб позволял своей дочери — другими словами, душе своей души — подвергаться той же опасности, от которой погибла ее мать.
В самом деле, впервые услышав, что Антония пробует голос, несчастный отец затрепетал, как трепещет лист близ запевшей птицы. Но Антония и была настоящей птицей, и старый музыкант скоро понял, что истинным ее языком было пение. Ведь Бог, дав ей голос такого широкого диапазона, равного которому, быть может, не было в мире, тем самым дал понять маэстро Готлибу, что, по крайней мере, в этом отношении ему нечего бояться; и в самом деле, когда природное дарование стало развиваться благодаря занятиям музыкой, когда даже невероятно трудные сольфеджио были тотчас же побеждены девушкой с изумительной легкостью, без гримас, без усилий, без зажмуривания глаз и так, что на шее не вздувалась ни одна жила, он постиг все совершенство этого инструмента, а так как Антония исполняла отрывки для самых высоких голосов и это не было пределом ее возможностей, то он убедился, что ему не следует бояться выпустить чудесного соловья и дать волю его музыкальному призванию.
Маэстро Готлиб забыл об одном: не только музыкальная струна звучит в сердцах девушек; там звучит и другая струна — куда более хрупкая, куда более трепетная, куда более опасная, — струна любви!
Это была та струна, которая пробудилась в сердце бедной девочки при звуках скрипки Гофмана; склонившись над вышиванием в соседней комнате, она подняла голову при первом же трепетном звуке струн. Она слушала, и мало-помалу странное ощущение проникало в ее душу и каким-то неизведанным холодом растекалось по жилам. Она медленно встала, держась одной рукой за спинку стула, а из разжавшихся пальцев другой руки выпало вышивание. С минуту она стояла неподвижно, а затем медленно пошла к дверям и, как мы уже однажды выразились, тенью, вызванной в действительную жизнь, поэтическим видением появилась в дверях кабинета маэстро Готлиба Мурра.
Мы уже видели, как музыка в своем пылающем тигле сплавила эти три души в одну и как по окончании концерта Гофман стал в доме своим человеком.
В это время старик Готлиб обычно садился за стол. Он пригласил Гофмана пообедать вместе с ним, и тот принял это приглашение с такой же сердечностью, с какой оно было сделано.
Тут прекрасная, поэтическая девственница из духовных гимнов на некоторое время превратилась в отличную хозяйку. Антония разлила чай, как Кларисса Гарлоу, нарезала тартинки с маслом, как Шарлотта, и наконец тоже села за стол и принялась за еду, как простая смертная.
Немцы понимают поэзию не так, как понимаем ее мы. По нашим представлениям — представлениям жеманного света, — женщина, которая ест и пьет, лишена поэтичности. Если хорошенькая молодая женщина садится за стол, то это лишь для того, чтобы быть в центре внимания во время еды; если перед нею стоит стакан, то это лишь для того, чтобы сунуть в него перчатки, — разумеется, при условии, что она их не бережет; если перед ней тарелка, то это лишь для того, чтобы в конце обеда обрывать кисть винограда, самые спелые ягоды которой неземное создание готово иногда пососать, как пчелка — цветочный нектар.
Понятно, что, встретив у маэстро Готлиба столь радушный прием, Гофман пришел к ним на другой день, затем на следующий и потом уже не пропускал ни одного дня.
Что касается маэстро Готлиба, то частота визитов Гофмана не вызывала у него ни малейшего беспокойства: Антония была чиста, целомудренна, вполне откровенна со своим отцом, и у старика не могло возникнуть подозрения, что его дочь способна оступиться. Его дочь была для него святой Цецилией, самой Девой Марией, это был ангел небесный; божественное начало было в ней гораздо сильнее земного, и, зная свою дочь, старик никогда не сказал бы, что близость двух тел опаснее, нежели союз двух душ.
Итак, Гофман был счастлив, то есть счастлив настолько, насколько может быть счастлив смертный. Солнце радости никогда не озаряет все сердце человека; в каких-то уголках его сердца всегда останется тень, напоминающая ему о том, что полное счастье существует не на земле, а на небесах.
Но у Гофмана было одно преимущество перед большинством людей. Чаще всего человек не в состоянии определить причину той грусти, которая возникает в расцвете его благополучия, той зловещей, той черной тени, что ложится на его сияющее счастье.
А Гофман знал, почему он несчастен.
Ведь он обещал Захарии Вернеру, что приедет к нему в Париж; необычайно сильное желание увидеть Францию исчезало в присутствии Антонии, но брало верх над всем остальным, как только Гофман вновь оставался один; кроме того, время шло, письма Захарии, в которых он напоминал другу о его слове, становились все настойчивее, а Гофман становился все грустнее и грустнее.
Присутствия девушки было уже недостаточно для того, чтобы прогнать призрак, теперь преследовавший Гофмана, даже когда Антония была возле него. Часто, сидя подле Антонии, он впадал в глубокую задумчивость. О чем он размышлял? О Захарии Вернере, чей голос он, казалось, слышал. Нередко его взгляд, вначале рассеянный, устремлялся к одной точке на горизонте. Что видели его глаза или, вернее, что им мерещилось? Дорога в Париж, а на одном из поворотов — Захария, шагавший впереди и делавший ему знак следовать за ним.
Мало-помалу призрак, ранее возникавший перед Гофманом редко и через разные промежутки времени, стал являться все чаще и чаще, и наконец это уже превратилось в наваждение.
Гофман любил Антонию все сильнее и сильнее. Он чувствовал, что Антония необходима ему, что она составит его счастье, но он чувствовал также, что, прежде чем окунуться в это счастье, а равно и для того, чтобы счастье это было длительным, он сначала должен совершить задуманное им паломничество, иначе это желание, скрытое у него в душе и притом такое странное, замучит его.
Однажды, сидя подле Антонии, в то время как маэстро Готлиб у себя в кабинете переписывал ноты «Stabat» Перголезе, — он хотел исполнить это произведение в Филармоническом обществе Франкфурта, — Гофман впал в свою обычную задумчивость; Антония долго смотрела на него, потом взяла его за руки.
— Надо ехать, мой друг, — сказала она. Гофман посмотрел на нее с удивлением.
— Ехать? — переспросил он. — Куда?
— Во Францию, в Париж.
— А кто вам поведал, Антония, эту тайную мечту моей души, то, в чем я не осмеливаюсь признаться даже самому себе?
— Я могла бы сказать, Теодор, что, когда вы со мной, я обретаю могущество феи, и ответить вам: «Я читаю ваши мысли, я читаю в ваших глазах, я читаю в вашем сердце» — но это было бы ложью. Я просто вспомнила кое о чем, вот и все.
— О чем же вы вспомнили, моя любимая Антония?
— Я вспомнила о том, что накануне того дня, когда вы пришли ко батюшке, к нам пришел Захария Вернер и рассказал о плане вашего путешествия, рассказал о вашем страстном желании побывать в Париже — желании, которое зародилось у вас еще год тому назад и исполнение которого уже приближалось. Затем вы сказали мне о том, что помешало вам уехать. Вы сказали мне, что, когда вы увидели меня впервые, вас охватило непобедимое чувство, охватившее и меня, когда я вас слушала, и теперь вам остается сказать мне, что вы любите меня по-прежнему.
Гофман встрепенулся.
— Не трудитесь говорить мне об этом, я это знаю, — продолжала Антония, — но есть нечто еще более могущественное, нежели ваша любовь, — это желание поехать во Францию, присоединиться к Захарии и, наконец, увидеть Париж.
— Антония! — воскликнул Гофман. — Все, что вы сейчас сказали, — правда, кроме одного: будто бы в мире есть что-то более сильное, чем моя любовь! Нет, Антония, клянусь вам; мое странное желание, которое я никак не могу понять, я схоронил бы в своем сердце, если бы вы сами не извлекли его оттуда. Вы не ошиблись, Антония! Да, какой-то голос зовет меня в Париж, голос, более сильный, чем моя воля, и, однако, повторяю, я не повиновался бы ему. Это голос судьбы!
— Пусть будет так, исполним веление судьбы, друг мой.
Вы уедете завтра. Сколько времени вы хотите провести во Франции?
— Месяц, Антония; через месяц я возвращусь.
— Месяца для вас недостаточно, Теодор; за месяц вы ничего не увидите; я даю вам два, я даю вам три, наконец, я даю вам сколько угодно времени; но у меня есть одно требование или, вернее, два.
— Какие, дорогая Антония? Какие? Говорите скорее.
— Завтра воскресенье; завтра будет месса; смотрите в окно, как это было в день отъезда Захарии Вернера, и, так же как в тот день, мой друг, только будучи в более печальном состоянии духа, вы увидите, что я поднимаюсь по ступеням церкви; тогда вы подойдете к моему обычному месту в церкви, сядете рядом со мной и, в ту минуту, когда священник будет совершать таинство евхаристии, дадите мне две клятвы — клятву быть верным мне и клятву больше не играть.
— О, все, что вам угодно, сию же секунду, дорогая Антония! Клянусь вам…
— Нет, нет, Теодор, вы дадите клятву завтра.
— Антония, Антония, вы ангел!
— Не считаете ли вы нужным, Теодор, сказать что-нибудь моему отцу перед тем, как мы с вами расстанемся?
— Да, да, вы правы. Но признаюсь вам, Антония, я дрожу, я колеблюсь. Что я такое, чтобы сметь надеяться?..
— Вы тот, кого я люблю, Теодор. Идите к отцу, идите.
И, жестом попрощавшись с Гофманом, Антония отворила дверь маленькой комнатки, которую она превратила в молельню.
Гофман проводил ее взглядом; когда же дверь затворилась, он послал ей через эту дверь все поцелуи своих уст и все порывы своей души.
Затем он вошел в кабинет маэстро Готлиба.
Маэстро Готлиб так привык к звуку шагов Гофмана, что даже не оторвал взгляда от пюпитра, за которым переписывал «Stabat». Молодой человек вошел в комнату и остановился за его спиной.
Спустя мгновение маэстро Готлиб, не слыша больше ни звука, не слыша даже дыхания молодого человека, повернулся к нему.
— Ах, это ты, мой мальчик, — сказал он, откидывая голову, чтобы посмотреть на Гофмана сквозь очки. — Что скажешь?
Гофман открыл было рот, но снова закрыл его, не издав ни звука.
— Онемел ты, что ли? — спросил старик. — Черт побери! Вот было бы несчастье! Когда в атаку идет такой славный малый, как ты, он не может утратить дар речи, разве что это будет ему наказанием за то, что он им злоупотребил!
— Нет, маэстро Готлиб, нет, я, слава Богу, вовсе не утратил дара речи! Но то, что я собираюсь вам сказать…
— Ну?
— Ну… мне кажется, что это очень трудно.
— Подумаешь! Велика трудность сказать: «Маэстро Готлиб, я люблю вашу дочь!»
— Как! Вы знаете об этом, маэстро Готлиб?
— Еще бы! Да я был бы неизлечимым сумасшедшим или, лучше сказать, круглым дураком, если бы не заметил, что ты ее любишь!
— И, однако, вы позволяли мне любить ее?
— А почему бы и нет? Ведь она тоже тебя любит.
— Но вы знаете, маэстро Готлиб, что у меня нет состояния.
— Ну и что же? Разве у птиц небесных есть состояние? Они поют, они спариваются, они вьют гнездо, и Господь посылает им пропитание. Мы, артисты, очень похожи на птиц: мы поем, и Господь нам помогает. Когда одного пения будет мало, ты станешь художником; когда одной живописи будет недостаточно, ты станешь музыкантом. Я был не богаче тебя, когда женился на моей бедной Терезе — и что же? У нас всегда был и хлеб и кров. Я всегда нуждался в деньгах, и они всегда у меня были. Богат ли ты любовью? Вот единственный вопрос, который я задаю тебе; заслуживаешь ли ты сокровище, которым ты жаждешь обладать? Вот и все, что я хочу знать. Любишь ли ты Антонию больше жизни, больше души? Если так, то я спокоен: Антония никогда ни в чем не будет нуждаться. Ты ее не любишь? Тогда дело другое: будь у тебя сто тысяч ливров ренты, она будет нуждаться всегда и во всем.
Гофман готов был преклонить колени перед этой поразительной философией артиста. Она припал к руке старика — тот привлек его к себе и прижал к груди.
— Ну-ну, — сказал он, — решено. Отправляйся в дорогу, раз уж тебе не терпится послушать убийственную музыку господина Меюля и господина Далейрака; это детская болезнь, и ты скоро от нее вылечишься. Я спокоен; отправляйся в дорогу, друг мой, и возвращайся к нам: здесь ты найдешь Моцарта, Бетховена, Чимарозу, Перголезе, Паи-зиелло, Порпору, а самое главное, маэстро Готлиба и его дочь — другими словами, отца и жену. Поезжай, сын мой, поезжай.
Тут маэстро Готлиб снова обнял Гофмана, и тот, видя, что наступает ночь, рассудил за благо не терять времени и вернулся домой, чтобы собраться в дорогу.
Утром Гофман стоял у окна.
По мере того как момент расставания с Антонией приближался, ему становилось все яснее и яснее, что разлука невозможна. Чудесное время его жизни, что уже истекло, семь месяцев, что пролетели как один день и возникали в его памяти то как широкий горизонт, который он охватывал одним взглядом, то как ряд радостных дней, и дни эти шли один за другим, улыбающиеся, увенчанные цветами; сладостное пение Антонии, наполнившее для него воздух, весь пронизанный нежными звуками, — все это притягивало его к себе столь сильно, что он вступил в борьбу с почти неведомым ему великим соблазнителем, привлекающим к себе самые мужественные сердца и самые холодные души.
В десять часов на перекрестке показалась Антония, — на том самом месте, где семь месяцев тому назад в это же время Гофман увидел ее впервые. За ней, как всегда, шла добрая Лизбет; обе поднялись по ступеням церкви. Дойдя до последней ступени, Антония обернулась, увидела Гофмана, поманила его рукой и вошла в церковь.
Гофман выбежал из дому и вошел в церковь следом за нею.
Антония уже преклонила колени и углубилась в молитву.
Гофман был протестант; пение на чужом языке всегда казалось ему довольно нелепым, но, когда он услышал, как Антония поет псалом — это церковное песнопение, столь сладостное и вместе с тем столь торжественное, — он пожалел, что не знает слов и не может слить свой голос с голосом Антонии, ставшим еще более нежным из-за глубокой печали, охватившей молодую девушку.
В течение всей мессы она пела таким же голосом, каким, наверное, в вышине поют ангелы; наконец, когда колокольчик мальчика из хора возвестил освящение святых даров, в тот момент, когда верующие склонились перед Богом, которого руки священника подняли над их головами, одна лишь Антония выпрямилась.
— Клянитесь, — сказала она.
— Клянусь, — дрожащим голосом сказал Гофман, — клянусь, что больше не буду играть.
— Разве это единственная клятва, которую вы хотите дать мне, мой друг?
— О нет, постойте! Клянусь, что останусь верен вам сердцем и мыслью, телом и душой.
— А чем вы клянетесь?
— О! — воскликнул Гофман вне себя от волнения. — Я клянусь самым дорогим, самым святым для меня — я клянусь вашей жизнью!
— Спасибо! — воскликнула Антония. — А если вы не сдержите своей клятвы, я умру.
Гофман вздрогнул, и какой-то трепет пробежал по всему его телу; он не раскаивался, но ему стало страшно.
Священник, уносивший святое причастие в ризницу, спускался по ступеням алтаря.
В тот момент, когда мимо них проносили Тело Господне, Антония схватила Гофмана за руку.
— Ты слышал его клятву, Господи! — сказала она. Гофман хотел было что-то сказать.
— Ни слова, ни слова больше; я хочу, чтобы слова вашей клятвы были последними словами, что я от вас услышу, и чтобы они вечно во мне звучали. До свидания, мой друг, до свидания!
Вложив медальон в руку своего возлюбленного, девушка, легкая как тень, исчезла.
Гофман смотрел ей вслед, как, должно быть, смотрел Орфей вслед убегавшей Эвридике; когда Антония скрылась из виду, он достал медальон.
В медальоне был портрет Антонии, блиставшей молодостью и красотой.
Два часа спустя Гофман занял свое место в том самом дилижансе, в котором уехал Захария Вернер; он повторял:
— Будь спокойна, Антония! О нет, я не буду играть! О да, я буду верен тебе!
VII. ПАРИЖСКАЯ ЗАСТАВА В 1793 ГОДУ
Путешествие молодого человека в ту самую Францию, о которой он так страстно мечтал, было довольно грустным. И дело было вовсе не в том, что, приближаясь к столице, он столкнулся с теми же затруднениями, какие выпали на его долю, когда он переправлялся через границу; нет, Французская республика гораздо лучше встречала приезжающих, нежели провожала отъезжающих.
Тем не менее, люди начинали почитать себя счастливыми и наслаждаться этой замечательной формой правления лишь после того, как ими был выполнен ряд довольно строгих формальностей.
Это было время, когда французы писали особенно плохо, но это было и то самое время, когда они писали особенно много. Все новоиспеченные должностные лица полагали, что им надлежит бросить свои домашние дела или ремесла, чтобы подписывать паспорта, составлять описание примет, выдавать визы, давать рекомендации — одним словом, делать все, что приличествует патриоту.
Бумажная волокита никогда еще не достигала такого размаха, как в те времена. Эта эндемическая болезнь французского административного управления в сочетании с террором дала самые лучшие образцы причудливой каллиграфии, о которых можно услышать еще и в наши дни.
У Гофмана была подорожная, замечательная своей экономностью. То были времена, когда царила экономия: газеты, книги, издания, продаваемые бродячими торговцами, — все выходило самое большое в простом ин-октаво. И вот, начиная с Эльзаса подорожную нашего путешественника, о которой мы уже упомянули, буквально заполнили чиновничьи подписи, что напоминали зигзаги пьяных, измеряющих улицы по диагонали и натыкающихся то на одну стену, то на другую.
В Эльзасе Гофману пришлось присоединить к своему паспорту еще один листок, затем еще один — в Лотарингии, там пометки были совсем уже колоссальных размеров. В тех местах, где патриотизм был особенно пламенным, сочинители были особенно наивны. Нашелся один мэр, не пожалевший двух листов, он исписал их с обеих сторон и преподнес Гофману свой автограф, составленный таким образом:
«Оффман, неметский юнош, друк свободы, направляеца в Париш пишком.
Подписано: Голы».
Снабженный этим великолепным документом, удостоверявшим его национальность, возраст, принципы, место назначения и средства передвижения,
Гофман заботился только о том, чтобы подшивать одну бюрократическую бумагу к другой, так что к тому времени, как он приехал в Париж, у него составился довольно пухлый том, и Гофман говорил, что если он еще раз поедет во Францию, то закажет для него жестяной переплет, а то, видите ли, он вынужден все время держать эти листки в руках, и, находясь в простой картонной папке, они подвергаются большой опасности.
Всюду ему твердили одно и то же:
— Уважаемый путешественник, в провинции пока еще жить можно, но Париж порядочно тряхнули. Берегитесь, гражданин: парижская полиция очень придирчива, а так как вы немец, то очень может быть, что с вами обойдутся не как с добрым французом.
На подобные предостережения Гофман отвечал гордой улыбкой — это был отблеск достоинства спартанцев тех времен, когда фессалийские лазутчики стремились преувеличить силы персидского царя Ксеркса.
Он подъехал к Парижу вечером, когда заставы были уже закрыты.
Гофман говорил по-французски сносно, но — либо вы немец, либо нет; если нет, то ваш акцент в конце концов сможет сойти за выговор одной из наших провинций; но коль скоро вы немец, вы всегда сойдете за немца.
Надо, однако, объяснить, как на заставах следили за порядком. Во-первых, они были закрыты; во-вторых, семь или восемь представителей данной парижской секции — люди все праздные, наделенные пытливым умом, этакие доморощенные Лафатеры, — куря трубки, слонялись вокруг двух-трех агентов муниципальной полиции.
Эти отважные люди, входившие в разные депутации, были завсегдатаями всех клубных залов, всех окружных бюро, всех мест, куда активно или пассивно проскользнула политика; эти люди видели в Национальном собрании и в Конвенте всех депутатов, на трибунах — всех аристократов мужского и женского пола, на прогулках — всех прославленных щеголей, в театрах — всех знаменитостей из числа подозрительных, на парадах — всех офицеров, в судах — всех обвиняемых, более или менее очистившихся от предъявленных им обвинений, в тюрьмах — всех священников, которых пощадили; эти достойные патриоты так хорошо знали свой Париж, что каждое незнакомое лицо должно было при встрече поразить их воображение, и, скажем прямо, поражало оно его почти всегда.
Переодеться кем-нибудь было в ту пору делом нелегким: слишком роскошный костюм привлекал к себе внимание, слишком простой — вызывал подозрения. Так как в ту пору среди всех гражданских доблестей нечистоплотность была самой распространенной, то под видом угольщика, под видом любого разносчика воды, под видом любого поваренка мог скрываться аристократ; к тому же нельзя совершенно изменить белую руку с красивой формы ногтями! В наши дни, когда самые скромные люди носят самые высокие каблуки, этот вызов, который бросают обществу аристократы, не столь уж и заметен, но как прикажете спрятать такую руку от двадцати пар глаз, сверкающих страшнее, нежели глаза ищейки, рыщущей в поисках добычи?
Итак, едва путешественник прибывал на место, как его обыскивали, допрашивали и раздевали догола; если же говорить об этой процедуре с точки зрения нравственности, то надо сказать, что производилась она так легко, как того требовал обычай, и так свободно, как того требовала… свобода.
Гофман предстал перед этим судилищем 7 декабря, часов в шесть вечера. Погода была пасмурная, суровая: туман да еще и гололедица, но шапки из медвежьих и выдровых шкур, державшие в плену головы патриотов, сохраняли достаточно горячей крови в их мозгу и в ушах, чтобы патриоты не утратили ни бодрости, ни драгоценного умения вести допрос.
Гофмана остановила чья-то рука, которая мягко легла к нему на грудь. Юный путешественник был одет во фрак стального цвета и в толстый редингот; немецкие сапоги еще довольно кокетливо обтягивали его ноги: на последнем отрезке пути грязи не было, а карета не могла ехать дальше из-за града, и Гофман прошел пешком шесть льё по дороге, лишь слегка посыпанной уже затверделым снегом.
— Куда это ты направляешься в таких красивых сапожках, гражданин? — спросил молодого человека один из агентов.
— Я направляюсь в Париж, гражданин.
— Ты не слишком привередлив, юный прусссссак, — заметил представитель секции, столь щедро вставляя в слово «пруссак» звук «с», что вокруг путешественника мигом собрался десяток любопытных.
Пруссаки в ту пору были столь же страшными врагами Франции, сколь страшными врагами соотечественников израильтянина Самсона были филистимляне.
— Ну да, я прузак, — отвечал Гофман, меняя пять «с» представителя секции на одно «з», — прузак, а дальше что?
— А дальше вот что: коль скоро ты пруссак, то, стало быть, ты не иначе как шпион либо Питта, либо Кобурга, так ведь?
— Прочтите мои бумаги, — отвечал Гофман, протягивая свой том одному из эрудитов, стоящих у заставы.
— Пойдем, — буркнул тот, поворачиваясь на каблуках, чтобы отвести иностранца в караульное помещение.
Гофман, сохраняя полнейшее спокойствие, последовал за своим провожатым. Когда при свете коптящих свечей патриоты увидели этого молодого человека — нервного, с непреклонным взглядом, с взлохмаченной головой, без малейших угрызений совести коверкавшего французский язык, один из них воскликнул:
— Уж этому-то не удастся отпереться, что он аристократ: посмотрите-ка на его руки и ноги!
— Вы дура, гражданин, — отвечал Гофман, — я такой же патриот, как и вы, и к тому же я артистка.
Сказавши это, Гофман вытащил из кармана одну из тех ужасных трубок, дно которых может обнаружить только немецкий ныряльщик.
Эта трубка произвела необычайное впечатление на представителей секции, наслаждавшихся табаком, насыпанным в меньшие вместилища.
Все принялись обозревать низкорослого молодого человека, который с той ловкостью, что является плодом длительных упражнений, запихнул в трубку такую порцию табака, какую другому могло бы хватить на неделю.
Затем он уселся и принялся методически раскуривать трубку, пока вся поверхность табака не покрылась огненной корочкой, после чего Гофман стал выпускать через равные промежутки времени облака дыма, выходившие стройными голубоватыми колонками из его носа и изо рта.
— Это настоящий курильщик, — сказал один из присутствующих представителей секции.
— Похоже, что это знаменитость, — прибавил другой, — посмотри-ка на его удостоверения.
— Что ты собираешься делать в Париже? — спросил третий.
— Изучать науку свободы, — ответил Гофман.
— А еще что? — продолжал француз, на которого эти возвышенные слова не произвели ни малейшего впечатления, быть может потому, что к таким словам он уже давным-давно привык.
— А еще живопись, — продолжал Гофман.
— А, так ты, стало быть, художник, вроде как гражданин Давид?
— Вот именно.
— И ты тоже умеешь рисовать римских патриотов совсем нагишом?
— Я их рисую совсем одетыми, — отвечал Гофман.
— Это не так красиво.
— Кому что нравится, — с невозмутимым хладнокровием заметил Гофман.
— Ну-ка, нарисуй мой портрет, — вне себя от восторга сказал один из представителей секции.
— С удовольствием.
Гофман вытащил из печки головешку, слегка притушил ее сверкающий краешек и на стене, побеленной известью, нарисовал одну из самых уродливых физиономий, когда-либо бесчестивших столицу цивилизованного мира.
Медвежья шапка с лисьим хвостом, слюнявый рот, густые бакенбарды, короткая трубка, скошенный подбородок — все это было схвачено и изображено так смешно и метко, но в то же время так беззлобно, что все караульное помещение начало просить молодого человека, чтобы он не отказал в любезности и понаделал портреты всех.
Гофман охотно согласился и набросал на стене целую серию патриотов, столь же ему удавшихся, сколь удались Рембрандту горожане в его «Ночном дозоре», с тою лишь разницей, что гофмановские патриоты, само собой разумеется, не отличались благородством рембрандтовских горожан.
Патриоты, пришедшие в хорошее настроение, задавать каверзные вопросы больше не стали: немцу было присвоено парижское подданство, ему предложили почетную кружку пива, а он, будучи юношей благомыслящим, предложил своим хозяевам бургундского, которое эти господа приняли от всего сердца.
Но тут один человек из секции, похитрее остальных, охватил свой тупой нос согнутым указательным пальцем и, подмигнув Гофману левым глазом, сказал:
— Признайся нам кое в чем, гражданин немец.
— В чем, друг мой?
— Признайся нам, какова цель твоей поездки.
— Я уже сказал тебе: политика и живопись.
— Нет, нет, другая.
— Уверяю тебя, гражданин…
— Ты прекрасно понимаешь, что мы тебя ни в чем не обвиняем; ты пришелся нам по душе, и мы тебя в обиду не дадим; но вот два члена Клуба кордельеров, вот двое из Клуба якобинцев, я от Братьев и Друзей — вот и выбирай из нас тот клуб, которому ты выразишь свое почтение.
— Какое почтение? — с удивлением спросил Гофман.
— Э, да не вертись ты, здорово получится, когда ты начнешь щеголять во всех клубах разом.
— Право, гражданин, ты заставляешь меня краснеть; объясни мне, в чем дело.
— Смотри сюда и суди сам, хороший ли я отгадчик, — сказал патриот.
И, открыв паспорт Гофмана, он ткнул своим толстым пальцем в страницу, на которой под пометкой «Страсбур» было написано нижеследующее:
«Гофман, путешественник, прибывший из Мангейма, взял в Страсбург ящик с ярлыком О.В.»
— Это верно, — сказал Гофман.
— Ну, а что в этом ящике?
— Я уже объяснял это на страсбурской таможне.
— А ну, граждане, посмотрим, что этот маленький хитрюга привез нам… Помните посылку патриотов из Осера?
— Да, — сказал один из представителей секции, — они прислали нам ящик сала.
— Зачем?
— Чтобы смазывать гильотину! — закричал хор радостных голосов.
— Ну и что же? — слегка побледнев, спросил Гофман. — Какое отношение может иметь мой ящик к посылке патриотов из Осера?
— Читай, — отвечал парижанин, протягивая ему его паспорт, — читай, молодой человек: «Путешествует по делам политики и искусства». Так тут написано!
— О, Республика! — прошептал Гофман.
— Ну, признавайся, юный друг свободы, — сказал ему его покровитель.
— В таком случае мне пришлось бы похвастаться мыслью, которая принадлежала не мне, — отвечал Гофман, — А я не люблю тех, кто пользуется незаслуженной славой. Нет: в сундуке, который я взял в Страсбург и который мне доставят гужом, находятся только скрипка, ящик с красками и несколько свернутых холстов.
Эти слова Гофмана сильно поубавили то уважение, которое иные люди из секции начали было питать к нему. Ему вернули бумаги, его вину отдали должное, но больше никто уже не смотрел на него как на освободителя порабощенных народов.
Один из патриотов даже заметил:
— Он похож на Сен-Жюста, да вот только Сен-Жюст мне больше по вкусу. Гофман, вновь погрузившийся в задумчивость, подогретую теплом печки, табаком и бургундским, некоторое время молчал. Внезапно он поднял голову и спросил:
— Так у вас много людей отправляют на гильотину?
— Немало, немало; после бриссотинцев, правда, их стало поменьше, но еще достаточно.
— Не знаете ли, друзья, где мне найти хорошее пристанище?
— Да где хочешь.
— Но я хочу, чтобы мне все было видно.
— А, ну тогда найди себе квартиру где-нибудь в стороне Цветочной набережной.
— Хорошо.
— А ты хоть знаешь, где эта самая Цветочная набережная?
— Нет, но мне нравится слово «цветочная». Итак, будем считать, что я поселился на Цветочной набережной. Как туда пройти?
— Иди, никуда не сворачивая, по улице Анфер, и ты уже на набережной.
— Набережная — это, значит, у самой воды? — спросил Гофман.
— Вот-вот.
— А вода — это Сена?
— Она самая.
— Значит, Цветочная набережная тянется вдоль Сены?
— Ты знаешь Париж лучше, чем я, гражданин немец.
— Спасибо. Прощайте. Я могу идти?
— Тебе осталось соблюсти только одну маленькую формальность.
— Какую?
— Ты пойдешь к комиссару полиции и попросишь, чтобы он выдал тебе разрешение на пребывание в Париже.
— Прекрасно. Прощайте.
— Подожди, это еще не все. С этим разрешением комиссара ты пойдешь в полицию.
— Ах, вот оно что!
— И дашь свой адрес.
— Ладно. И все?
— Нет, ты представишься своей секции.
— Зачем?
— Ты должен доказать, что у тебя есть средства к существованию.
— Все это я сделаю, но на том и конец?
— Нет еще; надо будет принести патриотические дары.
— С удовольствием.
— А также клятву в ненависти к тиранам — как французским, так и иностранным.
— От всего сердца. Спасибо за ценные разъяснения.
— Да еще не забудь разборчиво написать свое имя и фамилию на своей карточке на двери.
— Так и будет сделано.
— Ступай, гражданин, ты нам мешаешь. Бутылки были уже опорожнены.
— Прощайте, граждане, большое спасибо за любезность.
И Гофман отправился в дорогу, не расставаясь с трубкой, которую он курил усерднее, чем когда бы то ни было.
Вот так он въехал в столицу республиканской Франции.
Очаровательные слова «Цветочная набережная» пленили его. Гофман уже рисовал в своем воображении маленькую комнатку и балкон, выходящий на эту чудесную Цветочную набережную.
Он забыл о том, что стоит декабрь и дует северный ветер, он забыл про снег и про временную смерть всей природы. Цветы распускались в его воображении за клубами дыма, который он пускал изо рта, и никакие клоаки предместья уже не могли помешать ему видеть жасмин и розы.
Когда пробило девять, он вышел на Цветочную набережную, совершенно темную и пустынную — такими бывают северные набережные зимой. И, однако, в тот вечер это одиночество казалось более мрачным и более ощутимым, чем где-либо.
Гофман был слишком голоден, и ему было слишком холодно, чтобы дорогой философствовать; но на набережной никаких гостиниц не было.
Подняв глаза, он наконец заметил на углу набережной и Бочарной улицы большой красный фонарь, за стеклами которого дрожал сальный огарок.
Этот уличный фонарь висел и качался на конце железного кронштейна, в то мятежное время вполне пригодного для того, чтобы повесить на нем какого-нибудь политического врага.
Но Гофман видел только нижеследующие слова, выведенные зелеными буквами на красном стекле:
«Гостиница для приезжающих. — Меблированные комнаты и номера».
Он быстро постучал; дверь отворилась, и путешественник ощупью вошел в дом. Грубый голос крикнул:
— Закройте за собой дверь!
А лай большого пса, казалось, предостерегал:
— Береги ноги!
Договорившись о цене с довольно приветливой хозяйкой и выбрав себе комнату, Гофман оказался обладателем пятнадцати футов в длину и восьми в ширину, образовывавших одновременно и спальню и кабинет и стоивших ему тридцать су в день: он должен был уплачивать их каждое утро, как только встанет с постели.
Гофман был так счастлив, что уплатил за две недели вперед из страха, как бы кто-нибудь не стал оспаривать его права на это драгоценное обиталище.
Покончив с этим, он улегся на довольно сырой постели, но всякая постель годится для восемнадцатилетнего путешественника.
К тому же нельзя быть разборчивым, когда ты имеешь счастье жить на Цветочной набережной!
Кроме того, Гофман вызвал в памяти образ Антонии, а разве рай находится не там, куда призывают ангелов?
VIII. О ТОМ, КАК МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ, А ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ ОТКРЫТА
В комнате, которая в течение двух недель должна была служить Гофману земным раем, стояли уже знакомая нам кровать, стол и два стула.
Здесь был также камин, украшенный двумя голубыми стеклянными вазами, в которых красовались искусственные цветы. Сахарный Гений свободы сиял под хрустальной крышкой, отражавшей его трехцветное знамя и красный колпак.
Медный подсвечник, угловой шкаф старого розового дерева, стенной ковер двенадцатого века, заменявший занавеску, — вот и вся меблировка, какую он увидел в первых утренних лучах.
На ковре был изображен Орфей, играющий на скрипке, чтобы вновь завоевать Эвридику, и скрипка эта, вполне естественно, напомнила Гофману про Захарию Вернера.
«Друг мой дорогой, — подумал наш путешественник, — мы оба в Париже; мы снова вместе, и я увижу его сегодня или — самое позднее — завтра. С чего мне начать? Как устроиться таким образом, чтобы не потерять драгоценное время и увидеть во Франции все? Последние несколько дней я видел только безобразные живые картины, пойду-ка я в картинную галерею Лувра, которая принадлежала павшему тирану, — там я увижу и его собственность: полотна Рубенса, картины Пуссена. Мешкать нечего».
Одеваясь, он одновременно изучал открывавшийся из окна вид.
Тусклое, серое небо, черная грязь под белыми деревьями, озабоченные жители города, со всех ног бегущие куда-то, да еще какой-то шум, похожий на журчание воды, — вот и все, что он увидел и услышал.
Это было не слишком привлекательное зрелище. Гофман закрыл окно, позавтракал и вышел из дому, намереваясь прежде всего повидаться со своим другом Захарией Вернером.
Но, уже готовясь выбрать направление, он вспомнил, что Вернер так и не прислал ему своего адреса, без которого найти его будет трудновато.
Гофман приуныл.
Но он тотчас взял себя в руки.
«Какой же я глупец! Ведь то, что люблю я, любит и Захария. Я мечтаю посмотреть картины, значит, и Захария, уж верно, захочет их посмотреть. Я найду либо его самого, либо его след в Лувре. Итак, иду в Лувр».
Лувр был виден с моста. Гофман направился ко дворцу.
Но у дверей его он с горечью услышал, что, с тех пор как французы стали свободной нацией, они не услаждают свой взор живописью рабов и что, даже допуская невозможное — допуская, что Парижская коммуна еще не побросала в огонь все эти тряпки, чтобы разжечь печи литейных заводов, изготовляющих оружие для французов, следует все же беречь картины, а не кормить их маслом крыс, предназначенных в пищу патриотам, когда пруссаки начнут осаду Парижа.
Гофман почувствовал, что на лбу у него выступает пот; человек, который произнес эту тираду, говорил с видом оратора, сознающего свою значительность.
Этого говоруна восторженно приветствовали.
От одного из присутствующих Гофман узнал, что он имел честь беседовать с гражданином Симоном, воспитателем «детей Франции» и хранителем королевских музеев.
«Итак, картин я не увижу, — со вздохом сказал себе Гофман, — вот досада! Но я пойду в библиотеку покойного короля и, поскольку нет картин, посмотрю эстампы, медали и рукописи, увижу гробницу Хильдерика, родителя Хлодвига, а также небесный и земной глобусы отца Коронелли».
Придя туда, Гофман огорчился: он услышал, что французская нация, рассматривая науку и литературу как источники коррупции и безразличия к гражданскому долгу, закрыла все учреждения, где составляли заговоры мнимые ученые и мнимые литераторы, — закрыла исключительно из чувства гуманности, чтобы избавить себя от труда отправить этих бедняг на гильотину. Впрочем, и при тиране библиотека была открыта только два раза в неделю.
Гофману пришлось уйти ни с чем; ему пришлось даже забыть о том, чтобы навести справки о своем друге Захарии.
Но так как это был человек упрямый, то он решил во что бы то ни стало посмотреть музей Сент-Авуа.
Тут он услышал, что владелец его позавчера был гильотинирован.
Он дошел до Люксембургского дворца, но тот был превращен в тюрьму. Чувствуя, что его силы и мужество на исходе, он направился к своей
гостинице, чтобы дать отдых ногам, помечтать об Антонии, о Захарии и выкурить в одиночестве добрую трубку, которой хватит на два часа.
Но — о чудо! — эта самая Цветочная набережная, такая тихая, такая пустынная, сейчас была черна от множества сбежавшихся сюда людей: они бесновались и вопили истошными голосами.
Невысокий ростом, Гофман ничего не видел за спинами этих людей; работая локтями, он быстро пробился сквозь толпу и вернулся к себе в комнату.
Он подошел к окну.
Все взгляды тотчас же обратились к нему, и на мгновение он смутился, когда заметил, как мало окон было открыто. Однако окно Гофмана скоро перестало вызывать любопытство собравшихся — их привлекло нечто другое, и молодой человек поступил так же, как и другие: он устремил взор на вход в большое черное здание с остроконечной крышей; над крышей возвышалась квадратная тяжеловесная масса приземистой колоколенки.
Гофман позвал хозяйку.
— Гражданка, — обратился он к ней, — скажите, пожалуйста, что это за здание?
— Это Дворец, гражданин.
— А что делают в этом Дворце?
— Во Дворце правосудия судят, гражданин.
— Я думал, что у вас больше нет судов.
— Конечно, нет! У нас теперь только Революционный трибунал.
— Ах да, верно! А почему тут такая толпа?
— Люди ждут, когда приедут повозки.
— Какие повозки? Ничего не понимаю; вы уж простите меня: я ведь иностранец.
— Гражданин! Повозки — это все равно что похоронные дроги для тех людей, кого везут на смерть.
— Ах, Боже мой!
— Ну да, утром туда приводят заключенных, которых будет судить Революционный трибунал.
— Так.
— К четырем часам всех заключенных осуждают и размещают на повозках, которые гражданин Фукье реквизировал для этой цели.
— Кто этот гражданин Фукье?
— Общественный обвинитель.
— Так-так; ну, а дальше?
— Дальше повозки не спеша отправляются на площадь Революции, а там гильотина работает без передышки.
— Да что вы?
— Как! Вы выходили из дому и не взглянули на гильотину?! Да это первое, что идут смотреть иностранцы! Похоже, только у нас, у французов, и есть эти самые, гильотины.
— Примите мои поздравления, сударыня.
— Называйте меня «гражданка».
— Прошу прощения.
— Смотрите, вот они, повозки-то, — подъезжают.
— Вы уходите, гражданка?
— Да, не хочется мне больше смотреть на это. И хозяйка направилась к двери.
Гофман мягким движением взял ее за руку.
— Извините, я хочу задать вам один вопрос.
— Задайте.
— Почему вы сказали, что вам больше не хочется смотреть на это? Я бы на вашем месте сказал, что мне вообще не хочется на это смотреть.
— Видите ли, какое дело, гражданин: сперва на гильотину отправляли аристократов, и все они казались очень злыми. Они-то уж не склоняли голову, и у всех у них вид был такой вызывающий, такой заносчивый, что нелегко им было нас разжалобить и довести до слез. На их казнь смотрели прямо-таки с удовольствием. Отличное было зрелище — борьба мужественных врагов нации со смертью. Но как-то раз я увидела, что на повозку взбирается старик, и голова его ударяется о стенки повозки. Просто жалость брала смотреть на него. На следующий день я увидела монашек. Еще через день я увидела мальчонку лет четырнадцати, и в конце концов увидела в одной повозке молоденькую девушку, а в другой — ее мать, и эти две бедняжки посылали друг другу воздушные поцелуи и ни словечка не говорили. Они были такие бледненькие, и глаза у них были такие печальные, и такая обреченная улыбка была на их губах, а пальцами они шевелили только для того, чтобы послать воздушный поцелуй, и так они дрожали и такие были белые-белые, что до самой смерти я этого ужасного зрелища не забуду, и вот тогда-то я и поклялась, что никогда больше не буду смотреть на это.
— А-а! — сказал Гофман, отходя от окна. — Это было так же, как сейчас?
— Да, гражданин. Эй! Что вы делаете?
— Закрываю окно.
— Зачем?
— Чтобы не видеть этого.
— Да ведь вы же мужчина!
— Видите ли, гражданка, я приехал в Париж, чтобы изучать искусство и дышать воздухом свободы. Так вот: если бы, на свое несчастье, я увидел одно из тех зрелищ, о которых вы сейчас рассказывали, если бы я увидел, как увозят на смерть девушку или женщину, которым жаль расставаться с жизнью, я вспомнил бы о своей невесте, ведь я так люблю ее, гражданка, и быть может, она… Нет, гражданка, я не останусь больше в этой комнате; нет ли у вас другой — с окном на противоположную сторону?
— Тсс! Вы говорите чересчур громко, несчастный вы человек, и если вас услышат мои служители…
— Ваши служители! Что это еще за служители?
— Это республиканское название слуг.
— Ну, хорошо, а что произойдет, если ваши слуги меня услышат?
— Произойдет то, что дня через три в четыре часа пополудни я получу полную возможность увидеть вас на одной из этих повозок.
Произнеся это загадочное предсказание, добрая женщина быстро спустилась вниз. Гофман пошел следом за ней.
Он выскользнул из дому, решившись убежать от популярного зрелища любой ценой.
Когда он дошел по набережной до угла, сверкнули сабли жандармов, толпа дрогнула, люди взвыли и пустились бежать.
Гофман со всех ног помчался к улице Сен-Дени и как сумасшедший бросился бежать по ней; он, как косуля, кидался в разные стороны и, то и дело сворачивая в маленькие улочки, исчез в запутанной сети переулков: этот лабиринт тянулся от набережной Железного Лома до Рынка.
Наконец он увидел, что очутился на улице Железного Ряда, и перевел дух; чутье поэта и художника подсказало ему: вот место, известное тем, что здесь был убит Генрих IV.
Не останавливаясь, не переставая идти вперед, он добрался до середины улицы Сент-Оноре. Лавочки закрывались одна за другой. Безмолвие этого квартала приводило Гофмана в изумление: не только лавочки закрывались, но и окна некоторых домов завешивались, и притом так тщательно, словно был дан некий сигнал.
Вскоре Гофману все стало понятно; он увидел, что фиакры поворачивают на боковые улицы, он услышал конский галоп и понял, что это жандармы; позади них в спускающихся вечерних сумерках он смутно различил отвратительное скопище лохмотьев, поднятые руки, размахивающие пиками, и горящие глаза.
А посреди всего этого ехала повозка.
Этот вихрь, налетевший на Гофмана так внезапно, что тот не успел спрятаться или убежать, донес до его слуха чьи-то крики, крики до того пронзительные, до того жалостные, что ему отроду не доводилось слышать таких страшных воплей.
На повозке везли женщину, одетую в белое. Эти крики исторгали уста, душа, все ее тело, возвышавшееся над повозкой.
Гофман почувствовал, что ноги у него подкашиваются. Нервы его не выдержали, он рухнул на каменную тумбу и прислонился головой к ставням какой-то лавочки: их так спешили захлопнуть, что они остались неплотно закрытыми.
Повозка ехала в окружении эскорта, состоявшего из бандитов и омерзительных женщин, — эти повозки всегда ехали в таком сопровождении; но — странное дело! — все это отребье не орало, все это воронье не каркало, — только сама жертва извивалась в руках двух мужчин и взывала к небу, к земле, к людям, к неживым предметам.
Внезапно сквозь щель в ставне Гофман услышал прямо у себя над ухом голос молодого человека:
— Вот и ты, бедняжка, Дюбарри!
— Госпожа Дюбарри! — воскликнул Гофман, — Так это она?! Так это ее везут на повозке?!
— Да, сударь, — раздался в ответ тихий, грустный голос так близко от уха нашего путешественника, что сквозь щель между створками ставня тот ощутил теплое дыхание своего собеседника.
Бедняжка Дюбарри держалась прямо, судорожно ухватившись за передок повозки; ее темно-русые волосы — венец ее красоты — были срезаны на затылке, но длинные, мокрые от пота пряди ниспадали у нее с висков; прекрасная, с огромными глазами, перебегающими с предмета на предмет, с маленьким ротиком — слишком маленьким для тех страшных криков, которые она испускала, — несчастная женщина время от времени конвульсивно встряхивала головой, чтобы отбросить волосы, закрывавшие ей лицо.
Проезжая мимо каменной тумбы, на которую опустился обессилевший Гофман, она закричала: «Помогите! Спасите меня! Я ничего плохого не сделала! Помогите!» — и едва не опрокинула державшего ее помощника палача.
Этот крик «Помогите!» не переставал звучать среди глубокой тишины, не нарушаемой присутствующими. Эти фурии, всегда осыпавшие оскорблениями мужественных осужденных, были взволнованы неудержимым порывом ужаса, охватившего эту женщину; они чувствовали, что, как бы они ни кричали, им все равно не заглушить ее отчаянных воплей; все это было близко к безумию и достигало вершин истинной трагедии.
Гофман встал; ему казалось, что сердце остановилось у него в груди; он пустился бежать за повозкой вместе со всеми — еще одна тень присоединилась к этой процессии призраков, составлявших последний эскорт королевской фаворитки.
Госпожа Дюбарри увидела его и снова закричала:
— Пощадите! Пощадите! Я отдам нации все мое состояние! Сударь, спасите меня!..
«О Боже, она заговорила со мной, — подумал молодой человек. — Бедная женщина! Ее взгляды стоили так дорого, ее слова были бесценны, и вот она заговорила со мной!»
Он остановился. Повозка добралась до площади Революции. В темноте, совсем сгустившейся из-за холодного дождя, Гофман различал теперь только два силуэта: то был белый силуэт жертвы и красный силуэт эшафота.
Он видел, как палачи тащили белую фигуру вверх по лестнице. Он видел, как она изгибалась, вырываясь из рук своих мучителей, но внезапно, не переставая испускать ужасающие крики, несчастная женщина потеряла равновесие и упала на роковую доску.
Гофман слышал, как она кричала: «Сжальтесь, господин палач! Еще минуточку, господин палач!..» Это был конец: лезвие упало, отбросив рыжеватый отблеск.
Гофман скатился в ров, окружавший площадь.
Это была впечатляющая картина для художника, приехавшего во Францию в поисках мыслей и впечатлений.
Бог только что сделал его очевидцем слишком жестокой кары для той, что внесла свою лепту в гибель монархии.
Гнусное убийство Дюбарри он воспринял как отпущение грехов несчастной женщины. Значит, по крайней мере, на душе ее никогда не было греха гордыни, раз она даже не сумела умереть! Впрочем, умение умирать — увы! — в те времена было высшей добродетелью тех, кому неведом был порок.
В тот день Гофман подумал, что, коль скоро он приехал во Францию затем, чтобы увидеть события небывалые, значит, он приехал не напрасно.
И тут его несколько утешила философия истории.
«Остается еще театр, — сказал он себе, — пойдем в театр. Я знаю, что после актрисы, которую я видел только что, оперные или трагические актрисы не произведут на меня впечатления, но я буду снисходителен. Нельзя слишком много требовать от женщин, умирающих ради забавы. Только вот я постараюсь хорошенько запомнить эту площадь, чтобы больше никогда в жизни не проходить по ней».
IX. «СУД ПАРИСА»
Гофману были свойственны внезапные смены настроения. После площади Революции, после шумной толпы, теснившейся вокруг эшафота, после темного неба, после крови ему были необходимы блеск люстр, оживленная публика, цветы — одним словом, жизнь. Он отнюдь не был уверен в том, что благодаря всему этому страшное зрелище изгладится из его памяти, но ему захотелось, по крайней мере, рассеяться и убедиться в том, что на свете есть еще люди, которые живут и смеются.
Итак, Гофман направился к Опере, но добрался он до нее, сам не зная как. Сама судьба влекла его вперед, и он следовал за ней, как слепой идет за собакой-поводырем, а дух его бродил совсем в иных местах, среди совсем иных впечатлений.
Так же как и на площади Революции, народ толпился на бульваре, где в те времена находился Оперный театр и где ныне находится театр Порт-Сен-Мартен.
Гофман остановился перед толпой и посмотрел на афишу.
В тот день шел «Суд Париса» — балет-пантомима в трех действиях сына учителя танцев Марии Антуанетты, г-на Гарделя-младшего, ставшего при императоре главным балетмейстером парижской Оперы.
— «Суд Париса», — пробормотал поэт, пристально глядя на афишу, словно стараясь с помощью слуха и зрения запечатлеть в мозгу эти два слова: «Суд Париса».
Он без конца повторял слоги, составляющие название балета, казавшееся ему лишенным всякого смысла, — с таким трудом голова его избавлялась от заполнивших ее ужасных воспоминаний, чтобы освободить место произведению с сюжетом, позаимствованным г-ном Гарделем-младшим из «Илиады» Гомера.
До чего ж причудливой была эта эпоха, когда утром люди могли смотреть, как выносят приговор, в четыре часа дня — смотреть, как он приводится в исполнение, а вечером того же дня — смотреть балет и еще, чего доброго, отправиться в тюрьму после всех этих впечатлений!
Гофман понял, что, если какой-нибудь сердобольный человек не объяснит ему, какой спектакль сегодня дают, сам он этого так и не поймет, да, пожалуй, еще и сойдет с ума перед этой самой афишей.
Он подошел к какому-то тучному господину, стоявшему в очереди вместе с женой, — тучные господа во все времена питали такое пристрастие — стоять в очередях вместе со своими женами — и спросил:
— Сударь, что идет в театре сегодня вечером?
— Вы прекрасно видите на афише, сударь, — отвечал тучный господин, — что сегодня идет «Суд Париса».
— «Суд Париса»… — повторил Гофман. — Ах да, суд Париса! Я знаю, что это такое.
Тучный господин посмотрел на этого странного вопрошающего и пожал плечами с видом глубочайшего презрения к молодому человеку, который, живя в эпоху, столь похожую на миф, мог хоть на мгновение забыть о том, что такое суд Париса.
— Не желаете ли купить содержание балета, гражданин? — подойдя к Гофману, спросил продавец программ, в которых излагалось либретто.
— Да, да, давайте!
Для нашего героя это было самым веским доказательством того, что он действительно идет на спектакль, а он нуждался в этом доказательстве. Он раскрыл брошюрку и взглянул на текст.
Либретто было кокетливо отпечатано на прекрасной белой бумаге и украшено предисловием автора.
«Что за удивительное создание человек! — подумал Гофман, глядя на строчки предисловия, которые еще не прочитал, но собирался прочитать. — Вечно оставаясь частью общей массы людей, он все же эгоистично и равнодушно идет один дорогой своих интересов и своего честолюбия! И вот некий человек, по имени господин Гардель-младший, ставит свой балет пятого марта тысяча семьсот девяносто третьего года — другими словами, через полтора месяца после казни короля, другими словами — через полтора месяца после одного из величайших событий в мире, — и что же? В день, когда состоялось первое представление, у него были свои волнения наряду с волнением общим; сердце его начинало биться, когда раздавались аплодисменты, и если в эту минуту с ним заговорили о событии, от которого все еще содрогался мир, и если при нем назвали имя Людовика Шестнадцатого, он, быть может, воскликнул: „Людовик Шестнадцатый? А кто это такой?“ А потом, как если бы начиная с того дня, когда он показал свой балет публике, весь мир должен был интересоваться только этим событием в хореографии, он сочинил предисловие к либретто своей пантомимы. Ну что ж! Прочтем это предисловьице и посмотрим, смогу ли я, закрыв дату его написания, обнаружить в нем следы тех событий, во время которых оно появилось на свет».
Гофман облокотился на балюстраду и прочел нижеследующее:
«Я всегда замечал, что в сюжетных балетах именно красочные декорации, равно как и разнообразные, веселые дивертисменты прежде всего привлекают к себе внимание публики и вызывают бурные аплодисменты».
«Что и говорить, замечание любопытное! — подумал Гофман; прочитав эту наивную первую фразу, он был не в силах удержаться от улыбки. — Он заметил, что в балетах привлекают наибольшее внимание красочные декорации, равно как и разнообразные, веселые дивертисменты! Как это учтиво по отношению к господам Гайдну, Плейелю и Меюлю, написавшим музыку к „Суду Париса“! Посмотрим, что дальше».
«Руководствуясь этим наблюдением, я искал такой сюжет, благодаря которому могли бы блеснуть великие таланты, какими обладает парижская Опера в области танца, и который позволил бы мне развить те мысли, что могла подарить мне судьба. История поэзии — это плодородное поле; его должен возделать балетмейстер; на этом поле произрастают и тернии, и надобно уметь их удалить, чтобы сорвать розу».
— Ну и ну! Эти слова надо поместить в золотую рамку! — воскликнул Гофман. — Подобные вещи пишутся только во Франции!
И он принялся перелистывать брошюру, собираясь продолжить занимательное чтение; оно начинало его забавлять, но мысль его, ушедшая было от того, что владело ею на самом деле, стала медленно возвращаться к этому; буквы сливались под блуждающим взглядом Гофмана, рука его, державшая «Суд Париса», опустилась, и, понурив голову, он прошептал:
— Бедная женщина!
То была тень г-жи Дюбарри, еще раз промелькнувшая в памяти молодого человека.
Он тряхнул головой, словно желая прогнать прочь мрачное видение, и, сунув в карман брошюру г-на Гарделя-младшего, купил билет и вошел в театр.
Зал был полон; он блистал драгоценностями, шелками, цветами и обнаженными плечами. В зале стоял сильный гул — гул пустой болтовни надушенных женщин, похожий на гудение множества мух, летающих в бумажной коробке; эта болтовня оставляет в сознании едва заметный след — такой след оставляют крылья бабочки на пальцах ребенка, который поймал ее и через две минуты, не зная, что с ней делать, поднимает руки и выпускает ее на свободу.
Место Гофмана было в партере; он заразился общим возбуждением всего зала, и у него мелькнула мысль, что он находится здесь с самого утра и что эта страшная казнь, так и стоявшая у него перед глазами, была кошмаром, а не реальным событием. И тут он, — а у его памяти, как и у памяти любого человека, было два светильника: один в сердце, другой в голове, — следуя естественному течению радостных мыслей, незаметно для самого себя воскресил в душе образ милой девушки, оставленной им в Германии; он чувствовал, что его второе сердце — ее медальон — бьется вместе с его живым сердцем. Он смотрел на окружающих его женщин — на их белые плечи, на их белокурые и темные волосы, на их гибкие руки, на их пальцы, игравшие пластинками вееров или кокетливо поправлявшие цветы в прическе, и улыбался, повторяя про себя имя Антонии, словно одного этого имени было достаточно для того, чтобы эти женщины не выдержали даже сравнения с ней; достаточно для того, чтобы перенести его в мир воспоминаний, которые были для него в тысячу раз прекраснее, нежели женщины, окружавшие его в настоящую минуту, как бы красивы они ни были. Потом, словно этого все еще было мало, словно он боялся, как бы образ, вновь и вновь возникавший перед его внутренним взором, не перестал быть тем идеалом, что он являл собою, Гофман осторожно сунул руку за пазуху и схватил медальон тем движением, каким робкая девочка схватывает птичку, сидящую в своем гнезде; а затем, убедившись, что никто не может увидеть и осквернить нескромным взглядом прелестный образ, который он держал в руке, он осторожно поднял портрет молодой девушки, поднес его к глазам, с минуту смотрел на него обожающим взглядом, потом, благоговейно приложившись к нему губами, снова спрятал его на сердце так, чтобы никто не мог догадаться об охватившей его радости, — просто этот юный зритель с черными волосами и бледным лицом сунул руку в карман жилета.
В этот момент дали сигнал к началу представления и по оркестру весело побежали первые звуки увертюры, — так по роще несутся крики рассерженных зябликов.
Гофман сел и, стараясь вновь стать таким же, как все люди, то есть внимательным зрителем, весь обратился в слух.
Но через пять минут он уже не слушал и слушать не желал; не такая это была музыка, которая могла привлечь внимание Гофмана; к тому же ему приходилось дважды прослушивать одно и то же, поскольку его сосед, явный завсегдатай Оперы и почитатель господ Гайдна, Плейеля и Меюля, своим слабеньким фальцетом с безупречной точностью напевал вполголоса мелодии вышеупомянутых композиторов. К аккомпанементу голоса любитель музыки присоединил еще и аккомпанемент пальцев, с изумительным проворством отбивая своими длинными острыми ногтями такт на табакерке, которую он держал в левой руке.
С вполне естественным любопытством, неотъемлемым и важнейшим свойством всякого наблюдателя, Гофман принялся рассматривать эту особу, являвшую собой отдельный оркестр, отпочковавшийся от главного оркестра.
В самом деле, особа эта заслуживала внимания.
Представьте себе маленького человечка в черном сюртуке, черном жилете и черных панталонах, в белой рубашке и белом галстуке, причем такой ослепительной белизны, что для глаз они были почти так же утомительны, как серебристый блеск снега. Закройте до половины руки этого маленького человека — руки худые, прозрачные, как воск, и выделяющиеся на черных панталонах так резко, как если бы они были освещены изнутри, — закройте эти руки батистовыми манжетами, тщательнейшим образом плиссированными и мягкими, как лепестки лилии, — и перед вами будет все его туловище. А теперь посмотрите на его голову, причем посмотрите на нее так, как смотрел Гофман, то есть с любопытством и удивлением. Представьте себе лицо овальной формы, лоб, гладкий, как слоновая кость, и редкие рыжие волосы, торчащие то тут, то там, словно кусты на равнине. Удалите с этого лица брови и под тем местом, где им полагается быть, сделайте две щелки, вставьте глаза, холодные, как стекло, и почти всегда неподвижные; о таких глазах смело можно подумать, что они безжизненны, ибо тщетно вы стали бы искать в них ту блестящую точку, ту искорку, которую Бог поместил в глаз и в которой словно сосредоточена сама жизнь. В этих глазах, голубых, как сапфиры, не увидишь ни мягкости, ни суровости. Они видят — это правда, — но они не смотрят. Тонкий, узкий, длинный и острый нос, маленький рот с полураскрытыми губами, а между ними виднеются зубы — не то чтобы белые, но того же воскового цвета, что и кожа, словно они получили легкую дозу бледной крови и обрели окраску, — острый подбородок, выбритый тщательнейшим образом, выпирающие скулы, впалые щеки, в углубление каждой из которых можно было бы положить по ореху, — таковы были отличительные черты зрителя, сидевшего рядом с Гофманом.
Этому человеку можно было дать лет пятьдесят, но с тем же основанием можно было дать и тридцать. Ему могло быть и восемьдесят — ничего неправдоподобного в этом не было бы. Но ему могло быть всего-навсего двенадцать, и это было бы не так уж невероятно. Казалось, он появился на свет таким, каким он был теперь. Вне всякого сомнения, моложе, чем сейчас, он никогда не был, и вполне возможно, что родился он более старым, чем был теперь.
Человек, прикоснувшийся к нему, вероятно, испытал бы такое ощущение, словно прикоснулся к змее или же к покойнику.
Но как бы то ни было, музыку он очень любил.
Время от времени он еще шире разевал рот — так проявлялось у него наслаждение меломана, — и три совершенно одинаковые маленькие складки описывали полукруг у краев его губ по обе стороны рта и застывали минут на пять, а затем постепенно исчезали: так упавший в воду камень образует круги, что все ширятся и ширятся до тех пор, пока окончательно не сольются с поверхностью воды.
Гофман неотрывно глядел на этого человечка; тот чувствовал, что за ним наблюдают, и, однако, не шевелился. Его неподвижность была такова, что наш поэт, — а в его воображении уже в то время созревало зерно, из которого должен был вырасти Коппелиус, — опершись обеими руками на спинку кресла переднего ряда, наклонился вперед и, повернув голову вправо, попробовал рассмотреть лицо того, кого он видел только в профиль.
Маленький человечек без удивления посмотрел на Гофмана, улыбнулся ему с легким дружеским кивком и продолжал, глядя в одну точку — точку, невидимую для всех, кроме него, — аккомпанировать оркестру.
«Странно! — заметил про себя Гофман, вновь усаживаясь в кресло, — я мог бы держать пари, что это не живой человек».
И хотя юноша видел, как его сосед шевельнул головой, он все же, словно не был убежден, что живы прочие части его тела, снова устремил взгляд на руки этой особы. И тут его поразило одно обстоятельство: на табакерке в руке соседа, — на эбеновой табакерке, — сверкал бриллиантовый череп.
В тот день в глазах Гофмана все принимало фантастическую окраску, но он решил положить этому конец и, наклонившись вниз так же, как прежде наклонился вперед, уставился на табакерку, причем губы его едва не касались рук ее хозяина.
Человек, рассматриваемый таким образом, видя, сколь огромный интерес вызывает его табакерка у соседа, молча протянул ему эту вещицу, чтобы тот со всеми удобствами мог разглядеть ее.
Гофман взял табакерку в руки, раз двадцать повернул ее то так, то сяк, потом раскрыл.
Внутри был табак!
X. АРСЕНА
Разглядев табакерку с величайшим вниманием, Гофман возвратил ее лекарю, молча поблагодарив его кивком, на что владелец табакерки ответил столь же вежливо, но еще более молчаливо, если это возможно.
«А теперь посмотрим, умет ли он говорить», — подумал Гофман и, повернувшись к своему соседу, сказал:
— Прошу извинить мою нескромность, сударь, но этот маленький бриллиантовый череп, украшающий вашу табакерку, поразил меня с самого начала, ибо это довольно редкое украшение для коробочки, где хранится табак.
— Вы правы; я полагаю, что табакерка эта единственная в своем роде, — отвечал незнакомец металлическим голосом, звуки которого напоминали звяканье рассыпаемых серебряных монет, — я получил ее от благодарных наследников: я лечил отца этих людей.
— Так вы лекарь?
— Да, сударь.
— И вам удалось вылечить отца этих молодых людей?
— Напротив, сударь; мы имели несчастье потерять его.
— Теперь я понимаю, что означает слово «благодарность». Лекарь засмеялся.
Его реплики не мешали ему все время напевать, и, не переставая напевать, он продолжал:
— Да, я вполне убежден в том, что убил старика.
— Как убили?
— Я испробовал на нем одно новое средство. И что бы вы думали? Через час он умер. Спору нет, это очень забавно.
И он снова замурлыкал.
— Вы как будто любите музыку, сударь? — спросил Гофман.
— Да, сударь, больше всего на свете.
«Черт возьми! — подумал Гофман. — Этот человек ничего не смыслит ни в музыке, ни в медицине».
Но тут поднялся занавес.
Странный доктор взял понюшку табаку и с видом человека, не желающего упустить ни одной детали из спектакля, который он пришел посмотреть, откинулся на спинку кресла так, чтобы ему было как можно удобнее сидеть.
Но вдруг, словно сообразив что-то, он спросил Гофмана:
— Вы немец, сударь?
— Не отрицаю.
— Я узнал, какой вы национальности, по вашему акценту. Прекрасная страна, отвратительный акцент.
Гофман поклонился в ответ на эту фразу, где в первой половине был мед, а во второй — желчь.
— А зачем вы приехали во Францию?
— Чтобы увидеть ее.
— А что вы уже успели повидать?
— Я видел гильотину, сударь.
— Вы были сегодня на площади Революции?
— Да.
— Стало быть, вы находились там при казни госпожи Дюбарри?
— Да, — со вздохом отвечал Гофман.
— Я хорошо знал ее, — продолжал доктор, сопровождая свои слова доверительным взглядом и растягивая слово «знал», чтобы как можно сильнее подчеркнуть его значение. — Красивая была женщина, что и говорить!
— Вы и ее тоже лечили?
— Нет, я лечил ее негра Замора.
— Негодяй! Мне сказали, что он-то и донес на свою хозяйку.
— Да, этот милый негритенок — ярый патриот.
— Вы должны были бы сделать с ним то же самое, что сделали с тем стариком, — вы понимаете, о ком я говорю? — с владельцем табакерки.
— А зачем? У него-то ведь наследников нету! И смешок доктора прозвенел снова.
— А вы, милостивый государь, не присутствовали при сегодняшней казни? — вновь задал вопрос Гофман, чувствовавший непреодолимую потребность поговорить с кем-нибудь о несчастном создании, чей окровавленный образ неотступно преследовал его.
— Нет. Она похудела?
— Кто?
— Графиня.
— Не могу вам сказать, сударь.
— Почему?
— Потому что я увидел ее на повозке первый раз в жизни.
— Вы много потеряли. А мне это небезынтересно, так как я знавал ее в те времена, когда она была очень полной, но завтра я пойду погляжу на ее тело. Ох! Смотрите, смотрите!
И, произнеся эти слова, лекарь показал на сцену, где в эту минуту г-н Вестрис, исполнявший партию Париса, появился на горе Ида, весьма изысканно любезничая с нимфой Эноной.
Гофман посмотрел в ту сторону, куда указал его сосед, но затем, убедившись, что внимание непонятного лекаря в самом деле поглощено происходящим на сцене и что все сказанное и услышанное сейчас не оставило в его мыслях и следа, подумал: «Любопытно было бы увидеть этого человека плачущим».
— Вам известен сюжет балета? — вновь задал ему вопрос доктор после молчания, продолжавшегося несколько минут.
— Нет, сударь.
— О! Это очень интересно. Есть даже трогательные моменты. Иной раз у меня и у одного из моих друзей глаза бывают на мокром месте.
«Один из его друзей! — беззвучно прошептал поэт. — Что же представляет собой друг этого человека? Уж верно, это могильщик».
— Браво! Браво, Вестрис! — заверещал маленький человечек, хлопая в ладошки.
Для выражения своего восторга лекарь выбрал момент, когда Парис, как гласил сценарий балета в программе, купленной Гофманом у входа в театр, хватает свой дротик и мчится на помощь пастухам, в страхе убегающим от огромного льва.
— Я не любопытен, но увидеть льва мне все-таки хотелось бы.
Этим закончилось первое действие.
Тут доктор встал, повернулся лицом к зрительному залу, оперся на спинку кресла переднего ряда и, сменив табакерку на маленький лорнет, принялся лорнировать женщин, наводнявших зал.
Гофман машинально проследил за направлением лорнета и с удивлением заметил, что особа, на которой он остановил свой взгляд, тотчас вздрогнула и немедленно устремила взор на того, кто ее лорнировал, причем так, словно ее принудила к этому какая-то незримая сила. Она оставалась в этой позе до тех пор, пока доктор не перестал на нее смотреть.
— А этот лорнет вы тоже получили от какого-нибудь наследника, сударь? — спросил Гофман.
— Нет, я получил его от господина де Вольтера.
— Так вы и его знали?
— Прекрасно знал, мы с ним были весьма близки.
— Вы лечили его?
— Он не верил в медицину. По правде говоря, он мало во что верил.
— А правда ли, что он исповедался перед смертью?
— Он, сударь? Аруэ? Полноте! Он не только не исповедался — он дал славный отпор священнику, который пришел к нему. Я могу рассказать вам об этом во всех подробностях, — я ведь при сем присутствовал.
— Что же там произошло?
— Аруэ собрался умереть; приходит к нему Терсак — местный кюре — и тоном человека, не желающего напрасно тратить время, спрашивает его:
«Сударь, верите ли вы в Пресвятую Троицу?»
«Сударь, прошу вас, дайте мне спокойно умереть», — отвечает Вольтер.
«Однако, сударь, — настаивает Терсак, — мне необходимо знать, признаете ли вы Иисуса Христа сыном Божьим?»
«Черт возьми! — кричит Вольтер. — Не говорите мне больше об этом человеке!»
И, собрав последние силы, он ударяет кюре кулаком по голове и умирает. Как я смеялся! Господи, как я смеялся!
— В самом деле, тут есть чему посмеяться, — с презрением в голосе сказал Гофман. — Впрочем, это конец, достойный автора «Девственницы».
— О! «Девственница»! — воскликнул черный человечек. — Какая превосходная вещь, сударь! Какое восхитительное произведение! Я знаю только одну книгу, которая может с ней соперничать.
— Что же это за книга?
— «Жюстина» господина де Сада; вы знаете «Жюстину»?
— Нет, сударь.
— А маркиза де Сада?
— Тоже не знаю.
— Видите ли, сударь, — с энтузиазмом продолжал доктор, — «Жюстина» — это самая безнравственная книга в мире, это Кребийон-сын, распоясавшийся окончательно, это великолепная вещь! Я лечил одну молодую девушку, которая ее читала.
— И она умерла так же, как умер ваш старик?
— Да, сударь, только она умерла, будучи очень счастливой.
И взгляд лекаря засверкал от удовольствия при воспоминании о причинах этой смерти.
Дали сигнал к началу второго действия. Это не огорчила Гофмана: сосед наводил на него ужас.
— Ага! Сейчас мы увидим Арсену, — усаживаясь и улыбаясь довольной улыбкой, объявил доктор.
— Кто это — Арсена?
— Вы не знаете ее?
— Нет, сударь.
— Ах, вот как! Ну так вы ничего не знаете, молодой человек. Арсена — это Арсена, этим все сказано; впрочем, сейчас вы ее увидите.
И еще до того как оркестр сыграл хотя бы одну ноту, лекарь начал напевать вступление ко второму действию.
Занавес поднялся.
Сцена представляла собой «колыбель из зелени и цветов, пересекаемых ручейком, который берет начало у подножия скалы».
Гофман уронил голову на руки.
То, что он видел, то, что он слышал, никак не могло отвлечь его от мрачных воспоминаний и от скорбных мыслей, которые привели его туда, где он находился.
«А что изменилось бы, — думал он, внезапно возвращаясь к впечатлениям сегодняшнего дня, — что изменилось бы в мире, если бы эту несчастную женщину пощадили? Какое возникло бы зло, если бы ее сердце продолжало биться, а грудь — дышать? Какое случилось бы несчастье из-за этого? Зачем нужно было внезапно обрывать эту жизнь? По какому праву люди останавливают полет жизни на середине? Она вполне могла бы находиться среди всех этих женщин, но ее бедное тело, тело, которое любил некий король, теперь зарыто в кладбищенской грязи — без цветов, без креста и без головы. Как она кричала! Господи, как она кричала! А потом вдруг…»
Гофман закрыл лицо руками.
«Что я здесь делаю? — спросил он себя. — О! Я уйду отсюда».
Быть может, он и в самом деле ушел бы, но тут он поднял голову и увидел на сцене танцовщицу, не участвовавшую в первом действии: на нее смотрел весь зал, застыв и затаив дыхание.
— О, какая красавица! — воскликнул Гофман так громко, что и соседи, и даже сама танцовщица не могли его не услышать.
Та, что вызвала его внезапный восторг, посмотрела на молодого человека, у которого непроизвольно вырвалось это восклицание, и Гофману показалось, что она поблагодарила его взглядом.
Он покраснел и вздрогнул, словно по телу его пробежал электрический ток.
Арсена — это была она, та самая танцовщица, чье имя назвал старикашка, — действительно была прелестным созданием, и в красоте ее не было ровно ничего от красоты банальной.
Она была высокого роста, восхитительно сложена; прозрачная бледность покрывала ее щеки под слоем румян. Ступни ее были совсем крошечные, и, когда она скользила по паркету сцены, можно было подумать, что пуанты ее касаются облаков, ибо ни малейшего шороха при этом не было слышно. Талия ее была такой тонкой, такой гибкой, что даже змейка не могла бы извиваться и кружиться так, как эта женщина. Каждый раз, как она выгибалась, можно было подумать, что ее корсет лопнет, но по энергии ее танца, по ее сильному телу, по уверенности в себе ее совершенной красоты и пылкой натуры зрители догадывались, что, подобно Мессалине античных времен, она, быть может, иногда и устает, но никогда не пресыщается. Она не улыбалась привычной улыбкой танцовщицы, — ее пурпурные губы почти совсем не открывались, и вовсе не потому, чтобы им надо было прикрывать скверные зубы, — о нет: когда она послала улыбку Гофману, после того как он столь наивно выразил вслух свое восхищение, наш поэт мог увидеть двойной ряд столь белых, столь чистых жемчугов, что ее губы прятали их, несомненно, лишь затем, чтобы они не потускнели от воздуха. В ее черных, блестящих волосах с синим отливом вились широкие листья аканта, сверкали виноградные гроздья, и тень от них бегала по ее обнаженным плечам. Глаза у нее были большие, ясные, черные и такие сияющие, что их блеск озарял все вокруг, и если бы Арсене пришлось танцевать ночью, они осветили бы все вокруг нее. Оригинальность этой девушки увеличивалась оттого, что она, хотя это вовсе не было нужно, носила, играя роль или, точнее, исполняя партию нимфы, узкую черную бархатку, застегнутую пряжкой или, во всяком случае, чем-то похожим на пряжку, и предмет этот, весь усыпанный бриллиантами, ослепительно сверкал.
Лекарь смотрел на эту женщину во все глаза, и его душа — а душа, возможно, была даже у него, — казалось, вся была в полете молодой женщины. Заметно было, что, когда она танцевала, он не дышал.
Тут Гофман обратил внимание на нечто необыкновенное: куда бы ни двигалась Арсена — вправо или же влево, вперед или назад, — глаза ее не отрывались от глаз доктора, и между их взглядами установилась видимая связь. Более того: Гофман явственно различал, как лучи, бросаемые застежкой бархатки Арсены, и лучи, бросаемые черепом на табакерке доктора, встречаются на полдороге по прямой линии, соприкасаются друг с другом, сверкают, сияют, мечут целые снопы белых, красных, золотых искр.
— Будьте любезны, одолжите мне ваш лорнет, сударь, — сказал Гофман, тяжело дыша и не поворачивая головы, ибо он был не в состоянии оторвать взгляд от Арсены.
Доктор протянул руку Гофману, не сделав даже еле заметного движения головой, так что их руки, прежде чем встретиться, несколько мгновений искали друг друга в пустоте.
Гофман схватил лорнет и неотрывно стал смотреть в него.
— Странно! — прошептал он.
— Что странно? — спросил доктор.
— Ничего, ничего, — отвечал Гофман, которому хотелось все свое внимание отдать тому, что он видел, а то, что он видел, действительно было странно.
Лорнет так сильно приближал предметы к глазам, что раза три Гофман протягивал руку, надеясь поймать Арсену: теперь ему казалось, что она не в обрамляющем ее зеркале сцены, а между стеклами лорнета. Наш немец не упускал ни одной черты прелестной танцовщицы, и ее взоры, горевшие даже издали, теперь охватили его голову огненным кольцом и заставляли клокотать кровь в его висках.
Сердце молодого человека неистово колотилось в груди.
— Кто эта женщина? — спросил он слабым голосом, не шевелясь и не отнимая от глаз лорнета.
— Я уже сказал вам, что это Арсена, — ответил доктор, на лице которого, казалось, жили только губы: его неподвижный взгляд не отрывался от танцовщицы.
— У этой женщины, уж верно, есть любовник?
— Да.
— И она его любит?
— Говорят, что любит.
— А он богат?
— Очень богат.
— Кто он?
— Посмотрите налево, в нижнюю литерную ложу.
— Я не могу повернуть голову.
— Сделайте над собой усилие.
Гофман сделал усилие, которое причинило ему такую боль, что у него вырвался крик, словно его шейные позвонки были сделаны из мрамора и теперь сломались.
Он взглянул на указанную ему литерную ложу.
Там находился только один зритель, но он, устроившийся на обитой бархатом балюстраде и похожий на сидящего на задних лапах льва, казалось, заполнял собой всю ложу.
Это был человек лет тридцати двух-тридцати трех, с лицом, изборожденным страстями; можно было подумать, что не оспа, а извержение вулкана провело на его сплошь изрытых щеках эти глубокие, скрещивающиеся ложбины; глаза его, вероятно, были маленькими, но их широко раскрыла какая-то душевная боль; порою они были потухшими и пустыми, как угасший кратер, порою извергали пламя, как пылающий кратер. Когда он аплодировал, он не хлопал в ладоши, а стучал по балюстраде, и тогда казалось, что при каждом его ударе содрогается весь зал.
— А! — произнес Гофман. — Это тот человек, который сидит вон там?
— Да, да, это тот человек, — отвечал маленький черный человечек, — да, это тот человек, и к тому же это гордый человек.
— Как его зовут?
— А вы его не знаете?
— Да нет же, я только вчера сюда приехал.
— Ну так это Дантон.
— Дантон! — вздрогнув, произнес Гофман. — О-о! И он — любовник Арсены?
— Да, он любовник Арсены.
— И он, конечно, любит ее?
— До безумия. Он ужасный ревнивец.
Но как ни интересно было Гофману увидеть Дантона, он уже перевел взгляд на Арсену: в безмолвном танце ее было нечто фантастическое.
— Еще один вопрос, сударь.
— Пожалуйста.
— Что это за странный аграф, которым застегнута ее бархатка?
— Он сделан в виде гильотины.
— Гильотины?!
— Да. У нас эти штучки делают очень изящно, и все наши щеголихи носят не меньше одной. Ту, что носит Арсена, ей подарил Дантон.
— Гильотина! Гильотина на шее у танцовщицы! — повторил Гофман, чувствуя, что его череп вот-вот треснет. — Зачем ей гильотина?..
И тут наш немец, которого, должно быть, приняли за сумасшедшего, простер руки, словно для того, чтобы схватить танцовщицу, ибо благодаря странному оптическому обману расстояние, отделявшее его от Арсены, на мгновение исчезло и Гофману показалось, что он чувствует на своем лбу дыхание уст танцовщицы и слышит жаркое волнение ее полуобнаженной груди, вздымающейся словно в объятиях наслаждения. Гофман дошел до той степени возбуждения, когда человеку кажется, что его охватило пламя и сердце вот-вот вырвется из груди.
— Довольно! Довольно! — говорил Гофман.
Но танец продолжался, Гофман дошел уже до галлюцинации, и в его мозгу смешались два самых сильных впечатления сегодняшнего дня: воспоминание о площади Революции сливалось с тем, что происходило на сцене, так что Гофману казалось, будто он видит то г-жу Дюбарри, бледную, с отрубленной головой, танцующую вместо Арсены, то как танцующая Арсена подходит к подножию гильотины, к палачам.
В лихорадочно работавшем воображении молодого человека смешивались цветы и кровь, танец и агония, жизнь и смерть.
Но сильнее всего был магнит, притягивавший его к этой женщине. Каждый раз, как ее стройные ножки мелькали перед его глазами, каждый раз, как ее прозрачная юбка поднималась чуть выше, дрожь пробегала по всему его телу, во рту у него пересыхало, дыхание становилось жарким, и его охватило такое желание, какое овладевает человеком, когда ему двадцать лет.
Теперь у Гофмана оставалось лишь одно прибежище — портрет Антонии, медальон, что он носил на груди, чистая любовь, противостоящая любви чувственной, сила целомудренного воспоминания, ставшего лицом к лицу с влекущей действительностью.
Он схватил медальон и поднес его к губам, но тут же услышал пронзительное хихиканье соседа, насмешливо смотревшего на него.
Гофман покраснел, спрятал медальон и, вскочив, словно подброшенный пружиной, воскликнул:
— Пустите меня! Пустите меня, я не могу больше здесь оставаться!
И с безумным видом он покинул партер, наступая на ноги и задевая мирно сидевших зрителей, ворчавших на этого чудака, которому пришла фантазия выйти из зала в середине представления.
XI. ВТОРОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «СУДА ПАРИСА»
Однако порыв Гофмана завлек его недалеко. На углу улицы Сен-Мартен он остановился.
Грудь его вздымалась, по лбу струился пот.
Он провел по лбу левой рукой, прижал к груди правую и вздохнул.
В этот момент кто-то положил руку ему на плечо.
Он вздрогнул.
— Ах, черт возьми! Это он! — послышался чей-то голос. Гофман обернулся и вскрикнул.
То был его друг Захария Вернер.
Молодые люди бросились друг к другу в объятия.
Вслед за этим одновременно были заданы два вопроса:
— Что ты здесь делаешь?
— Куда ты идешь?
— Я приехал вчера, — сказал Гофман, — я видел, как отрубили голову госпоже Дюбарри, и, чтобы рассеяться, пошел в Оперу.
— Ну, а я приехал сюда полгода тому назад, последние пять месяцев я ежедневно видел, как отрубают головы двадцати — двадцати пяти человекам, и, чтобы рассеяться, начал играть.
— Ах вот как!
— Ты пойдешь со мной?
— Нет уж, покорно благодарю.
— Ты не прав; мне сейчас везет; ну а такой счастливчик, как ты, составит себе целое состояние. Ты привык к настоящей музыке, стало быть, в Опере ты наверняка умирал от скуки; идем со мной, и я дам тебе кое-что послушать.
— Музыку?
— Да, музыку золотых монет; я уж не говорю о том, что там, куда я иду, ты найдешь все удовольствия: прелестных женщин, прекрасный ужин, азартную игру!
— Спасибо, друг мой, не могу! Я обещал, больше того, я дал клятву.
— Кому?
— Антонии.
— Так ты с ней виделся?
— Я люблю ее, друг мой, я ее обожаю.
— А! Теперь я понимаю, что тебя задержало; так какую же клятву ты дал?
— Я дал клятву не играть и… Гофман замялся.
— И что еще?
— И остаться ей верным, — прошептал Гофман.
— В таком случае в сто тринадцатый ходить не надо.
— Что такое «сто тринадцатый»?
— Это дом, о котором я только что тебе говорил; ну а я никаких клятв не давал, стало быть, я волен идти. Прощай, Теодор.
— Прощай, Захария.
И Вернер удалился, а Гофман, словно пригвожденный, остался на месте. Когда Вернер отошел от него уже шагов на сто, Гофман вспомнил, что забыл спросить адрес Захарии и что единственный адрес, который Захария ему дал, был адрес игорного дома.
Но этот адрес, словно надпись на двери рокового дома, был начертан в мозгу Гофмана огненными цифрами!
И, однако, то, что сейчас произошло, немного успокоило совесть Гофмана. Так уж устроена человеческая натура: человек всегда снисходителен к себе, ибо его снисходительность есть не что иное, как эгоизм.
Минуту назад он пожертвовал ради Антонии игрой и думал, что сдержан свою клятву, забывая о другом: именно из-за того, что он был готов нарушить вторую и самую важную клятву, он и стоял неподвижно на углу бульвара и улицы Сен-Мартен.
Но, как я уже сказал, твердость по отношению к Вернеру давала ему право на проявление слабости по отношению к Арсене. Он решил пойти на компромисс и, вместо того чтобы вернуться в зрительный зал Оперы — на этот поступок его изо всех сил толкал демон-искуситель, — подождать Арсену у служебного входа.
Гофман прекрасно знал планировку театров, так что долго разыскивать служебный вход ему не пришлось. На улице Бонди он увидел дверь в длинный, едва освещенный, грязный и сырой коридор, по которому, как тени, проходили люди в запачканной одежде, и понял, что именно в эту дверь входят и выходят простые смертные, кого румяна, белила, синька, газ, шелк и блестки превращали в богов и богинь.
Время шло, падал снег; Гофман был так взволнован странным событием, в котором было нечто сверхъестественное, что не чувствовал холода, казалось преследовавшего прохожих. Хотя дыхание, вылетавшее из его рта, сгущалось в почти осязаемые клубы пара, руки его по-прежнему были горячими, а лоб влажным. Более того: остановившись у стены, он замер на месте, не спуская глаз е коридора, и снег, падавший густыми хлопьями, медленно укутывал словно саваном молодого человека, так что юный студент в фуражке и в немецком рединготе мало-помалу превращался в мраморную статую. Но вот через коридор — эту сточную канаву — начали выходить те, что первыми освободились после спектакля, то есть смотрители, за ними машинисты сцены, потом вся та масса безымянного народа, что кормится около театра, затем — актеры мужского пола, тратящие на одевание меньше времени, нежели женщины, последними появились женщины, и вот — наконец, наконец-то! — сама прекрасная танцовщица: Гофман узнал ее не только по прелестному лицу, но и по мягкому покачиванию бедер — это движение было свойственно ей одной, — а также по узенькой бархатке, которая окружала ее шею и на которой сверкала странная драгоценность, недавно введенная в моду террором.
Едва лишь Арсена появилась на пороге, как, прежде чем Гофман успел шевельнуться, к ней быстро подкатил экипаж; дверца отворилась, и девушка вскочила туда так легко, словно она все еще летала по сцене. За стеклами экипажа показалась тень: Гофману почудилось, что он узнал в ней человека из литерной ложи, и эта тень заключила прекрасную нимфу в объятия; затем лошади понеслись галопом, хотя ничей голос не отдал кучеру никакого приказания.
Все то, что мы сейчас рассказали в пятнадцати или двадцати строках, произошло с молниеносной быстротой.
Видя, что экипаж удаляется, Гофман испустил какой-то странный крик, оторвался от стены, словно статуя, выскочившая из своей ниши, и, стряхнув с себя снег, помчался вдогонку за экипажем.
Но экипаж уносили две лошади, слишком сильные для того, чтобы молодой человек, сколь бы ни был быстр его безумный бег, смог его догнать.
Пока экипаж ехал по бульвару, все шло хорошо, даже когда он ехал по улице Бурбон-Вильнёв, которую только что переименовали и нарекли улицей Нового Равенства, все шло еще недурно, но, доехав до площади Побед, ставшей площадью Национальной Победы, экипаж свернул направо и скрылся из глаз Гофмана.
Так как ни экипаж, ни стук его колес больше не влекли за собой молодого человека, бег его замедлился; на минуту он остановился на углу улицы Нёв-Эсташ и прислонился к стене, чтобы перевести дыхание; затем, ничего больше не видя, ничего больше не слыша, он осмотрелся, решив, что пора возвращаться домой.
Не так-то легко было Гофману выбраться из сети улиц, образующих запутанный лабиринт от церкви святого Евстафия до набережной Железного лома. Наконец благодаря многочисленным патрулям, ходившим по улицам, благодаря тому, что паспорт Гофмана был в полном порядке, благодаря свидетельству о том, что он прибыл лишь накануне, — он легко мог доказать это с помощью визы, которую ему выдали на заставе, — он получил от гражданского ополчения столь точные указания, что в конце концов разыскал свою гостиницу, нашел свою комнатушку и заперся в ней, казалось бы, один, на самом же деле — вместе со жгучим воспоминанием о случившемся.
С этой минуты Гофмана стали жестоко терзать два видения: одно из них мало-помалу изглаживалось из памяти, другое же мало-помалу становилось все навязчивее.
Видением, постепенно ускользавшим из памяти, было измученное белое лицо Дюбарри, которую тащили из Консьержери на повозку, а с повозки — на эшафот.
Видением, что приобретало черты реальности, было оживленное, улыбающееся лицо прекрасной танцовщицы, летящей из глубины сцены к рампе, а потом вихрем проносящейся по авансцене то к правой ложе, то к левой.
Гофман всеми силами старался избавиться от этого видения. Он вытащил из чемодана кисти и начал рисовать; он извлек из футляра скрипку и начал играть; он спросил перо и чернильницу и начал писать стихи. Но строки, что он слагал, были стихами в честь Арсены; мелодия, что он наигрывал, была той самой, под звуки которой она появилась, и звуки эти метались и поднимались ввысь, словно у них были крылья; наконец, набросанный им эскиз был не что иное, как ее портрет все с той же бархаткой — странным украшением, застегнутым на шее столь странным аграфом.
Всю ночь, весь следующий день, всю следующую ночь и весь день, последовавший за ней, Гофман видел только одну, или, вернее, только две, фигуры: то была фантастическая танцовщица, и то был не менее фантастический доктор. Между этими двумя существами была столь тесная связь, что Гофман не воспринимал одного без другого. И то не оркестр грохотал у него в ушах во время этого наваждения, когда ему представлялась Арсена, без устали носившаяся по сцене, — нет, то тихонько напевал доктор, то тихонько постукивали по эбеновой табакерке его пальцы; время от времени перед глазами Гофмана сверкала молния, ослепляя его каскадами искр: то было скрещение двух лучей, один из них тянулся от табакерки доктора, другой — от бархатки танцовщицы; то была симпатическая связь бриллиантовой гильотины с бриллиантовым черепом; наконец, то были неподвижные глаза доктора: казалось, они могли по своей воле притягивать к себе или отпускать прелестную танцовщицу, подобно тому как глаза змеи притягивают к себе или отпускают птицу, которую они зачаровывают.
Двадцать раз, сто раз, тысячу раз Гофман хотел снова пойти в Оперу, но так как час его еще не пробил, он дал себе твердое обещание не поддаваться искушению; впрочем, ему приходилось бороться с этим искушением всеми средствами: сначала он прибегал к помощи медальона, потом пробовал написать Антонии письмо; но лицо Антонии на портрете, казалось, стало таким печальным, что Гофман, не успев раскрыть медальон, тут же его и закрывал, а первые же строчки каждого начатого им письма давались ему с таким трудом, что он разорвал десяток писем, не исписав и трети первой страницы.
Наконец, прошло и знаменательное послезавтра, наконец, приблизился час открытия театра, наконец, пробило семь часов, и, повинуясь этому призыву, Гофман, словно против воли, вскочил, со всех ног сбежал вниз по лестнице и помчался по направлению к улице Сен-Мартен.
На этот раз ему понадобилось на дорогу меньше четверти часа, на этот раз ему уже не нужно было ни у кого спрашивать, как добраться до Оперы, на этот раз словно невидимый вожатый указывал ему путь и он был у дверей Оперы меньше чем через десять минут.
Но — странное дело! У дверей не теснилась толпа зрителей — не то, что два дня назад, — потому ли, что по неведомой Гофману причине спектакль частично утратил свою притягательную силу, потому ли, что зрители уже успели войти в здание театра.
Гофман бросил кассирше экю в шесть ливров, получил билет и ринулся в зрительный зал.
Зал нельзя было узнать. Во-первых, он был полупустым, во-вторых, вместо тех прелестных женщин и элегантных мужчин, кого он думал увидеть вновь, его глазам предстали женщины в казакинах и мужчины в карманьолах; ни драгоценностей, ни цветов, ни декольте, в которых вздымалась и опускалась грудь под воздействием сладострастной атмосферы аристократического театра, — всюду колпаки круглые и колпаки красные, всюду украшения в виде огромных национальных кокард, темные цвета одежды, облака грусти на лицах, а, кроме того, по обе стороны сцены — два омерзительных бюста, два лица: одно из них было изуродовано гримасой смеха, а другое — гримасой боли; то были бюсты Вольтера и Марата.
Наконец, литерная ложа представляла собой не что иное, как едва освещенную дыру, пустую и темную яму. Это была все та же пещера, но в ней больше не было льва.
В партере пустовали два соседних места. Гофман занял одно из них — это было то самое место, где ему уже довелось сидеть.
На другом месте в прошлый раз сидел доктор, но, как мы уже сказали, это место пустовало.
Первое действие кончилось, но Гофман не слушал музыку, не смотрел на артистов.
Оркестр был ему уже знаком, и в прошлый раз он вполне оценил его. Артисты нимало не интересовали его: он пришел сюда не ради них, а ради Арсены.
Занавес поднялся, и началось второе действие балета.
Разум, душа, сердце молодого человека — все было поглощено сценой.
Он ждал выхода Арсены.
Внезапно Гофман вскрикнул.
Роль Флоры исполняла не Арсена.
Женщина, появившаяся на сцене, была ему неизвестна, она была такая же, как все женщины.
Все фибры его трепещущего существа ослабли; обессилев, он испустил продолжительный вздох и огляделся вокруг.
Маленький черный человечек сидел на своем месте, только у него уже не было ни бриллиантовых пряжек, ни бриллиантовых перстней, ни табакерки с бриллиантовым черепом.
Пряжки у него были медные, перстни — из позолоченного серебра, табакерка — из серебра потускневшего.
Он больше не напевал, он больше не отбивал такт.
Как он сюда попал? Гофман ничего не мог понять: он не видел, как тот вошел, не почувствовал его приближения.
— Ах, сударь! — воскликнул Гофман.
— Называйте меня «гражданином», мой юный друг, и даже говорите мне «ты»… если можно, — отвечал черный человечек, — иначе из-за вас отрубят голову мне, а также и вам.
— Но где же она? — спросил Гофман.
— Ах, вот оно что… Где она? Говорят, ее тигр, который с нее глаз не спускает, заметил, что позавчера она обменялась знаками с каким-то молодым человеком, сидевшим в партере. Говорят, что этот молодой человек побежал за экипажем, и вот со вчерашнего дня контракт с Арсеной расторгнут, и вот Арсены в театре больше нет.
— Как же директор мог на это пойти?
— Мой юный друг, директору очень хочется сохранить голову на плечах, хотя голова эта довольно уродлива; однако он утверждает, что уже привык к той, какая есть, и что другая — пусть даже она была бы покрасивее — может и не прирасти.
— Боже мой! Так вот почему этот зал так печален! — воскликнул Гофман. — Вот почему больше нет ни цветов, ни бриллиантов, ни драгоценностей! Вот почему у вас больше нет ни бриллиантовых пряжек, ни бриллиантовых перстней, ни табакерки с бриллиантами! Вот, наконец, почему по обе стороны сцены вместо бюстов Аполлона и Терпсихоры стоят эти два отвратительных бюста! Тьфу!
— Что такое? О чем это? — спросил доктор. — Да где вы видели зал, о котором вы говорите? Где вы видели меня в бриллиантовых перстнях, с бриллиантовой табакеркой? Где вы видели, наконец, бюсты Аполлона и Терпсихоры? Да уже целых два года цветы не цветут, бриллианты превратились в ассигнаты, а драгоценности принесены в жертву на алтарь отечества. Ну а у меня, слава Богу, никогда не было никаких пряжек, кроме медных, никаких перстней, кроме этого дрянного перстенька из позолоченного серебра, и никаких табакерок, кроме этой паршивой серебряной табакерки. Бюсты Аполлона и Терпсихоры и в самом деле стояли здесь в былые времена, но друзья человечества пришли и разбили бюст Аполлона, поставив вместо него бюст апостола Вольтера, а друзья народа пришли и вдребезги раскололи бюст Терпсихоры, поставив вместо него бюст бога Марата.
— Нет! Этого не может быть! — воскликнул Гофман. — Я утверждаю, что позавчера я видел зал, благоухающий цветами, блистающий роскошными платьями, сверкающий бриллиантами; я видел элегантную публику на месте этих базарных торговок в казакинах и хамов в карманьолах! Я утверждаю, что у вас на башмаках были бриллиантовые пряжки, у вас на пальцах были бриллиантовые перстни, а на вашей табакерке был бриллиантовый череп; я утверждаю…
— А я, молодой человек, в свою очередь утверждаю, — подхватил черный человечек, — что позавчера здесь была она, я утверждаю, что ее образ освещал все вокруг, я утверждаю, что от ее дыхания распускались розы, сверкали драгоценности, искрились бриллианты в вашем воображении; я утверждаю, что вы любите ее, молодой человек, и что вы видели этот зал сквозь призму вашей любви. Арсены здесь больше нет — и ваше сердце мертво, с ваших глаз спала пелена, и вы видите мольтон, ситец, грубое сукно, красные колпаки, грязные руки и сальные волосы. Наконец-то вы видите людей и предметы такими, какие они есть.
— О Господи! — воскликнул Гофман, роняя голову на руки. — Правда ли все это? Быть может, я уже близок к безумию?
XII. КАБАЧОК
Гофман вышел из состояния летаргии, лишь когда почувствовал, как на плечо ему легла чья-то рука.
Он поднял голову. Все вокруг было черно, все погасло; неосвещенный театр казался ему трупом того театра, который он видел живым. Сторож прогуливался в молчании и одиночестве, словно страж смерти; не было ни люстр, ни оркестра, ни блеска, ни шума.
И только чей-то голос журчал у него над ухом:
— Гражданин! А гражданин! Что это вы тут делаете? Ведь вы в Опере, гражданин; тут спят — что верно, то верно, — но лежать тут не положено.
Гофман посмотрел наконец в ту сторону, откуда доносился голос, и увидел старушонку: она дергала его за воротник редингота.
Это была капельдинерша партера: не зная, каковы намерения этого упрямого зрителя, она не хотела уходить, не убедившись в том, что и он уходит.
Вырванный из своего сна, Гофман, не оказал ни малейшего сопротивления; он вздохнул и встал, шепча имя Арсены.
— Ну да, Арсена, — сказала старушка, — Арсена! И вы туда же, молодой человек, — влюблены в нее, как и все. Это большая потеря для Оперы, а особенно для нас, для капельдинерш.
— Для капельдинерш? — переспросил Гофман, в восторге оттого, что наткнулся на человека, который может поговорить с ним об Арсене. — А вам-то какая разница — в театре Арсена или нет?
— Еще бы! Тут и понимать-то нечего: во-первых, когда она танцевала, зал был битком набит и мы получали еще за приставные сиденья, стулья и скамеечки: в Опере за все надо денежки платить. Ну вот, нам и платили за приставные скамеечки, стулья и сиденья, — это и был наш доходец. Я говорю «доходец», — с хитрым видом прибавила старушка, — потому что по сравнению с ним, сами понимаете, гражданин, был и доход побольше.
— Побольше?
— Да.
И старуха подмигнула Гофману.
— А что это был за доход побольше? Объясните, пожалуйста, добрая женщина.
— Большой доход шел от тех, кто об ней расспрашивал, кто хотел узнать ее адрес, кто просил передать ей записку. На все были свои цены, сами понимаете; столько-то за разные сведения, столько-то за адрес, столько-то за письмецо; мы получали свои денежки, ну и жили прилично.
И старуха испустила вздох, который смело можно было бы сравнить с тем вздохом, который испустил Гофман в начале приведенного нами разговора.
— Вот как! — вскричал Гофман. — Стало быть, это вы давали разные сведения, сообщали адрес, передавали записки. А сейчас вы этого не сделаете?
— Увы, сударь! Сведения, что я могу дать сейчас, вам не пригодятся, новый адрес Арсены не знает никто, а ваша записочка к ней в руки не попадет. Может быть, вас интересует еще кто-нибудь? Госпожа Вестрис, например, или мадемуазель Биготтини, или мадемуазель…
— Спасибо, добрая женщина, спасибо, но я хотел бы узнать только об Арсене.
Вытащив из кармана экю, Гофман прибавил:
— Возьмите: это вам за то, что вы взяли на себя труд разбудить меня. Простившись со старухой, он побрел по бульвару, намереваясь идти тем же самым путем, каким шел за два дня до этого: инстинкт, что привел его к Опере, изменил ему.
Чувства, владевшие им, были уже совсем иными, и это было заметно по его походке.
На спектакль он стремился, как человек, который увидел Надежду и побежал за ней, не подумав о том, что Бог дал ей широкие лазурные крылья для того, чтобы люди никогда ее не настигли. Тогда он спешил, едва переводя дух, открыв рот, высоко подняв голову и протянув руки; теперь он шел медленно, как человек, который после бесплодной погони за Надеждой потерял ее из виду: губы его были сжаты, голова поникла, руки опустились. Когда он шел на спектакль, ему понадобилось самое большее пять минут, чтобы добраться от ворот Сен-Мартен до улицы Монмартр; теперь он потратил более часа на это и более часа на то, чтобы добраться от улицы Монмартр до своей гостиницы, ибо в этом состоянии подавленности ему было все равно, поздно он вернется или рано, ему было бы безразлично, даже если бы он мог и вовсе не вернуться.
Говорят, что у пьяных и у влюбленных есть свой бог; этот бог, несомненно, был к Гофману благосклонен. Он помогал ему избегать патрулей, он помогал ему находить набережные, затем мосты, потом найти гостиницу, куда, к великому возмущению хозяйки, Гофман вернулся в половине второго ночи.
И, однако, несмотря ни на что, маленький золотистый лучик плясал в глубине сознания Гофмана: так в ночи мерцает блуждающий огонек. Лекарь сказал ему — если только этот лекарь существовал, если он не был плодом его воображения, его галлюцинацией, — лекарь сказал ему, что Арсену забрал из театра ее любовник и что этот любовник приревновал ее к какому-то молодому человеку, который сидел в партере и с которым Арсена обменялась чересчур нежными взглядами.
Мало того: лекарь присовокупил, что ревность тирана достигла предела из-за того, что этот самый молодой человек, как было замечено, устроил засаду у служебного входа, из-за того, что этот молодой человек в отчаянии пустился бежать за экипажем; так вот, этим молодым человеком, что, сидя в партере, обменивался с Арсеной страстными взглядами, был он, Гофман; так вот, этим молодым человеком, что устроил засаду у служебного входа, опять-таки был он; наконец, этим молодым человеком, что в отчаянии побежал за экипажем, тоже был он, Гофман. Значит, Арсена его заметила, коль скоро теперь она расплачивалась за свое развлечение; значит, Арсена страдала из-за него; он вошел в жизнь прекрасной танцовщицы — правда, вошел в ворота скорби, но все-таки вошел, а это было самое главное, — и теперь от него зависело там остаться. Но как? Каким образом? Каким способом снестись с Арсеной, дать ей весточку о себе, сказать ей, что он ее любит? Разыскать прекрасную Арсену, затерявшуюся в огромном городе, было бы делом очень трудным даже для коренного парижанина. Но для Гофмана, приехавшего сюда три дня назад и ориентировавшегося здесь с превеликим трудом, это было делом совершенно невозможным.
Поэтому Гофман даже не утруждал себя розысками; он понимал, что помочь ему может только случай. Каждые два дня он смотрел афиши спектакля и каждые два дня подряд с болью видел, что Парис будет вершить суд в отсутствии той, у которой на яблоко было значительно больше прав, нежели у Венеры.
С тех пор он больше не думал об Опере.
Вдруг в голову ему пришла счастливая мысль пойти либо в Конвент, либо к Кордельерам, установить наблюдение за Дантоном и, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, выследить, где он прячет прекрасную танцовщицу. Гофман побывал и в Конвенте, у Кордельеров, но Дантона нигде не обнаружил: он не появлялся там уже дней семь или восемь; устав от борьбы, которую он вел в течение двух лет, побежденный скорее скукой, чем силой, Дантон, казалось, скрылся с политической арены.
Поговаривали, будто Дантон жил на своей загородной вилле. Но где находилась эта вилла? Об этом никто ничего не знал: одни говорили, что она в Рюэе, другие — что в Отее.
Дантон был так же неуловим, как и Арсена.
Быть может, читатель подумает, что исчезновение Арсены должно было бы вернуть Гофмана к Антонии. Но странное дело! Этого не произошло. Гофман всеми силами старался вернуться мыслью к несчастной дочери мангеймского дирижера, и на какое-то мгновение усилием воли все его мысли сосредоточивались на кабинете маэстро Готлиба Мурра; но потом партитуры, нагроможденные на столах и на фортепьяно; маэстро Готлиб, топающий ногой за своим пюпитром; Антония, лежащая на своем диване, — все это исчезало, чтобы уступить место большой освещенной сцене, где какое-то время двигались призрачные тени; затем эти тени превращались в тела, затем тела эти превращались в мифологических персонажей, затем, наконец, все эти мифологические персонажи — все эти герои, нимфы, боги и полубоги — исчезали, чтобы уступить место одной-единственной богине, богине цветов и весны, прекрасной Флоре, или, другими словами, божественной Арсене, женщине с бархаткой, застегнутой бриллиантовым аграфом, и тут Гофман оказывался не только во власти мечты — он приходил в исступление и успокаивался лишь тогда, когда снова окунался в живую жизнь, когда сталкивался с прохожими на улице, когда, наконец, оказывался в шумной толпе.
Когда галлюцинации, жертвой которых стал Гофман, окончательно его одолевали, он выходил из гостиницы и шел вниз по набережной, затем по Новому мосту и почти каждый раз останавливался лишь на углу Монетной улицы. Здесь Гофман набрел на кабачок — место встреч самых отчаянных курильщиков столицы. Здесь Гофман мог вообразить, что находится в английском трактире, или в голландской харчевне, или за немецким табльдотом: кроме самых отчаянных курильщиков, ни один человек не смог бы дышать этим воздухом, насквозь пропитанным табачным дымом.
Однажды, войдя в кабачок Братства, Гофман уселся за столик, стоявший в самом дальнем углу, спросил бутылку пива из пивоварни г-на Сантера, недавно отказавшегося от должности генерала парижской национальной гвардии в пользу г-на Анрио, доверху набил свою огромную, уже знакомую нам трубку и через несколько секунд окутался таким же густым облаком дыма, каким прекрасная Венера окутывала своего сына Энея всякий раз, когда эта нежная мать считала нужным спешно укрыть своего горячо любимого сына от гнева его врагов.
После приключения Гофмана в Опере, а следовательно, и после исчезновения прекрасной танцовщицы прошло дней восемь-десять; был час пополудни; уже с полчаса Гофман сидел в кабачке, во всю силу своих легких стараясь воздвигнуть дымовую завесу и таким образом отгородиться от соседей, как вдруг ему показалось, будто в дыму виднеется что-то похожее на человеческую фигуру, затем ему показалось, будто сквозь шум кабачка он слышит двойной звук напеваемой мелодии и постукивания пальцами, которые неизменно исходили от черного человечка; потом ему показалось, что в центре этой дымовой завесы излучает сияние какая-то светящаяся точка; он открыл глаза, с трудом разлепив веки, полузакрытые в сладкой дремоте, и в человеке, сидевшем на табурете напротив него, узнал своего соседа из Оперы, узнал мгновенно благодаря тому, что у фантастического доктора были, — или, вернее, Гофману казалось, что были, — бриллиантовые пряжки на башмаках, бриллиантовые перстни на пальцах и череп на табакерке.
— Вот так, — сказал Гофман, — опять я схожу с ума. И он быстро закрыл глаза.
Но чем плотнее он зажмуривал их, тем явственнее слышал и тихое мурлыканье и тихое постукивание пальцами: все это слышалось очень отчетливо, так отчетливо, что Гофман понял: в основе своей все это реально, хотя кое-что и странно. Вот и все.
И тут он снова открыл сначала один глаз, потом другой — черный человечек по-прежнему сидел на своем месте.
— Здравствуйте, юноша, — сказал он, — вы, я вижу, спите; возьмите понюшку и очнитесь.
И, открыв табакерку, старик протянул ее Гофману. Гофман машинально взял понюшку и вдохнул ее. В тот же миг ему показалось, что сознание его просветлело.
— Ах! Это вы, милый доктор! — воскликнул Гофман. — Как я рад вас видеть!
— Если вы рады меня видеть, то почему же вы сами не нашли меня? — спросил доктор.
— Да разве я знаю ваш адрес?
— Вот незадача! Да его дали бы вам на любом кладбище.
— Но разве я знаю ваше имя?
— Доктор с черепом — под этим именем меня знают все. А кроме того, существует одно место, где вы всегда нашли бы меня наверняка.
— Где же это?
— В Опере. Я лекарь Оперы. Вам это прекрасно известно, — ведь вы дважды видели меня там.
— Ах! Опера! — произнес Гофман, качая головой и вздыхая.
— Да; вы больше туда не пойдете?
— Нет, больше я туда не пойду.
— Потому что партию Флоры исполняет уже не Арсена?
— Вы угадали; раз это не она, я туда больше не пойду.
— Вы влюблены в нее, молодой человек, вы в нее влюблены.
— Я не знаю, называется ли болезнь, которой я страдаю, любовью, но я знаю, что если я больше ее не увижу, то либо умру от разлуки с ней, либо сойду с ума.
— Черт возьми! Не стоит сходить с ума! Черт возьми! И умирать тоже не стоит! От безумия не так уж много лекарств, а от смерти нет вообще никаких.
— Что же делать в таком случае?
— Разумеется, увидеться с ней.
— Как? Увидеться с ней?
— Нуда!
— Вы знаете какой-нибудь способ?
— А может, и знаю.
— Какой же?
— Подождите.
Доктор прищурился и погрузился в задумчивость, постукивая пальцами по табакерке.
Потом он снова открыл глаза, и пальцы его застыли на эбене.
— Вы сказали, что вы художник?
— Да, я художник, поэт, музыкант.
— В настоящий момент нам нужна живопись.
— Почему?
— Потому что Арсена поручила мне найти ей художника.
— Для чего?
— Для чего люди могут искать художника, черт побери! Да для того, чтобы он написал их портрет!
— Портрет Арсены! — вскочив, воскликнул Гофман. — О, я готов! Я готов!
— Погодите, погодите! Имейте в виду, что я не шучу.
— Вы мой спаситель! — воскликнул Гофман, обвивая руками шею черного человечка.
— Молодость, молодость! — прошептал тот, сопровождая эти слова тем же смешком, каким, должно быть, хихикал бы череп на его табакерке, если бы обрел свою естественную величину.
— Идемте! Идемте! — повторял Гофман.
— Но вам нужен ящик с красками, кисти, холст!
— Все это у меня в гостинице; идемте!
— Идемте! — сказал доктор. И они покинули кабачок.
XIII. ПОРТРЕТ
Выйдя из кабачка, Гофман хотел было подозвать фиакр, но доктор хлопнул своими сухонькими ладошками, и на этот звук — такой звук раздался бы, если бы хлопнул в ладоши скелет, — подъехал окрашенный в черное экипаж, запряженный парой черных лошадей и управляемый кучером, одетым во все черное. Где он стоял? Откуда приехал? Дать ответ на эти вопросы Гофману было бы столь же затруднительно, сколь трудно было бы Золушке объяснить, откуда взялась карета, в которой она приехала на бал к принцу Мирлифлору.
Маленький грум, не только одетый в черное, но к тому же еще и сам чернокожий, открыл дверцу. Гофман и доктор уселись рядом, и экипаж тотчас же бесшумно покатил к гостинице Гофмана.
Когда они подъехали к дверям, Гофман заколебался, обдумывая, стоит ли ему подниматься к себе: ему казалось, что, едва он повернется к улице спиной, и экипаж, лошади, доктор и двое слуг исчезнут так же, как и появились. Но тогда зачем же доктору, лошадям, экипажу и слугам нужно было везти Гофмана из кабачка, что на углу Монетной улицы, на Цветочную набережную? Ведь это было бы бессмысленно.
Успокоенный столь несложным логическим выводом, Гофман вылез из экипажа, вошел в гостиницу, проворно поднялся по лестнице, вбежал к себе в комнату, взял палитру, кисти, ящик с красками, выбрал самый большой холст и спустился так же стремительно, как и поднялся.
Экипаж по-прежнему стоял у дверей.
Кисти, палитру и ящик с красками Гофман положил в карету; держать холст было поручено груму.
Затем экипаж снова покатил с той же скоростью и столь же бесшумно. Через десять минут он остановился напротив прелестного маленького особняка на Ганноверской улице, 15.
Гофман заметил улицу и номер дома, чтобы в случае чего суметь найти сюда дорогу без помощи доктора.
Дверь отворилась; доктора здесь явно знали, ибо привратник даже не спросил, куда он идет; в качестве бесплатного приложения за ним следовал Гофман, нагруженный своими кистями, ящиком с красками, палитрой, холстом.
Они поднялись во второй этаж и вошли в прихожую, которую можно было бы принять за переднюю дома поэта в Помпеях.
Все помнят, что в ту пору царила греческая мода, так что стены прихожей Арсены были расписаны фресками, украшены канделябрами и бронзовыми статуями.
Из прихожей доктор и Гофман прошли в гостиную.
Гостиная, как и прихожая, была в греческом стиле; она была обтянута седанским сукном стоимостью в семьдесят франков за локоть; один ковер стоил шесть тысяч ливров; доктор обратил внимание Гофмана на этот ковер; на нем было изображено сражение при Арбелах, скопированное со знаменитой помпейской мозаики.
Гофман, ослепленный этой неслыханной роскошью, не мог понять, что такой ковер создан для того, чтобы по нему ступали.
Из гостиной они прошли в будуар; будуар был обит кашемиром. В глубине, в алькове, стояло низкое ложе, походившее на канапе, подобное тому, на какое впоследствии г-н Герен поместил Дидону, слушающую рассказы Энея о его приключениях. Здесь-то Арсена и приказала подождать ее.
— Ну, молодой человек, — сказал доктор, — я провел вас сюда, и теперь дальнейшее зависит от вас. Но имейте в виду, что, если вас здесь застанет постоянный ее любовник, вы пропали.
— О! — вскричал Гофман. — Только бы мне ее вновь увидеть, только бы мне ее вновь увидеть, и тогда…
Слова замерли у него на устах; он оцепенел; взгляд его стал неподвижен, руки простерты, грудь вздымалась.
Дверь, скрытая в деревянной обшивке стены, отворилась, и за вращающимся зеркалом появилась Арсена — истинное божество этого храма, в котором она соблаговолила показаться тому, кто боготворил ее.
На ней был костюм Аспазии во всей его античной роскоши: жемчуг в волосах, пурпурная хламида, вышитая золотом, длинный белый пеплум, перехваченный на талии легким жемчужным поясом, перстни на пальцах рук и ног; бросалось в глаза, однако, странное украшение, которое, казалось, было неотделимо от его владелицы, — бархатка, ширина которой едва достигала четырех линий и которая была застегнута все тем же зловещим бриллиантовым аграфом.
— А, так это вы, гражданин, беретесь написать мой портрет? — спросила Арсена.
— Да, — пролепетал Гофман, — да, сударыня, а доктор был так добр, что поручился за меня.
Гофман поискал доктора глазами, словно надеясь найти у него поддержку, но доктор исчез.
— Что же это? — вскричал Гофман в полном замешательстве. — Что же это?
— Что вы ищете, о чем вы спрашиваете, гражданин?
— Я ищу, сударыня, я спрашиваю… Я спрашиваю о докторе… ну, о человеке, что провел меня сюда.
— А что нужды вам до вашего провожатого, если он уже привел вас? — спросила Арсена.
— Но, однако, где же, где же доктор? — настаивал Гофман.
— Да будет вам! — с нетерпением сказала Арсена. — Уж не собираетесь ли вы тратить время на поиски доктора? У него свои дела, а мы займемся своими.
— Сударыня, я к вашим услугам, — весь дрожа, сказал Гофман.
— Отлично; вы, стало быть, согласны написать мой портрет?
— Вы хотите сказать, что я самый счастливый человек в мире, коль скоро я так взыскан судьбой, только я боюсь.
— Ну, теперь вы будете разыгрывать скромность. Что ж, если дело у вас не пойдет, я обращусь к другому. Он хочет получить мой портрет. Я увидела, что вы смотрите на меня, как человек, который жаждет сохранить в памяти мой образ, и отдала предпочтение вам.
— Благодарю вас! Тысячу раз благодарю! — вскричал Гофман, пожирая Арсену глазами. — О да, да, я сохранил ваш образ в памяти и вот здесь, здесь, здесь.
И он прижал руку к сердцу. Вдруг он зашатался и побледнел.
— Что с вами? — спросила Арсена, сохраняя полнейшее спокойствие.
— Ничего, ничего, — ответил Гофман. — Начнем. Положив руку на сердце, он нащупал под рубашкой медальон Антонии.
— Начнем, — повторила Арсена, — Это легко сказать! Прежде всего, он хочет, чтобы меня изобразили вовсе не в этом костюме.
Это словечко «он», прозвучавшее уже дважды, пронзило сердце Гофмана, словно то была одна из золотых шпилек, скреплявших прическу новоявленной Аспазии.
— А как же он хочет, чтобы вас изобразили? — с легко уловимой горечью в голосе спросил Гофман.
— В костюме Эригоны.
— Великолепно! Прическа с ветвью виноградной лозы пойдет вам необыкновенно.
— Вы так думаете? — жеманно спросила Арсена. — А я думаю, что тигровая шкура тоже не сделает меня уродом.
И она позвонила. Вошла горничная.
— Эвхариса, — сказала Арсена, — принесите мне тирс, виноградную лозу и тигровую шкуру.
Затем Арсена вытащила несколько шпилек, державших прическу, тряхнула головой, и ее окутала волна черных волос, каскадами ниспадавших на плечи, обтекавших бедра и густыми потоками струившихся на ковер.
У Гофмана вырвался крик восхищения.
— Ну-ну, в чем дело? — спросила Арсена.
— В жизни своей не видел таких волос! — воскликнул Гофман.
— Вот ион хочет, чтобы я ими щегольнула, потому-то мы и выбрали костюм Эригоны, — такой костюм позволит мне распустить волосы.
На этот раз «он» и «мы» пронзили сердце Гофмана не однажды, а дважды.
В это время мадемуазель Эвхариса принесла виноградную лозу, тирс и тигровую шкуру.
— Это все, что нам нужно? — спросила Арсена.
— Да, думаю, что да, — пролепетал Гофман.
— Прекрасно; оставьте нас одних и не входите, пока я не позвоню. Мадемуазель Эвхариса вышла и закрыла за собой дверь.
— А сейчас, гражданин, — сказала Арсена, — помогите мне соорудить прическу — это ведь ваше дело. Чтобы стать еще красивее, я всецело доверяюсь вашей фантазии художника.
— Вы совершенно правы! — воскликнул Гофман. — Господи! Господи, как вы будете прекрасны!
Схватив виноградную лозу, он обвил ее вокруг головы Арсены с тем искусством художника, которое каждому предмету придает ценность и блеск; после этого он взял кончиками дрожащих пальцев длинные надушенные волосы, и живой эбен заиграл между ягодами из топаза, между изумрудными и рубиновыми листьями осеннего винограда; как он и обещал, под его рукой, под рукой поэта, художника и влюбленного, танцовщица стала настолько прекраснее, что, глядя в зеркало, испустила крик радости и гордости.
— О, вы не обманули меня! — воскликнула Арсена. — Да, я хороша, чудо как хороша! А теперь продолжим.
— Как? Что же тут продолжать? — спросил Гофман.
— Вот прекрасно! А мой костюм вакханки? Гофман начал понимать.
— Боже мой! Боже мой! — прошептал он.
Арсена, улыбаясь, развязала пурпурную хламиду, но одеяние держалось еще и на булавке, которую она тщетно пыталась расстегнуть.
— Да помогите же мне! — с нетерпением сказала она. — Или я опять должна позвать Эвхарису?
— Нет, нет! — вскричал Гофман.
И, бросившись к Арсене, он отстегнул непокорную булавку; хламида упала к ногам прекрасной гречанки.
— Вот так! — со вздохом произнес молодой человек.
— Но неужели, по-вашему, тигровая шкура подходит к этому длинному муслиновому пеплуму? — спросила Арсена. — А я вот думаю иначе, да и о н хочет видеть настоящую вакханку, не такую, каких можно увидеть на сцене, а такую, каковы они на картинах братьев Карраччи или же Альбани.
— Но на картинах братьев Карраччи и Альбани вакханки обнаженные! — воскликнул Гофман.
— Ну что ж! Такой они хочет меня видеть, но только в тигровой шкуре, в которую вы меня задрапируете по своему усмотрению, — это уж ваше дело.
Сказавши это, она развязала ленту, опоясывавшую ее талию, отстегнула аграф у ворота, и пеплум заскользил по ее прекрасному телу, и оно обнажалось по мере того, как он спускался с плеч к ногам.
— О! Это не смертная, это богиня! — произнес Гофман, опускаясь на колени.
Арсена отшвырнула ногой хламиду и пеплум.
— Ну, — сказала она, беря тигровую шкуру, — а что мы сделаем вот с этим? Да помогите же мне, гражданин художник, я не привыкла одеваться без посторонней помощи!
Наивная танцовщица называла это «одеваться».
Опьяненный, ослепленный, Гофман, шатаясь, подошел к ней, взял тигровую шкуру, с помощью золотых когтей укрепил ее на плече вакханки, попросил ее сесть или, вернее, лечь на ложе, покрытое красным кашемиром, и она стала бы похожа на изваяние из паросского мрамора, если бы дыхание не вздымало ее грудь, если бы улыбка не приоткрывала ее губы.
— Так хорошо? — спросила она, охватывая голову рукой, беря гроздь винограда и делая вид, что прижимает ее к губам.
— О да, вы прекрасны, прекрасны, прекрасны! — прошептал Гофман.
Но влюбленный взял верх над художником; он упал на колени и быстрым, как мысль, движением схватил руку Арсены и покрыл ее поцелуями.
Арсена отдернула руку скорее с удивлением, нежели с гневом.
— Ну-ну! Что вы делаете? — спросила она молодого человека.
Вопрос был задан таким спокойным и таким холодным тоном, что Гофман, схватившись за голову, отпрянул.
— Ничего, ничего, — пролепетал он, — простите, я схожу с ума.
— Оно и видно, — заметила танцовщица.
— Скажите, — воскликнул Гофман, — зачем вы позвали меня? Говорите, говорите!
— Да затем, чтобы вы написали мой портрет, зачем же еще?
— О да, да, вы правы, — отвечал Гофман, — затем, чтобы я написал ваш портрет, зачем же еще?
Получив жестокий удар по самолюбию, Гофман натянул холст на мольберт, взял палитру, краски и начал набрасывать опьяняющую картину, которая была у него перед глазами.
Но художник переоценил свои силы: увидев, что сладострастная натурщица дышит огнем не только здесь, подле него, но и отражается в тысяче зеркал будуара, увидев, что рядом с ним не одна Эригона, а десять вакханок, увидев, как в каждом зеркале отражается эта опьяняющая улыбка, волнение этой груди, которую золотой коготь пантеры скрывал лишь наполовину, он почувствовал: то, что от него требовалось, превышало силы человеческие; отшвырнув палитру и кисти, он бросился к прекрасной вакханке и запечатлел на ее плече поцелуй, в котором было столько же ярости, сколько любви.
В то же мгновение дверь отворилась, и нимфа Эвхариса ворвалась в будуар с криком:
— Он! Он! Он!
И прежде чем Гофман успел прийти в себя, обе женщины вытолкали его из будуара, дверь за ним закрылась, и, на сей раз и впрямь обезумев от любви, ярости и ревности, он, шатаясь, прошел через гостиную, скорее скатился, нежели спустился по лестнице и, сам не зная как, очутился на улице, оставив в будуаре Арсены не только кисти, ящик с красками и палитру, — что было бы еще не так уж страшно, — но и шляпу, а это могло привести к большой беде.
XIV. ИСКУСИТЕЛЬ
Состояние Гофмана было тем более ужасным, что к его отчаянию примешивалось чувство унижения; теперь для него было совершенно ясно: его позвали к Арсене действительно потому, что она заметила его в партере Оперы, но позвали только как художника, не более; только как инструмент для того, чтобы написать портрет, как зеркало, которое отражает лежащее перед ним тело. Отсюда та беспечность, с какой Арсена в его присутствии сбросила свои одежды, одну за другой; отсюда ее удивление, какое она выказала, когда он поцеловал ей руку; отсюда ее гнев, когда под его жгучим поцелуем покраснело ее плечо и он сказал, что любит ее.
И в самом деле: не было ли с его стороны — со стороны простого немецкого студента, приехавшего в Париж с четырьмястами талеров, то есть с суммой, которой не хватило бы даже на ковер, украшавший прихожую Арсены, — не было ли с его стороны безумием добиваться взаимности у модной танцовщицы, содержанки расточительного и сладострастного Дантона? Эта женщина откликалась вовсе не на звук голоса, а на звук золота, и ее любовником был не тот, кто больше всех любил ее, а тот, кто щедрее всех ей платил. Если у Гофмана денег будет больше, чем у Дантона, то выставят за дверь Дантона, когда придет Гофман.
А пока для него одно было более чем ясно: за дверь выставили не Дантона, а Гофмана.
Гофман побрел в свою комнатушку, более жалкую и печальную, чем когда бы то ни было.
Пока он не встретился с Арсеной, у него еще теплилась надежда; но то, что он сегодня увидел, то, что она не считала его за мужчину, та роскошь, которая окружала прекрасную танцовщицу и была не только ее физической, но и духовной жизнью, — все это (разве что в руки к Гофману попали бы бешеные, шальные деньги, другими словами, разве что произошло бы чудо) лишало молодого человека даже тени надежды на обладание танцовщицей.
Домой он вернулся удрученный; чувство, которое он испытывал к Арсене, было чисто плотское, чисто физическое влечение — сердце в нем не участвовало; до сих пор это чувство могло бы называться желанием, раздражением, возбуждением.
Теперь желание, раздражение, возбуждение превратилось в глубокое уныние.
У Гофмана оставался единственный выход: разыскать черного доктора и попросить у него совета, как ему быть, хотя в этом человеке было нечто странное, фантастическое, сверхъестественное, и казалось, что стоит только прикоснуться к доктору, как уходишь из реальной жизни и попадаешь в царство мечты, лишаешься свободной воли и разума и превращаешься в игрушку того мира, что существует для него и не существует для других.
И вот на следующий день, в обычное для него время, он снова зашел в кабачок на углу Монетной улицы, но как ни плотно закутался он в облако дыма, ни одно лицо, похожее на лицо доктора, не появилось в этом дыму; как ни крепко закрывал он глаза, никто, когда он открывал их, не сидел на табурете, который он поставил по другую сторону стола.
Так прошла неделя.
На восьмой день Гофман в нетерпении покинул кабачок на углу улицы Монетного двора часом раньше обыкновенного, то есть в четыре часа пополудни, и, пройдя Сен-Жермен-л'Осеруа и Лувр, машинально добрался до улицы Сент-Оноре.
Здесь он сразу увидел, что толпа народа, собравшаяся возле кладбища при церкви Избиенных младенцев, движется по направлению к площади Пале-Рояль. Он вспомнил, что тут происходило на следующий день после его приезда в Париж, и узнал тот же шум, тот же гул, который поверг его в такой ужас во время казни г-жи Дюбарри. В самом деле, то были повозки с осужденными, ехавшие из Консьержери на площадь Революции.
Читатель помнит, как потрясло Гофмана это зрелище; так как повозки быстро приближались, он бросился в какую-то кофейную на углу улицы Закона и, став к улице спиной, закрыл глаза и заткнул уши, ибо вопли г-жи Дюбарри все еще звучали в глубине его души; когда же, по его расчетам, повозки проехали, он повернулся и, к величайшему своему изумлению, увидел, что на стуле стоит человек, — он влез на стул, чтобы ему было лучше видно, — и что это не кто иной, как его друг Захария Вернер.
— Вернер! — вскричал Гофман, бросаясь к молодому человеку. — Вернер!
— Так это ты! — сказал поэт. — Где же ты был?
— Здесь, здесь, только я заткнул уши, чтобы не слышать вопли этих несчастных; только я закрыл глаза, чтобы их не видеть.
— По правде говоря, ты не прав, дорогой друг, — сказал Вернер, — ведь ты художник! И то, что ты мог бы увидеть, послужило бы тебе сюжетом для великолепной картины. Вот, например, на третьей повозке везли великолепную женщину — что за шея, что за плечи, что за волосы! На затылке, правда, они были срезаны, зато с боков падали до самой земли.
— Послушай, — возразил Гофман, — уж если на то пошло, то я видел самое лучшее из всего того, что можно было увидеть: я видел госпожу Дюбарри; видеть других мне уже не нужно. Если когда-нибудь я захочу написать картину, этой натуры для меня будет достаточно, можешь мне поверить; впрочем, я больше не хочу писать картины.
— Это почему же? — спросил Вернер.
— Я получил отвращение к живописи.
— Еще одно разочарование.
— Дорогой Вернер, если я останусь в Париже, я сойду с ума.
— Ты сойдешь с ума всюду, где бы ты ни очутился, дорогой Гофман, и уж лучше сделать это в Париже, чем где-либо еще; а пока этого не случилось, скажи мне, что именно сводит тебя с ума.
— Ах, дорогой Вернер! Я влюблен.
— Знаю: в Антонию; ты говорил мне об этом.
— Нет, — вздрогнув, отвечал Гофман, — Антония — это совсем другое дело, Антонию я люблю!
— Черт возьми! Различие тонкое, объясни мне. Гражданин служащий, пива и стаканы!
Молодые люди набили трубки и уселись у стола, стоявшего в самом дальнем углу кофейной.
Тут-то Гофман и рассказал Вернеру все, что произошло с ним начиная с того дня, как он побывал в Опере и увидел танцующую Арсену, и кончая той минутой, когда обе женщины вытолкали его из будуара.
— Ну и что же? — спросил Вернер, когда Гофман кончил.
— Ну и что же?! — повторил Гофман, удивленный тем, что его друг не сражен, подобно ему.
— Я спрашиваю, что во всем этом такого ужасного, — продолжал Вернер.
— Да то, дорогой мой, что теперь я знаю: эту женщину можно завоевать только с помощью денег, поэтому я утратил всякую надежду.
— Почему же ты утратил всякую надежду?
— Потому что у меня никогда не будет пятисот луидоров, чтобы бросить их к ее ногам.
— Почему же у тебя их не будет? Доведись до меня, я в одно мгновение добыл бы пятьсот, тысячу, две тысячи луидоров.
— Боже милосердный! Да где же я возьму их? — возопил Гофман.
— Да в том Эльдорадо, о котором я уже говорил тебе, из источника, именуемого Пактолом, дорогой мой, — в игре.
— В игре! — вздрогнув, повторил Гофман. — Но ведь ты же отлично знаешь, что я дал Антонии клятву не играть.
— Э! — засмеялся Вернер. — Ведь дал же ты клятву остаться ей верным! Гофман тяжело вздохнул и прижал медальон к сердцу.
— За игру, мой друг! — продолжал Вернер. — Ах, какой банк! Это тебе не банк в Мангейме или в Хомбурге, где можно сорвать несколько жалких тысчонок. Тут миллионы, друг мой, миллионы, тут груды золота! По-моему, тут нашла приют вся звонкая монета Франции: никаких паршивых бумажонок, никаких жалких обесцененных ассигнатов, утративших три четверти своей стоимости… Милые сердцу луидоры, милые сердцу двойные луидоры, милые сердцу квадрупли! Слушай, хочешь взглянуть на них?
С этими словами Вернер вытащил из кармана и показал Гофману пригоршню луидоров, лучи которых через зрачки проникли в самую глубь его мозга.
— О нет, нет, никогда! — воскликнул Гофман, вспомнив и предсказание старого офицера, и просьбу Антонии. — Никогда я не стану играть!
— Ошибаешься; ты так счастлив в игре, что непременно сорвешь банк.
— А Антония? Как же Антония?
— Э, дорогой мой друг! Да откуда узнает твоя Антония, что ты играл и выиграл миллион? Откуда она узнает, что двадцать пять тысяч ливров ты истратил на свою прихоть, то бишь на прекрасную танцовщицу? Поверь мне: возвращайся в Мангейм с девятьюстами семьюдесятью пятью тысячами ливров, и Антония даже не спросит ни откуда у тебя сорок восемь тысяч пятьсот ливров ренты, ни куда ты девал недостающие двадцать пять тысяч.
С этими словами Вернер встал.
— Куда ты? — спросил Гофман.
— Я иду к одной даме — это моя любовница из Комеди Франсез: она удостаивает меня своими милостями, и я вознаграждаю ее за это половиной своих доходов. Черт побери! Ведь я поэт, и я охочусь в драматическом театре, а ты музыкант, и ты сделал выбор в театре, где поют и танцуют. Желаю тебе удачи в игре, мой друг, и от души приветствую мадемуазель Арсену. Не забывай номер игорного дома — сто тринадцать. Прощай.
— О, ты уже называл мне его, — прошептал Гофман, — и я его не забыл. Он дал Вернеру уйти, не подумав больше о том, чтобы взять его адрес, как не сделал этого и при первой их встрече.
Но, несмотря на то что Вернер удалился, Гофман не остался в одиночестве. Каждое слово его друга сделалось для него, если можно так выразиться, зримым и осязаемым: каждое слово было здесь, и каждое слово сверкало у него перед глазами и звенело у него в ушах.
В самом деле: откуда было Гофману черпать золото, если не из источника золота?! Вот оно — единственное средство для осуществления неисполнимого желания! Боже мой, да ведь Вернер назвал его! Разве Гофман уже не нарушил свою первую клятву? Так что за беда, если он нарушит и вторую?
А еще Вернер сказал ему, что он может выиграть не двадцать пять тысяч ливров, не пятьдесят тысяч и не сто. Горизонты лесов, полей, даже моря имеют свои границы; горизонт зеленого сукна их не имеет.
Демон игры подобен самому Сатане: в его власти вознести игрока на самую высокую гору в мире и оттуда показать ему все царства земные.
А еще — как рад, как счастлив, как горд будет Гофман, когда он вернется к Арсене в тот же самый будуар, откуда его вытолкали! С каким высокомерным презрением уничтожит он эту женщину и ее страшного любовника, когда вместо ответа на вопрос «Зачем вы пришли сюда?» он, как новоявленный Юпитер, осыплет новоявленную Данаю золотым дождем!
И это уже было не галлюцинацией, не плодом его воображения, — все это была сама действительность, все это было возможно. Шансы на выигрыш и на проигрыш были равны, но на выигрыш шансов было все-таки больше, ибо, как уже известно читателю, Гофману везло в игре.
О, этот номер 113, этот номер 113, эти пылающие цифры! Как манили они к себе Гофмана, как влек его этот адский маяк к бездне, на дне которой вопиет Безумие, катаясь на ложе из золота!
Более часа боролся Гофман с самой пылкой из всех страстей. А час спустя, чувствуя, что противиться ей долее он не в силах, он бросил на стол монету в пятнадцать су, оставляя сдачу служащему, и со всех ног, не останавливаясь, добежал до Цветочной набережной, поднялся к себе, взял триста талеров, которые у него еще оставались, и, не давая себе времени на размышления, вскочил в экипаж и крикнул:
— В Пале-Эгалите!
XV. НОМЕР 113
Пале-Рояль, который в ту эпоху назывался Пале-Эгалите и который именовался также Пале-Националь, ибо первое, что совершают наши революционеры, — они дают новые названия улицам и площадям, а прежние названия возвращаются во время реставраций; Пале-Рояль, сказали мы, — это название более для нас привычно, — в ту эпоху был не таким, как в наши дни, но и тогда он был живописен и оригинален, особенно вечером, и именно в тот час, когда к нему подъехал Гофман.
Выглядел он почти так же, как в наши дни, с тою лишь разницей, что в ту пору вместо нынешней Орлеанской галереи стоял двойной ряд лесов — там строилась прогулочная галерея, образуемая шестью рядами колонн дорического стиля, вместо лип в парке росли каштаны, а там, где теперь бассейн, находился цирк — просторное здание с решетчатой оградой, облицованное камнем и украшенное висячими садами.
Да не подумает читатель, что это было именно такое здание, какое принято называть цирком. Нет, акробаты и фокусники, изощрявшиеся в цирке Пале-Эгалите, были акробатами и фокусниками совсем другого рода, они не были такими, как английский акробат г-н Прайс, за несколько лет до этого вызвавший восхищение всей Франции и давший жизнь Мазюрье и Ориолю.
В те времена цирк принадлежал «Друзьям Истины» — они и устраивали там свои представления; эти представления мог увидеть всякий, кто подписывался на газету «Железные уста». Утренний номер газеты давал ее владельцу право на то, чтобы вечером войти в это заведение и получить удовольствие, послушав речи членов всех союзов и всех объединений, произносимые, как то утверждали ораторы, с похвальным намерением взять под свою защиту тех, кто правил, и тех, кем правили, сделать беспристрастными законы и разыскать во всех уголках земного шара друзей истины, какой бы национальности, какого бы цвета кожи они ни были и каких бы убеждений ни придерживались, после чего, отыскав истину, раскрыть ее человечеству.
Как видите, во Франции всегда были люди, убежденные в том, что именно на них лежит обязанность просвещать народные массы и что остальное человечество состоит из одних только глупцов.
Что оставил пронесшийся вихрь от имен, мыслей, от тщеславия этих людей? В общем шуме можно было, однако, различить шум цирка в Пале-Эгалите; его крикливый голос исполнял свою партию в общем хоре, каждый вечер устраивавшем концерты в этом саду.
Надобно заметить, что в ту эпоху — эпоху нищеты, изгнаний, террора и ссылок — Пале-Рояль стал центром жизни: днем ее терзали страсти и борьба, а ночью она приходила сюда, чтобы погрузиться в мечты и заставить себя забыть о той истине, на поиски которой устремились члены «Социального кружка» и акционеры цирка. В то время как все парижские кварталы были пустынны и темны, в то время как зловещие патрули, состоявшие из сегодняшних тюремщиков и завтрашних палачей, кружили по городу, словно хищные звери в поисках добычи, в то время как вокруг очага, где не хватало либо друга, либо погибшего или эмигрировавшего родственника, оставшиеся в живых грустным шепотом поверяли друг другу свои опасения или горести, Пале-Рояль сиял, как бог зла; он освещал все свои сто двадцать четыре аркады, он выставлял свои драгоценности в витринах ювелиров, он швырял в гущу грубых карманьол и во всеобщую нищету своих продажных девиц, сверкавших бриллиантами, набеленных и нарумяненных, разодетых именно так, как только они и могли одеваться — в шелка и в бархат, — прогуливавшихся под деревьями и в галереях с изумительным бесстыдством. В этой роскоши проституток была последняя насмешка над прошлым, последнее оскорбление, нанесенное монархии.
Выставлять напоказ этих тварей в королевских одеждах значило уже после кровопролития бросить еще и ком грязи в тот пленительный двор роскошных женщин (его королевой была Мария Антуанетта), перенесенный революционным ураганом из Трианона на площадь с гильотиной, — так идет пьяный, волоча по грязи белое платье своей невесты.
Роскошь стала привилегией бесстыжих шлюх, а добродетель вынуждена была прикрывать свою наготу лохмотьями.
То была одна из истин, обнаруженных «Социальным кружком».
И тем не менее народ, только что с неистовой силой потрясший весь мир, парижский народ, к несчастью сначала действующий, а уж потом рассуждающий, — вот почему ему всегда не хватает хладнокровия, чтобы вспомнить о наделанных им глупостях, — этот народ, народ бедный, раздетый, совсем не понимал философского смысла такого контраста и не с презрением, а с завистью глядел на этих королев притона, этих отвратительных цариц порока. Когда же кровь его распалялась при виде этого зрелища, когда глаза его загорались и он протягивал руку к этим телам, принадлежавшим всем и каждому, у него требовали золота, а если золота не было, он с позором изгонялся. Так повсюду оскорбляли великий принцип равенства, провозглашенный топором, начертанный кровью, — этот принцип теперь получили право со смехом оплевывать публичные девки из Пале-Рояля.
А в такие дни, как в те, о которых идет речь, чрезмерное нравственное возбуждение доходит до такой степени, что подобные странные контрасты становятся действительно необходимыми. Танцевали уже не на вулкане, а в жерле вулкана, и легкие, привыкшие дышать серой и лавой, уже не довольствовались тонким благоуханием былых времен.
Итак, каждый вечер Пале-Рояль оживлялся и освещал все вокруг своим огненным венцом. Каменный сводник вопил над огромным мрачным городом:
— Настала ночь: идите сюда! У меня есть все — удача и любовь, игра и женщины! Я торгую всем — даже убийством и самоубийством! Вы, не евшие со вчерашнего дня, вы, страдающие, вы, плачущие, идите ко мне! Вы увидите, как мы богаты, вы увидите, как мы смеемся! У вас есть совесть или дочь, которые вы могли бы продать? Приходите! У вас будут карманы, полные золота, уши, полные непристойностей, и вы полным ходом пойдете навстречу пороку, подкупу и забвению. Приходите сегодня вечером: быть может, завтра вас уже не будет в живых!
Это был веский довод. Надо было торопиться жить, так же как торопились убивать.
И люди шли.
Нечего и говорить, что самым посещаемым местом было то, где велась игра. Именно здесь получали то, на что можно было приобрести и все остальное.
Среди всех горевших огней именно красный фонарь номера 113 бросал самый яркий свет: то был громадный глаз пьяного циклопа по имени Пале-Эгалите.
Если у ада есть номер, то этим номером может быть только 113.
О! Здесь все было предусмотрено.
На первом этаже был ресторан; на втором этаже велась игра: в груди здания, что вполне естественно, билось его сердце; на третьем этаже было то, на что можно было израсходовать силы, приобретенные на первом, и деньги, выигранные на втором.
Повторяем: все было предусмотрено и устроено так, чтобы деньги не уходили из здания.
И вот к этому-то дому спешил Гофман, поэтичный возлюбленный Антонии!
Номер 113 тогда был там же, где он находится и сегодня: около магазинов торговой фирмы Корселе.
Гофман выпрыгнул из экипажа, вошел в галерею дворца и благодаря одежде иностранца (в то время, как и в наши дни, она внушает больше доверия, нежели костюм национальный) его немедленно облепили все божества тех мест.
Ни одну страну никто не презирает больше, чем презирает себя она сама.
— Где номер сто тринадцать? — спросил Гофман у шлюхи, которая схватила его за руку.
— Ах, вот ты куда! — презрительно сказала эта Аспазия. — Вон там, мой мальчик, — там, где красный фонарь. Только постарайся сохранить пару луидоров и не забудь о номере сто пятнадцать.
Гофман бросился в указанную ему аллею, подобно тому как бросился в пропасть Курций, и минуту спустя очутился в игорном зале.
Там стоял шум, как на аукционе.
Там и в самом деле продавалось многое.
Залы сияли позолотой, люстрами; их украшали цветы и женщины, еще более красивые, еще более роскошные, с еще более глубокими декольте, чем те, что оставались внизу.
Звук, заглушавший все прочие шумы, был звон золотых монет. Именно здесь билось то подлое сердце.
Оставив по правую руку зал, где играли в тридцать и сорок, Гофман очутился в зале, где была рулетка.
За длинным зеленым столом, около которого теснились игроки, собрались люди, объединенные одной целою, хотя выглядели они все совершенно по-разному.
Тут были молодые, тут были старики, тут были люди, протершие себе локти за этим самым столом. Среди этих людей были такие, которые потеряли отца вчера, сегодня утром или даже сегодня вечером, а мысли их целиком были поглощены шариком, прыгавшим по колесу. У игрока остается в живых только одно чувство — желание выиграть, и чувство это питается и растет за счет всех остальных. Господин де Бассомпьер, к которому, едва он вышел танцевать с Марией Медичи, подошли и сказали: «Ваша матушка скончалась» — а он ответил: «Моя матушка скончается лишь после того, как я кончу танцевать», — был почтительнейшим сыном по сравнению с игроком. Если что-нибудь подобное скажут игроку во время игры, он не ответит даже так, как ответил маркиз: во-первых, это значило бы потерять время, а во-вторых, игрок во время игры лишается не только сердца, но и разума.
Когда он не играет, он все равно думает об игре.
Игрок обладает всеми добродетелями этого порока. Он воздержан, он терпелив, он неутомим. Если бы игрок в один прекрасный день сумел употребить всю ту невероятную энергию, какую он расходует на игру, на благородную страсть, на высокое чувство, он мгновенно стал бы одним из самых великих людей в мире. Ни Цезарь, ни Ганнибал, ни Наполеон даже в пору совершения самых великих своих деяний не могли помериться силами с самым захудалым игроком. Честолюбие, любовь, чувства, сердце, рассудок, слух, обоняние, осязание — короче говоря, все движущие силы, таящиеся в человеке, объединяются одним словом и одной целью: «игра». И не думайте, что игрок играет ради выигрыша; правда, начинает он именно ради этого, но кончает тем, что играет ради игры, ради того, чтобы видеть карты, ради того, чтобы трогать золото, ради того, чтобы испытывать необычное волнение. Это волнение нельзя сравнить ни с какими другими страстями, от этого волнения перед лицом выигрыша или же проигрыша — этих двух полюсов, между которыми игрок носится с быстротой ветра (один из них жжет, как огонь, а другой замораживает, как лед), — от этого волнения его сердце готово вырваться из груди под ударами мечты или же действительности, как лошадь под ударами шпор, вобрать в себя, подобно губке, все душевные силы, сдерживать их, экономить и после сделанного хода передохнуть, с тем чтобы потом вновь напрягать их.
Страсть к игре — самая сильная из всех страстей, она никогда не наскучит. Это любовница, обещающая все и не дающая ничего. Она убивает, но не утомляет.
Страсть к игре — это мужская истерия.
Для игрока погибает все — семья, друзья, родина. Круг его интересов — это карты и шарик. Его родина — это стул, на котором он сидит, это зеленое сукно, на котором лежат его руки. Если бы его, как святого Лаврентия, приговорили к сожжению на раскаленной решетке, но при этом позволили бы играть, — держу пари, он и не почувствовал бы, что пламя жжет его, и даже не пошевельнулся бы.
Игрок молчалив. Слова ему не нужны. Он играет, он выигрывает, он проигрывает; это уже не человек — это машина. О чем же ему разговаривать?
И шум, стоявший в залах, поднимали вовсе не игроки, а крупье — это они собирали золото и гнусаво кричали:
— Делайте ваши ставки!
В эту минуту Гофман был уже не просто наблюдателем, страсть овладела им целиком, а иначе он мог бы набросать здесь несколько небезынтересных этюдов.
Он быстро проскользнул в толпу игроков и подошел к краю игорного стола. По одну сторону от него стоял человек в карманьоле, по другую — сидел старик с карандашом в руках и что-то подсчитывал на листке бумаги.
Этот старик, потративший всю жизнь на поиски мартингала, тратил теперь свои последние дни на то, чтобы все же попытать счастья, и свои последние деньги — на то, чтобы видеть, как рушатся его надежды. Мартингал так же неуловим, как и душа.
Между стоявшими и сидевшими мужчинами виднелись женщины: опираясь на плечи мужчин, они рылись в их золоте и с беспримерной ловкостью умудрялись, не принимая участия в игре, зарабатывать как на выигрыше одних, так и на проигрыше других.
При виде стаканчиков, полных золота, и уложенных пирамидками монет весьма трудно было бы поверить в то, что народ так страшно бедствует и что золото стоит так дорого.
Человек в карманьоле поставил на какой-то номер пачку бумажек.
— Пятьдесят ливров, — объявил он свою ставку.
— Что это такое? — спросил крупье, подгребая лопаточкой бумажки и беря их кончиками пальцев.
— Это ассигнаты, — ответил человек.
— А других денег у вас нет? — спросил крупье.
— Нет, гражданин.
— В таком случае извольте уступить место кому-нибудь другому.
— Это почему же?
— Потому что таких денег мы не берем.
— Это деньги, выпущенные государством!
— Если они могут пригодиться государству, тем лучше для него. А нам таких не надо.
— Ну хорошо, — сказал человек, забирая ассигнаты, — значит, и в самом деле это никуда не годные деньги, если их даже проиграть нельзя.
И, скомкав ассигнаты в руке, удалился.
— Делайте ваши ставки! — кричал крупье.
Мы уже знаем, что Гофман был игроком, но на сей раз он пришел сюда ради денег, а не ради игры.
От сжигавшей его лихорадки душа его бурлила в теле, как вода в котле.
— Сто талеров на двадцать шесть! — крикнул он. Крупье осмотрел немецкие деньги так же, как перед тем осмотрел ассигнаты.
— Подите обменяйте, — сказал он Гофману, — мы принимаем только французские деньги.
Гофман как сумасшедший побежал вниз, заскочил к меняле — как нарочно, тот тоже оказался немцем — и обменял свои триста талеров на золото, то есть приблизительно на сорок луидоров.
За это время рулетка вертелась уже три раза.
— Пятнадцать луидоров на двадцать шесть! — закричал он, подбегая к столу; с беспримерным суеверием игроков он повторял тот номер, который случайно уже назвал — назвал только потому, что на него хотел поставить человек с ассигнатами.
— Ставки больше не принимаются! — крикнул крупье. Шарик покатился. Сосед Гофмана сгреб две пригоршни золота, бросил их в шляпу и зажал ее между колен, а крупье подгреб к себе лопаточкой пятнадцать луидоров Гофмана и деньги многих других.
Вышел номер шестнадцать.
Гофман почувствовал, что лоб его, словно стальной сетью, покрывается холодным потом.
— Пятнадцать луидоров на двадцать шесть! — повторил он.
Другие голоса назвали другие номера, и шарик покатился снова.
На сей раз все досталось банку. Шарик упал на зеро.
— Десять луидоров на двадцать шесть! — сдавленным голосом произнес Гофман, но тут же спохватился: — Нет, только девять.
Он схватил одну золотую монету, чтобы оставить себе последний ход и последнюю надежду.
Вышел номер тридцать.
Золото отхлынуло с игорного стола, подобно бурной волне во время отлива.
Сердце у Гофмана сильно билось, в голове шумело, он видел перед собой насмешливую физиономию Арсены и печальное лицо Антонии; дрожащей рукой поставил на двадцать шесть свой последний луидор.
Все кончилось в одну минуту.
— Ставки больше не принимаются! — крикнул крупье. Гофман горящими глазами, словно перед ним пролетала его судьба, следил за шариком, что летел по колесу.
Внезапно он откинулся и закрыл лицо руками.
Он не только проиграл; у него не оставалось больше ни одного денье ни с собой, ни дома.
Одна из женщин, присутствовавшая при этом, — за минуту перед тем всякий мог бы получить ее за двадцать франков — с диким воплем радости сгребла горсть только что выигранного ею золота.
Гофман отдал бы десять лет жизни за один из луидоров этой женщины.
И чтобы не осталось никаких сомнений, он быстрыми, как мысль, движениями обыскал и обшарил свои карманы.
Карманы были пусты, но на груди он нащупал что-то круглое, похожее на экю, и схватил этот предмет.
То был медальон Антонии: он забыл о нем.
— Я спасен! — воскликнул Гофман и поставил на номер 26 золотой медальон.
XVI. МЕДАЛЬОН
Крупье взял золотой медальон и осмотрел его.
— Сударь, — сказал он Гофману (надо заметить, что в номере 113 еще обращались друг к другу со словами «сударь»), — сударь, продайте эту вещь, если угодно, и играйте на деньги, но повторяю: мы берем только золотые или серебряные монеты.
Гофман схватил медальон и, не сказав ни слова, выбежал из игорного зала.
Пока он спускался по лестнице, в душе у него роились какие-то мысли, решения, предчувствия; казалось, его кто-то предостерегал, но он был глух ко всем этим неясным призывам и влетел к соотечественнику, только что обменявшему ему талеры на луидоры.
Почтенный человек, в очках, съехавших на самый кончик носа, читал, небрежно развалившись в широком кожаном кресле; его освещали исходящие от низкой лампы тусклые лучи, с которыми сливался желтый блеск золотых монет, лежавших в медных чашках; за спиной у него была тонкая железная проволочная сетка с зелеными шелковыми занавесками, с маленькой дверцей на высоте стола: в эту дверцу можно было просунуть только руку.
Никогда еще золото не приводило Гофмана в такое восхищение.
Он радостно раскрыл глаза, словно попал в комнату, залитую солнцем, а ведь только что, за игорным столом, он видел гораздо больше золота, но, если уж рассуждать философски, то было совсем иное золото. Между звенящим, мелькающим, движущимся золотом номера 113 и спокойным, серьезным, молчаливым золотом менялы была такая же разница, как между пустым, безмозглым болтуном и погруженным в свои думы мыслителем. С помощью золота, выигранного в рулетку или в карты, невозможно делать добро: не золото принадлежит тому, кто им обладает, а тот, кто им обладает, принадлежит золоту. Черпаемое из мутного источника, оно должно служить грязным целям. Оно живет, но живет дурной жизнью и уходит столь же поспешно, сколь пришло. Оно вовлекает только в грех и не делает добра, а если и делает, то невольно; оно нашептывает желания, что стоят в четыре, в двадцать раз больше, чем это золото может оплатить, и, завладев им, человек вскоре убеждается, что ценность его невелика; короче говоря, деньги, которые выиграли или проиграли в игорном доме, деньги, о которых еще только мечтают, или деньги, которые подгребают к себе, — всегда имеют лишь относительную ценность. То целая горсть золота ничего не стоит, то от одной-единственной монеты зависит жизнь человека; а вот золото, имеющее обращение в торговле, золото менялы — то золото, за которым пришел Гофман к своему соотечественнику, — действительно имеет цену, обозначенную на нем; оно выйдет из своего медного гнезда только ради чего-то равноценного, а может быть, и превосходящего его цену; оно не переходит из рук в руки, подобно куртизанке, — без стыда, без любви, даже без симпатии; нет, оно себя уважает; выйдя из рук менялы, оно может испортиться, попасть в дурное общество — быть может, так и случилось до того, как оно попало к меняле, — но пока оно здесь, оно пользуется уважением и требует почтения к себе. Это символ необходимости, а не прихоти. Его не выигрывают — его приобретают; рука крупье не швыряет его, как простой жетон, — оно медленно, методически, монета за монетой, пересчитывается менялой со всем уважением, коего оно заслуживает. Оно молчаливо, но его молчание весьма красноречиво; в мыслях Гофмана все эти сравнения промелькнули в одну секунду, и он задрожал, опасаясь, что меняла не пожелает дать ему золота под залог медальона. Он заставил себя, невзирая на лишнюю трату времени, пуститься в долгий, пространный разговор, лишь бы добиться своей цели, тем более что он предлагал меняле не деловую сделку, а обращался к нему с просьбой.
— Сударь, — сказал он, — это я только что приходил к вам менять талеры на золото.
— Да, я узнал вас, сударь, — отвечал меняла.
— Вы немец, сударь?
— Я из Гейдельберга.
— А ведь я там учился! Что за прелестный город!
— Ваша правда.
Кровь у Гофмана бурлила. Ему казалось, что каждая минута, потраченная на такой банальный разговор, — это потерянный год жизни.
Тем не менее он с улыбкой продолжал:
— Я подумал, что, будучи моим соотечественником, вы соблаговолите оказать мне услугу.
— Какую? — спросил меняла, и лицо его омрачилось при этих словах: меняла дает взаймы так же неохотно, как муравей.
— Ссудить мне три луидора под залог золотого медальона.
С этими словами Гофман протянул медальон коммерсанту; тот положил его на весы и взвесил.
— Может быть, вы предпочтете продать его? — спросил меняла.
— О нет! — воскликнул Гофман. — Нет, довольно и того, что я отдаю его в залог; больше того, — я прошу вас, сударь: соблаговолите оказать мне услугу и храните этот медальон чрезвычайно бережно, — он для меня дороже жизни; завтра же я выкуплю его; чтобы его заложить, надо попасть в такие обстоятельства, в какие попал я.
— В таком случае я дам вам под залог три луидора, сударь.
И меняла со всей серьезностью, коей требовала такого рода операция, достал три луидора и один за другим выложил их перед Гофманом.
— О, я вам бесконечно благодарен, сударь! — воскликнул поэт и, схватив три золотые монеты, исчез.
Меняла положил медальон в уголок своего ящика и опять углубился в чтение.
Не ему ведь пришла в голову мысль рискнуть своим золотом в номере 113.
Игрок настолько близок к святотатству, что Гофман, поставив на номер 26 одну монету, — он не желал рисковать всеми тремя, — произнес имя Антонии.
Когда колесо завертелось, Гофман был спокоен: какой-то внутренний голос говорил ему, что он выиграет.
Вышел номер 26.
Сияющий Гофман сгреб тридцать шесть луидоров.
Прежде всего он спрятал в кармашек для часов три луидора; он хотел быть уверен, что сможет выкупить медальон своей невесты, он произнес ее имя, и ее имени явно был обязан своим первым выигрышем. Тридцать три луидора он поставил на тот же номер, и этот номер вышел. Это составляло выигрыш в тридцать три луидора, помноженные на тридцать шесть, то есть тысячу сто восемьдесят восемь луидоров, то есть больше двадцати пяти тысяч франков.
Черпая пригоршнями золото из этого неиссякаемого Пактола, Гофман в каком-то ослеплении ставил наудачу без конца. После каждой ставки груда выигранного им золота все увеличивалась, напоминая гору, внезапно вырастающую над водой.
Золото было у него в карманах, в сюртуке, в жилете, в шляпе, в руках, на столе — всюду. Золото текло к нему из рук крупье, словно кровь, хлынувшая из глубокой раны. Он становился Юпитером для всех Данай, которые здесь были, и кассиром всех незадачливых игроков.
Тысяч двадцать франков он таким образом потерял.
Наконец, решив, что им выиграно достаточно, он сгреб лежавшее перед ним золото и, оставив всех присутствующих во власти восхищения и зависти, помчался к дому Арсены.
Был час ночи, но это его не смущало.
Ему казалось, что с такими деньгами он может прийти в любое время дня и ночи — и всегда будет желанным гостем.
Он наслаждался, думая о том, как он осыплет золотом тело Арсены — тело, что обнажилось в его присутствии, что осталось к его любви холодным, как мрамор, и что оживет перед его богатством, подобно статуе Прометея, обретшего свою настоящую душу.
Он хотел войти к Арсене, опустошить свои карманы до последней монеты и сказать ей: «Теперь люби меня». А на следующее утро он уедет и, если это возможно, избавится от воспоминаний об этом лихорадочном, изнуряющем сне.
Он постучал в дверь к Арсене, как хозяин дома, вернувшийся к себе.
Дверь отворилась.
Гофман бросился к лестнице.
— Кто там? — послышался голос привратника. Гофман не отвечал.
— Куда вы, гражданин? — спросил тот же голос, и тень, неясная, как все ночные тени, появилась на пороге и бросилась вдогонку за Гофманом.
В те времена людям страшно хотелось знать, кто вышел, а особенно — кто вошел.
— Я иду к мадемуазель Арсене, — отвечал Гофман, бросая привратнику три-четыре луидора (час тому назад он продал бы за них душу).
Такая манера объясняться больше пришлась по вкусу служащему.
— Мадемуазель Арсены здесь больше нет, сударь, — отвечал он, с полным основанием полагая, что слово «гражданин» надо заменить словом «сударь», коль скоро ты имеешь дело с человеком со столь щедрой рукой. Человек, который обращается с вопросом, может сказать «гражданин», но человек, которому что-то дают, может сказать только «сударь».
— Как! — воскликнул Гофман. — Арсены здесь больше нет?
— Нет, сударь.
— Вы хотите сказать, что она не вернулась сегодня вечером?
— Я хочу сказать, что она вообще сюда не вернется.
— Так где же она?
— Понятия не имею.
— Боже мой! Боже мой! — простонал Гофман, обеими руками схватившись за голову, словно для того, чтобы удержать рассудок, готовый его покинуть. Все, что произошло с ним за последнее время, было настолько необычным, что каждую секунду он говорил себе: «Ну вот, сейчас я сойду с ума!»
— Так вы не знаете новость? — спросил привратник.
— Какую новость?
— Арестовали господина Дантона.
— Когда?
— Вчера. Так велел господин Робеспьер. Великий человек этот гражданин Робеспьер!
— Так что же?
— Да то, что мадемуазель Арсене пришлось спасаться бегством: ведь она любовница Дантона, а это бросает тень и на нее.
— Вы правы. Но как же она спаслась?
— Да так, как спасаются люди, которые боятся, что им отрубят голову: тут уж все средства хороши.
— Спасибо, друг мой, спасибо, — сказал Гофман и скрылся, оставив еще несколько монет в руках привратника.
Очутившись на улице, Гофман спросил себя, что он должен делать и зачем ему теперь все его золото; как нетрудно догадаться, ему и в голову не приходило, что он сможет разыскать Арсену, так же как не приходило ему в голову вернуться домой и отдохнуть.
И вот он пошел прямо, никуда не сворачивая; стук его каблуков раздавался по темным улицам, а он все шел и шел, подгоняемый своими мучительными мыслями.
Ночь была холодная, оголенные деревья, похожие на скелеты, дрожали под ночным ветром, как больные, что в бреду встали с постели, а их исхудавшие руки и ноги трясутся от лихорадки.
Снег хлестал по лицам ночных прохожих, и редко-редко освещенное окно — массы домов сливались с темным небом — загораживала чья-нибудь тень.
Холодный воздух подействовал на Гофмана благотворно. Душа его мало-помалу успокоилась во время быстрого бега, и возбуждение, если можно так выразиться, испарилось. В помещении он задохнулся бы; к тому же — как знать? — быть может, если он будет идти вперед, он встретит Арсену: ведь спасая бегством, она могла выбрать ту же дорогу, какую выбрал он, когда выходил от нее.
И вот он прошел пустынный бульвар, пересек Королевскую улицу, словно не глаза его — они ничего не видели, — а ноги узнали то место, где он оказался; поднял голову и остановился, заметив, что идет прямо к площади Революции — к той самой площади, по которой он поклялся никогда больше не проходить.
Небо было совсем темное, но еще более темный силуэт выделялся на горизонте, черном как чернила. То был силуэт чудовищной машины; ночной ветер высушил ее влажную от крови пасть, и теперь она спала в ожидании одной из тех верениц, что приходили к ней ежедневно.
Гофман не хотел снова увидеть это место при свете дня, он не хотел опять очутиться на этом месте, ибо там текла кровь; однако ночью все было совсем по-другому, и поэту, в котором независимо от его воли никогда не дремлет поэтическое чутье, было любопытно увидеть гильотину в тишине и во мраке, дотронуться пальцем до зловещего сооружения, кровавый облик которого в этот час должен был благотворно подействовать на его рассудок.
Какой великолепный контраст: после шумного игорного зала — эта пустынная площадь с эшафотом, ее вечным хозяином; после зрелища смерти — запустение и затишье!
Итак, Гофман шел к гильотине, словно притягиваемый магнитом.
Вдруг, почти не понимая, как это произошло, он очутился прямо перед ней.
Ветер свистел на эшафоте.
Скрестив руки на груди, Гофман глядел на него.
Сколько мыслей должно было родиться в мозгу у этого человека, чьи карманы были набиты золотом: он мечтал о ночи наслаждений, а в эту ночь одиноко стоял у подножия эшафота!
Его размышления были прерваны: внезапно ему почудилось, что к стонам ветра примешивается стон человека.
Он наклонился и прислушался.
Стон послышался снова: он доносился не издали, а откуда-то снизу.
Гофман огляделся, но никого не увидел.
Всхлипывание достигло его слуха в третий раз.
— Похоже, что это женский голос, — прошептал он, — и доносится он из-под эшафота.
Наклонившись, чтобы лучше видеть, он начал обходить гильотину. Когда он проходил мимо чудовищной лестницы, нога его за что-то задела; он протянул руки и коснулся какого-то существа, скорчившегося на первых ступеньках этой лестницы и одетого во все черное.
— Кто вы? — спросил Гофман. — Кто спит ночью рядом с эшафотом? Произнеся эти слова, он опустился на колени, чтобы увидеть лицо той, кому он задал этот вопрос.
Но она не двигалась; локти она поставила на колени, а голову положила на руки.
Несмотря на ночной холод, плечи ее были почти совсем обнажены, и Гофман смог разглядеть черную полоску, вокруг ее белой шеи.
Это была черная бархатка.
— Арсена! — вскричал он.
— Да, это я! — каким-то странным голосом прошептала скорчившаяся женщина, подняв голову и взглянув на Гофмана.
XVII. ГОСТИНИЦА НА УЛИЦЕ СЕНТ-ОНОРЕ
Гофман в ужасе попятился; он слышал ее голос, он видел ее лицо и все-таки не верил, что это она. Но Арсена подняла голову; руки ее, открыв шею, упали на колени, так что стал виден ее необычный бриллиантовый аграф, соединявший концы бархатки и сверкавший в ночи.
— Арсена! Арсена! — повторял Гофман. Арсена встала.
— Что вы здесь делаете в такую пору? — спросил молодой человек. — Да еще в этом сером платье! Да еще с голыми плечами!
— Его арестовали вчера, — отвечала Арсена, — а потом пришли арестовать и меня, и я убежала в чем была, но сегодня вечером моя комнатушка показалась мне слишком тесной, а кровать слишком холодной, и вот в одиннадцать часов я ушла оттуда, и теперь я здесь.
Эти слова прозвучали до странности однотонно; Арсена произнесла их, не сделав ни одного движения; они вылетали из ее бледных губ, которые открывались и закрывались словно с помощью пружины: казалось, что это был говорящий автомат.
— Но не можете же вы оставаться здесь! — воскликнул Гофман.
— А куда я пойду? Я хочу возвратиться туда, откуда я пришла, как можно позже; уж очень там холодно.
— Идемте со мной! — воскликнул Гофман.
— С вами? — повторила Арсена.
И при свете звезд молодому человеку показалось, что эти мрачные глаза метнули на него презрительный взгляд, похожий на тот, что однажды уже уничтожил его в прелестном будуаре на Ганноверской улице.
— Я богат, у меня есть золото! — вскричал Гофман. В глазах танцовщицы сверкнули молнии.
— Пойдемте, — сказала она, — но куда?
— Куда?
В самом деле: куда мог повести Гофман эту чувственную, привыкшую к роскоши женщину, ту, что расставшись с очарованными замками и волшебными садами Оперы, уже привыкла топтать персидские ковры и нежиться на индийском кашемире?
Само собой разумеется, он не мог привести ее в свою студенческую комнатушку: там ей было бы так же тесно и так же холодно, как и в том неведомом обиталище, о котором она только что рассказывала и куда, по-видимому, так безумно боялась вернуться.
— В самом деле, куда? — спросил Гофман. — Я ведь совсем не знаю Парижа.
— Я могу привести вас в одно место, — сказала Арсена.
— Прекрасно! — воскликнул Гофман.
— Идите за мной, — промолвила молодая женщина. Деревянной походкой, походкой автомата — в ней не было ровно ничего от обворожительной легкости, восхищавшей Гофмана в танцовщице, — она пошла вперед.
Молодой человек не догадался предложить ей руку: он последовал за ней. Пройдя по Королевской улице (ее называли в то время улицей Революции),
Арсена повернула направо, на улицу Сент-Оноре, для краткости называемую просто улицей Оноре, остановилась у фасада великолепной гостиницы и постучалась.
Дверь тотчас же отворилась.
Привратник с удивлением посмотрел на Арсену.
— Поговорите с ним, — сказала она молодому человеку, — иначе меня не впустят, мне придется вернуться обратно и сесть у подножия гильотины.
— Друг мой, — живо заговорил Гофман, становясь между молодой женщиной и привратником, — проходя по Елисейским полям, я услышал крик: «На помощь!» Я подоспел как раз вовремя, чтобы спасти эту даму от убийц, но я не успел помешать им раздеть ее. Пожалуйста, отведите мне лучшую комнату, прикажите развести огонь пожарче и подать нам хороший ужин. Вот вам луидор.
И он бросил золотую монету на стол, где стояла лампа, все лучи которой, казалось, сосредоточились на сверкающем лике Людовика XV.
В то время луидор был крупной суммой: на ассигнаты это составляло девятьсот двадцать пять франков.
Привратник снял свой засаленный колпак и позвонил. На звонок прибежал коридорный.
— Лучшую комнату для этих господ, да поживее!
— Для господ? — с удивлением переспросил коридорный, переводя взгляд с более чем скромного костюма Гофмана на более чем легкий костюм Арсены.
— Да, — сказал Гофман, — самую лучшую, самую красивую, а главное — хорошо протопленную и хорошо освещенную; вот вам луидор.
Казалось, при этом коридорный испытал то же чувство, что и привратник: он склонился перед луидором.
— Поднимайтесь и ждите у дверей третьего номера, — сказал он, указывая на широкую лестницу, полуосвещенную в этот поздний час, однако ступени ее — роскошь по тому времени весьма необычная — были покрыты ковром.
С этими словами он исчез.
Перед первой же ступенькой Арсена остановилась.
Казалось, поднять ногу для этой легкой сильфиды составляет непреодолимую трудность.
Можно было подумать, что у легких атласных туфелек были свинцовые подошвы.
Гофман предложил ей руку.
Арсена оперлась на нее, и хотя он не почувствовал тяжести ручки танцовщицы, зато почувствовал холод, которым веяло от ее тела.
Сделав над собой невероятное усилие, Арсена поднялась на первую ступеньку, затем на другую, на третью и так далее, но каждый раз при этом у нее вырывался вздох.
— Ах, бедная женщина, — прошептал Гофман, — как же вы должны были страдать!
— Да, да, — отвечала Арсена, — я страдала… Я много страдала.
Они подошли к дверям третьего номера.
Почти одновременно с ними подошел и коридорный, неся целую гору горящих углей; он открыл двери комнаты — и в одну минуту запылал камин и зажглись свечи.
— Вы, наверное, голодны? — спросил Гофман.
— Не знаю, — ответила Арсена.
— Коридорный! Лучший ужин, какой вы только сможете нам подать, — сказал Гофман.
— Сударь, — вынужден был заметить коридорный, — теперь говорят не «коридорный», а «служащий». Но поскольку сударь хорошо платит, он может говорить, как ему будет угодно.
И, в восторге от своей шутки, он вышел со словами:
— Ужин будет через пять минут!
Когда дверь за служащим закрылась, Гофман метнул жадный взгляд на Арсену.
Она так стремительно бросилась к огню, что даже не подумала подвинуть кресло к камину; она просто съежилась в уголке у очага в той же позе, в какой нашел ее Гофман около гильотины; и здесь, поставив локти на колени, она, казалось, была озабочена тем, чтобы подпирать руками голову на плечах и держать ее прямо.
— Арсена, Арсена, — говорил молодой человек, — я сказал, что разбогател, не так ли? Посмотри — и ты увидишь, что я не обманул тебя.
Гофман начал с того, что вывернул на стол свою шляпу; шляпа была полна луидорами и двойными луидорами, и они потекли из шляпы на мрамор с характерным для золота звуком: ни с каким другим звуком его не спутаешь.
Вслед за шляпой он опорожнил карманы, и карманы один за другим выбросили на стол добытые с помощью игры трофеи.
Груда сыплющегося, сверкающего золота громоздилась на столе.
Звон золотых монет, казалось, оживил Арсену; она повернула голову, словно вслед за слухом воскресло и ее зрение.
Она встала, все такая же деревянная и неподвижная, но ее бледные губы заулыбались, но ее остекленевшие глаза засверкали, и блеск их соперничал с блеском золота.
— О! — сказала она. — И все это твое?
— Нет, не мое, а твое, Арсена!
— Мое! — повторила танцовщица.
И она погрузила свои побелевшие руки в груду металла. Руки молодой девушки ушли в нее до самых локтей. Эта женщина, для которой золото было жизнью, прикоснувшись к золоту, казалось, вновь обрела жизнь.
— Мое! — повторяла она. — Мое!
Она произносила эти слова дрожащим, металлическим голосом, странным образом сливавшимся со звяканьем луидоров.
Вошли двое коридорных: они внесли уже накрытый стол и едва не уронили его при виде золотой груды, которую ворошили нервные руки Арсены.
— Прекрасно, — сказал Гофман, — подайте шампанского и оставьте нас. Коридорные принесли несколько бутылок шампанского и удалились. Гофман закрыл за ними дверь и запер ее на задвижку.
Глаза его горели желанием; он опять подошел к Арсене и снова увидел, что она стоит у стола и продолжает черпать жизнь не из источника Ювенсы, а из реки Пактола.
— Ну что? — спросил он.
— Золото — это прекрасно, — отвечала она, — я давно уже не прикасалась к нему.
— Тогда давай сначала поужинаем, — сказал Гофман, — а потом все в твоей власти, Даная, — ты сможешь купаться в золоте, если захочешь.
И он увлек ее к столу.
— Мне холодно, — сказала она.
Гофман посмотрел вокруг: окна и постель были затянуты красной камкой; он сорвал занавеску с окна и протянул ее Арсене.
Арсена накинула на плечи занавеску, которая, казалось, сама легла складками античной хламиды, и над этой красной драпировкой ее белое лицо стало еще белее.
Гофману сделалось почти страшно.
Он сел за стол, налил себе и выпил сразу два-три бокала шампанского. И тут ему показалось, что в глазах Арсены появился легкий блеск.
Он налил и ей, она тоже выпила.
Он уговаривал ее поесть, но она отказывалась.
И так как Гофман настаивал, она проговорила:
— У меня кусок в горло не идет.
— Тогда выпьем.
Она протянула ему свой бокал.
— Выпьем.
Гофмана мучили и голод и жажда; он ел и пил.
Особенно много он пил; он чувствовал, что ему не хватает дерзости; не то чтобы ему казалось, что Арсена, как в прошлый раз, готова оттолкнуть его то ли силой, то ли презрением; но его пугал какой-то леденящий холод, исходивший от тела прекрасной гостьи.
Чем больше он пил, тем больше оживлялась Арсена, — во всяком случае, так казалось ему; только когда она осушала бокал, какие-то розовые капли катились из-под бархатки на грудь танцовщицы. Гофман смотрел, ничего не понимая, потом, почуяв в этом что-то ужасное и загадочное, поборол внутреннюю дрожь и стал произносить все новые и новые тосты за прекрасные глаза, за прекрасные уста, за прекрасные руки танцовщицы.
Она не сопротивлялась, пила вместе с ним и как будто оживлялась, но не оттого, что пила, а оттого, что пил Гофман.
Внезапно из камина выпала головешка.
Гофман проследил за ней взглядом и увидел, что остановилась она только тогда, когда наткнулась на стопу Арсены.
Чтобы согреться, Арсена сняла чулки и туфельки; ее маленькая белая стопа, лежала на мраморе камина — мраморе таком же белом, как эта стопа: они, казалось, составляли единое целое.
У Гофмана вырвался крик.
— Арсена, Арсена! Осторожнее! — воскликнул он.
— А что такое? — спросила танцовщица.
— Эта головня… эта головня касается вашей ноги.
И в самом деле, она прикрыла собой часть стопы Арсены.
— Ну так уберите ее, — спокойно сказала танцовщица.
Гофман наклонился, поднял головню и с ужасом увидел, что не раскаленный уголь обжег ногу молодой девушки, а нога молодой девушки погасила раскаленный уголь.
— Выпьем! — сказал он.
— Выпьем! — повторила Арсена. И она протянула ему свой бокал. Вторая бутылка была пуста.
И тем не менее Гофман чувствовал, что одного опьянения вином ему недостаточно. Он увидел фортепьяно.
— Отлично! — воскликнул он.
Он понял, что фортепьяно даст ему опьянение музыкой.
Он бросился к фортепьяно.
И тут под его пальцами, вполне естественно, родилась та самая мелодия, под которую Арсена исполняла па-де-труа в балете «Парис», когда Гофман увидел ее в первый раз.
Но ему казалось, что струны фортепьяно сделаны из стали. Инструмент звучал так, как звучал бы целый оркестр.
— Вот оно! — воскликнул Гофман. — Отлично!
Он жаждал опьянения и начал ощущать его в этих звуках; к тому же при первых аккордах встала и Арсена.
Казалось, эти аккорды словно огненной сетью окутали всю ее фигуру.
Она отбросила занавеску из красной камки, и — странное дело! — словно на сцене, где волшебные превращения происходят так, что зритель и не знает, как это делается, произошло превращение и с ней: вместо серого открытого платья без всяких украшений на ней вновь был костюм Флоры, весь усыпанный цветами, весь в газовой дымке, весь трепещущий от сладострастия.
Гофман вскрикнул, и под его пальцами из груди фортепьяно, казалось, с удвоенной энергией начала бить дьявольская сила, звенящая в его стальных жилах.
И тут то же самое чудо вновь помутило рассудок Гофмана. Эта летающая, постепенно оживающая женщина неодолимо влекла его к себе. Сцену ей заменяло все пространство между фортепьяно и альковом, и на фоне красных занавесок она казалась адским видением. Каждый раз, как из глубины комнаты она приближалась к Гофману, он привставал на стуле; каждый раз, как она удалялась в глубину комнаты, Гофман чувствовал, что она влечет его за собой. Наконец — Гофман так и не понял, как это случилось, — темп под его пальцами изменился: то была уже не мелодия, что он услышал тогда в Опере и что играл теперь, — то был вальс, вальс «Желание» Бетховена; он возник и зазвучал под его пальцами как выражение его мыслей. Изменила ритм и Арсена: сначала она делала фуэте на одном месте, потом мало-помалу круг, который она описывала, стал расширяться и она приблизилась к Гофману. Гофман, задыхаясь, чувствовал, что она подходит, что она приближается; он понимал, что, сделав последний круг, она коснется его, и тогда ему тоже придется встать и закружиться в этом знойном вальсе. Его охватили желание и ужас. Наконец, оказавшись рядом с ним, Арсена протянула руку и коснулась его кончиками пальцев. Гофман вскрикнул, подскочил так, словно по нему пробежала электрическая искра, бросился вслед за танцовщицей, догнал ее, заключил в объятия, продолжая напевать про себя переставшую звучать на фортепьяно мелодию, прижимая к себе это тело, которое вновь обрело свою гибкость, впивая блеск ее глаз, дыхание ее уст, и, впивая их, он пожирал глазами эту шею, эти плечи, эти руки, танцуя с ней в комнате, где уже нечем было дышать и воздух стал раскаленным; и это пламя, охватившее все существо обоих танцующих, задыхающихся в обморочном бреду, в конце концов швырнуло их на кровать, которая их поджидала.
Когда на следующее утро Гофман проснулся, только что занялся парижский пасмурный зимний день, проникавший через окно, с которого была сорвана занавеска, в альков. Он огляделся, не понимая, где находится, и почувствовал, что его левую руку придавила какая-то безжизненная масса, и казалось, что онемение вот-вот достигнет сердца. Он повернул голову и в лежавшей рядом с ним женщине узнал не танцовщицу из Оперы, а смертельно бледную девушку с площади Революции.
Тут он вспомнил все, вытащил из-под этого одеревенелого тела свою окоченевшую руку и, видя, что тело остается недвижимым, схватил канделябр (в нем еще горело пять свечей), и при двойном свете дня и свечей обнаружил, что Арсена лежит неподвижная, бледная, с закрытыми глазами.
Первая его мысль была о том, что усталость пересилила любовь, желание и влечение и что молодая женщина в обмороке. Он взял ее за руку — рука была ледяная; он стал слушать, как бьется ее сердце, но сердце не билось.
Тогда страшная догадка сверкнула в его мозгу; он дернул шнурок звонка, но шнурок оборвался; тогда он бросился к дверям, распахнул их и помчался по ступенькам с криком:
— Спасите! Помогите!
Черный человечек поднимался по лестнице как раз в ту минуту, когда по ней спускался Гофман. Он поднял голову; Гофман вскрикнул. Он сразу узнал лекаря из Оперы.
— Ах, это вы, дорогой мой, — сказал доктор, в свою очередь узнавший Гофмана. — Что случилось, из-за чего весь этот шум?
— Идемте, идемте! — воскликнул Гофман, не давая себе труда объяснить доктору, что от него требуется, и полагая, что вид бездыханной Арсены скажет доктору больше, чем любые объяснения. — Идемте!
И он потащил его в комнату.
Затем одной рукой он подтолкнул доктора к постели, а другой схватил канделябр и поднес к лицу Арсены.
— Вот, смотрите, — сказал он.
Но доктор, казалось, нисколько не был напуган.
— Ах, так это в самом деле вы, молодой человек! — сказал он. — Так это вы, молодой человек, выкупили ее тело, чтобы оно не сгнило в общей могиле… Очень похвально, молодой человек, очень похвально!
— Ее тело… — пролепетал Гофман. — Выкупил… общая могила… Боже мой, о чем вы говорите?
— Я говорю о том, что вчера в восемь утра нашу бедняжку Арсену арестовали, в два часа пополудни осудили, а в четыре часа дня казнили.
Гофман решил, что он сходит с ума; он схватил доктора за горло.
— Казнили вчера в четыре часа дня! — кричал он, задыхаясь, словно за горло схватили его. — Арсену казнили!
И он разразился хохотом, но таким странным, таким пронзительным — в этом хохоте не было ничего человеческого, — что доктор устремил на него почти испуганный взгляд.
— Вы мне не верите? — спросил он.
— Как! Вы думаете, что я вам поверю! — вскричал Гофман. — Полноте, доктор! Да я с ней ужинал, я с ней танцевал, я с ней спал!
— Если так, то это весьма странный случай, который я внесу в анналы медицины, — сказал доктор, — а вы не откажетесь подписать протокол, не так ли?
— Да не стану я ничего подписывать, я это отрицаю, я утверждаю, что это невозможно, я утверждаю, что это не так!
— Ах, вы утверждаете, что это не так! — подхватил доктор. — Вы говорите это мне, тюремному врачу, мне, который сделал все что мог, чтобы ее спасти, и который не смог достичь своей цели, мне, который попрощался с ней у повозки! Вы говорите, что это не так! Вот, смотрите!
С этими словами лекарь протянул руку, нажал маленькую бриллиантовую пружинку бархатки и потянул бархатку к себе.
Гофман испустил страшный вопль. Когда бархатка, державшая голову казненной на плечах, расстегнулась, голова скатилась с постели на пол и остановилась у ног Гофмана так же, как пылающая головня остановилась у стопы Арсены.
Молодой человек отскочил и бросился бежать вниз по лестнице с воплем:
— Я сошел с ума!
В этом восклицании не было ни малейшего преувеличения: под непомерной тяжестью, обрушившейся на мозг поэта, слабая перегородка, что, отделяя воображение от безумия, порою, кажется, готова сломаться, затрещала у него в голове, производя шум, похожий на тот, какой производит рушащаяся стена.
Но в то время нельзя было долго бежать по парижским улицам, не объяснив, зачем бежишь; в лето 1793 года от Рождества Христова парижане стали очень любопытны, и всякий раз, как кто-то пускался бежать, этого человека задерживали, дабы осведомиться, за кем он бежит или кто бежит за ним.
И вот Гофмана задержали напротив церкви Успения, превращенной в кордегардию, и направили к начальнику.
Тут Гофман понял, что подвергается реальной опасности: одни принимали его за аристократа, пустившегося в бегство, чтобы как можно быстрее достичь границы; другие кричали: «Смерть агенту Питта и Кобурга!» Некоторые кричали: «На фонарь!» — что было отнюдь не приятно; другие кричали: «В Революционный трибунал!» — что было еще менее приятно. По свидетельству аббата Мори, от фонаря иногда спасались, но от Революционного трибунала — никогда.
Тут Гофман попытался объяснить, что произошло с ним вчера вечером. Он рассказал про игру и про выигрыш. Рассказал, что, набив полные карманы золота, он побежал на Ганноверскую улицу, что не застал там женщину, которую искал; что, охваченный сжигавшей его страстью, он пустился бежать по улицам Парижа, что, проходя по площади Революции, он нашел эту женщину, сидевшую у подножия гильотины, что она привела его в гостиницу на улице Сент-Оноре и там, после ночи, когда все виды опьянения сменяли один другой, он обнаружил, что на руке у него лежит женщина не просто мертвая, но обезглавленная.
Все это было совершенно невероятно, и рассказ Гофмана не вызвал особого доверия: наиболее фанатичные приверженцы истины кричали, что это ложь, наиболее умеренные кричали, что это бред.
Между тем одного из присутствующих осенила блестящая мысль:
— Вы сказали, что провели эту ночь в гостинице на улице Сент-Оноре?
— Да.
— И там вы вывернули набитые золотом карманы прямо на стол?
— Да.
— Там вы поужинали и провели ночь с женщиной, чья голова, покатившись к вашим ногам, вызвала у вас непреодолимый ужас, и вы не избавились от него и по ту пору, когда мы вас задержали?
— Да.
— Отлично! Поищем эту гостиницу. Золота мы там, возможно, и не найдем, зато найдем женщину.
— Да, да! — закричали все присутствующие. — Поищем, поищем!
Гофман предпочел бы ничего не искать, но он вынужден был подчиниться непреклонному решению, которое окружавшие его люди выразили словом «поищем».
И вот он вышел из церкви и снова двинулся по улице Сент-Оноре в поисках гостиницы.
Расстояние от церкви Успения до Королевской улицы было не так уж велико. И тем не менее Гофману пришлось долго искать гостиницу: вначале он искал ее рассеянно, потом более внимательно, потом, наконец, прилагая все силы, чтобы найти ее. Он не нашел ничего такого, что напомнило бы ему гостиницу, куда он накануне вошел, где провел ночь и откуда только что вышел. Как исчезают в театре феерические дворцы, когда они больше не нужны машинисту сцены, так пропала гостиница на улице Сент-Оноре после того, как разыгралась та адская сцена, что мы попытались описать.
Все это вовсе не нравилось зевакам, сопровождавшим Гофмана и желавшим во что бы то ни стало принять какое-то решение, однако, чтобы прийти к нему, надо было либо найти труп Арсены, либо арестовать Гофмана как подозрительного, так что положение Гофмана стало весьма затруднительным.
А так как тела Арсены найти они не могли, вопрос об аресте Гофмана был уже твердо решен; но тут он увидел на улице черного человечка и позвал его на помощь, умоляя засвидетельствовать истинность своего рассказа.
Голос врача всегда имеет огромную власть над толпой.
Этот человек подтвердил, что он доктор, и его пропустили к Гофману.
— Ах, бедный молодой человек! — сказал он, беря Гофмана за руку и делая вид, что щупает пульс, на самом же деле желая особым пожатием руки дать понять ему, чтобы он помалкивал. — Бедный молодой человек! Значит, он сбежал!
— Откуда сбежал? От чего сбежал? — раздалось голосов двадцать сразу.
— Да, откуда я сбежал? — спросил Гофман, не желавший принять путь спасения, предложенный ему доктором, и считавший его унизительным для себя.
— Черт возьми! — сказал лекарь. — Из лечебницы!
— Из лечебницы! — закричали те же голоса. — Из какой лечебницы?
— Из лечебницы для умалишенных!
— Ах, доктор, доктор, не надо шутить! — вскричал Гофман.
— Бедный малый! — воскликнул доктор, казалось не слышал его слов. — Бедный малый потерял на эшафоте женщину, которую он любил.
— О да, да! — воскликнул Гофман. — Я очень любил ее, хотя и не так, как Антонию.
— Бедный мальчик! — сказали какие-то женщины, свидетельницы этой сцены, уже начавшие жалеть Гофмана.
— Да, так вот с того времени, — продолжал доктор, — он стал жертвой чудовищной галлюцинации; ему кажется, что он играет… что он выигрывает… Когда он выиграет, ему начинает казаться, что он может обладать той, которую любит; потом, захватив свое золото, он бежит по улицам, встречает женщину у подножия гильотины, приводит ее в роскошный дворец, в великолепную гостиницу, там он проводит с ней ночь, и они вместе пьют, поют и музицируют, затем он находит ее мертвой. Ведь он все так вам и рассказывал, верно?
— Да, да, — закричала толпа, — слово в слово!
— Ах, вот как! Вот как! — с горящими глазами воскликнул Гофман. — И вы, вы, доктор, говорите, что это неправда? Ведь это вы расстегнули бриллиантовый аграф, который скреплял концы бархатки! О, это я должен был бы кое-что заподозрить, когда увидел, как из-под бархатки сочится шампанское, когда я увидел, как раскаленная головня подкатилась к ее голой ноге и ее голая нога, нога покойницы, не обожглась об уголь, а погасила его!
— Вот видите, вот видите, — сказал доктор, чьи глаза были полны жалости, а голос — сострадания, — безумие снова овладевает им.
— Какое безумие? — возопил Гофман. — Как вы смеете говорить, что это неправда? Как вы смеете говорить, что я не провел ночь с Арсеной, которую вчера отправили на гильотину? Как вы смеете говорить, что не на одной бархатке держалась ее голова? Как вы смеете говорить, что ее голова не скатилась на ковер, когда вы расстегнули аграф и сняли бархатку? Полно, доктор, полно, уж кто-кто, а вы-то знаете, что я говорю правду!
— Друзья мои, — сказал доктор, — теперь вам все ясно, не правда ли?
— Да, да! — закричала сотня голосов из толпы.
Те, кто не кричал, с грустью кивали в знак согласия.
— Ну что же, в таком случае, — сказал доктор, — приведите сюда фиакр, и я отвезу его.
— Куда? — закричал Гофман. — Куда вы хотите меня отвезти?
— Куда? — переспросил доктор. — Да в сумасшедший дом, откуда вы сбежали, дорогой мой друг. — И совсем тихо прибавил: — Предоставьте это мне, черт побери, или я ни за что не отвечаю. Эти люди, чего доброго, еще подумают, что вы издеваетесь на ними, и разорвут нас на куски.
Гофман вздохнул, и руки его опустились.
— Ну вот, видите, теперь он стал смирный, как ягненок, — сказал доктор. — Кризис миновал… Ну-ну, дружок!
Казалось, доктор успокаивал Гофмана движением руки, как успокаивают разгорячившуюся лошадь или рассвирепевшую собаку.
В это время кто-то остановил фиакр, и тот подъехал к месту происшествия.
— Полезайте! Живо! — сказал Гофману лекарь. Гофман повиновался; все его силы были истощены этой
борьбой.
— В Бисетр! — громко сказал доктор, влезая в фиакр вслед за Гофманом. Затем он тихо спросил молодого человека: — Где вы хотите сойти?
— У Пале-Эгалите, — с трудом выговорил Гофман.
— Вперед, кучер! — крикнул доктор и поклонился толпе.
— Да здравствует доктор! — завопила толпа. Охваченная какой бы то ни было страстью, толпа всегда либо кричит кому-то «Да здравствует!», либо кого-то убивает.
У Пале-Эгалите доктор велел остановить фиакр.
— Прощайте, молодой человек, — сказал он Гофману, — и если хотите послушаться моего совета, то уезжайте в Германию как можно скорее; во Франции людям, наделенным вашим воображением, приходится плохо.
И он вытолкнул Гофмана из фиакра; все еще оглушенный тем, что с ним произошло, Гофман чуть не попал под встречную повозку; но какой-то молодой человек, проходивший мимо, подскочил к Гофману и удержал его как раз в тот момент, когда возница прилагал все усилия, чтобы остановить лошадей.
Фиакр продолжал свой путь.
Молодые люди — тот, что едва не свалился, и тот, что удержал его, — вскрикнули разом:
— Гофман!
— Вернер!
Видя, что друг его находится в состоянии прострации, Вернер потащил его в сад Пале-Рояля.
Тут все происшедшее ожило в памяти Гофмана, и он вспомнил о медальоне Антонии, оставленном в залог у менялы-немца.
Он вскрикнул, подумав о том, что вывернул все карманы на мраморный стол гостиницы. Но тут же вспомнил, что отложил три луидора и спрятал их в кармашек для часов, чтобы выкупить медальон.
Кармашек свято сберег то, что отдали ему на хранение; три луидора по-прежнему лежали там.
Крикнув: «Подожди меня» — Гофман покинул Вернера и бросился к лавочке менялы.
С каждым шагом ему казалось, будто он выходит из густого тумана и идет вперед, сквозь все редеющее облако, туда, где воздух прозрачен и чист.
У дверей менялы он на минуту остановился, чтобы передохнуть; впечатление от этого места, полученное ночью, почти исчезло.
Он собрался с духом и вошел.
Меняла был на своем месте, медные чашки — на своем.
Услышав, что кто-то вошел, меняла поднял голову.
— О! — сказал он. — Так это вы, мой юный соотечественник! Признаюсь, я не рассчитывал увидеть вас вновь, даю вам слово.
— Полагаю, вы так говорите, потому что уже распорядились медальоном! — воскликнул Гофман.
— Нет, я обещал вам сохранить его, и, если бы даже мне предлагали за него двадцать пять луидоров вместо трех, что вы должны мне, медальон не ушел бы из моей лавки.
— Вот три луидора, — робко сказал Гофман, — но, признаюсь, мне нечего дать вам в виде процента.
— Проценты за одну ночь! — сказал меняла. — Помилуйте, да вы смеетесь! Взять проценты с трех луидоров, и еще у соотечественника! Да никогда в жизни!
И он вернул ему медальон.
— Спасибо, сударь, — сказал Гофман, — а теперь, — продолжал он со вздохом, — пойду поищу денег, чтобы вернуться в Мангейм.
— В Мангейм? — переспросил меняла. — Постойте, так вы из Мангейма?
— Нет, сударь, я не из Мангейма, но я живу в Мангейме: в Мангейме моя невеста, она ждет меня, и я возвращаюсь туда, чтобы жениться на ней.
— А! — сказал меняла.
И, видя, что молодой человек положил руку на ручку двери, спросил:
— Не знаете ли вы моего давнего друга, старого мангеймского музыканта?
— Его зовут Готлиб Мурр? — вскричал Гофман.
— Совершенно верно. Так вы его знаете?
— Как не знать! Уж, верно, знаю, если его дочь — моя невеста.
— Антония! — в свою очередь, вскричал меняла.
— Да, Антония, — подтвердил Гофман.
— Как, молодой человек! Вы возвращаетесь в Мангейм, чтобы жениться на Антонии?
— Нуда!
— В таком случае, оставайтесь в Париже: вы проездите напрасно.
— Почему напрасно?
— Вот письмо ее отца; он сообщает мне, что неделю назад, в три часа пополудни, Антония внезапно скончалась, играя на арфе.
Это был именно тот день, когда Гофман пошел к Арсене, чтобы написать ее портрет; это был именно тот час, когда он впился губами в ее обнаженное плечо.
Бледный, дрожащий, убитый, Гофман открыл медальон, чтобы поднести к губам изображение Антонии, но слоновая кость стала такой же девственно-чистой и белой, как если бы кисть художника не касалась ее.
Ничего не осталось от Антонии у Гофмана, дважды изменившего своей клятве, — не осталось даже образа той, которой он поклялся в вечной любви.
Два часа спустя Гофман, которого провожали Вернер и добрый меняла, сел в мангеймский дилижанс и еще успел проводить на кладбище тело Готлиба Мурра: перед смертью старик просил, чтобы его похоронили рядом с его любимой Антонией.
КОММЕНТАРИИ
Тунисский залив (или Тунисская бухта) — крупный залив на африканском побережье Средиземного моря, вблизи которого расположен древний город Тунис, столица современной Тунисской республики.
… от форта Голетты… — Голетта (современное название — Хальк-Эль-Уэд) — береговое укрепление Туниса.
… узкий проход для судов, следовавших из залива в озеро. — Город и порт Тунис стоят на берегу лагунного Тунисского озера, которое отделено от Тунисского залива естественными и искусственными преградами.
… мечеть и деревня Сиди-Фаталлах… — По-видимому, речь идет о селении Фат-Аллах, находящемся рядом с Тунисом в юго-восточном направлении у подножия горы Бен-Арус. Несколько далее к юго-востоку лежит гора Джебельбу-Курнин. Какую из этих гор Дюма называет Свинцовыми, установить затруднительно. В XIX в. разработки свинца велись в 18 км от Туниса в Джебельрезасе.
… гробница святого Людовика… — Людовик Святой (см. примеч. к с. 266) умер около Туниса от чумы во время возглавленного им восьмого крестового похода и был похоронен в королевской усыпальнице в монастыре Сен-Дени под Парижем. Здесь имеется в виду церковь, воздвигнутая в 1830 г. на том месте, где умер король.
… пространство, где находился Карфаген… — Развалины Карфагена (см. примеч. к с. 154) находятся в 12 км северо-восточнее города Туниса.
«Быстрый» — французский военный корабль, предоставленный французским правительством для экспедиции Дюма.
Регул, Марк Атиллий (ум. ок. 248 до н.э.) — древнеримский полководец, участник первой Пунической войны (264 — 241 до н.э.) между Римом и Карфагеном; после нескольких побед был разбит карфагенянами и взят в плен. По недостоверному преданию, Регул, отправленный в Рим вместе с карфагенским посольством в качестве посредника, дал слово возвратиться в плен, если его посредничество не будет удачным. В Риме он уговорил сенат продолжать войну и, твердо держа слово, вернулся в Карфаген, где был замучен.
… если он когда-либо и походил чем-то на епископа Гиппонского… — То есть на Августина Аврелия (354 — 430), прозванного Блаженным, величайшего христианского церковного деятеля, философа и писателя, автора знаменитой «Исповеди», епископа города Гиппон в Северной Африке с 396 г.
В молодости Августин отличался бурным темпераментом и многочисленными любовными похождениями.
… служит могилой городу… — Намек на находящиеся неподалеку развалины Карфагена.
… «Ее прочитает Мари Нодье…» — Меннесье-Нодье, Мари (1811 — 1893) — дочь писателя Шарля Нодье (см. примеч. к с. 7) автор новелл и поэтических произведений; написала воспоминания об отце; приятельница Дюма (она упоминается в предисловии к роману «Белые и синие»).
Буланже, Жиро, Маке, Дебароль — см. примеч. к с. 186.
Арсенал — имеется в виду парижский Арсенал, построенный в XIV в.; уже в XVII в. он потерял военное значение: в его зданиях помещались различные склады и мастерские, а дом его управляющего использовался как дворец. С конца XVIII в. там размещалась библиотека, хранителем которой одно время был Шарль Нодье.
… наш горячо любимый Шарль… — Имеется в виду Шарль Нодье.
Саади (1203/1210-1292) — персидский поэт и мыслитель; более 20 лет странствовал в одежде дервиша по мусульманскому миру; автор любовно-лирических стихотворений, философских трактатов, притчей, рассказов, песен и т.д.; в своих произведениях ставил сложные религиозные, философские и этические вопросы, проповедуя соответствующие образцы поведения.
Мишель, Франциск (1809-1887) — французский историк литературы, знаток старинной французской словесности, автор многочисленных научных трудов.
Дебардёр — персонаж французского карнавала, одетый в фантастический костюм грузчика.
Фонтане, Аитуан Этьенн (1803 — 1837) — французский поэт и литератор, друг Шарля Нодье.
Жоанно, Альфред (1800-1837) — французский художник и иллюстратор, автор батальных и исторических полотен.
Тейлор, ИзидорЖюстин Северин, барон (1789-1879) — французский литератор, драматург, составитель путеводителя «Иллюстрированные романтические путешествия по древней Франции» («Voyages pittoresques romantiques de l'ancienne France»), филантроп; с 1824 г. был королевским комиссаром театра Французской комедии; содействовал постановкам пьес драматургов-романтиков, в том числе Гюго и Дюма.
… де Виньи, который в ту пору, быть может, еще сомневался в своем преображении и снисходил до того, чтобы смешиваться с толпой? — Виньи, Альфред Виктор, граф де (1797 — 1863) — французский поэт, писатель-романтик и переводчик, автор исторических романов и драм, идеализирующих прошлое французского дворянства. Говоря о «преображении» де Виньи, Дюма шутливо намекает на основной мотив в его поэзии: страдания выдающейся личности, одиноко возвышающейся над «толпой».
Преображение — эпизод из земной жизни Христа, когда он явил апостолам Петру, Иакову и Иоанну свою божественную сущность (Матфей, 17: 1-13).
Ламартин, Гюго — см. примеч. к с. 156.
… Этеокл внимал Полинику? — См. примеч. к с. 156.
Госпожа Гюго — жена Виктора Гюго с 1822 г., урожденная Адель Фуше (род. в 1803 г.).
… А в центре — ваша матушка… — жена Шарля Нодье, Дезире Нодье, урожденная Дезире Шарве.
Доза, Адриен (1804-1888) — французский художник-акварелист; в 30-х гг. совершил несколько путешествий на Восток (в Алжир, Египет, Малую Азию и др.), впечатления от которых послужили темами для его картин; по материалам одной из поездок была издана в 1838 г. иллюстрированная книга «Две недели на Синае» («Quinze jours au Sinai»), подписанная Доза и Дюма.
Бари, Антуан Луи (1796-1875) — французский скульптор-анималист и художник романтического направления.
Барр, Жак Жан (1792 — 1855) — французский гравер и медальер.
Прадье, Джемс (1792/94 — 1852) — известный скульптор; среди его работ: грации, музы на фонтане Мольера в Париже, статуи ребенка в усыпальнице герцогов Орлеанских в Дрё, статуя Руссо в Женеве.
… Ламартин — депутат; Гюго — пэр Франции… — Ламартин с 1833 г. стал членом Палаты депутатов, где выделился как замечательный оратор; в 1848-1849 гг., во время Второй французской республики, он был членом Учредительного собрания. Виктор Гюго, имевший титул виконта, был во время Июльской монархии членом верхней палаты — Палаты пэров; в 1848 — 1849 и 1849-1851 гг. он был депутатом Учредительного и Законодательного собраний Второй республики.
… в книге злобного лихоимца, чье имя Саллюстий. — Саллюстий (Гай
Саллюстий Крисп; 86 — 35 до н.э.) — римский историк, политический деятель, противник сенатской олигархии и сторонник Цезаря; исторические труды Саллюстия посвящены в основном его времени — I в. до н.э. Дюма называет Саллюстия злобным лихоимцем, потому, что тот, управляя в 40-х гг. I в. до н.э. африканской провинцией Нумидия, составил там себе путем насилий и вымогательств огромное состояние; ему даже грозил суд, от которого его будто бы спас Цезарь.
Константина — город на северо-востоке Алжира, основан в IV в. н.э. на месте древней Цирты (Кирты); много раз упоминается в сочинении Саллюстия «Югуртинская война» (42-41 до н.э.).
Геродот из Галикарнаса (ок. 484 — ок. 425 до н.э.) — греческий историк, автор «Истории греко-персидских войн»; предпринимал продолжительные путешествия (между 455 и 444 гг. до н.э.), во время которых собрал большой материал для своих сочинений; Цицерон прозвал его «отцом истории».
Левайян (Лавальян), Франсуа (1753-1824) — французский естествоиспытатель (орнитолог) и путешественник; в 1780 — 1785 гг. совершил большое путешествие, описанное им в книге «Путешествие в глубь Африки» (1790 г.).
Утика — древний город на побережье Северной Африки к северо-востоку от города Туниса; основан финикийцами в XI или XII вв. до н.э.; около V в. до н.э. попал в зависимость от Карфагена; после гибели Карфагена вошел в состав римских владений; с 146 г. до н.э. — столица римской провинции Африка; в VII в. разрушен арабами.
Бизерта — город и порт на севере Туниса; основан на месте древнего финикийского поселения; Дюма был в Бизерте 3 — 4 декабря 1846 г..
… на берегах озера Катона… — Марк Порций Катон Младший (95-46 до н.э.), прозванный Утическим, — древнеримский политический деятель; сторонник аристократической республики и противник диктатуры Цезаря; после его победы покончил с собой в городе Утика.
Валери — возможно, имеется в виду французский литератор Антуан Клод Паскен (1789-1847), по прозвищу Валери, хранитель нескольких королевских библиотек, автор книги «Исторические и литературные путешествия в Италию в 1826-1828 гг., или Итальянский справочник» («Voyages historiques et litteraires en Italie, pendant les annees 1826 — 1828 ou l'lndicateur italien»), вышедшей в 1833 г. и книги «Путешествие на Корсику, остров Эльба и Сардинию» («Voyage en Corse, k ile d'Elba et en Sardaigne»), вышедшей в двух томах в 1837-1838 гг.
… жму руку Жюлю… — Жюлю Меннесье, мужу Мари Нодье.
Набережная Целестинцев — находится на правом берегу Сены против острова Сен-Луи, лежащего несколько выше острова Сите по течению реки; существует с 1430 г.; название получила по монастырю целестинцев, основанному неподалеку в 1352 г.; в 1868 г. слилась с набережной Сен-Поль и частью набережной Орме. Целестинцы — монашеский орден католической церкви, был основан в Италии в XIII в. отшельником Пьетро из Мурроне, ставшим в 1294 г. папой под именем Целестина V (отсюда и название ордена); в XIII — XIV вв. целестинцы основали много монастырей в странах Европы, в том числе и во Франции; к XIX в. орден пришел в упадок.
Улица Морлан — бывшая набережная; была расположена выше набережной Целестинцев по течению Сены против бывшего острова Лувье; протока, отделявшая его от правого берега реки, около середины XIX в. была засыпана; современное ее имя — бульвар Морлан; была названа по имени полковника Франсуа Луи Морла-на (1771 — 1805), отличившегося и погибшего в битве при Аустерлице.
… Когда Париж готовился к войне… — Имеется в виду война 1536 — 1538 гг. из серии так называемых Итальянских войн, которые в 1494 — 1559 гг. французские короли вели против Испании, Священной Римской империи и ряда итальянских государств, стремясь к территориальным захватам и установлению своей гегемонии на Апеннинском полуострове; война, начатая в 1536 г., не имела решительного результата и закончилась в 1538 г. подписанием перемирия на десять лет. В целом все Итальянские войны закончились для Франции неудачей, несмотря на ряд блестящих побед. В 1559 г. воюющие стороны подписали в Като-Камбрези мир, который положил конец французской экспансии в этом регионе, закрепив испанское господство в Италии и общую раздробленность всей страны.
Франциск I — см. примеч. к с. 34. Этот король вел четыре войны в Италии.
Катания — город на восточном побережье острова Сицилия неподалеку от горы-вулкана Этна.
Энкелад — персонаж греческой мифологии, порожденный землей гигант; во время битвы олимпийских богов со смертными гигантами — так называемой гигантомахии — Афина обрушила на него остров Сицилию. Согласно легенде, когда Энкелад, лежащий под островом, шевелится, на Сицилии происходит землетрясение.
Предместье Сен-Марсо (Сен-Марсель) — находится на левом берегу Сены почти напротив Арсенала; один из рабочих районов Парижа.
Мелён — город во Франции на реке Сене примерно в 60 км юго-восточнее Парижа.
Карл IX — см. примеч. к с. 34.
Лувр — дворцовый комплекс на берегу Сены, соединенный галереей с дворцом Тюильри; бывшая крепость, охранявшая подходы к Парижу с запада; строился в XII — XIX вв.; в XVI-XVII вв. — главная резиденция французских королей.
Фонтан Избиенных младенцев (или Фонтан нимф) — был воздвигнут по проекту Гужона в середине XVI в.; находится на юго-восточном углу площади, где до середины XX в. помещался Центральный рынок. Получил название в память евангельского эпизода об избиении в городе Вифлиеме царем Иродом всех младенцев мужского пола в возрасте до двух лет, чтобы уничтожить новорожденного Христа, которого называли Царем Иудейским (Матфей, 2: 16 — 18).
Гужон, Жан (ок. 1510 — 1564/1568) — французский скульптор и архитектор эпохи Возрождения.
24 августа 1572 года — то есть Варфоломеевская ночь, массовое избиение протестантов (гугенотов), начавшееся в ночь с 23 на 24 августа (под праздник святого Варфоломея, отсюда ее название) в Париже и перекинувшееся в провинции Франции; было организовано с согласия Карла IX правительством и воинствующими католиками. Название Варфоломеевской ночи вошло в историю как символ кровавой, беспощадной резни. Она описана Дюма в романе «Королева Марго».
Генрих III — см. примеч. к с. 40. Дистих — двустишие.
Бурбон, Никола (1503-1550) — французский поэт, писавший по-латыни. Сантёй, Жан (1630 — 1697) — французский поэт, писавший на латинском языке; автор религиозных гимнов.
… поразив гигантов Лиги… — Под именем Лиги во Франции в XVI в. известны две организации воинствующих католиков: Католическая лига (1575 г.) и ее преемница Парижская лига (1585 г.). Обе они возглавлялись герцогом Генрихом Гизом, стремившимся к ограничению королевской власти, а затем притязавшим.на королевский престол; Лиги вели несколько войн против гугенотов и их вождя Генриха IV, ставшего королем в 1589 г.
Людовик XIII — см. примеч. к с. 34.
Сюлли, Максимильен де Бетюн, барон де Рони, герцог де (1560 — 1641) — французский государственный деятель; друг Генриха IV; с 1594 г. — первый министр; политика Сюлли способствовала развитию экономики Франции.
Библиотека Арсенала — была скомплектована в середине XVIII в. на основе нескольких коллекций, купленных младшим братом Людовика XVI графом д'Артуа (см. примеч. к с. 189); в 1796 г. была национализирована, но при Реставрации Бурбонов возвращена владельцу; после революции 1848 г. вновь стала государственной. В фондах библиотеки находятся первопечатные книги, рукописи из архива Бастилии, одна из наиболее полных коллекций по истории возникновения французского театра и другие издания.
Улица Шуазёль — находится в северной части старого Парижа; проложена в 1779-1785 гг.; названа по имени министра Людовика XV герцога Шуазёля (1719-1785).
… Нодье был персонажем Теренция, и ничто человеческое не было ему чуждо. — Теренций — Публий Теренций Афер; ок. 195-159 до н.э.) — римский комедиограф; оказал влияние на европейскую драматургию. Здесь Дюма перефразирует известное крылатое выражение «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» из пьесы Теренция «Самоистязатель» (I, 1).
Тереза Обер — героиня одноименного романа Нодье (1819 г.), который автор считал самым удачным своим произведением.
Фея хлебных крошек — персонаж одноименной повести Нодье (1832 г.), в которой реальное переплетается с чудесным.
Инее де лас Сьеррас — героиня одноименной новеллы Нодье, где излагается легендарная история, действие которой совершается с участием привидений в полуразрушенном замке.
… подобно Юпитеру, Нодье извлек всех этих Минерв из своей головы. — Юпитер (древнегреческий Зевс) — верховный бог в античной мифологии, повелитель грома и молний, владыка богов и людей.
Минерва (древнегреческая Афина) — богиня мудрости в античной мифологии, воительница и девственница.
Согласно мифам древности, Афина родилась из головы Юпитера-Зевса.
«Энтомологическая библиотека» — имеется в виду труд Нодье «Библиография энтомологии» («Bibliographie entomologique»), вышедший в свет в 1801 г. Энтомология — раздел зоологии, изучающий насекомых.
«Ономатопеистический словарь» — точнее: «Систематический оно-матопеистический словарь французского языка» («Dictionnaire raisone des onomatopees de la langue francaise»), вышедший в 1808 г.; лингвистический труд Нодье, посвященный ономатопее (гр. onomatopoiia), производству названий посредством звукоподражания.
… политическая ода «Наполеона»… — «Наполеона» («La Napoleon-ne») — сатирическое стихотворение, написанное с позиций сторонника монархии Бурбонов и опубликованное в 1803 г. в Лондоне; за него Нодье был выслан в город Безансон в Восточной Франции, откуда он бежал в соседнюю Швейцарию.
«Размышления о монастыре» («Meditations du Cloitre») — приложение к повести Нодье «Художник из Зальцбурга» (1803 г.); в этом произведении автор превозносит монастыри как убежище для утомленных жизнью, разочарованных и тоскующих людей.
«Этюды юного барда» («Les essais d'un jeune barde») — поэтический сборник Нодье, выпущенный анонимно в Париже в 1804 г.
«Жан Сбогар» («Jean Sbogar») — знаменитый роман Нодье о бунтаре, предводителе разбойников, грабящем богачей в пользу бедняков; был написан в 1812 г. и опубликован анонимно в Париже только в 1818 г.
«Смарра, или Демоны ночи» («Smarra, ou Les demons de la nuit») — сказка, полная видений и кошмаров; опубликована в 1821 г. под псевдонимом М.Оден.
«Трильби, или Домовой из Аргайля» («Trilby, ou le Lutin d'Argeil») — повесть Нодье, опубликованная в 1822 г.
«Художник из Зальцбурга: дневник волнений одного страдающего сердца» («Le peintre de Salzbourg: journal des emotions d'un coeur souf-frant») — психологическая повесть о молодом человеке, скорбящем о несовершенстве мира; написана под влиянием творчества Гёте; вышла в свет в 1803 г.; некоторыми исследователями признается неоригинальным и малоудачным произведением; в русских переводах называется «Живописец из Зальцбурга».
«Мадемуазель де Марсан» («Mademoiselle de Marsan») — новелла Нодье о карбонариях, итальянских революционерах начала XIX в.; написана в 1832 г.
«Адель» («Adele») и «Вампир» («Le vampire») — произведения Нодье, вышедшие в свет в 1820 г.
«Золотая мечта» («Songe d'or») — одна из миниатюр Нодье о животных; в рассказе описываются изящные движения золотой ящерицы; входил в один из сборников «Сказок» («Contes»; 1846 г.).
«Воспоминания молодости, извлеченные из мемуаров Максима Одена» («Souvenirs de jeuness extraits des memoires de Maxim Odin») — книга Нодье, вышедшая в 1832 г.; состоит из небольших рассказов о любви, каждый из которых кончается смертью влюбленных.
«Король Богемский и его семь замков» — точнее: «История короля Богемского и его семи замков» («L'Histoire du roi de Boheme et de ses sept chateaux») — шутливо-фантастическая книга Нодье; вышла в свет в Париже в 1830 г.; некоторыми исследователями признается одним из лучших юмористических произведений французской литературы.
Богемия — первоначальное название территории современной Чехии. «Фантазии доктора Неофобуса» — имеются в виду фантастические рассказы, облеченные в изящную шутливую форму, которые Нодье под этим псевдонимом публиковал начиная примерно с 1819 г. в журнале «Парижское обозрение» («Revue de Paris»). Неофобус (Neophobus) — латинизированная форма слова «Нео-фоб» — враг нововведений, всего нового; псевдоним подчеркивает юмор рассказов Нодье.
… так высоко и Беранже не помещает поэтов. — Беранже, Пьер Жан (1780-1857) — французский поэт-песенник, известный своими демократическими взглядами. Здесь, возможно, намек на его стихотворение «Чердак».
Распайль, Франсуа Венсан (1794 — 1878) — французский политический деятель, социалист-утопист, ученый и публицист; участник революции 1848 года; крупный специалист в области паразитологии; автор научных трудов по естествознанию, органической химии и медицине.
… Чудо воскресения совершилось — не через три дня, но через год. — Намек на воскресение Христа на третий день после распятия.
Библиомания — крайнее увлечение собирательством книг.
Тешнер, Жак Жозеф (1802 — 1873) ) — французский библиофил, издатель и книготорговец, автор книг по библиографии; в 1834 — 1864 гг. выпускал периодическое издание «Бюллетень библиофила» («Bulletin du bibliophile»).
… спроси хоть у Пиксерекура. — Гильбер де Пиксерекур, Рене Шарль (1773 — 1844) — французский драматург, автор мелодрам, привлекавших демократическую публику; собрал богатейшую коллекцию книг и автографов, распавшуюся после его смерти.
… прозвал Пиксерекура «Корнелем бульваров». — То есть драматургом так называемых «театров бульваров», которые размещались на Больших бульварах в Париже и в первой половине XIX в. конкурировали с государственными привилегированными театрами, находясь под влиянием прогрессивных, оппозиционных правительству общественных направлений.
Корнель, Пьер (1606 — 1684) — французский драматург, автор трагедий. Берар, Огюст СимонЛуи (1783-1859) — французский государственный
деятель, член Палаты депутатов (с 1827 г.); участник работы над Конституционной хартией (1830 г.); генеральный директор мостов и шоссейных дорог; государственный советник; страстный библиофил.
Эльзевир — название книг, напечатанных знаменитыми голландскими типографами-издателями Эльзевирами (в 1592 — 1712 гг.); изящные шрифты, созданные Эльзевирами и названные их именем, применяются в модернизированном виде в настоящее время.
Французская конституционная хартия — то есть Конституция 1814 года, дарованная Франции после отречения Наполеона Людовиком XVIII. Конституция закрепляла компромисс между двумя правящими классами страны: крупной буржуазией и дворянством. Франция объявлялась конституционной монархией, король признавал результаты перераспределения земельной собственности во время Революции; количество выборщиков в Палату депутатов (то есть парламент) было ограничено имущественным цензом.
После Июльской революции 1830 г. хартия была пересмотрена Палатой депутатов в сторону ее либерализации, хотя проект Берара, как слишком радикальный, был отвергнут. Исправленная хартия упраздняла статью о католицизме как государственной религии, лишала короля права отменять и приостанавливать действие законов, понижала возрастной ценз депутатов и избирателей, предоставляла обеим Палатам право законодательной инициативы, отменяла наследственное пэрство и признавала права герцога Луи Филиппа Орлеанского на престол.
Библиофил Жакоб — см. примеч. к с. 38.
… ученый Вейс из Безансона… — Шарль Вейс (1779-1865) — французский литератор и библиограф; редактор шеститомной «Всемирной биографии» («Biographie Universelle», 1833); друг детства Нодье; родился и вырос в Безансоне.
… Пеньо из Дижона… — Пеньо, Этьенн Габриель (1767-1849) — французский книговед, автор известного «Критического литературоведческого и библиографического словаря важнейших книг, приговоренных к сожжению, запрещенных или подвергнутых цензуре» («Dictionnaire critique, litteraire et bibliographique des principaux livres condamnes au feu, supprimes ou censures»), вышедшего в двух томах в 1806 г., и многих других библиографических трудов. Дижон — город в Восточной Франции, главный город департамента Кот д'Ор в бывшей провинции Бургундия; центр производства бургундских вин.
«Сенакль» (фр. senacle — «сообщество», «содружество», от лат. сепа — «трапеза») — здесь: кружок французских литераторов-романтиков 20 — х гг. XIX в. (Нодье, Гюго, де Виньи и др.); издавал в 1823 — 1824 гг. журнал «La muse ftancaise» («Французская муза»). Литературные и политические тенденции «Сенакля» менялись в зависимости от взглядов его вожаков; первым из них был Ш. Нодье, в салоне которого царил дух политического компромисса и примирения со старыми литературными традициями. В конце 20-х гг. кружок под влиянием нараставшей политической активности общества демократизировался и в нем стали преобладать тенденции реализма; во главе его встали Гюго и поэт и критик Шарль Опостен Сент-Бёв (1804 — 1869). В этот обновленный «Сенакль» Нодье не вошел. После Июльской революции 1830 г. пути членов сообщества разошлись и «Сенакль» распался.
Институт (точнее: Институт Франции) — основное научное учреждение страны; создан в 1795 г.; объединяет пять отраслевых академий.
Академия наук (точнее: Академия естественных наук) — в XVIII — начале XIX в. обычно называлась Парижской академией наук; основана в 1666 г., входит в Институт Франции. Однако, возможно, что здесь речь идет о другой части Института — Академии надписей и изящной словесности, основанной в 1663 г. и ведущей исследования по древним и восточным языкам, средневековым наречиям и истории.
Французская академия — см. примеч. к с. 8.
Академия Томбукту ввела Нодье во Французскую академию. — Том-букту — город в Южной Сахаре неподалеку от реки Нигер; в средние века — крупный центр африканско-мусульманской культуры; в конце XIX в. был захвачен Францией и вошел в состав ее колонии Французский Судан; ныне принадлежит государству Мали.
Газон — французский переплетчик; его работы характеризуются кружевным стилем узоров на переплетах.
Дессёй, Огюстен (1673 — 1746) — французский переплетчик.
Паделу, Антуан Мишель (1685 — 1758) — французский переплетчик, самый знаменитый из династии, состоявшей из тридцати человек; ввел на переплетах узоры, напоминающие ювелирные.
Дером, Никола Дени (1731 — 1788) — французский переплетчик, самый знаменитый из династии Деромов, включавшей четырнадцать мастеров переплетного дела; его работы отличаются преобладанием «кружевного» стиля узоров на переплетах.
Тувенен, Жозеф (1790 — 1834) — известный французский переплетчик.
Бозонне, Антуан — известный французский переплетчик эпохи Реставрации.
Крозе, Жозеф (1808-1841) — библиограф и издатель.
«De omni re scibili et de quibusdam aliis» («Обо всех вещах, доступных познанию, и еще о некоторых») — изречение, первые слова которого содержатся в одном из 900 тезисов по всем отраслям знания, опубликованных итальянским философом-гуманистом Джованни Пико делла Мирандола (1463 — 1494) в 1486 г. в Риме. Насмешливое же заключение «et de quibusdam aliis» впоследствии добавлено Вольтером.
… газ бесил его… — Имеется в виду газовое освещение, опыты по введению которого проходили в Париже уже с конца XVIII в.
… пар вызывал у него ярость… — То есть применение паровых машин в промышленности, ставшее массовым уже во второй половине XVIII в., а в морском и сухопутном транспорте начавшееся в первой четверти XIX в. В частности, первая железная дорога во Франции была открыта в 1832 г.
Порт-Сен-Мартен — театр в Париже, который помещался на Больших бульварах у ворот (фр. porte) Сен-Мартен и отсюда получил свое название; открылся в 1814 г.; принадлежал к группе так называемых «театров бульваров».
Амбигю (точнее: Амбигю-Комик) — один из старейших французских драматических театров; возник в 1769 г. как театр марионеток; после разрушения здания в 1827 г. открылся на бульваре Сен-Мартен; известен постановками мелодрам.
Фюнанбюль — театр в Париже, один из «театров бульваров»; в 1816 г. в нем играли пантомимы и небольшие водевили.
Дебюро, Жан (1796-1846) — французский актер-мим; с 1816 г. выступал в демократическом парижском театре Фюнанбюль; создал в различных пантомимах образ Пьеро (традиционного персонажа французского народного театра), получившего мировую известность. Его творческие традиции развил современный французский мим Марсель Марсо.
Потье, Шарль (1775 — 1838) — французский драматический актер, играл комические и героические роли, выступал в пьесах Дюма; куплетист; участник войн Французской революции.
Тальма, Франсуа Жозеф (1763-1826) — знаменитый французский драматический актер, реформатор театрального костюма и грима; во время
Революции активно участвовал в общественной жизни, содействовал продвижению на сцену нового репертуара.
Регентство — см. примеч. к с. 7. Колумб — см. примеч. к с. 10.
Васко де Гама (1469 — 1524) — португальский мореплаватель; проложил путь вокруг Африки в Юго-Восточную Азию.
Ганг — крупнейшая река Индии, считается священной и играет важную роль в индийской мифологии.
… Папа мог ошибаться — Нодье был непогрешим. — Намек на догмат католической церкви о непогрешимости папы, когда он выступает ex cathedra (лат. «с кафедры»), то есть при отправлении своих обязанностей в качестве духовного пастыря и учителя всех христиан. Окончательно этот догмат был утвержден Ватиканским собором в 1870 г.
«Quaere et invenies» («Ищите, и найдете») — слова Христа из молитвы о благих дарах Божьих (Матфей, 7: 7) и из его поучений апостолам (Лука, 11: 9).
… разница в расстоянии составляла всего одно льё… — Страсбур и небольшой немецкий город Кель расположены почти напротив друг друга на разных берегах Рейна.
… в недрах одного друзского монастыря. — О друзах см. примеч. к с. 193.
Мадемуазель Марс — см. примеч. к с. 152.
Мерлен, Жак Симон (1765 — 1835) — французский библиограф и переводчик, по образованию юрист; участник Французской революции; создатель первой системы классификации автографов.
«Христина» — см. примеч. к с. 40.
Комеди Франсез (официальное название — Французский театр) — театр Французской комедии, старейший государственный театр Франции, основанный по указу Людовика XIV в 1680 г. и известный исполнением классического репертуара; в 1789-1794 гг. назывался Театром нации.
… было, как и управление Венецией, республиканским, но в то же время аристократическим… — Венеция во времена существования там республики (конец VI — конец XVIII в.) управлялась выборным главой исполнительной власти — дожем, а также несколькими выборными коллегиальными органами, имевшими контрольные, законодательные и судебные функции. Однако характер этой демократии был весьма ограниченным, так как правом быть избранными в различные советы и сенат обладало небольшое число высших аристократических и купеческих фамилий.
Данте — см. примеч. к с. 8. Мильтон — см. примеч. к с. 157. Чистилище — см. примеч. к с. 244.
Пикар, Луи Бену а (1769 — 1828) — французский драматург, актер и директор нескольких театров; наиболее известен своими остроумными бытовыми комедиями.
«Городок» («La petite ville») — одна из наиболее удачных комедий Пикара, почитаемая современниками как шедевр.
Фирмен (настоящее имя — Жан Франсуа Бекерель; 1787-1859) — французский актер, играл роли самого разнообразного характера; в 1811 г. — артист Французского театра.
… с улыбкой Ригобера из комической оперы «Продается дом». — «Продается дом» («Maison a vendre») — одноактная комическая опера известного французского композитора Далейрака (настоящее имя — Никола д'Алейрак; 1753 — 1809) на слова Анри Шарля Пиё Дюваля (1770-1847).
Кайё, Альфонс де (1788 — 1876) — французский художник.
Вай, Франсис (род. в 1812 г.) — французский литератор, по происхождению немец; автор путевых очерков.
Вальтер Скотт — см. примеч. к с. 68. Перро — см. примеч. к с. 34.
Франшконтийский выговор — то есть выговор жителей провинции Франш-Конте на востоке Франции у границы со Швейцарией.
… кошельком Фортуната, откуда Петер Шлемиль неизменно черпал полными пригоршнями. — Фортунат — герой немецкого народного сказания и повести-сказки Шамиссо «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814 г.), обладатель неиссякаемой сумки и волшебной палочки.
Петер Шлемиль — герой «Необычайной истории Петера Шлемиля»; человек, продавший свою тень за волшебный кошелек. Шамиссо, Адельберт фон (1781 — 1838) — немецкий поэт, писатель и ученый-естествоиспытатель; происходил из семьи лотарингских дворян, эмигрировавших во время Революции.
Дантон — см. примеч. к с. 45. Шарлотта Корде — см. примеч. к с. 40. Густав III (1746-1792) — король Швеции с 1771 г.; в 1772 г. произвел государственный переворот, устранив от власти аристократическую олигархию и установив свою неограниченную власть; в 1792 г. готовился к войне против революционной Франции, но был убит своими политическими противниками.
Калиостро — см. примеч. к с. 26.
Пий VI(1717-1799) — римский папа с 1775 г.; в миру граф Джиан-джело Браски; противник Французской революции; в 1798 г. был арестован французскими солдатами, увезен во Францию, где и умер.
Екатерина II Алексеевна (1729-1796) — российская императрица с 1762 г.; значительно укрепила самодержавное государство, подавляла свободомыслие, проводила завоевательную политику; поддерживала европейские государства, выступавшие против Французской революции.
Фридрих IIВеликий (1712 — 1786) — прусский король с 1740 г.; крупный полководец.
Сен-Жермен — см. примеч. к с. 26.
… Геологический музей в Ботаническом саду… — В Ботаническом саду (см. примеч. к с. 62) наряду с галереями зоологии, ботаники, сравнительной анатомии, антропологии и палеонтологии находятся галереи минералогии и геологии.
… во время потопа при Девкалионе и Пирре… — В древнегреческой мифологии Девкалион и его жена Пирра — единственные, кто спасся от всемирного потопа, который Зевс-Юпитер наслал на людей бронзового века, чтобы истребить их за прегрешения. Супруги спаслись в большом ящике, сделанном по совету отца Девкалиона мудрого титана Прометея. После конца потопа Девкалион просил богов вновь населить землю. Он и Пирра по слову Зевса собрали камни, «остатки Великой матери», и, не оборачиваясь, бросали сзади себя. Из камней, брошенных Девкалионом, возникли мужчины, из камней Пирры — женщины.
Тамплиеры (в русской исторической литературе часто называются храмовниками) — военно-монашеский орден рыцарей Храма (Temple). Орден был основан в Палестине в 1118 г. французскими рыцарями и свое название получил от построенного царем Соломоном храма, вблизи которого находилась резиденция ордена. Целью ордена была борьба с мусульманами; устав его был очень строг: рыцари приносили обеты послушания, бедности, целомудрия и т.д. Вместе с тем орденом были собраны огромные богатства, он занимался ростовщичеством, а его члены были известны своим беспутством и занятиями восточной магией. В XIII в. после изгнания крестоносцев с Востока орден переместился в Европу, где в начале XIV в. был разгромлен французским королем Филиппом Красивым, стремившимся захватить его богатства. Однако тайная организация тамплиеров существовала еще очень долгое время, предположительно даже в XX в.
Моле, Жак де (ок. 1265 — 1314) — последний великий магистр (глава) тамплиеров, был сожжен на медленном огне после разгрома ордена.
Пилат, Понтий (или Понтийский; I в. н.э.) — древнеримский прокуратор (правитель) Иудеи (26 — 36); под давлением иудейских первосвященников и народа Иерусалима вынужден был осудить Христа на казнь.
Вечный жид — см. примеч. к с. 26.
Григорий VII (1015/1020 — 1085) — римский папа с 1073 г.; до избрания на папский престол носил имя Гильдебранда и уже с 1059 — 1061 гг. был руководителем политики Ватикана; провозглашал верховенство духовной власти над светской и стремился поставить все духовенство на местах под исключительный контроль Рима.
Вьен — город в департаменте Изер в Дофине, исторической провинции на юго-востоке Франции.
Кине, Эдгар (1803-1875) — французский политический деятель и историк; участник революции 1848 г.; депутат Учредительных собраний Второй и Третьей французской республик (1848 и 1871 — 1875 гг.); противник революционного движения; в своих историко-литературных и исторических трудах выступал против иезуитов и церкви.
Агасфер — см. примеч. к с. 26.
Исаак Лакедем — одно из имен Агасфера; было взято Дюма в качестве заглавия для его романа о Вечном жиде.
Плиний — Гай Плиний Секунд Старший (23/24 — 79 н.э.) — древнеримский ученый и писатель; автор труда «Естественная история» в 37 книгах — свода научных знаний его времени.
Марко Поло (1254-1324) — венецианский путешественник; первым из европейцев в конце XIII в. пересек Центральную Азию и достиг Китая; рассказы о его путешествии составили «Книгу Марко Поло».
Бюффон, Жорж Луи Леклерк, граф (1707 — 1788) — французский математик, физик, геолог и естествоиспытатель, автор трудов по описательному естествознанию, которые подвергались жестокому преследованию со стороны духовенства; выдвинул представления о развитии земного шара и его поверхности, о единстве плана строения органического мира, отстаивал идею об изменяемости видов под влиянием условий среды.
Ласепед, Бернар Жермен Этьенн (1756 — 1825) — французский зоолог, изучал в основном позвоночных животных.
Пелисон-Фонтанье, Поль (1624 — 1693) — французский писатель, член Академии; был близок к осужденному Людовиком XIV суперинтенданту финансов Фуке и за свои литературные выступления в его защиту был заключен на пять лет в Бастилию; позже был, однако, назначен придворным историографом.
Мафусаил — один из библейских патриархов, прожил 969 лет. В переносном значении выражение «мафусаилов век» означает долголетие.
Кайманы — общее название нескольких семейств крокодилов, обитающих в водоемах Центральной и Южной Америки.
Тараска — в мифологии и фольклоре Южной Франции ужасное чудовище (полузверь-полурыба), которое обитало в лесу близ реки Роны и пожирало путников, а также моряков с проплывавших мимо судов. По преданию, его усмирила святая Марта при помощи знака креста и святой воды. Изображения Тараски до настоящего времени фигурируют в местных карнавальных процессиях в день праздника его укротительницы.
Штирия — земля (административная единица) в Австрии с центром в городе Грац.
… эти два глаза, которые очень напоминали глаза Харона, как уголья горящие, по словам Данте. — Имеются в виду следующие стихи из поэмы «Божественная комедия»: «А бес Харон сзывает стаю греш-ных,//Вращая взор, как уголья в золе, //И гонит их, и бьет веслом неспешных». («Ад», III, 109 — 111; перевод МЛозинского.) В древнегреческой мифологии Харон — грязный, седой, угрюмый старик, переправляющий души умерших через реку Ахерон в подземное царство. Данте называет его бесом.
… под ударами Танкредова меча текла кровь из очарованного леса Тассо. — Танкред — один из главных героев поэмы Торквато Тассо (см. примеч. к с. 154) «Освобожденный Иерусалим», написанной в 1574 — 1575 гг. и опубликованной в 1581 г. Эта исполненная христианским духом героико-фантастическая поэма посвящена завоеванию Иерусалима во время первого крестового похода. Христианский рыцарь Танкред, прообразом которого был прославившийся своей храбростью и благочестием крестоносец-сицилиец Танкред (ок. 1076-1112), безответно влюблен в сарацинскую деву-воительницу Клоринду. Любовь Танкреда и его друга Ринальдо к прекрасным мусульманкам приводит к тому, что на воинов Христовых налагается заклятие, не позволяющее им взять Иерусалим. Заклятие снимается, когда крестоносцы, строя стенобитное орудие, срубают для него деревья из растущего вокруг Иерусалима леса. Этот лес оказывается заколдованным: в деревья превращены сарацинки, и Танкред, не зная того, убивает Клоринду.
… капля крови поганой твари брызнула ему в глаз, и он едва не ослеп, подобно Товиту. — Излагается один из эпизодов библейской Книги Товита. Автор ее, праведник, не омылся после погребения соплеменника и лег спать нечистым, не покрыв лица своего. А утром «воробьи испустили теплое» на его глаза, которые покрылись бельмами (Товит, 2: 9-10).
Лепренс, Жан Батист (1733 — 1781) — французский художник и гравер.
Бурсвик — город на шведском острове Готланд в Балтийском море.
Сибариты — первоначально жители города Сибариса (греческой колонии в Италии), существовавшего в VIII — III вв. до н.э. Богатство города приучило жителей к столь изнеженному образу жизни, что слово «сибарит» стало нарицательным для обозначения человека, живущего в роскоши.
Казимир — шерстяная ткань, легкое сукно или полусукно с косой ниткой.
Ренье, Жак Огюст (1787-1860) — французский художник, автор картин самых разнообразных жанров, в том числе и пейзажей.
Биксио, Жак Александр (Джакомо Алессандро; 1808-1865) — французский политический деятель, публицист, финансист и издатель; по рождению итальянец.
Лонг (II — III вв. н.э.) — древнегреческий писатель, автор любовного романа «Дафнис и Хлоя», в котором идеализируется любовь персонажей и окружающий их мир скромных пастухов и сельских жителей. Сочинение Лонга послужило образцом для пасторальных романов XVI-XVIII вв.
Феокрит (кон. IV — перв. пол. III в. до н.э.) — древнегреческий поэт, создатель жанра идиллий — небольших сценок из быта пастухов и горожан среднего достатка.
… на поле битвы в Вандее… — См. примеч. к с. 55.
… на площади Революции… — См. примеч к с. 45.
Кадудаль, Жорж (1771 — 1804) — один из руководителей контрреволюционных мятежей в Западной Франции в конце XVIII — начале XIX в.; организатор нескольких покушений на Наполеона; в 1804 г. был арестован и казнен; персонаж романов Дюма «Соратники Иегу» и «Белые и синие».
Уде, Жан Виктор (1773 — 1809) — французский офицер, полковник; противник диктатуры Наполеона, цензор (глава) общества Филадельфов, тайного республиканского офицерского союза во французской армии начала XIX в.
Штапс, Фридрих (ум. в 1809 г.) — немецкий студент, неудачно покушался на жизнь Наполеона, считая его угнетателем своей родины; был расстрелян и объявлен ненормальным.
Лагори, Виктор Клод Александр Фанно де (1766 — 1812) — французский генерал, участник войн Французской революции; находился в оппозиции к империи Наполеона; осенью 1812 г. принял участие в попытке совершить переворот в Париже; был расстрелян.
Баталья — здесь: карточная игра, в которой участвуют двое. Экарте — распространенная в XIX в. карточная игра.
Ритурнель — вступительный и заключительный отыгрыш в танцевальной музыке.
Контрданс (от англ. contry-dance — «деревенский танец») — английский народный танец, получивший распространение в других странах в качестве бального; во Франции назывался — «англез» (английский танец). Фигуры контрданса исполнялись двумя парами танцующих в общей группе из 16 человек.
Траверсе, шен-де-дам, шоссе-круазе — фигуры кадрили.
… не оставил камня на камне от Академического словаря. — С 1638 г. Французская академия начала работу над словарем французского языка. Первое издание вышло в свет в 1694 г.; второе — в 1718 г.; третье — в 1740 г.; четвертое — в 1762 г.; пятое — в 1798 г. и шестое — в 1835 г.
… один из «бессмертных»… — Члены Французской академии, число которых ограничено сорока, называются «бессмертными», так как на место выбывшего академика немедленно избирается новый.
Сен-Манде — селение у восточной окраины Парижа между Сент-Антуанским предместьем и Венсеном; ныне один из районов столицы.
«Ревю де дё Монд» («Revue des deux Mondes» — «Обозрение Старого и Нового света») — двухнедельный литературно-художественный журнал; издается в Париже с 1829 г.
… послала за кюре из церкви святого Павла. — Имеется в виду церковь дома католического монашеского ордена иезуитов в Париже; была разрушена во время Революции; ее имя перешло к стоявшему рядом храму, который с тех пор называется церковью святого Павла и Людовика; находится на улице Сент-Антуан неподалеку от Арсенала.
Тацит, Публий Корнелий (ок. 58 — ок. 117) — древнеримский историк; автор трудов по истории города Рима и Римской империи.
Фенелон, Франсуа де Салинъяк де Ла Мот (1651 — 1715) — французский писатель и религиозный деятель, член Французской академии, архиепископ города Камбре (с 1695 г.); автор богословских сочинений, повестей, педагогических трактатов, создатель жанра философско-политического романа.
… Франсис Вай опубликовал весьма интересные заметки о последних минутах жизни Нодье… — Речь идет о книге «Жизнь Шарля Нодье, члена Французской академии» («Vie de Charles Nodier, de l'Academie francaise»), выпущенной в Париже в 1844 г.
Мангейм (Манхейм) — город Западной Германии в земле Баден-Вюртемберг; в XVIII в. резиденция герцогов Баденских.
Герцогство Баденское — одно из мелких германских государств; с XI в. до 1806 г. входило в состав Священной Римской империи германской нации; в 1806 — 1918 гг. — великое герцогство со столицей в Карлсруэ; в 1871 г. вошло в Германскую империю; ныне территория Бадена входит в состав Федеративной республики Германии.
… когда Мангейм… потрясает знаменем восстания против великого герцога… — В период немецкой революции 1848-1849 гг. в герцогстве Баден в апреле и сентябре 1848 г. произошли восстания, подавленные правительственными войсками. В мае 1849 г. население Бадена приняло участие в общенемецком восстании в защиту единства Германии, подавленном прусскими, вюртембергскими и баварскими войсками.
Лафонтен, Август Генрих Юлий (1758 — 1831) — немецкий писатель-сентименталист, родоначальник «семейного» романа.
Гёте, Иоганн Вольфганг (1749-1832) — немецкий поэт и мыслитель, представитель Просвещения в Германии; один из основоположников немецкой литературы нового времени.
Генриетта Бельманн — героиня одноименного романа Августа Лафонтена(1802г.).
Вертер — герой романа Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774 г.); молодой человек, покончивший с собой из-за несчастной любви.
Занд, Карл Людвиг (1795 — 1820) — студент Йенского университета в Германии; в марте 1819 г. убил в Мангейме известного реакционера писателя Августа Фридриха Фердинанда Коцебу (1761-1819), за что был казнен; вдохновил АПушкина на создание стихотворения «Кинжал»; герой одноименного очерка Дюма в сборнике «Знаменитые преступления».
Саксонский форфор — художественные изделия основанного в 1710 г. завода в Мейсене в Саксонии, на котором был изобретен европейский фарфор; мейсенский завод был известен не только своей посудой, но и скульптурными изделиями — небольшими фигурками людей и животных.
Театр в Мангейме — считался одним из лучших в Германии; построен в 1776-1779 гг.
… в стиле помпадур. — То есть в одном из направлений художественного стиля рококо, господствовавшего в европейском искусстве в середине XVIII в.; изделия, выполненные в этом стиле, отличались большой пышностью. Помпадур — см. примеч. к с. 80.
Геба — в древнегреческой мифологии богиня юности; дочь верховного бога Зевса (Юпитера) и его жены Геры (Юноны); изображалась в виде молодой девушки; отождествлялась с древнеримской Ювентой.
Сфинкс — см. примеч. к с. 36.
Виола д'амур — один из видов старинных струнных смычковых инструментов виол; отличается нежным тоном и, в отличие от других инструментов этого семейства, держится во время исполнения у плеча музыканта.
Соната — музыкальное произведение для одного или двух инструментов; имеет несколько частей, объединенных общим художественным замыслом.
Арбалет — ручное метательное средневековое оружие, стреляющее короткими стрелами; состоит из лука, укрепленного на деревянном ложе с механизмом для натягивания тетивы.
Талер — серебряная монета крупного достоинства, чеканившаяся с начала XVI в. в Чехии и имевшая хождение также в Германии, Скандинавии, Голландии, Италии и других странах; с середины XVI в. денежная единица северогерманских государств, а затем Пруссии и Саксонии; изъят из обращения в 1908 г.
Канапе — небольшой диван с приподнятым изголовьем.
… не кто иной, как Эрнст Теодор Вильгельм Гофман. — Гофман (см. примеч. к с. 35) позже поменял свое третье имя на Амадей.
Кенигсберг — основан в 1255 г. рыцарями Тевтонского ордена как крепость; в 1525 — 1618 гг. столица герцогства Пруссия, затем главный город провинции Восточная Пруссия; Гофман родился в этом городе 24 января 1776 г.
Шиллер — см. примеч. к с. 151.
«Разбойники» — драма Шиллера, изданная в 1781 г.; впервые поставлена в 1782 г. в Мангейме; трагедия о дисгармонии современного мира.
Клопшток, Фридрих Готлиб (1724 — 1803) — немецкий поэт, родоначальник немецкой гражданской поэзии.
Фронда (от фр. слова «fronde» — «праща») — общественное движение за ограничение королевского абсолютизма во Франции в 1648-1653 гг., вылившееся в гражданскую войну и сопровождавшееся восстаниями крестьян и городской бедноты.
… родился от болезненной матери… от отца, сурового и в речах и в поступках… — Мать Гофмана — Луиза Альберта Дерфер (ум. в 1796 г.); отличалась болезненной нервностью. Отец Гофмана — Кристоф Людвиг (ум. в 1797 г.), кузен своей жены, человек способный, но беспорядочный. Супруги разошлись, когда их сыну было три года.
Цимбалы — многострунный ударный музыкальный инструмент древнего происхождения; наиболее распространен в Венгрии.
Ребек — смычковый струнный инструмент, распространенный в Европе с X-XI вв.; вышел из употребления в конце XVI в.
Цитра — щипковый музыкальный инструмент, обычно в виде фигурного ящика со струнами; возник в XVIII в.; был распространен в Австрии, Германии и других странах.
Цистра (или цитоля) — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент, по форме напоминающий мандолину.
Виола да гамба (или просто гамба, от ит. gamba — «нога») — один из видов семейства струнных смычковых инструментов виол, во время исполнения находящихся вертикально между ног или на коленях музыканта; теноровая виола.
… тетушка Софи. — Иоганна Софи Дерфер (ум. в конце 1803 г.) — сестра матери Гофмана.
Бас — музыкальный инструмент низкого регистра.
Эвтерпа — в греческой мифологии одна из муз, покровительница лирической поэзии; изображается с двойной флейтой.
… Гофмана вставши на руках этого дядюшки. — Имеется в виду Отто Вильгельм Дерфер, советник юстиции; умер в 1811 г.
Карл V (1500 — 1558) — император Священной Римской империи в 1519-1556 гг.; испанский король под именем Карлоса I в 1516 — 1556 гг. (из династии Габсбургов).
Гейделъберг — город в Западной Германии; известен старейшим германским университетом, открывшимся в конце XIV в.
Королевская академия музыки — оперный театр в Париже, открыт в 1671 г.; предшественник современной Большой оперы.
… борьба между Глюком и Пиччини. — См. примеч. к с. 320.
Фридрихсдор — прусская золотая монета, чеканившаяся в 1750-1855 гг.; равнялась пяти серебряным талерам.
… пользуясь привилегией Хромого беса… — Имеется в виду роман французского писателя А.Лесажа (1668 — 1747) «Хромой бес»; его герой бес Асмодей приподнимает крыши домов и показывает студенту Клеофасу частную жизнь обитателей большого города.
Вернер, Захария (Цахариас; 1768 — 1823) — немецкий драматург романтической школы; положил начало «трагедиям рока» в немецкой литературе; в конце жизни стал католическим священником и отрекся от некоторых своих произведений; с детства был знаком с Гофманом, так как они жили в одном доме; до смертного часа Гофмана их пути постоянно переплетались.
«Мартин Лютер» — мистическая драма Вернера, написана в 1807 г.; ее заглавный герой изображен с глубокой симпатией прежде всего как руководитель немецкого народа, восставшего против Рима и его церкви. В пьесе отразились, приняв религиозную окраску, события 1805-1807 гг. в Германии — порабощение страны Наполеоном.
Лютер — см. примеч. к с. 91.
«Аттила, король гуннов» — мистическая драма Вагнера; написана в 1808 г.
Аттила (ум. в 453 г.) — с 434 г. предводитель кочевого народа гуннов, которые вместе с другими племенами в 70-х гг. IV в. начали из Предуралья движение на запад; в 40-х гг. V в. гуннский союз совершил два опустошительных вторжения в пределы Римской империи.
«Двадцать четвертое февраля» — драма Вернера, повествующая о трагических событиях в одной семье, которые происходят в этот день; написана в 1815 г.; изображает человека как игрушку стихийных сил и неотвратимой судьбы и знаменует кризис веры автора в просвещение и разум; в названии драмы запечатлен день смерти матери Вернера.
«Крест на Балтийском море» («Das Kreus an der Ostsee») — мистическая драма Вагнера; написана в 1806 г.
Силоам — название купальни, где по слову Христа некий слепорожденный умылся и после этого прозрел (Иоанн, 9: 7). Одновременно
в этой притче содержится указание на Христа как на посланного Богом мессию: «силоам» значит «посланный».
… прекрасные гимны Лютера… — Речь идет о духовных гимнах и песнопениях, сочиненных Лютером.
… террор был в самом разгаре. — Временем террора в истории Французской революции обычно называется период лета 1793 — лета 1794 гг., когда революционное правительство по требованию народных масс жестоко расправлялось со своими противниками.
… загибал пароли за пароли… — На жаргоне карточных игроков-»загнуть пароли» значит удвоить выигравшую ставку.
Фауст — герой средневековой немецкой легенды и немецких народных книг, ученый, продавший душу дьяволу ради знаний, богатства и мирских наслаждений. Легенда о Фаусте стала в различных странах материалом для множества литературных произведений, из которых наиболее известна упоминающаяся здесь трагедия Гёте «Фауст».
… а в углу — черного пуделя. — Имеются в виду сцены «У ворот» и «Рабочая комната Фауста» из первой частии трагедии Гёте: дьявол Мефистофель сначала преследует героя в образе черного пуделя, а затем принимает свой настоящий облик.
Редингот — здесь: длинный сюртук особого покроя.
Бранденбуры — отделка одежды военного покроя: нашитые на нее шнуры, галуны или петлицы различной формы.
Крейцер — мелкая разменная монета в Австро-Венгрии и Южной Германии, обращавшаяся до конца ХГХ в.
… и поставил их на красное. — И тут… вышло черное… — Описывается эпизод игры в рулетку: ставка сделана на то, что шарик остановится против красного поля, но он останавливается против черного, и ставка таким образом проигрывается.
Маргарита (Гретхен) — героиня трагедии Гёте «Фауст»; молодая девушка — воплощение жертвы общественных предрассудков и церковной морали.
… небольшой парик на манер Жан Жака. — То есть Жан Жака Руссо (см. примеч. к с. 240).
Партитура — общая нотная запись многоголосного музыкального произведения.
… «Matrimonio segreto» Чимарозы. — «Тайный брак», итальянская опера-буфф в двух актах, поставленная в 1792 г.; либретто итальянского литератора Джованни Бертати (1735 — 1815) по пьесе английского драматурга Джорджа Кольмэна Старшего (1733 — 1794) и английского актера Давида Гаррика (1717 — 1779) «Тайное супружество». Чимароза — см. примеч. к с. 154.
Арлекин — традиционный персонаж итальянской комедии масок, перешедший в конце XVII в. во Францию; ловко выходит из затруднительных положений, в которые часто попадает. Одним из атрибутов Арлекина является шутовской деревянный меч, иногда — палка, которой он колотит других персонажей.
Паизиелло (Паэзиелло), Джованни (1740 — 1816) — итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы; мастер оперы-буфф; в 1776-1784 гг. работал в России.
Моцарт, Вольфганг Амадей (1756 — 1791) — великий австрийский композитор; представитель венской классической школы, музыкант универсального дарования, проявившегося необычайно рано; в своей музыке отразил передовые идеи эпохи Просвещения.
«Свадьба Фигаро» — опера-буфф в четырех актах; либретто Лоренцо да Понте (Дапонте; 1749 — 1838) по мотивам комедии Бомарше; впервые поставлена в Вене в 1786 г.
«Дон Жуан» — опера Моцарта на либретто Лоренцо да Понте; впервые поставлена в Национальном театре в Праге в 1787 г.
Квинтет — музыкальное произведение для ансамбля из пяти исполнителей. Бах, Иоганн Себастьян (1685 — 1750) — великий немецкий композитор и органист; создал около тысячи произведений разных жанров.
Перголези — см. примеч к с. 154.
Гайдн, Франц Йозеф (1732 — 1809) — австрийский композитор, создавший классический стиль инструментальной музыки; один из основоположников венской классической школы; довел до классического совершенства симфонию, квартет, сонату; наиболее известны его «Траурная» и «Прощальная» симфонии, оратории «Сотворение мира» и «Времена года».
Теорба — род басовой лютни.
Тартини, Джузеппе (1692-1770) — итальянский скрипач, композитор, музыкальный теоретик; глава падуанской скрипичной школы.
… особенно конский волос? — В старину струны музыкальных инструментов часто изготовлялись из волос конской гривы и хвоста.
Страдивари, Антонио (ок. 1643 — 1737) — итальянский скрипичный мастер; на его музыкальных инструментах до сих пор играют крупнейшие музыканты.
Кремона — город в Северной Италии на реке По с традиционным производством музыкальных инстументов; в Кремоне работал Страдивари.
Мантуя — см. примеч. к с. 157.
… именно этот Страдивари… — так обычно называют скрипки работы Страдивари.
«La ci darem' la mano» («Дай ручку мне, красотка») — ария из оперы Моцарта «Дон Жуан» (III, 1).
Деманшё — перемещение левой руки на струнном инструменте из одной позиции в другую.
Корелли, Арканджело (1653-1713) — итальянский скрипач и композитор; основоположник итальянской скрипичной школы.
Пуньяни, Гаэтано (1731-1798) — итальянский скрипач, композитор, дирижёр и педагог; развивал традиции А.Корелли и Дж.Тартини.
Appoggjmenti (ед. число — appoggimento) — выдерживание постоянного темпа исполнения музыкального номера.
Джеминиани Франческо (1687-1762) — итальянский скрипач, композитор и автор работ по теории музыки.
Бутада — здесь: импровизация, музыкальная фантазия. Сомнамбула — см. примеч. к с. 37.
Tempo mbato — итальянский музыкальный термин; буквально: «украденный темп»; свободный темп музыкального исполнения,
отклоняющийся от равномерного; возник в вокальной музыке эпохи барокко.
Джардини, Феликс (1716 — 1796) — итальянский исполнитель-виртуоз и композитор.
Пляска святого Витта (или «Виттова пляска») — средневековое название малой хореи или хореи Сиденгама (по имени впервые описавшего ее в 1646 г. английского врача Т. Сиденгама) — инфек-ционно-токсического заболевания; непроизвольные беспорядочные движения, подергивание конечностей и т.д., общее беспокойное состояние больного, затрудненная речь, затем ложный паралич и, возможно, галлюцинации.
Йоммелли, Никколо (1714 — 1774) — итальянский композитор, представитель неаполитанской школы; его творчество подготовило оперную реформу Глюка.
Люлли, Жан Батист (Джованни Батиста; 1632 — 1687) — французский композитор, по рождению итальянец; основоположник французской классической оперы.
Сальто-мортале (ит. salto — «прыжок», mortale — «смертельный») — полный переворот в воздухе.
Нардини, Пьетро (1722 — 1793) — итальянский скрипач и композитор.
Орфей — в древнегреческой мифологии замечательный певец и музыкант; игрой на лире и пением смирял диких зверей и заставлял двигаться камни.
Филипсбург — город и крепость в Западной Германии; неоднократно осаждался французами в войнах XVII — XVIII вв.
Виотти, Джованни Баттиста (1755-1824) — итальянский скрипач и композитор; жил в Англии и Франции; один из создателей французской скрипичной школы.
Жарновицкий, Джованни Мане (1735-1804) — итальянский скрипач, по-видимому, хорватского происхождения; успешно концертировал по Европе; был придворным музыкантом Екатерины II; внес некоторые нововведения в скрипичную музыку.
Сарматы (савроматы) — объединение кочевых скотоводческих ираноязычных племен; в VI — IV вв. до н.э. жили на территории от реки Тобол до Волги; в III в. до н.э. вытеснили из Северного Причерноморья скифов; в IV в. н.э. были разгромлены гуннами. Здесь Дюма так называет вообще все славянские народности, поселившиеся позднее в местах обитания сарматов.
Валахи (влахи) — народ, вошедший в середине ХГХ в. в состав румынской нации.
Роде (Род), Пьер (1774 — 1830) — французский скрипичный композитор, педагог; ученик Виотги.
Крейцер, Родольф (1766 — 1831) — французский скрипичный композитор и дирижёр; один из основоположников французской скрипичной школы ХГХ в.
Амати, Антонио (ок. 1540 — после 1600) — мастер смычковых инструментов; сын создателя классического типа скрипки.
… кто сможет натянуть тетиву Улиссовалука, тот будет достоин Пенелопы. — Улисс (Одиссей) — один из греческих героев, осаждавших Трою; отличался мудростью; его странствованиям и приключениям посвящена поэма Гомера «Одиссея». Пенелопа — в древнегреческой мифологии и «Одиссее» Гомера жена Улисса (Одиссея); двадцать лет она ждала возвращения мужа, отвергая домогательства женихов. Образ Пенелопы — пример супружеской верности.
Здесь имеется в виду эпизод из описания расправы Улисса над женихами («Одиссея», песнь XXI). Вернувшись домой под видом нищего, он принял участие в состязании, предложенном Пенелопой: ее мужем станет тот, кто сможет натянуть чудесный лук Одиссея и чья стрела пролетит через 12 колец. Никто из женихов не смог согнуть лука, Одиссей же выполнил условие, после чего перебил женихов.
… переход от пианиссимо к фортиссимо… — Речь идет о музыкальных терминах, указывающих на громкость звука при исполнении. Фортиссимо (ит. fortissimo) — «очень громко». Пианиссимо (ит. pianissimo) — «очень тихо».
Джульетта — см. примеч. к с. 157. Верона — см. примеч. к с. 157.
… сладость прекрасного языка, в котором, как замечает Данте, поет звук «si». — To есть звучит итальянское слово «да» («si»), которое Данте кладет в основу своей классификации романских языков, называя итальянский — языком si («Божественная комедия», «Ад», ХХХШ, 80).
Метастазио, Пьетро (настоящая фамилия — Трапасси; 1698 — 1782) — итальянский поэт и драматург-либретист; на его либретто написано множество опер.
Голъдони, Карло (1707 — 1793) — итальянский драматург, создатель национальной комедии; написал 267 пьес; осуществил просветительскую реформу итальянской драматургии и театра.
Лорелея — героиня немецкой средневековой баллады: прекрасная дева, которая живет на утесе над Рейном и своим пением завлекает, а затем губит рыбаков.
Беатриче — см. примеч. к с. 154.
Альцеста — опера Глюка (см. примеч. к с. 320), впервые представленная в 1767 г. в Вене. Написана на сюжет древнегреческого мифа о царице Альцесте (Алкестиде), прославившейся самоотверженностью в любви. Она согласилась заменить обреченного на раннюю смерть мужа.
… «Я Стикса божествам мольбы не вознесу…» — знаменитая ария из первого акта оперы Глюка, в которой Альцеста бросает вызов богам.
Божества Стикса — это боги подземного царства душ умерших, куда должна уйти Альцеста. Стикс — река в преисподней, согласно греческой мифологии.
… не желал кавалеру Глюку смерти… — Глюк был кавалером ордена Золотой Шпоры (1756 г.); орден, учрежденный папой Пием IV в 1559 г., существовал до 1840 г. (Такая же награда была у Моцарта и Листа.)
«Stabat mater» («Стояла Матерь Божья») — латинское название духовного католического гимна.
Порпора, Николо Антонио (1686/1687 — 1766/1767) — итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы.
Страделла, Алессандро (1644 — 1682) — итальянский композитор и певец; вокруг его личности сложилась легенда о чудодейственной силе его музыки, покоряющей даже злоумышленников.
«Pietd, Signore» (полностью «Pieta, Signore, di me dolente») — известная ария, приписываемая Страделла, однако, по мнению большинства исследователей, ему не принадлежащая; согласно легенде, спасла жизнь автору.
Октава — здесь: участок музыкального звукоряда, охватывающий все его ступени (или ноты); применяемая в музыке звуковая шкала состоит из 7 полных и 2 неполных октав.
… одинаково легко брала «контр-ут»… и «ут» пятой октавы басовых нот. — «Ут» — старинное название «до» первой ступени основного музыкального звукоряда. «Контр-ут» — в данном случае самый высокий из доступных певице звуков, «до» третьей октавы. «Ут» пятой октавы басовых нот — самый низкий из звуков, доступных голосу Антонии.
Piano — музыкальный термин; означает «тихо», «негромко».
Sforzando (буквально: «напрягать силу») — обозначение более громкого исполнения звука или аккорда.
… поддержал его уже на «ми бекар», другими словами — на diminuendo… — Бекар — знак отказа от альтерации (повышения или понижения тона) той или иной ступени звукоряда. Diminuendo — постепенное ослабление звука.
Какова, Антонио (1757 — 1822) — знаменитый итальянский скульптор, представитель искусства классицизма.
Сольфеджио (сольфеджо) — вокальные упражнения для развития слуха и навыков чтения нот; при пении произносятся названия исполняемых нот.
Кларисса Гарлоу — героиня романа английского писателя Самюэля Ричардсона (1689 — 1761) «Кларисса, или История молодой леди» (1747 — 1748), в котором показана власть денег и ее уродующее воздействие на характеры людей и отношения между ними. В борьбе за свое человеческое достоинство героиня бескомпромиссно противопоставляет себя не только аристократическому пороку, но и буржуазному корыстолюбию.
Шарлотта — героиня романа Гёте «Страдания юного Вертера», возлюбленная заглавного героя.
Святая Цецилия (ум. в 230 г.) — христианская мученица, покровительница музыки.
Евхаристия (гр. — «благодарение») — то же, что и причащение святых даров, одно из главнейших таинств христианской церкви, приобщение верующих к Христу путем вкушения во время богослужения священных хлеба и вина (у католиков только хлеба), которые пресуществляются (превращаются) в тело и кровь Иисуса.
Рента — доход с капитала, земли или какого-нибудь другого имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности.
Меюлъ (Мегюлъ), Этьенн Никола (1763-1817) — французский композитор и музыкальный деятель, один из основателей Парижской консерватории; автор комических опер и популярной военной «Походной песни»; организатор массовых празднеств во время Революции.
Далейрак — см. примеч. к с. 349.
… как, должно быть, смотрел Орфей вслед убегавшей Эвридике… — Прелесть искусства Орфея (см. примеч. к с. 382) была столь велика, что он проник в подземное царство теней и упросил очарованного его пением владыку отпустить обратно на землю свою умершую жену Эвридику. Разрешение было дано ему с условием, что, уводя тень жены, он ни разу не оглянется на нее. По дороге Орфей нарушил запрещение и обнял только ускользавшую тень жены.
Эндемическая болезнь — то есть свойственная данной местности. Каллиграфия — умение писать четким и красивым почерком; до изобретения и широкого внедрения книгопечатания была целым искусством и имела различные стили и правила; высоко ценилась в бюрократическом аппарате до введения машинописи. Прекрасным каллиграфом был и Дюма.
Ин-октаво — см. примеч. к с. 244.
Эльзас — историческая провинция на востоке Франции в бассейне реки Рейн; присоединен к Франции большей частью в 1648 г., а окончательно в 1657 г.
Лотарингия — историческая провинция на востоке Франции в бассейне реки Мозель; до 1766 г. была самостоятельным герцогством.
Спартанцы — граждане города-государства Спарта в Древней Греции; отличались суровостью и простотой нравов, с детства готовились к боевым действиям; речь спартанцев была известна краткостью и выразительностью.
… когда фессалийские лазутчики старались преувеличить силы персидского царя Ксеркса. — Фессалия — историческая область в Восточной Греции; во время греко-персидских войн (500-449 до н.э.) фессалийская знать была на стороне персов. Ксеркс I (ум. в 465 г. до н.э.) — древнеперсидский царь из династии Ахеменидов; в 480 — 479 гг. до н.э. возглавлял неудачное вторжение в Грецию. Здесь, вероятно, Дюма в сильно искаженном виде передает эпизод кануна греко-персидских войн. Когда персы поймали греческих разведчиков, Ксеркс приказал отпустить их, чтобы они могли устрашить соплеменников рассказами о его неисчислимом войске (Геродот, «История», VII, 146 — 147).
Секция (первоначально: дистрикт) — низшая единица территориального деления Парижа в период Революции. Так назывались первичные собрания выборщиков, созывавшиеся в 1791 г. во время выборов в Законодательное собрание. После проведения избирательной кампании эти собрания не разошлись и превратились в самодеятельные органы местной власти, центры руководства действиями населения, проживающего на их территории. Для текущих дел секции выбирали комиссаров, составлявших так называемые гражданские комитеты. Все 48 секций Парижа назывались по именам главных улиц, различного рода расположенных на них объектов, революционных деятелей и т.д.
Лафатер, Иоганн Каспар (1741 — 1801) — швейцарский писатель, автор нескольких популярных в XVIII — XIX вв. сочинений по физиогномике (см. примеч к с. 36), которую он пытался сочетать с научным наблюдением природы.
Национальное собрание — имеется в виду Законодательное собрание; созванное на основе Конституции 1791 года, оно провозгласило Францию конституционной монархией (причем исполнительная власть должна была принадлежать королю) и начало свою работу 1 октября того же года. Собрание было избрано по цензовой системе, при которой право голоса принадлежало только так называемым активным, то есть состоятельным гражданам — менее пятой части населения страны. Собрание заседало до осени 1792 г., когда в результате народного восстания 10 августа вынуждено было уступить власть Конвенту.
Конвент — см. примеч. к с. 235.
… в тюрьмах — всех священников, которых пощадили… — Речь идет о так называемых «сентябрьских убийствах». 2 — 5 сентября 1792 г. народ Парижа, возбужденный неудачами в войне с вторгшимся во Францию неприятелем и слухами о контрреволюционном заговоре в тюрьмах, произвел там казни заключенных аристократов, неприсяг-нувших священников, королевских солдат и фальшивомонетчиков.
… страшными врагами соотечественников израильтянина Самсона были филистимляне. — Самсон — персонаж Библии, герой и судия народа израильского, богатырь, совершивший множество подвигов в борьбе с враждебным древним евреям племенем филистимлян, народом, населявшем с XII в. до н.э. юго-восточное побережье Средиземного моря.
Питт, Уильям (в исторической литературе обычно называется Пит-том Младшим; 1759 — 1806) — английский государственный деятель, премьер-министр в 1783-1801 и в 1804 — 1806 гг.; непримиримый противник Французской революции; главный организатор антифранцузских коалиций феодальных европейских государств.
Кобуре — Фридрих Иосия Кобург Заальфельд, принц Саксонский (1737-1817), австрийский фельдмаршал; командующий австрийскими войсками в Нидерландах в 1793 — 1794 гг.
Давид — см. примеч. к с. 240.
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606 — 1669) — великий голландский художник; автор портретов и картин на бытовые, библейские и мифологические темы.
«Ночной дозор» — полотно Рембрандта: групповой портрет офицеров амстердамской гильдии стрелков; создано в 1642 г. Написанная в духе свободной композиции, картина была отвергнута заказчиками; ныне находится в Государственном музее в Амстердаме.
Клуб кордельеров — см. примеч. к с. 50.
Клуб якобинцев (официальное название «Общество друзей Конституции») — политический клуб, игравший большую роль во время Революции; возник в Париже осенью 1789 г.; получил свое наименование по месту его заседаний в библиотеке закрытого монастыря святого Иакова. Первоначально преобладающим влиянием в Клубе пользовались политики из либерального дворянства и либеральной буржуазии, сторонники конституционной монархии, но с октября 1792 г. клуб приобрел революционно-демократический характер. Термин «якобинец» стал (особенно в литературе и разговорном языке XIX — XX вв.) синонимом радикального революционера. После установления летом 1793 г. якобинской диктатуры члены Клуба фактически составляли правящую партию. Клуб имел несколько сот отделений по всей стране, которые были центрами осуществления политики революционного правительства. После переворота 9 термидора Якобинский клуб был разгромлен и в ноябре 1794 г. закрыт декретом Конвента.
… я от Друзей и Братьев… — «Друзья и братья» — формула, используемая во время Революции в обращениях, речах, листовках, политической корреспонденции; по-видимому, здесь один из народных клубов, возникших в то время (в романе «Шевалье де Мезон-Руж» Дюма также упоминает эту организацию, отождествляя ее с секцией Лепелетье).
Осер — город в Центральной Франции в провинции Берри.
… доставят гужом… — то есть на телегах, живой тягой.
Сен-Жюст, Луи (1767 — 1794) — депутат Конвента и член Комитета общественного спасения; якобинец, сторонник и ближайший помощник Робеспьера; один из главных организаторов побед революционной армии над войсками первой антифранцузской коалиции; казнен после переворота 9 термидора.
Бриссотшщы — другое название жирондистов, произведенное от фамилии одного из их лидеров Жака Пьера Бриссо (1754 — 1793). Жирондисты — политическая группировка периода Французской революции, представлявшая интересы промышленной, торговой и связанной с земледелием буржуазии, выигравшей от перемен в стране; название получили по имени департамента Жиронда в Южной Франции, откуда происходили многие ее лидеры; летом 1793 г. потерпели поражение в борьбе с якобинцами.
Цветочная набережная — проходит по северному берегу острова Сите; проложена в 1769 г.; название получила от находящегося здесь до сих пор цветочного рынка; отсюда открывается широкая панорама правобережной части Парижа.
Улица Анфер — ведет от предместья Пуассоньер на севере Парижа в южном направлении к Сене; проложена в 1652 г.; свое название (в переводе — «Адская») получила в противоположность находившейся рядом Райской улице; нынешнее название Блё («Синяя») получила по просьбе жителей в 1789 г.
Бочарная улица — пересекала остров Сите с севера на юг; неоднократно меняла свое название; ныне поглощена бульваром Дворца правосудия.
Площадь Революции — см. примеч. к с. 45.
Гений свободы — одна из эмблем Революции, отражавшая ее девиз; воздвигалась в виде скульптур на улицах, в парках и т. д. и имела также образ небольших комнатных и витринных статуэток.
… пойду-ка я в картинную галерею Лувра… — То есть в Национальный музей искусств в королевском дворце Лувр; основан по декрету Конвента от 27 июля и открыт для публики 8 ноября 1793 г. В основу его собрания легли национализированные во время Революции королевские коллекции, дополненные сокровищами из церквей, дворцов аристократии, а впоследствии и из завоеванных стран. Ныне — одно из величайших художественных хранилищ в мире.
Рубенс — см. примеч. к с. 79.
Пуссен, Никола (1594 — 1665) — французский художник, представитель классицизма, автор картин на мифологические и религиозные сюжеты.
Парижская Коммуна (или Коммуна Парижа) — в 1789 — 1794 г. орган городского самоуправления столицы Франции; была образована представителями округов (секций) города. Численность, состав и политическое направление Коммуны неоднократно менялись; в первую половину 1792 г. преобладающим влиянием в ней пользовались жирондисты, а после свержения в августе монархии, в котором Коммуна сыграла ведущую роль, — левые якобинцы. Коммуна в это время была органом народной власти, имела в своем распоряжении военные силы, активно боролась с контрреволюцией, оказывала большое давление на политическое руководство страны; после переворота 9 термидора была распущена.
… Симоном, воспитателем «детей Франции» и хранителем королевских музеев. — Сын Людовика XVI и Марии Антуанетты, наследник французского престола Луи Шарль (1785 — 1795), был в 1793 г. отдан на воспитание в семью сапожника-якобинца Антуана Симона (1736 — 1794). Вслед за переворотом 9 термидора Симон был казнен, а Луи Шарль, после казни отца считавшийся роялистами законным королем Людовиком XVII, был вскоре снова заключен в тюрьму, где, по официальной версии, и умер. Сын (дочь) Франции — титул детей французского короля.
… пойду в библиотеку покойного короля… — То есть в государственную Королевскую библиотеку, основанную в 1480 г. как дворцовое книгохранилище; в 1795 г. была объявлена Национальной и носит это название до сих пор; является одной из старейших в мире; с 1720 г. помещается на улице Ришелье рядом с дворцом Пале-Рояль.
Эстамп — оттиск художественного изображения с печатной формы.
Хильдерик (436 — 481) — франкский король из династии Меровин-гов; правил с 458 г.
Хлодвиг I (465/66 — 511) — король франков с 481 г.; завоевал почти всю Галлию, что положило начало Франкскому государству.
… глобусы отца Коронелли… — Два громадных глобуса, изготовленные Коронелли для Людовика XIV в 1695 г., хранятся в Национальной библиотеке.
Коронелли, Марк Винсент (1650-1718) — географ и историк, автор ряда научных трудов.
Люксембургский дворец — один из королевских дворцов Парижа; построен в 1615-1620 гг. архитектором Саломоном де Броссом (ум. в 1627 г.); во время Революции использовался как тюрьма; с 1795 г. — резиденция правительства; с начала XIX в. там помещается Сенат — верхняя палата французского парламента.
Дворец правосудия — старинный королевский дворец на острове Сите; в нем с середины XIV в. заседал Парижский парламент — высший суд Франции; в начале XVII в. и накануне Революции дворец был значительно перестроен.
Революционный трибунал — см. примеч. к с. 47.
… гражданин Фукье… — Антуан Кентен Фукье-Тенвиль (1746-1795) — с 1793 г. общественный обвинитель при Революционном трибунале; последовательно участвовал в подготовке казней роялистов и представителей всех революционных групп вплоть до Робеспьера и его сторонников; был казнен после переворота 9 термидора под предлогом, что он участвовал в организации противоправительственного заговора.
Улица Сен-Дени — одна из радиальных магистралей старого Парижа; ведет от правого берега Сены на север к Бульварам; существует с начала VIII в.; с развитием монастыря и города Сен-Дени приобрела большое значение как путь в этом направлении.
…от набережной Железного Лома до Рынка. — Набережная Железного Лома — одна из старейших в Париже, известна с 1369 г.; идет по правому берегу северного рукава Сены против острова Сите. С момента открытия до 1529 г. называлась Кожевенной, так как на ней помещались мастерские, обрабатывающие кожу. С этого года до 1769 г. называлась набережной Железного Лома, потому что на ее парапетах располагались торговцы старым железом. С 1769 г. и по сей день имеет первоначальное название. Рынок — имеется в виду Центральный рынок, находившийся в центре старого Парижа к востоку от дворца Пале-Рояль; ныне не существует.
Улица Железного Ряда — одна из основных в старом Париже; связывала восточные окраины с центром города, продолжая на восток улицу Сент-Оноре; проходила неподалеку от ратуши.
… здесь был убит Генрих IV. — Король был убит в начале улицы Железного Ряда фанатиком-католиком Франсуа Равальяком (1578 — 1610) 14 мая 1610 г., когда королевская карета попала в затор и остановилась.
Улица Сент-Оноре — одна из центральных улиц Парижа, ведет от дворцов Лувр и Пале-Рояль к западным предместьям города.
… Вот и ты, бедняжка Дюбарри! — Графиня Дюбарри (см. примеч. к с. 80) была казнена 8 декабря 1793 г.
Фурии — древнеримское название эриний, богинь мести и угрызений совести в античной мифологии, наказывавших человека за совершенные им преступления. В переносном смысле фурия — злая, разъяренная женщина.
… для той, что внесла свою лепту в гибель монархии. — Аморальный образ жизни Людовика XV, его открытые почти официальные связи с многочисленными фаворитками (в том числе и с Дюбарри), которые вмешивались в управление страной, огромные траты на них из государственной казны весьма сильно способствовали во второй половине XVIII в. падению престижа как самого короля, так и монархии как формы правления в целом. Здесь Дюма указывает на эти факты как на явления, подготовившие общественное мнение во Франции к революции.
«Суд Париса» — балет на темы древнегреческой мифологии, музыка немецких композиторов Гайдна (см. примеч. к с. 378) и Игнаца Плейеля (1757 — 1831) и французского композитора Меюля (см. примеч. с с. 396); постановка известного французского хореографа Пьера Габриеля Гарделя (1758-1840).
Парис — в древнегреческой мифологии и «Илиаде» Гомера царевич из города Троя в Малой Азии; похитил жену царя города Спарта Менелая Елену, красивейшую женщину своего времени, что послужило причиной к походу героев Греции на его родину; в Троянской войне Парис погиб, не проявив особой доблести. Похищению Елены предшествовало выступление Париса в качестве судьи в споре богини-покровительницы семьи и брака, жены верховного бога Зевса Геры (древнеримской Юноны), богини любви и красоты Афродиты (Венеры) и богини-воительницы Афины (Минервы) за золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей». Гера обещала Парису сделать его могущественнейшим царем; Афина — величайшим героем, а Афродита обещала обладание красивейшей женщиной. Парис признал прекраснейшей Афродиту и с ее помощью похитил Елену. Выражение «суд Париса» стало крылатым, а сам миф послужил сюжетом для многочисленных произведений литературы, живописи и музыки.
Опера — имеется в виду парижский государственный музыкальный театр Гранд-опера (Grand Opera), основанный в XVII в.
Театр Порт-Сен-Мартен — см. примеч. к с. 345.
Мария-Антуанетта — см. примеч. к с. 45.
Гомер — легендарный древнегреческий слепой поэт и певец (по античным источникам жил в период от XII до VII вв. до н.э.), которому приписывается авторство эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».
… через полтора месяца после казни короля… — Людовик XVI был казнен 21 января 1793 г.
Дивертисмент — увеселительное представление, состоящее из танцевальных номеров или песен; включается в программу спектакля обычно как его заключительное отделение, а также как вставной номер в балете или опере, не связанный с сюжетом.
Сапфир — драгоценный камень синего или лазоревого цвета.
… из которого должен был вырасти Коппелиус… — Имеется в виду фантастический рассказ Гофмана «Песочный человек» (1816 г.), одним из героев которого является Коппелиус, зловещий убийца, адвокат, перевоплотившийся в мастера-оптика.
… на эбеновой табакерке… — То есть на табакерке из черного эбенового дерева; очень твердая древесина некоторых видов тропических деревьев семейства эбеновых используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов и др.
Замор — см. примеч. к с. 271.
Вестрис, Огюст (настоящее имя — Мари Жан Опостен, имел также прозвище Вестр д'Аллар; 1760 — 1842) — знаменитый танцовщик парижской оперы; отличался виртуозной техникой; театральный педагог.
Ида (современное название — Псилоритис) — священная гора неподалеку от Трои; на ней в детстве и юности жил Парис, брошенный сначала своими родителями; там же, согласно мифам, совершился его знаменитый суд.
Энона — в древнегреческой мифологии нимфа, жившая на горе Ида, первая супруга Париса; обладая даром предвидения, всячески удерживала Париса от путешествия за Еленой, так как знала, что новый брак будет причиной его гибели. Позже Энона из ревности отказала в помощи смертельно раненному Парису; когда же он умер, Энона в отчаянии повесилась (по другому варианту, бросилась в погребальный костер).
Лорнет — складные очки с ручкой.
Вольтер — см. примеч. к с. 240.
«Девственница» — имеется в виду «Орлеанская девственница» («La Pucelle d'Orleans») — героико-комическая фривольная поэма Вольтера (1757 г.), пародия на эпопею французского поэта Жана Шаплена «Девственница, или Спасенная Франция» (первые двенадцать песен были опубликованы в 1656 г., следующие двенадцать — только в начале XIX в.), посвященная героине французского народа Жанне д'Арк (ок. 1412-1431), возглавившей сопротивление захватчикам во время Столетней войны (1337 — 1453) с Англией. Целью Вольтера было осмеяние официальной легенды и религиозного культа Жанны как «святой спасительницы».
«Жюстина» — имеется в виду книга де Сада (см. примеч. к с. 320): «Жюстина, или Несчастья добродетели» («Justine ou Les malheurs de la vertu», 1791). Позже, в 1797 г., вышла «Новая Жюстина, или Несчастья добродетели, последовавшие за Историей Жюль-етты, ее сестры» («La nouvelle Justine ou Les malheurs de la vertu, suivie de l'Histoire de Juliette, sa soeur»). Эти книги де Сада наполнены описаниями сексуальных извращений, кошмарных эротических видений и других патологических состояний.
… это Кребийон-сын, распоясавшийся окончательно… — Кребийон, Клод Проспер Жолио (1707 — 1777), автор фривольных романов, рисующих нравы высшего общества; сын драматурга Проспера Жолио Кребийона (1674-1762).
Пуанты — твердые носки балетных туфель; танец на пуантах исполняется на кончиках пальцев при вытянутом подъеме ноги.
Мессалина Валерия (ок. 25 — 48) — жена римского императора Клавдия; отличалась жестокостью, развращенностью и ненасытной похотью, что сделало ее имя нарицательным.
Акант — род трав, кустарников, реже деревьев, произрастающих в регионе Средиземного моря, Южной Америке и Индии, красивые декоративные растения; древесина некоторых видов аканта использовалась в ваянии, архитектуре и в ювелирном искусстве.
… в нижнюю литерную ложу. — То есть обозначенную не цифрой, а буквой (от лат. littera — «буква»).
Аграф — нарядная пряжка или застежка.
Улица Сен-Мартен — одна из главных радиальных магистралей старого Парижа; идет параллельно улице Сен-Дени от Сены к Бульварам.
Улица Бонды — находится в северной части Парижа, за пределами бывших городских стен; проходит параллельно бульвару Сен-Мартен на очень небольшом расстоянии от него; одна из древнейших в городе, бывшая дорога; неоднократно меняла свое название; улицей Бонди (по имени города к северу от столицы) стала называться с 1770 г.; современное название: улица Рене Буланже.
Улица Бурбон-Вильнёв — находится в центре старого Парижа; ведет от дворца Пале-Рояль к декоративной арке-воротам Сен-Дени на Бульварах; проложена в первой половине XVII в.; неоднократно меняла свое название; ныне — улица Абукир.
Площадь Побед — расположена в центре старого Парижа у северовосточного угла дворца Пале-Рояль.
Улица Нёв-Эсташ — находилась в северной части старого Парижа; существовала с 1634 г.; в результате перепланировки в 1865 г. вошла в состав улицы Абукир.
Церковь святого Евстафия (Сент-Эсташ) — замечательный храм в центре Парижа; известна с XIII в.; строительство ее здания в нынешнем виде закончено в середине XVII в.
Гражданское ополчение — имеется в виду национальная гвардия, часть вооруженных сил Франции в конце XVII-XIX вв.; возникла как гражданское ополчение в начале Революции в противовес королевской армии; играла во время своего существования большую роль в политической жизни; состояла в основном из буржуа и других состоятельных людей, так как форма и оружие приобретались гвардейцами за свой счет; неоднократно участвовала в подавлении народных движений. В военное время национальная гвардия несла службу внутри страны, а при вторжении неприятеля привлекалась к боевым действиям; в 70-х гг. XIX в. во время реформирования французской армии была упразднена.
Консьержери — часть Дворца правосудия в Париже; замок главного исполнительного чиновника парламента — консьержа (отсюда ее название), затем тюрьма, ныне — музей; расположена на северном берегу острова Сите.
Симпатическая связь — то есть основанная на восприятии какого-либо влияния.
… бросил кассирше экю в шесть ливров… — См. примеч. к с. 8. Казакин — короткий жакет, сшитый в талию, с оборками сзади.
Карманьола — короткая куртка, украшенная большим количеством пуговиц, популярная одежда парижского простонародья в годы Революции (не случайно слово «карманьола» стало названием знаменитой народной революционной песни). Мода на карманьолы была занесена в Париж национальными гвардейцами из Марселя, а те заимствовали фасон этой одежды от рабочих Северной Италии; название ей дал итальянский город Карманьола.
Марат — см. примеч. к с. 45.
Флора — древнеиталийская богиня цветов, юности и удовольствий.
Аполлон — в древнегреческой мифологии бог солнечного света, покровитель искусств.
Терпсихора — в греческой мифологии одна из девяти муз, спутниц Аполлона; покровительница танца.
Ассигнаты — французские бумажные деньги периода Революции; первоначально были выпущены в 1789 г. в качестве государственных ценных бумаг, но быстро превратились в обычное средство платежа. Несмотря на обеспечение национальными имуществами (землями, конфискованными у дворянства и духовенства), курс ассигнатов непрерывно падал, а их эмиссия росла; выпуск ассигнатов был прекращен в начале 1796 г.
Алтарь отечества — одна из первых эмблем Революции, воплощавшая идею патриотизма; представлял собой монументальное сооружение; к середине 1790 г. алтари отечества, воздвигнутые в большинстве населенных пунктов Франции перед зданиями муниципалитетов, на возвышенностях и других видных местах, служили для совершения торжественных и праздничных церемоний, принесения военной присяги, заключения актов гражданского состояния и т.д. Обязательность их установления была оформлена в июле 1792 г. декретом Законодательного собрания.
Друзья человечества — имеется в виду основанное в 1789 г. парижскими типографскими рабочими патриотическое «Общество друзей человечества», сохранявшее в качестве организационной основы структуру тайного средневекового товарищества ремесленников.
Друзья народа — речь идет о сторонниках Марата и его газеты «Друг народа», выходившей в Париже с 12 сентября 1789 г. по 14 июля 1793 г.
Молыпон (или мельтон) — мягкая шерстяная ткань.
Мадемуазель Биготтини (ок. 1784-1858) — танцовщица и мимическая актриса парижской оперы; здесь у Дюма анахронизм: она дебютировала позже, в начале XIX в.
Ворота Сен-Мартен — см. примеч. к с. 256.
Улица Монмартр — находится в северной части старого Парижа; ведет от бывших городских стен в юго-восточном направлении к Сене.
Рюэй — см. примеч. к с. 326.
Отей — юго-западный пригород Парижа; к середине XIX в. вошел в его границы.
Новый мост — см. примеч. к с. 79.
Монетная улица — находится на правом берегу Сены; одна из старейших в Париже — известна с XII в.; получила название от находившегося здесь в XIII — XVIII вв. монетного двора; ведет от Нового моста в северном направлении в сторону Рынка.
Табльдот (фр. table d'hote — «стол гостей») — общий стол в европейских гостиницах, пансионатах и ресторанах.
Сантер, Антуан Жозеф (1752 — 1809) — деятель Французской революции; владелец пивоварни в Сент-Антуанском предместье в Париже; был близок к жирондистам; в 1792 — 1793 гг. командующий парижской национальной гвардией; в 1793 г. в чине генерала участвовал в войне в Вандее; после переворота 9 термидора отошел от политической деятельности.
Анрио, Франсуа (1761 — 1794) — мелкий служащий; командующий национальной гвардией Парижа в 1793-1794 гг.; якобинец, сторонник Робеспьера; казнен вместе с ним после переворота 9 термидора.
… окутался таким же густым облаком дыма, каким прекрасная Венера окутывала своего сына Энея… — Речь идет об эпизоде из главы десятой поэмы Вергилия «Энеида» (см. примеч. к с. 187): в споре богинь о судьбе Энея Гера-Юнона упрекает Венеру-Афродиту, что во время Троянской войны она спасла Энея от греческих воинов, «воздух пустой и туман под мечи вместо сына подставив» (X, 82; перевод С.Ошерова под ред. Ф.Петровского). Своим источником эти слова, по-видимому, имеют в виду следующие эпизоды «Илиады»: Энея спасают от опасности Афродита, покрыв его своей одеждой (V, 311 — 319), и Аполлон, покрыв его черным облаком (V, 345). В другой битве, согласно Гомеру, Энея спасает бог моря Посейдон (древнеримский Нептун), разлив густую мглу перед глазами его противника (XX, 321).
… трудно было бы Золушке объяснить, откуда взялась карета, в которой она приехала на бал к принцу Мирлифлору. — Золушка — добрая и трудолюбивая девушка, притесняемая злой мачехой, героиня одноименной сказки Ш.Перро (см. примеч. к с. 34). Согласно повествованию, фея-покровительница превращает тыкву в карету, и Золушка приезжает в ней на бал к своему будущему жениху-принцу. Мирлифлор (от фр. mirer — «стремиться», «домогаться» и fleur — «цветок») — прозвище элегантных молодых людей во времена Людовика XVI.
Грум (англ. groom) — слуга, едущий на козлах или на запятках экипажа. Ганноверская улица — находится в северной части старого Парижа неподалеку от Больших бульваров; название получила от особняка Ганновер, построенного там в 50-е гг. XVIII в.
Помпеи — город в Южной Италии близ современного Неаполя; в 79 г. н.э. был уничтожен во время извержения вулкана Везувий. Производящиеся там с начала XVIII в. археологические раскопки открыли город из-под вулканических пород в том виде, в каком он был к моменту катастрофы.
… в ту пору царила греческая мода… — Во Франции накануне и во время Революции было распространено увлечение древностью: перенимались имена, воинская атрибутика, элементы костюма, прически; сюжеты истории Древней Греции и Рима были обычны в литературе, театре и изобразительном искусстве; образы и героика античности широко использовались в идейной и политической борьбе.
… была обтянута седанским сукном… — Седан — город в Северной Франции на реке Мёз (Маас); в прошлом центр укрепленного пограничного района с развитой текстильной промышленностью (производство шерстяных тканей, бархата, ковров).
Локоть — мера длины; во Франции равнялась приблизительно 120 см.
… было изображено сражение при Арбелах, скопированное со знаменитой помпейской мозаики. — В сражении у города Арбела (современный Эрбиль) в Месопотамии (точнее, у селения Гавгамелы неподалеку) древнегреческий полководец и завоеватель Александр Македонский (356 — 323 до н.э.) в октябре 331 г. до н.э. уничтожил армию персидского царя Дария. Эта победа положила конец персидской монархии.
Упомянутая мозаичная картина изображает Александра, сражающегося во главе своей конницы. Эта кавалерийская атака, решившая исход битвы, вошла в историю военного искусства.
Кашемир — см. примеч. к с. 126.
Герен, Пьер Нарсис (1774 — 1833) — французский художник классического направления; автор картин на мифологические и исторические сюжеты. Творчество Герена (равно как и его полотно «Ди-дона и Эней», написанное в 1817 г. и имевшее большой успех) отличает театральность и любовь к мелодраматическим эффектам.
… Дидону, слушающую рассказы Энея о его приключениях. — Дидо-на — царица Карфагена, героиня «Энеиды», возлюбленная Энея. Когда Эней по воле богов оставил Дидону, она сожгла себя на костре. Здесь имеется в виду повествование Энея о гибели Трои и о своих странствиях (вторая и третья книги поэмы).
Аспазия (Аспасия; род. ок. 470 до н.э.) — известная гетера (молодая женщина, ведущая независимый образ жизни) Древних Афин; отличалась образованностью и красотой.
Хламида — здесь: плащ древних греков из длинного куска материи; знатные носили хламиду алого цвета, высшие военные чины — пурпурового.
Пеплум — древнеримская верхняя одежда без рукавов, в складках.
Линия — единица измерения малых длин, применявшаяся до введения метрической системы (1/12 или 1/10 часть дюйма); французская линия равнялась 2,2558 мм.
Эригона — в древнегреческой мифологии дочь жителя Афин Ика-рия, получившего в дар от бога виноделия Диониса (или Вакха, древнеримского Бахуса) мех вина. Икарий был убит пастухами, которые отведали его вина и приняли состояние опьянения за отравление. Эригона нашла могилу отца и в отчаянии повесилась.
Тигровая шкура — в древнегреческой мифологии атрибут Диониса.
Эвхариса — в древнегреческой мифологии нимфа, приближенная нимфы Калипсо, владычицы острова Огигия на Крайнем Западе земли. Присвоение этого имени служанке — еще один пример увлечения античностью во Франции конца XVIII в.
Тирс — жезл Диониса и его спутников, посох, увитый плющом, листьями винограда и увенчанный сосновой шишкой.
Вакханки (или менады) — в древнегреческой мифологии неистовые, обезумевшие женщины, спутницы Диониса-Вакха, от второго имени которого получили свое название.
Муслин — мягкая тонкая ткань, хлопчатобумажная, шерстяная или шелковая; название получила от города Мосул (в современном Ираке).
Карраччи — семья итальянских художников болонской школы, представителей академизма: Лодовико (см. примеч. к с. 154) и его двоюродные братья Агостино (см. там же) и Аннибале (1560 — 1609). Эклектически соединяя приемы великих мастеров Возрождения, они создали тип алтарной картины и монументально-декоративные росписи в стиле барокко. Наиболее известен Аннибале Карраччи, выполнявший портреты, религиозные жанровые композиции, героические пейзажи, фрески.
Альбани, Франческо (1578 — 1660) — итальянский живописец болонской школы; писал преимущественно хоры ангелов среди вычурных пейзажей.
Паросский мрамор — см. примеч. к с. 39.
Сен-Жермен-л 'Осеруа — церковь в Париже напротив Лувра, придворный храм французских королей; ее колокола дали сигнал к началу массового избиения гугенотов католиками в Варфоломеевскую ночь.
… возле кладбища при церкви Избиенных младенцев… — Это кладбище находилось в центре старого Парижа, рядом с Рынком, и в свое время было самым большим в городе; основанное в IX в., оно действовало восемь столетий; на нем захоронено более двух миллионов парижан; ныне не существует. Церковь при кладбище первоначально была посвящена святому Михаилу, но в 1137 г. король Людовик VI назвал ее в память убитых по приказу Ирода младенцев (см. примеч. к с. 339); закрыта в 1786 г.
Площадь Пале-Рояль — находится перед главным фасадом этого дворца; открыта в 1649 г., расширена между 1719 и 1769 гг.
Улица Закона — так в 1793-1806 гг. называлась улица Ришелье, которая ведет от улицы Сент-Оноре мимо дворца Пале-Рояль на север к Бульварам.
Эльдорадо (исп. el dorado — «золотая страна») — сказочная страна, изобилующая золотом и драгоценными камнями; ее тщетно искали в Америке испанские колонизаторы.
Пактол (современное название: Сарт-Чайи) — небольшая река в Малой Азии, нёсшая, согласно преданиям древности, много золотоносного песка. Во французском языке это слово имеет значение источника богатства.
Хомбург (Гомбург) — до 1866 г. главный город ландграфства Гессен-Хомбург, один из наиболее модных немецких курортов; там существовали игорные дома.
… милые сердцу двойные луидоры… — Луидор (или луи, «золотой Людовика») — чеканившаяся с 1640 г. французская золотая монета крупного достоинства, стоила 20, а с начала XVIII в. — 24 ливра; в обращении также находились луидоры двойного номинала, называвшиеся дублонами. В 1795 г. луидор был заменен двадцати— и сорокафранковыми монетами.
Квадругш — испанская золотая монета крупного достоинства, двойной пистоль; чеканилась в XVI — XVIII вв.; обращалась в ряде европейских стран; во Франции квадругшем называлась золотая монета, чеканившаяся в первой половине XVII в. и стоившая 30 ливров.
… Демон игры подобен самому Сатане: в его власти вознести игрока на самую высокую гору в мире и оттуда показать ему все царства земные. — Дюма сравнивает увлечение игрой с искушением Христа Сатаной. Дьявол возвел Иисуса на высокую гору, показал ему все царства мира и обещал власть над ними, если Христос будет поклоняться ему. На это Христос отвечал: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Матфей, 4: 8 — 10).
… как новоявленный Юпитер, осыпает новоявленную Данию золотым дождем! — Даная — в греческой мифологии дочь царя города Аргоса Акрисия, которому была предсказана смерть от руки внука и который заключил Данаю в медную башню, куда не было доступа смертному. Однако Юпитер-Зевс проник к Данае в образе золотого дождя, и она родила героя Персея, случайно убившего деда брошенным диском во время состязаний. Золотой дождь является символом выгоды, богатства, изобилия.
Пале-Эгалите (дворец Равенства) — название в годы Революции дворца герцогов Орлеанских Пале-Рояль («Королевского дворца»), построенного в 1629-1639 гг. по заказу кардинала Ришелье; здание было переименовано потому, что тогдашний глава семьи герцог Луи Филипп Жозеф Орлеанский (1747 — 1793), возглавлявший аристократическую оппозицию Людовику XVI, демонстративно принял сторону Революции, отказался от своих титулов и принял фамилию Эгалите («Равенство»). После его смерти в 1793 г. дворец перешел в собственность государства.
В 80-х гг. XVIII в. вокруг дворцового сада были выстроены флигели, в которых разместились модные магазины, рестораны и тд. Накануне Революции это место было одним из центров общественной жизни Парижа.
… именовался также Пале-Националь… — неофициальное название дворца после свержения Орлеанской династии в феврале 1848 г., когда часть его была занята революционными клубами, штабом национальной гвардии и другими учреждениями.
… вместо нынешней Орлеанской галереи… — В 1827 г. герцог Орлеанский, будущий король Луи Филипп, которому дворец был возвращен при Реставрации, пристроил по бокам главного фасада Пале-Рояля два выдвинутых вперед корпуса, образовавших парадный двор. Эти корпуса были соединены галереей с прекрасными витражами, получившей название Орлеанской.
Дорический стиль (точнее: дорический, или дорийский ордер) — один из трех основных архитектурных ордеров (сочетания, структуры и обработки стоечно-балочной конструкции здания) Древней Греции.
Мазюрье — известный французский клоун.
Ориоль, Жан Батист (1808-1858) — известный клоун.
«Друзья истины» (точнее: «Федерация друзей истины») — массовая народная организация, основанная в 1790 г. «Социальным кружком» (см. примеч. ниже) и действовавшая в районах Парижа, населенных ремесленной беднотой и пролетариатом.
«Железные уста» — французская газета; выходила в Париже три раза в неделю в 1790-1791 гг.; была близка к Клубу кордельеров, но в основном пропагандировала коммунистическо-утопические идеи.
«Социальный кружок» — организация демократической интеллигенции в Париже, существовавшая с конца 1789 г. примерно до конца 1791 г. Члены Кружка стремились к защите интересов беднейшего населения, пропагандировали принципы равенства и требования уравнительного утопического коммунизма, обосновывая их идеями Руссо и мистически-религиозными доводами первоначального христианства. «Социальный кружок» был популярен среди ремесленной бедноты, издавал несколько газет и имел дочерние организации.
… перенесенный революционным ураганом из Трианона… — Трианон — название нескольких дворцов в садово-парковом ансамбле Версаля; здесь имеется в виду Малый Трианон, построенный Жаком Анжем Габриелем (1698 — 1782) в 1762 — 1764 гг., любимый дворец Марии Антуанетты.
… Номер 113 тогда был там же, где он находится и сегодня: около магазинов торговой фирмы Корселе. — В помещении № 113 с 1791 г. размещалось кафе Борель, самое известное игорное заведение Па-ле-Рояля, имевшее восемь залов для игры в «тридцать и сорок» и шесть столов для игры в рулетку. Магазины Корселе располагались в помещении № 104.
… как бросился в пропасть Курций… — Курций, Марк (IV в. до н.э.) — герой древнеримской легенды, храбрый юноша. Согласно преданию, в 362 г. до н.э. на римском форуме (одном из центров общественной жизни города) образовалась пропасть; по объяснению жрецов, это означало, что отечество в опасности, которая будет предотвращена только тогда, когда Рим пожертвует лучшим своим достоянием. Тогда Курций, заявив, что лучшее достояние Рима — храбрость его сынов и оружие, на коне и в полном вооружении бросился в пропасть, после чего она закрылась.
… где играли в тридцать и сорок… — «Тридцать и сорок» — азартная карточная игра.
Бассомпьер, Франсуа де (1579 — 1646) — французский военный деятель и дипломат, маршал Франции; любимец Генриха IV.
Мария Медичи — см. примеч. к с. 80
… «Моя матушка скончается лишь после того, как я кончу танцевать». — Этот анекдот взят Дюма из «Занимательных историй» (очерк «Маршал де Бассомпьер») Таллемана де Рео (см. примеч. к с. 185).
Цезарь, Гай Юлий (102/100 — 44 до н.э.) — древнеримский государственный деятель, полководец и писатель, диктатор.
Ганнибал (Аннибал; 247/246-183 до н.э.) — великий карфагенский полководец, непримиримый враг Рима; внес большой вклад в развитие военного искусства.
Святой Лаврентий (210 — 258) — христианский мученик, диакон (управляющий церковными делами и имуществом) римской церкви, по происхождению испанец; во время гонений на христиан при императоре Валериане (253 — 260) его долго жгли на железной решетке, требуя выдать церковные сокровища.
Крупье — банкомет в игорном доме, который следит за игрой, выдает участникам их выигрыш и забирает проигранные ставки.
… потративший всю жизнь на поиски мартингала… — Мартингал — комбинация в игре, основанная на расчете вероятностей.
Зеро — нулевое очко, ноль; при попадании шарика рулетки на нулевое поле все ставки выигрывает банк, если ни один из игроков не поставил именно на него.
Денье — старинная французская мелкая монета, одна двенадцатая часть су. … меняла дает взаймы так же неохотно, как муравей. — Менялы — в древности и в средние века коммерсанты, производившие обмен денег различной чеканки и достоинства, получая за это определенный процент. При чрезвычайном разнообразии финансовых систем тех эпох играли большую роль в денежном обращении. Менялы ссужали также деньги под залог, принимали их на хранение, переводили порученные им денежные суммы своим иностранным и иногородним коллегам, выступая предшественниками банков. Говоря о меняле и муравье, Дюма, вероятно, имеет в виду басню «Кузнечик и муравей» французского поэта Жана де Лафонтена (1621 — 1697). В этом стихотворении трудолюбивый муравей отказывает осенью в помощи легкомысленному кузнечику. Сюжет был заимствован у греческого баснописца VI в. до н.э. Эзопа.
… оживет… подобно статуе Прометея, обретшего свою настоящую душу. — Прометей — в древнегреческой мифологии титан (бог старшего поколения), герой и мученик, благородный друг и учитель людей; похитил для них у богов огонь, научил зодчеству, ремеслам, мореплаванию (что спасло людей от гибели во время посланного богами на землю потопа), чтению, письму и др. За это Зевс, разгневавшись, подверг Прометея жестокой каре.
… Арестовали господина Дантона. — Это произошло в ночь с 30 на 31 марта 1794 г.
Робеспьер — см. примеч. к с. 246.
Королевская улица — торговая улица, образованная в середине XVIII в., самый западный отрезок Бульваров; выходит на площадь Революции (Согласия); неоднократно меняла свое название; Королевской стала называться с начала XIX в.
Сильфиды (и сильфы) — духи воздуха в кельтской и германской мифологии, а также в средневековом европейском фольклоре.
… черпать жизнь не из источника Ювенсы, а изреки Пактола. — Во французском языке «источник ювенсы» (именно со строчной буквы) — крылатое выражение, которое означает что-то дарующее или продлевающее молодость. Восходит к древнеримскому мифу о нимфе Ювенсе (отождествляемой с богиней юности Ювентой); Юпитер превратил ее в источник, приносивший омывшимся в нем юность.
Камка — шелковая цветная ткань с узорами.
Па-де-труа (фр. pas de trois, буквально «шаг трех») — в классическом балете танец, исполняемый тремя участниками.
… казалось, что струны фортепьяно сделаны из стали. — Все струны фортепьяно делаются из стали, а басовые обвиты дополнительно медной проволокой.
Бетховен — см. примеч. к с. 154.
Фуэте (от фр. fouetez — «хлестать») — название элемента классического танца; для него характерно как бы хлещущее движение нога вокруг тела танцора, которое помогает вращению вокруг своей оси или перемене направления движения.
… напротив церкви Успения… — По-видимому, речь идет о церкви августинского монастыря Успения Богоматери, расположенного в центре старого Парижа, неподалеку от улицы Сент-Оноре; была построена в 1670-1676 гг.; с 1802 г. стала называться церковью святой Магдалины; с 1850 г. перешла в ведение польской католической церкви.
Мори, Жан Зифферен (1746-1817) — французский священник, выдающийся проповедник; депутат Учредительного собрания; вождь роялистов; кардинал; в начале XIX в. стал сторонником Наполеона и парижским архиепископом; после реставрации Бурбонов был вынужден отказаться от духовного звания.
Бисетр — см. примеч. к с. 263.
Примечания
Note1
«Нищая» (ит.)
(обратно)Note2
Обо всех вопросах, доступных знанию, и еще о некоторых (лат.)
(обратно)Note3
Ищите, и найдете (лат.)
(обратно)Note4
Перевод Ю.Корнеева
(обратно)Note5
Тех, кто не жил, кто недостоин жить (ит.). — Данте, «Божественная комедия», «Ад», III, 64. Перевод Ю.Корнеева
(обратно)Note6
Своими глазами (лат.)
(обратно)Note7
Франсис Вай опубликовал весьма примечательные заметки о последних минутах жизни Нодье; но написаны они для друзей и напечатаны всего лишь в двадцати пяти экземплярах. (Примеч. автора.)
(обратно)Note8
«Тайный брак» (ит.)
(обратно)Note9
«Дай ручку мне, красотка» (ит.)
(обратно)Note10
Аподжименто (ит.)
(обратно)Note11
Темпо рубато (ит.)
(обратно)Note12
Хрупкость (ит.)
(обратно)Note13
Перевод Ю.Корнеева
(обратно)Note14
«Стояла Матерь Божья» (лат.)
(обратно)Note15
«Господи, помилуй» (ит.)
(обратно)Note16
«Господи, помилуй меня в скорби моей» (ит.)
(обратно)Note17
Пиано, пиано (ит.)
(обратно)Note18
Сфорцандо (ит.)
(обратно)Note19
Диминуэндо (ит.)
(обратно)


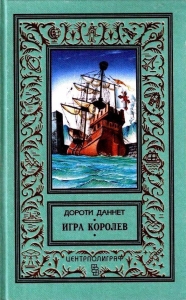



Комментарии к книге «Женщина с бархоткой на шее», Александр Дюма
Всего 0 комментариев